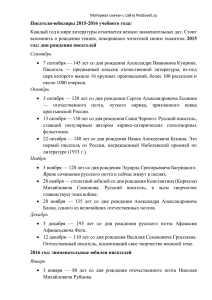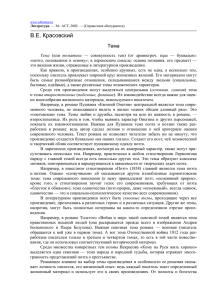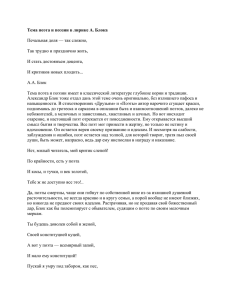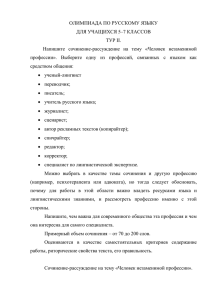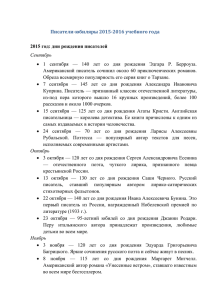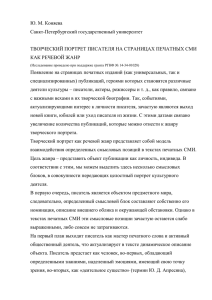В .В . А
г е н о с о в
ЛИТЕРАТУРА
gvU J& O jO
З А Р У Б Е ЖЬ Я
Рекомендовано Министерством
общего и профессионального образования
Российской Федерации
для студентов педагогических вузов
и учащихся средних учебных заведений
т
А
0& ?
\
С
М осква 1998
П
О
Р I
ББК 83.3 Р7 я 73
УДК 882.091-054.72
А23
Книга написана при финансовой поддержке
Центрального Европейского университета
(грант CEU\RSS 178\94)
Рецензенты:
доктор филологических наук зав. кафедрой русской литературы
XX века МГУ им. М.В.Ломоносова профессор Б.С.БУГРОВ;
научный сотрудник Славянской библиотеки в Праге
доктор И.ВАЦЕК;
кандидат филологических наук старший научный сотрудник
ИМЛИ им АМГорького РАН И.А. РЕВЯКИНА
А23
Агеносов В.В.
Литература русского зарубежья (1918-1996). — М.: Терра.
Спорт, 1998. — 543 с., ил.
ISBN 5-93127-002-7
Книга доктора филологических наук профессора В.В.Агеносова являет­
ся первой попыткой освещения литературы русского зарубежья от 1918 года
до наших дней. Автор в популярной форме рассказывает о закономерностях
русского литературного процесса за рубежом и о творчестве наиболее круп­
ных писателей русской диаспоры. Наряду с книгами широко известных се­
годня в России писателей (И.Бунина, И.Шмелева, Д.Мережковского, 3.Гип­
пиус, М.Агшанова, А.Ремизова) анализируется творчество еще не получив­
ших должного признания на родине художников: Г.Иванова, А.Несмелова,
Б.Поплавского, Г.Газданова, ВШерелешина. Читатель впервые познакомит­
ся с творчеством до сих пор замалчиваемых писателей второй волны рус­
ской эмиграции Д.Кленовского, Н.Моршена, Н.Нарокова, Л.Ржевского,
В.Синкевич.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: студентов филологи­
ческих факультетов пединститутов, учителей и учащихся школ и лицеев;
абитуриентов гуманитарных вузов; любителей литературы. Наличие под­
робных аннотированных списков, дающих ориентиры для самостоятель­
ной исследовательской работы, сделает монографию полезной для аспирантов-филологов и молодых ученых.
ISBN 5-93127-002-7
© В.В.Агеносов, 1998
© А.В.Леденев (глава о В.Набокове), 1998
© Издательство «Терра. Спорт», 1998
ББК 83.3 Р7 я 73
УДК 882.091-054.72
«ПОД Ч У Ж Д Ы М Н Е Б О С К Л О Н О М »
ПЕРВАЯ ВОЛНА РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ
Эмиграция из России началась задолго до Октябрьского пере­
ворота, а первым русским писателем-эмигрантом, видимо, следу­
ет считать князя Андрея Курбского, бежавшего «от царского гне­
ва» и писавшего Ивану Грозному обличительные публицистичес­
кие письма далеко не личного содержания.
По данным Большой советской энциклопедии поток эмигран­
тов вырос с 30 тысяч человек в 1887 году до 291 тысячи в 1913-м
(БСЭ. Т. 64. — М.: ОГИЗ, 1934). Всего из царской России эмигри­
ровало 1 миллион 700 тысяч человек, среди которых большой
процент составляли украинцы, поляки, латыши, литовцы, фин­
ны, евреи и представители других национальных меньшинств.
Главной причиной эмиграции было, в первую очередь, бедствен­
ное экономическое положение. В Европе и особенно в Америке
беженцы искали работы, богатства и счастья. Не малую роль иг­
рали и политические факторы: притеснение, бесправие, нацио­
нальные ограничения, запрёт религии. Так уже в XX веке в Кана­
ду при помощи Л.Толстого и В.Бонч-Бруевича выехала целая сек­
та духоборов, чьи потомки и до сих пор живут там отдельным
селеньем.
Особую категорию эмигрантов составляли революционеры са­
мых различных ориентаций. Среди эмигрантов революционеровписателей в разное время были А.Тургенев, А.Герцен, Н.Огарев,
М.Горький, А.Белый, Б.Зайцев, Б.Савинков и многие другие.
Особенностью большинства эмигрантов (духоборы не в счет)
3
было стремление как можно быстрее адаптироваться к новой ре­
альности, войти в нее полноправными членами общества. Мень­
шая часть эмиграции воспринимала свое пребывание на чужбине
как временное состояние, не теряла связи с родиной и, как пра­
вило, так-таки возвращалась в Россию.
Положение координально изменилось после Октябрьского
переворота 1917 года. Впервые Россию покидали в столь огром­
ном количестве русские люди. Массовый исход беженцев из Рос­
сии в Европу начался уже в январе-марте 1919 года с уходом нем­
цев с Украины и французов из Одессы и достиг подъема в 1920
году, когда войска Деникина и Врангеля покинули Новороссийск
и Крым. Около 200 тысяч русских людей оказалось в Константи­
нополе, откуда они растекались по всему свету. Десятки тысяч
ушли в Китай с армиями Колчака и Каппеля. По далеко не пол­
ным данным всего после 1917 года эмигрировало 2 миллиона че­
ловек. Вернулись не более 182 тысяч (БСЭ. Т. 30. — М.: Сов.энциклопедия, 1978). Именно в эти годы возникло понятие россий­
ское зарубежье.
Видный американский исследователь, заслуженный профессор
Колумбийского университета Марк Раевназвал его «великой рус­
ской эмиграцией» (M.RaefT. Russia Abroad: A cultural history of Russi­
an emigration, 1919-1939. — N.Y.; Oxford, 1990. Предисловие).
Основанием для такой оценки стал почти небывалый в исто­
рии факт сохранения первой волной русской эмиграции всех
основных особенностей русского общества. Эмиграция, по сло­
вам поэтессы и критика 3.Гиппиус, «по сути представляла собой
Россию в миниатюре». Первые несколько лет этому способство­
вало ожидание скорого возвращения на родину. Мысль о том,
что не следует терять время и надо готовить себя для дальнейше­
го служения России, привела к возникновению уже тогда рус­
ских школ и высших учебных заведений (Русский университет,
Технический институт, Сельскохозяйственная школа в Праге).
Выходили газеты, отражавшие весь спектр политических партий
дореволюционной России, хотя преобладало, как это не пока­
жется странным, либерально-демократическое направление. Объ­
единяющую роль играла и Русская зарубежная церковь, вначале
единая с Русской Православной Церковью, возглавляемой не­
сгибаемым патриархом Тихоном, а в 1921 году провозгласившая
себя независимой (Карловацкий раскол). Вместе с тем, как спра­
ведливо указывает канадский исследователь Р.Джонсон, роль цер­
кви была во многом снижена, так как в памяти демократической
интеллигенции сохранилось воспоминание о тесной связи духо­
венства и самодержавия и о почти всегда реакционной позиции
церкви в общественных событиях дореволюционных лет (Jons4
ton H. Robert. «New Mecca, New Babilon» Paris and the Rusian
Exiles, 1920-1945. - Monreal, 1988. - P. 45).
Удалось сохранить за рубежом и российскую науку: начало
положила созданная в 1923 году в Берлине по инициативе историка-медиевиста П.Виноградова Русская академическая группа.
Подобные группы возникли в Софии, Варшаве, Риге. Одиннад­
цать томов научных трудов выпустил созданный из ученых Рос­
сии Белградский научный институт. Русские ученые внесли свой
вклад в развитие экономики, химии, авиации, астрономии, меди­
цины, антропологии, истории, филологии и — особенно — фило­
софии и богословия.
Уже в 1922 году высланная из России группа религиозных
философов во главе с Н.Бердяевым создала в Берлине Свободную
духовную и философскую академию. Труды С.Булгакова и И.Иль­
ина, НЛосского и С.Франка, Ф.Степуна и Л.Шестова, Л.Карса­
вина и П.Сорокина стали духовной опорой русской интеллиген­
ции за рубежом, внесли вклад в мировую философскую науку.
Особую страницу русской и мировой культуры составляет рус­
ский зарубежный театр. Достаточно сказать, что за границей ока­
залась добрая половина Московского Художественного театра, в
том числе М.Чехов. Эмигрантами были киноактер И.Мозжухин и
великий Ф.Шаляпин, звезды балета Анна Павлова, Вацлав Ни­
жинский, Сергей Лифарь, Михаил Фокин и композиторы С.Рахманинов и И.Стравинский. Среди художников-эмигрантов И.Ре­
пин, К.Коровин, отец и сын Рерихи, З.Серебрякова, М.Ларио­
нов.
И все же первое место по своей демократичности и по влия­
нию на русское общество за рубежом занимала литература. За гра­
ницей оказались, как уже говорилось, не только писатели, но и
двухмиллионная армия простых людей, значительную часть кото­
рой составляли люди образованные. Тем самым создавалась воз­
можность полноценного литературного процесса.
Из России уехал цвет русской литературы: И.Бунин, А.Аверченко, К.Бальмонт, 3.Гиппиус, Дон-Аминадо, Б.Зайцев, Вяч.Ива­
нов, А.Куприн, М.Осоргин, А.Ремизов, И.Северянин, А. Тол стой,
Тэффи, И.Шмелев, Саша Черный, не говоря уже о более моло­
дых, но подававших большие надежды М.Цветаевой, МАлданове, Г.Адамовиче, Г.Иванове, В.Ходасевиче.
5
ПРОБЛЕМАТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ТЕЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
1920-1940 г о д о в
Большинство писателей первой волны русской эмиграции
осознавали себя хранителями и продолжателями русской наци­
ональной культуры, видели свой долг в сохранении гуманисти­
ческих традиций А.Пушкина (его имя было символом для всей
эмиграции, юбилеи поэта отмечались во всех странах русского
рассеяния), Л.Толстого и Ф.Достоевского. Утверждая приори­
тет личности перед государством, старшее поколение писателей
русского зарубежья никогда не проповедовало индивидуализма.
Русская идея соборности, слиянности человека с миром, общес­
твом, природой, космосом в той или иной мере неизбежно при­
сутствовала в их произведениях. Вместе с тем многие из них
были наследниками литературы Серебряного века, недосягае­
мым идеалом для которой являлась пушкинская идея внутрен­
ней гармонии человека, а близкими по духу — писатели послепушкинской поры Н.Гоголь, МЛермонтов, Ф.Тютчев, Ф.Достоевский, ощущавшие трагедию разрушения гармонии, но тос­
кующие по ней и видящие ее восстановление в будущем. Вслед
за художниками Серебряного века писатели русского зарубежья
не приняли жестокий «железный век», «век-волкодав». Капита­
лизм и западное общество с его бездуховностью и делячеством,
наблюдаемые ими повседневно, не только не вызывали у них
восторга, но напротив, воспринимались резко негативно. Заго­
ловок одной из книг В.Ходасевича «Европейская ночь» мог бы
стать эпиграфом ко многим произведениям русских эмигрант­
ских писателей.
Эти настроения в еще большей степени пронизывали произ­
ведения молодых писателей, о чем будет сказано ниже. Здесь же
ограничимся упоминанием имени поэта Антонина Ладинского
(1896-1961), через все творчество которого проходит мотив гибе­
ли Европы и России, и цитатой из стихов молодого поэта-авангардиста Бориса Божнева (1898-1969):
И с омерзением приемлю,
И с отвращением смотрю
На прогнивающую землю
И безобразную зарю,
И небо пухнет надо мной,
И падаль чувствую дыханьем,
А утренний прозрачный гной
Мне отравляет обаянье.
6
Глеб Струве — ученый: первый
исследователь литературы
русского зарубежья
Леонид Зуров — прозаик,
археолог, искусствовед
Нина Берберова — поэт,
прозаик, переводчик,
литературный критик
Сквозным лейтмотивом всей русской литературы за рубежом
проходит тема России, тоски по ней, отвергшей своих детей. «Тем­
ные аллеи» — называет свою книгу И.Бунин. И у читателя уже
возникает воспоминание о родине и чувство ностальгии: на Запа­
де липы не сажают близко друг к другу. Воспоминаниями о свет­
лом прошлом пронизана и бунинская «Жизнь Арсеньева». Писа­
тель теперь не хочет вспоминать те темные стороны российской
жизни, что он отразил в «Деревне». Издалека прошлая жизнь ка­
жется ему светлой и доброй.
Россия, писал известный романист и редактор одного из ве­
дущих журналов русского зарубежья Роман Гуль (1896-1986), «не­
престанно живет в нас и с нами — в нашей крови, в нашей пси­
хике, в нашем душевном складе, в нашем взгляде на мир. И хо­
тим мы того или не хотим — но так же неосознанно — мы ведь
работаем, пишем, сочиняем только для нее, для России, даже
тогда, когда писатель от этого публично отрекается» (Р.Гуль. Я
унес Россию. Апология эмиграции. Т. III. — Нью-Йорк: Мост,
1989. - С. 166).
«Мы не в изгнаньи, мы в посланьи» — кратко и выразительно
сформулировал эту же мысль Д.Мережковский.
«Если кончается моя Россия — я умираю» — емко и ярко ска­
зала 3.Гиппиус.
Воспоминания о России, ее красоте и прекрасных людях вы­
звало к жизни целый ряд автобиографических произведений о дет­
стве («Богомолье», «Лето Господне» И.Шмелева, трилогия «Путе­
шествие Глеба» Б.Зайцева, «Детство Никиты, или Повесть о мно­
гих превосходных вещах» А.Толстого). Ведь именно в детском воз­
расте человек наиболее остро воспринимает прекрасное.
Сложную гамму отношений русской эмиграции к родине от­
лично передают стихи молодого поэта Юрия Терапиано (1892-1980):
Россия! С тоской невозможной
Я новую вижу звезду —
Меч гибели, вложенный в ножны,
Погасшую в братьях вражду.
Люблю тебя, проклинаю.
Ищу, теряю в тоске,
И снова тебя заклинаю
На дивном твоем языке.
Ему вторит Зинаида Шаховская (род. в 1906) в стихотворении
«Россия»:
О тебе кричать... Тебя забыть...
Это все, что нам теперь осталось.
И еше — осталась в сердце жалость,
Нам велящая тебя любить.
8
Ей же принадлежат и строки:
Россия — горе, странная тоска.
Ничем не утоляемая жажда,
Горсть пепла теплого,
Горсть теплого песка,
Ревниво сберегаемая каждым.
(Россия
—
сон?Предвиденье? Обман?..)
Еще более драматичны строки ГАдамовича (1892-1972):
Когда мы в Россию вернемся — о, Гамлет восточный,
когда? —
Пешком по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов...
пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы
добредем.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.
Пора собираться. Светает. Пора уже двигаться в путь.
Две медных монеты на веки, скрещенные руки на грудь.
Уже после Второй мировой войны в 1948 году один из старей­
ших поэтов Валентин Горянский (1876-1949) в октавах «Невская
симфония» (опубл. в «Возрождении», 1956, № 54-55) пушкин­
ским стихом восславит северную Пальмиру и будет говорить о
возрождении «града Петрова».
Ностальгическими мотивами проникнуты рассказы сборника
«Марьянка», написанного молодым прозаиком бунинской школы
Леонидом Зуровым (1902-1971).
Впрочем, Л.Зуров не ограничивается светлыми воспоминани­
ями. В его книгах делается попытка художественно постичь при­
чины революции, сказать о вине русской интеллигенции. Таков
его роман «Древний путь» (1934, на родине опубликован в жур­
нале «Север», 1992, № 6) о драматичных взаимоотношениях мо­
лодого барина Назимова, вернувшегося с фронта, с крестьянами.
Обреченность довоенного и дореволюционного Петербурга, кар­
тины разложения и безумия показаны в неоконченном романе
«Зимний дворец» (отрывки в альманахе «Встреча», Париж, 1945,
№ 1-2; в «Новом журнале», 1949, № 39-41), главные герои кото­
рого «вольноперы» и «прапоры» носят автобиографический ха­
рактер.
Осмыслению причин революции посвящен и «Ледяной по­
ход» Р.Гуля, и «Зверь из бездны» Е.Чирикова, и исторические
романы М.Алданова, и трехтомный «Распутин» И.Наживина.
Широкое распространение получает жанр исторического ро­
мана, а также романа-биографии. Назовем лишь двух авторов.
9
Михаил Цетлин (1882-1945) написал роман-исследование «Де­
кабристы: Судьба одного поколения» (1933). Ему же принадлежит
книга «Пятеро и другие» (1944). Пятеро это — В.Стасов, М.Глинка,
М.Балакирев, А.Бородин и М.Мусоргский. В числе других Н.Рим­
ский-Корсаков, АДаргомыжский, В.А.Серов, Ц.Юои.
Книги о русских композиторах «Чайковский, история одино­
кой жизни» (1936) и «Бородин» (1938) создала Нина Берберова
(1901-1993).
Однако наиболее распространенной темой литературы зару­
бежья была жизнь самой эмиграции. Она отражалась в самых раз­
ных жанрах и стилевых направлениях. Трагедия бытия и способы
хотя бы временной победы над ней составляли содержание книг
И.Бунина. Мучительный поиск Бога, смысла жизни и предназна­
чения человека пронизывал стихи и прозу Б.Поплавского, рома­
ны Г.Газданова, лирическую прозу Ю.Фельзена («Обман»,
«Счастье», «Письма к Лермонтову»).
Широкое распространение приобретает и бытовая проза, ха­
рактерным представителем которой стала Ирина Одоевцева (18951990). Героини ее рассказов и романов «Ангел смерти» (1929),
«Изольда» (1931) — русские девушки, познавшие горечь эмигрант­
ской жизни. Кончают жизнь самоубийством русская женщина и
французский кинорежиссер в романе «Зеркало» (1939).
О повседневном быте русских людей за рубежом книги Н.Бер­
беровой «Последние и первые. Роман из эмигрантской жизни»,
«Повелительница», «Без заката».
Тяжелая жизнь и выпавшие на их долю и долю их героев ис­
пытания не истребили в писателях русский оптимизм, надежду,
умение с юмором воспринимать действительность. Характерно,
что столь разные писатели, как Н.Берберова и В.Горянский в рав­
ной степени испытали потребность обратиться к сказовой, близ­
кой зощенковской, манере повествования об эмигрантском быте.
Речь идет о цикле из 12 рассказов Н.Берберовой «Бианкурские
праздники» и «Рассказах господина Тощенко» В.Горянского. Со­
единение драматизма и комизма, лирики и юмора — особенность
творческой манеры А.Аверченко, Тэффи, Дон-Аминадо*.
Как видно из сказанного, русская литература за рубежом раз­
вивалась полноценно, многожанрово, многостильно. Впрочем,
вопрос о стиле и языке решался далеко не просто. Старшее поко­
ление русских писателей сохранило привязанность к неореализму
рубежа веков, к чистому русскому слову. «Старшие, — вспомина­
ла Н.Берберова, — откровенно признавались, что никакого об* 0 Д о н -А м и н ад о см. статью В .К орови на / / Д он-А м и н адо. И збран ­
ное. — М .: Т ерра, 1994.
10
Ирина Одоевцева — поэт,
прозаик
Довид Кнут
—
поэт, прозаик
Дон-Аминадо — поэт, прозаик,
сатирик
Александр Вертинский —
артист, поэт, композитор
новленного стиля не нужно... Было также усиленное давление со
стороны тех, кто ждал от нас продолжения бунинско-шмелевскокупринской традиции реализма. Попытки выйти из него никем
не понимались, не ценились. Проза Цветаевой ... не была понята.
Поплавский был прочтен после его смерти, Ремизова никто не
любил» («Одна или две русских литературы?» — L'Age d'Homme,
1981. - С. 208).
В этом консерватизме была и своя логика: нужно было сохра­
нить великий русский язык; но была и некая неправильность:
жизнь и литература не стояли на месте. На Западе, да и в России
появлялись книги, по-новому воссоздававшие действительность,
проникающие в непознанные ранее сферы человеческой души, и
игнорировать литературные достижения современности было бес­
смысленно. Отход, отталкивание от классических традиций с удер­
жанием всего лучшего, как это и предполагает гегелевская диа­
лектическая триада, был совершенно неизбежен.
Как и всегда, к новаторским поискам тяготело прежде всего
молодое поколение, сформировавшееся уже в эмиграции: В.Набоков, Б.Поплавский, Г.Газданов, В.Мамченко, С.Шаршун и другие.
В СТРАНАХ РАССЕЯНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Говоря о литературе русской эмиграции нельзя не иметь в виду
что русские колонии возникали во многих странах мира.
На плантациях, фермах, на фабриках,
Где ни встать, ни согнуться, ни лечь,
В аргентинах, каналах и африках
Раздается московская речь, —
писал Алексей Ачаир (1896-1960) в широко известном стихотво­
рении «В странах рассеяния»:
В академиях, школах, на улицах,
Вспоминая Кавказ и Сибирь,
Каждый русский трепещет и хмурится,
Развевая печальную быль.
Не сломала судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли...
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.
И во всех центрах русского рассеяния шла своя литературная
жизнь. Можно говорить не только о едином процессе русской
литературы за рубежом, но и региональных особенностях литера­
турного процесса в зависимости от расположения региона по от­
12
ношению к России, от условий быта эмигрантов. Наиболее су­
щественны отличия русских художественных школ Западной Ев­
ропы (Берлин, Париж) и Дальнего Востока (Харбин, Шанхай).
Имеет свои особенности и творчество писателей, осевших в сла­
вянских странах (Чехословакии, Болгарии, Югославии).
С другой стороны, исследователи давно отмечают и смену ли­
тературных центров русского зарубежья, их смещения сначала во
Францию, а позже — в Америку.
Только с учетом специфики регионов рассеяния можно воссо­
здать более-менее полную историю русской литературы за рубе­
жом.
Первым городом, где оказался большой поток русских бежен­
цев, стал
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
I
Константинополь не был русской литературной Меккой, как
Берлин или Париж. Но через него последовали в Европу почти
все эмигранты.
В ноябре 1920 года сюда на 66 кораблях прибыли 130 тысяч
русских беженцев: 30 тысяч бойцов, 40 тысяч тыловиков, 7 тысяч
раненых, остальные — гражданские лица. 32-33 тысячи русских
осели здесь надолго, остальные проследовали в страны Европы и
(частично) Америки, но не в США, правительство которых из-за
внутреннего экономического кризиса отказалось принимать рус­
ских эмигрантов.
23 ноября 1920 года под председательством известного публи­
циста В. Бурцева, в свое время разоблачившего провокатора Азе­
фа, состоялось собрание русских писателей и журналистов, ока­
завшихся в Турции, где была создана комиссия для оказания по­
мощи соотечественникам. Возглавил ее старейшина русской ли­
тературы Е.Чириков.
Несколько ранее, 7(20) марта 1920 года, здесь вышла газета
«Русское эхо» (текст ее давался одновременно на русском и фран­
цузском языках) под редакцией И.Василевского, более известно­
го под псевдонимом Не-Буква.
Именно здесь впервые поэтически прозвучал мотив трагедии
изгнанничества, столь характерный для всей последующей лите­
ратуры русского зарубежья:
Из города в город бредем мы бесцельно,
С израненным сердцем, угрюмы и немы...
И в гневе бессильном, в тоске беспредельной,
Мы сами не знаем, откуда и где мы.
(Lolo. Беженцы)
13
Поэту вторил Старый писатель: «Что ужаснее стыда за роди­
ну? Моя мать несчастна, опозорена, и я, ее сын, не только бегу от
нее, но стараюсь и вида не подать, что она моя мать?!»
В пяти вышедших номерах газеты были напечатаны два фель­
етона А.Аверченко («Возвращение» и «Опасности товарообмена»),
заметки Тэффи о Стамбуле, выдержки из памятной книжки А.Куприна, где писатель с горечью говорил, что за два года после рево­
люции он не увидел «ни одного проблеска любви, великодушия,
гордости».
С 6 мая 1920 года и до 1925-го в Константинополе издавалась
также на двух языках газета «Вечерняя пресса» («Press de Soire»), в
каждом третьем (а то и втором) номере которой печатался А.Аверченко. Постоянным автором публицистических статей был С.Варшавский (отец будущего прозаика В.Варшавского). Е.Чириков даже
после отъезда в Софию, а затем в Прагу присылал в «Вечерную
прессу» свои статьи.
Усилиями русской интеллигенции в августе 1920 года в Кон­
стантинополе была создана первая бесплатная Библиотека-читаль­
ня. А в октябре того же года — вторая такая же читальня с плат­
ным абонементом.
Именно здесь вышел первый, пусть и не очень яркий по со­
ставу авторов, альманах писателей-эмигрантов «Рассвет» (1920),
возникло первое русское издательское товарищество «Пресса»,
лишь за 1920 год выпустившее 128 книг, 15 журналов и мелких
брошюр.
В Константинополе возник первый Союз русских писателей и
ученых (март 1921) во главе с профессором С.Гогелем и его замес­
тителем С.Варшавским, первое литературно-художественное об­
щество (имени А.П.Чехова) под председательством писателя«знаньевца» И.Сургучева (март 1921).
В русских ресторанах пел А.Вертинский, большим успехом
пользовался открытый все в том же 1921 году под руководством
А.Аверченко театр «Гнездо перелетных птиц» (покинул Турцию в
апреле 1922 года).
Проходили в Константинополе и литературные вечера, и об­
суждения книг («Россия во мгле» Г.Уэллса), стихов АБлока, С.Есенина, статей В.Короленко. Русские писатели откликнулись на
смерть А.Блока, гибель Н.Гумилева, на трагедию И.Шмелева (бо­
лезнь после получения известия о расстреле в Крыму сына).
Одним словом, Константинополь был прообразом той буду­
щей Великой Русской Эмиграции, которая сложилась в Праге,
Берлине, Париже, Харбине.
14
РУССКАЯ ПРАГА
В 1920 году чехословацкое правительство предприняло так
называемую «русскую акцию»: пригласило в Прагу 5 тысяч рус­
ских студентов-эмигрантов для завершения учебы на казенном
коште. Получили приглашение и профессора и преподаватели
вузов. Третья категория эмигрантов, перед которыми правитель­
ство президента Томаша Масарика распахнуло двери своей стра­
ны, были казаки. По данным БСЭ в Чехословакии к 1934 году
проживало 30 тысяч русских беженцев.
Русские студенты учились в Карловом (Прага) и Братислав­
ском университетах. Был создан и ряд русских учебных заведе­
ний. В частности, историко-филологическую культуру и общест­
венные науки призван был сохранить Русский народный универ­
ситет в Праге (основан в 1923 году). Историко-филологический
факультет университета возглавлял известный историк профессор
А.А.Кизеветтер, отделение курсов русского и иностранных язы­
ков — профессор Е.АЛяцкий.
В библиотеках Праги вместе с чешскими хранилищами насчи­
тывалось 300 тысяч русских книг.
Да и в самой Праге ежегодно до начала Второй мировой вой­
ны издавалось около 20 журналов и 18 русских газет. Наиболее
крупным общественно-литературным журналом был народничес­
кий еженедельник «Воля России», редактируемый М.Слонимом,
Е.Сталинским и В.Сухомлиным. В состав редколлегии этого из­
дания входила М.Цветаева. Среди иностранных авторов были Т.Ма­
сарик, Э.Бенеш, Р.Роллан, А.Франс, Т.Манн. Журнал печатал и
советских писателей (Л.Леонова, Е.Замятина, И.Бабеля), и эмиг­
рантов. Именно здесь были впервые напечатаны рассказы Г. Газданова, публиковались стихи М.Цветаевой, Б.Поплавского. За годы
своего существования журнал напечатал более тысячи художес­
твенных произведений.
В помещении редакции «Воля России» на Угельном Трге про­
водились совместно с парижским «Кочевьем» (благо и там и тут
главой был вездесущий М.Слоним) вечера, посвященные совет­
ским писателям И.Бабелю, ЛЛеонову. Несколько раз выступала
М.Цветаева.
С 1922 года по 1940 годы в Праге еженедельно собирался
«Скит», бессменно возглавляемый Адольфом Людвиговичем Бе­
мом. В него входили Н. Болецкис, А. Фотинский, Ю. Терапиано,
Г. Газданов, Е. Луцкий, С. Эфрон. Некоторое время «Скит» изда­
вал журнал «Своими путями» (1924-1926), в редакцию которого
входил муж М.Цветаевой С.Эфрон.
Название было выбрано не случайно. Русские пражане сущес15
твенно отличались от писателей, живших в других странах рус­
ского рассеяния. В первую очередь — от парижан.
Поэтическая «пражская школа, — утверждал позднее извест­
ный философ и критик Н.П.Федотов, — ближе к Москве», чем к
Парижу, а самая значимая в ней поэтесса «М.Цветаева была не
парижской, а московской школы» («Кочевье», Нью-Йорк, 1942,
с.191). Еще более обстоятельно писал об этом же А.Бэм: «Если
Париж продолжил линию, оборванную революцией, непосред­
ственно примыкая к школе символистов, почти не отразив в себе
русского футуризма и его своеобразного преломления в поэзии
Б.Пастернака и М.Цветаевой, то Прага прошла и через имажи­
низм, смягченный лирическим упором С.Есенина, и через В.Маяковского, и через Б.Пастернака» (А.Бэм. Письма о литературе.
- Прага, 1996. - С.248).
Несмотря на трудности с изданиями, «Скит» выпустил четыре
сборника-тетради того же названия, что и само объединение.
В 1922 году был создан и Союз русских писателей и журналис­
тов в Чехословацкой Республике, сотрудничавший с одноимен­
ными Союзами в других странах. Почетными его членами были
старейшины русской литературы В.Немирович-Данченко и Е.Чириков, а с чешской стороны — А.Ирасек и И.Голечек. Первым
председателем Союза (1922-1923) был избран известный публи­
цист и социолог Питирим Александрович Сорокин. Среди 70 дей­
ствительных членов В.Амфитеатров, И.Владиславлев, С.Гессен,
Д.Крачковский, НЛосский, Г.Михайловский, П.Струве, В.Федоров и другие.
Союз издал сборник «Ковчег», проводил камерные авторские
вечера (Амфитеатрова, Цветаевой, Чирикова) и большие публич­
ные собрания, где отмечались юбилеи Л.Толстого, М.СалтыковаЩедрина, И.Гончарова, А.Писемского, А.Кони, В.Короленко,
A. К.Толстого; чествовали В.Немировича-Данченко, Е.Чирикова,
Д.Ратгауза, Г.Гребенщикова; говорили о только что умерших
(С.Есенине, АЛверченко, П.Потемкине, В.Маяковском).
Многие заседания «Скита» и Союза проходили совместно. Так
в 1935 году состоялся вечер памяти Б.Поплавского, в 1936-м —
B. Немировича-Данченко. В 1930-м Прагу посетил В.НабоковСирин, в 1936-м — И.Бунин, в 1937-м — И.Шмелев и АЛадинский.
Менее крупным литературным объединением была «Далиборка» (1924-1933?), взявшая свое название от кафе на Летне. В чис­
ле ее создателей С.Маковский, Д.Крачковский, В.АмфитеатровКадашев, П.Кожевников. Однако наряду с ними здесь большую
роль играли и молодые писатели, большинство из которых, прав­
да, так и не получило известность. Членства в ней не было и, как
16
Евгений Чириков —
прозаик, драматург,
публицист
Марк Слоним — ученый-филолог,
литературный критик, публицист,
общественный деятель
пишет Л.Белашевская, «через нее прошла почти вся литературная
русская Прага» («Культурное наследие российской эмиграции»:
Юшга вторая. — С. 255).
Пражская диаспора обогатила русскую литературу в первую
очередь поэзией М.Цветаевой и прозой А.Аверченко. Однако было
бы неправильно сводить всю пражскую литературную ветвь к этим
двум именам. Значительный интерес представляет творчество Аллы
Головиной (1909-1987), урожденной баронессы Штейгер, чья по­
эзия, несмотря на трагизм и чувство обиды на отвергнувшую по­
этессу родину, проникнута православным смиренным и прощаю­
щим чувством, надеждой на Ангела Спасения и победу всемирно­
го братства. Не лишена интереса и поэзия Э.Чегринцевой (19041989) и Т.Ратгауз (1909-1993).
Однако самое главное значение Праги в сохранении ею сла­
вянской культуры, в близости к родине, в достаточно тесной свя­
зи с Россией и литературой метрополии.
Примерно такую же роль, хотя и на очень коротком отрезке
времени (1921-1923), играл
РУССКИЙ БЕРЛИ Н
Русская диаспора в Берлине до прихода Гитлера к власти со­
ставляла 150 тысяч человек. Об интенсивности ее духовной жизни
свидетельствует тот факт, что за период с 1918 по 1928 годы в Гер­
мании было зарегистрировано 188 русских издательств. В 1923 го­
ду они даже выпустили больше книг, чем все немецкие книгоиз­
датели.
Существенная особенность русского Берлина, пишет О.Хьюз,
«состоит в беспрецедентной интенсивности «диалога» метропо­
лии и эмиграции внутри острова русской культуры» («Русский
Берлин. 1921-1923» —Париж, 1983. — С. 2).
Литературу и литераторов Советской России и эмиграции свя­
зывали прежние знакомства, принадлежность к русским демокра­
тическим традициям. Не было еще и жесткого запрета советских
«компетентных органов» на встречи с эмигрантами. Автор издан­
ного в Советской России «Ледяного похода» эмигрант Роман Гуль
вспоминает, что на одном из вечеров Дома Искусств в кафе «Ланд­
граф» присутствовал Нарком и член большевистского Политбюро
А.Рыков. В.Маяковский в свой приезд провел с тем же Р.Гулем
целый вечер. Б.Пильняк, считавшийся тогда «красным писате­
лем», присутствовал на обеде у редактора кадетской газеты «Руль»
И.Гессена. Б.Пастернак дружил с А.Белым, переписывался с
М.Цветаевой. А С.Есенин дружил с анархистом и ярым антисо­
ветчиком М.Осоргиным.
18
Не случайно созданный Александром Семеновичем Ященко
(1877-1934) в 1921 году журнал «Русская книга» («Новая русская
книга») уже в первом номере декларировал: «Для нас нет в облас­
ти книги разделения на Советскую Россию и на Эмиграцию. Рус­
ская книга, русская литература едины на обоих берегах». Именно
Ященко принадлежит популярная среди эмиграции 20-х годов
«идея наведения мостов».
21 ноября 1921 года в Берлине по инициативе А. Белого, А.Ремизова и профессора А. Ященко (о демократизме которого один
из современников отозвался так: «профессор-то кубанец, еще ста­
нишник, а от спинжака так и прет черноземом»), был основан
Дом Искусств по подобию Петроградского (оба эти Дома, кстати,
состояли в дружественной переписке). Собрания Дома Искусств
проходили сначала в кафе «Ландграф» на аристократичной Курфюрстенштрассе, 75, а позже переместились в кафе «Леон» на бо­
лее демократичную площадь Ноллендорфпляц. Здесь выступали как
писатели-эмигранты (А.Белый, А.Ремизов, АЛолстой, И.Эренбург,
В.Ходасевич, Н.Оцуп), так и приезжавшие из России С.Есенин,
В. Маяковский, Б. Пастернак, Б.Пильняк, ВЛидин. Дом Искусств
широко отметил юбилеи М.Горького и В.Короленко. В 1922 году в
связи с расколом эмиграции на два лагеря — переходивших к при­
знанию Советской России и остававшихся на непримиримых пози­
циях — из состава членов Дома вышли А.Белый, А.Ремизов, В.Хо­
дасевич, Н.Берберова, ВЛурье, С.Постников и еще несколько че­
ловек, создавших Клуб писателей. В него, кроме названных, вошли
Б.Зайцев, П.Муратов, КХАйхенвальд, М.Осоргин, Н.Бердяев, Е.Кускова. Обе организации продолжали свою деятельность параллельно
до 1923-1924 годов, когда одни вернулись в Россию, другие покину­
ли Германию, переехав в Париж.
Крупнейшее русское издательство в Берлине «Петрополис»,
наряду с классиками, первым зарубежным Полным собранием
сочинений И.Бунина и книгами известных еще до революции
О.Мандельштама и А.Ахматовой, издало книги молодых советс­
ких авторов К.Федина, Вс.Иванова, Б.Пильняка, А.Мариенгофа,
Н.Никитина, М.Слонимского.
Основанное по инициативе М.Горького издательство З.И.
Гржебина выпустило в свет книги эмигрантов А.Ремизова, Б.Зайцева, А.Толстого, Н.Минского, И.Бунина, М.Алданова, Н.Бербе­
ровой, В.Ходасевича, Г.Иванова, М.Цветаевой и живших на ро­
дине В.Брюсова, Ф.Сологуба, С.Есенина, Б.Пастернака, О.Мандельштама, Б.Пильняка, Н.Никитина.
«Славянская» тема и «крестьянская» литература широко попу­
ляризировалась левоэсеровским издательством «Скифы», издав­
шим одноименное стихотворение А.Блока, поэму «Двенадцать»,
19
Николай Бердяев —
философ, публицист,
литературный критик
Иван Ильин — философ,
литературный критик, публицист
статьи Блока «Россия и интеллигенция», «О любви, поэзии и го­
сударственной службе», книги стихов С.Есенина, Н.Клюева, А.Белого, Вяч.Иванова, сборник статей Р.Иванова-Разумника.
Не разделяло русскую литературу на два потока и солидное
издательство «Эпоха». В изданных им в 1923-1925 годах шести
книгах журнала «Беседа» (шестой-седьмой номера сдвоены) печа­
тались рядом М.Горький и А.Блок, А.Ремизов и А.Белый,
В.Шкловский и В.Л идин, Н.Берберова и Н.Оцуп, Н.Чуковский и
ЛЛунц.
В этом же издательстве вышло 10-томное собрание сочинений
А.Блока, «Петербург» и «Серебряный голубь» А.Белого, «Расска­
зы Назара Синебрюхова» М.Зощенко, «Царь-девица» М.Цветае­
вой и стихи Н.Тихонова, рассказы Вс.Иванова и Н.Никитина, книга
Е.Замятина «О том, как был исцелен отрок Еразм».
Наиболее последовательно курс на сближение писателей ди­
аспоры и метрополии проводила редакция литературного при­
ложения к газете сменовеховцев «Накануне». Все движение «сме­
новеховцев» было утопически сориентировано на постепенный
переход советской власти от классовой политики к общедемо­
кратической. Газета знакомила эмиграцию с жизнью на родине,
а ее литературное приложение (до своего возвращения в Россию
его редактировал А.Толстой, а с 1923 года Р.Гуль) — с советской
литературой и с творчеством писателей-эмигрантов, разделяв­
ших сменовеховские позиции или хотя бы лояльных к советской
власти. В июле 1922 года в Москве открылась контора редакции
«Накануне». Ее возглавил журналист Михаил Левидов, сотруд­
ничавший до октября 1917 года в горьковской «Новой жизни» и
тотчас после переворота перешедший к большевикам. Подроб­
ный и живой рассказ о деятельности московской редакции «На­
кануне» содержится в воспоминаниях Эм.Миндлина «Необык­
новенные собеседники» (М.: Сов.писатель, 1979). Ограничимся
поэтому лишь списком писателей, регулярно печатавшихся в «На­
кануне». Эмигранты: А.Толстой, Саша Черный, М.Цветаева, И.Ва­
силевский (He-Буква), Н.Петровская (известная всему литера­
турному миру как Рената из брюсовского «Огненного ангела»),
З.Венгерова, И.Соколов-Микитов, А.Кусиков, ЕЛундберг, Р.Гуль.
Из молодежи наиболее часто печатались поэты Вадим Андреев
(сын Л.Андреева), Георгий Венус и С.Либерман. Писатели мет­
рополии: А.Ахматова, М.Пришвин, О.Мандельштам, С.Есенин,
М.Волошин, М.Кузмин, А.Грин, М.Булгаков, В.Муйжель, А.Мариенгоф, Б.Пильняк, Вс.Иванов, В.Катаев, В.Лидин, М.Левидов, Ю.Слезкин, И.Соколов-Микитов, К.Федин, Е.Петров, А.Неверов, Л.Никулин, Эм.Миндлин, ЛЛунц, Ю.Соболев. Литера­
турное приложение (позднее оно стало называться «Литератур­
27
ная неделя») рецензировало многие книги, выходившие как в
России, так и за рубежом; помещало очерки (преимущественно
принадлежавшие Р.Гулю) о молодых российских писателях (М.Зощенко, В.Катаеве, Ю.Тынянове, Н.Никитине и других). Порой
в своей защите советской действительности и новой морали вы­
ступления газеты были необъективны и грубы. Особенно этим
страдали фельетоны He-Буквы (И.Василевского).
Взаимоконтакты как на страницах книжных и газетных изда­
ний, так и личные, усиливали единство литературного процесса
диаспоры и метрополии.
Некоторое время в Берлине пребывал М.Горький, уже после
отъезда в Италию опубликовавший здесь (в «Беседе») «Отшель­
ника», «Рассказ о безответной любви», «Рассказ о герое», «Кара­
мору», «Рассказ о необыкновенном». Неореализм этих расска­
зов близок тем поискам, что вели в прозе И.Бунин, И.Шмелев,
Б.Зайцев, М.Осоргин и другие писатели старшего поколения,
несмотря на то, что далеко не у всех из названных писателей
сложились нормальные отношения с Горьким. Горький-эмигрант поддерживал художественные поиски «Серапионовых
братьев» (К.Федина, Л.Лунца, Н.Никитина, М.Слонимского,
М.Зощенко).
В 1922 году Берлин посетил В. Маяковский, выступавший на
одном вечере с И.Северяниным и ставшим к тому времени эмиг­
рантом А.Кусиковым. На этом вечере присутствовал цвет русской
интеллигенции в Берлине, устроивший поэту овацию не за его
советские стихи (поэт читал преимущественно дореволюционные
вещи), но за глубину чувств и поэтическое новаторство. Стилис­
тические поиски Маяковского, некоторое время жившего в Бер­
лине Б. Пастернака бесспорно оказали влияние даже на такую са­
мобытную фигуру, какой была М.Цветаева, не говоря уже об эми­
грантской молодежи.
Более сложно и серьезно взаимовлияние «скифской» темы и
национальной поэтики проявилорь в творчестве С.Есенина, А.Ремизова и М.Пришвина.
Нет сомнения, что формальные поиски А.Белого оказали свое
влияние как на советских писателей Б.Пильняка и К.Федина, так
и на эмигрантов В.Шкловского и И.Эренбурга.
Далеко не все из названных художественно-стилевых направ­
лений получили дальнейшее развитие, но сам факт напряжен­
ных поисков новых форм для адекватного отражения катаклиз­
мов XX века характерен как для берлинского этапа русской зару­
бежной литературы, так и для советской литературы 20-х годов.
Это и позволяет говорить о наиболее тесном единстве этих двух
потоков русской литературы именно в 20-е годы.
22
Считается, что литературная жизнь Берлина пошла на убыль в
1923 году, когда в Германии наступил экономический кризис, стала
галопировать инфляция (цены возросли в 200-300 раз), что при­
вело к закрытию издательств и периодических изданий, а также к
отъезду русских писателей в другие страны, в том числе и на ро­
дину. Вернулись А. Тол стой, АБелый, И.Эренбург, И.СоколовМикитов, Д.Святополк-Мирский, С.Лукьянов, Г.Алексеев, Г.Венус (трое последних погибли в сталинских концлагерях). Вместе с
тем до конца 20-х годов в Берлине оставалась большая русская
диаспора. Продолжала выходить газета «Руль». Издавал книги рус­
ских писателей «Петрополис». Ежегодно с 1928 по 1932 год в Бер­
лин приезжал К.Федин, в конце 20-х гостили здесь Ю.Тынянов,
И.Груздев, Н.Никитин, Л.Сейфуллина, М.Слонимский, И.Эрен­
бург. Видимо прав Р.Гуль, утверждавший, что лишь «под конец
20-х годов Берлин перестал быть столицей Русского Зарубежья
[и] начался исход русской интеллигенции» (Р.Гуль. «Я унес Рос­
сию». Т.1. — С. 295).
Германии еще будет суждено вновь ненадолго стать если не
столицей, то одним из центров русской литературной эмигра­
ции — сразу после Второй мировой войны, когда среди интер­
нированных окажется множество русских писателей и журна­
листов (в том числе отец и сын Марченко — будущие прозаики
Н.Нароков и Н.Моршен; поэты Иван Елагин и его жена Ольга
Анстей; Борис Ширяев, Сергей Максимов и другие). Тогда же во
Франкфурте-на-Майне начнет выходить журнал литературы, ис­
кусства, науки и общественно-политической мысли «Грани» (ос­
нован в 1946 году Е.Р.Романовым), доживший до наших дней.
Особый интерес представляют 44, 49-51 книги журнала: в них
помешена антология эмигрантской поэзии 20-60-х годов, состав­
ленная Ю.Терапиано и Э.Райс. Однако большинство эмигрантов-писателей вскоре покинули Германию. Лишь для Д.Кленовского она стала второй родиной.
РУССКИЙ ПАРИЖ
Литературно-общественные издания
Уже к 1923 году литературная жизнь русского зарубежья стала
перемешаться в Париж, ставший, до его оккупации фашистами,
столицей русской культуры.
Здесь обосновалось 200-300 тысяч русских беженцев, были
созданы семь высших русских учебных заведений, в том числе
открыто русское отделение Парижского университета. Значитель­
ную роль играл Франко-Русский институт (председатель — фран­
цузский социолог Гастон Жес; председатель Совета профессо­
23
ров — один из создателей партии конституционных демократов
Павел Николаевич Милюков (1859-1943).
Им же была основана республиканско-демократическая газета
«Последние новости» (1920-1940), тираж которой доходил до 40 ты­
сяч экземпляров (что очень много для эмиграции), а редакция
находилась в центре Парижа на 26 рю Тюрбиго. В 1926-1928 годах
П.Милюков и М.Винавер издавали близкий по духу к «Послед­
ним новостям» еженедельный литературный журнал «Звено» (19231928), где вел «Литературные беседы» поэт и критик Георгий Вик­
торович Адамович (1892-1972), перешедший после закрытия «Зве­
на» заведовать литературным отделом «Последних новостей». Луч­
ший сборник его собственных стихов «На Западе» отличается ка­
мерностью, приглушенностью и недосказанностью, драматизмом
и строгой простотой.
Если в «Звене» и «Последних новостях» печатались преиму­
щественно писатели, относящиеся к либеральному лагерю (здесь
не было места Д.Мережковскому, 3.Гиппиус, религиозным фило­
софам), то газета «Возрождение» (1925-1940), редактировавшаяся
Петром Бернгардовичем Струве, была органом русской нацио­
нальной мысли и потому охотно предоставляла свои страницы и
писателям-мистикам, и религиозным философам. Ведущей фигу­
рой в литературном отделе газеты был поэт и критик Владислав
Фелицианович Ходасевич (1886-1939), во многом не разделявший
«правых» взглядов редакторов газеты и умевший сохранять свою
независимость от них.
В 1935 году между ГАдамовичем и В.Ходасевичем возникла
дискуссия о целях и смысле поэзии (а отчасти и всей литературы).
Оба признавали ее кризис, но по-разному объясняли его причи­
ны и видели выход из создавшегося положения. Адамович считал,
что кризис в литературе отражает разложение общества и личнос­
ти и потому требовал от поэтов в первую очередь правдивого ана­
лиза своего внутреннего мира, самоуглубленного постижения про­
тиворечий личности. Он отдавал пальму первенства интимной,
дневниковой поэзии, утверждая, что это, а не форма — главное в
стихах. Ходасевич же считал, что если искусство серьезная вещь,
цель которой преображать жизнь, то относиться к нему надо про­
фессионально и потому настаивал на приоритете формы. Спор
этот сегодня воспринимается как схоластический. Но его значи­
мость станет понятнее, если сказать, что в подтексте дискуссии —
вопрос об ориентации на лермонтовскую дисгармонию (ГАдамович) или на пушкинскую гармонию (В.Ходасевич). Справедливо
писал об этом критик и литературовед М.Цетлин: «В сущности
разница между взглядами Адамовича и Ходасевича не столь вели­
ка... Разница только в оттенках. Акцент Адамовича, эгоцентри24
Георгий Адамович — поэт,
литературный критик
Илья Фондаминский (Бунаков) —
политический деятель, издатель,
один из основателей и редакторов
«Современных записок»
Марк Вишняк — публицист,
политический деятель, один
из редакторов «Современных
записок»
Вадим Руднев — журналист,
публицист, один из редакторов
«Современных записок»
ческий, зовущий к правдивости и самоуглублению, кажется оп­
равданнее, плодотворнее в настоящую минуту поэзии, чем проти­
воположный, зовущий к бодрости, разнообразию, повернутости
лицом к миру и т.д.» («Современные записки», 1935. — № 58. —
С. 460-461). Тремя годами позже об этом еще определеннее ска­
жет в «Распаде атома» Г.Иванов, друг-единомышленник Адамо­
вича и неутомимый критик Ходасевича. Жизнь и литература эмиг­
рации не давали в основе своей писателю быть гармоничным,
вели его к поиску новых выразительных средств для передачи тра­
гизма XX столетия.
Большая роль в жизни русской литературной эмиграции при­
надлежит меценату-издателю, журналисту и общественному дея­
телю Илье Исидоровичу Фондаминскому-Бунякову (1880-1942).
Самым значительным вкладом И.Фондаминского-Бунякова в
развитие литературы русского зарубежья стало создание журнала
«Современные записки» (1920-1940). Журнал отличался широтой
политических взглядов и эстетической терпимостью. «“Современ­
ные записки”, — говорилось в редакционном предисловии к пер­
вому номеру, — открывают широко свои страницы — устраняя
вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической
группировке — для всего, что в области ли художественного твор­
чества, научного исследования или искания общественного идеа­
ла представляет объективную ценность с точки зрения русской
культуры». Вместе с тем это был безусловно демократический
журнал, о чем со всей определенностью заявлялось в том же ре­
дакционном предуведомлении: «Современные записки» намере­
ны проводить ту демократическую программу, которая как итог
русского освободительного движения XIX и начала XX веков была
провозглашена и воспринята народами России в мартовские дни
1917 года». Мозгом редакции считался публицист и обществен­
ный деятель, член разогнанного большевиками Учредительного
собрания эсер Марк Вениаминович Вишняк (1882-1975), пользо­
вавшийся, несмотря на свою вспыльчивость, любовью большин­
ства авторов журнала. Отделом прозы, самым ответственным в
журнале, руководил бывший земский врач, эсер и тоже бывший
член последнего Учредительного собрания милейший человек (что
не мешало ему беспощадно править авторов журнала) Вадим Вик­
торович Руднев (1874-1940).
В семидесяти номерах этого издания увидели свет «Хождение
по мукам» Алексея Толстого (первые семь номеров), «Несрочная
весна», «Звезда любви», «Митина любовь», «Солнечный удар»,
«Дело корнета Елагина» и, наконец, «Жизнь Арсеньева» И.Буни­
на. С третьего номера и до самых последних здесь печатался М.Алданов («Святая Елена, маленький остров», «Девятое термидора»,
26
«Заговор», «Ключ», «Бегство», «Пещера», «Начало конца»). Пос­
тоянными авторами журнала были Б.Зайцев (здесь увидели свет
«Авдотья-смерть», «Анна», «Рафаель», «Дом в Пасси»), М.Осоргин («Записки» опубликовали три его главные книги:- «Сивцев
Вражек», «Повесть о сестре», «Вольный каменщик»), Д.Мережковский («Вавилон», «Рождение богов», «Мессия», «Наполеон»).
Несколько глав-рассказов из «Взвихренной Руси» и сказок по­
местил в «Современных записках» А. Ремизов. Из «Современных
записок» читатели узнали нового И.Шмелева («История любов­
ная», роман «Солдаты», «Няня из Москвы»). В трех книгах печа­
талось «Преступление Николая Летаева» А.Белого.
Из поэтов-мэтров в журнале регулярно печатались М.Цветае­
ва (с первого номера), Г.Иванов, 3.Гиппиус, Н.Оцуп, Г.Адамович, В.Ходасевич, на первых порах часто появлялись стихи К.Бальмонта. Свои «Римские сонеты» и ряд стихотворений дал журналу
Вяч.Иванов.
Гораздо реже находили приют на страницах журнала моло­
дые авторы. Наиболее печатаемыми были поэты Н.Берберова (в
16 номерах), АЛадинский (в 15), Б.Поплавский и В.Смоленский (в 11), А.Штейгер (в 8). Из начинающих прозаиков редак­
ция выделила В.Набокова (Сирина) и издала все его лучшие кни­
ги: «Защита Лужина», «Camera obscura», «Отчаяние», «Пригла­
шение на казнь», «Дар». Из другой молодежи предпочтением
пользовались двое: Г.Газданов (кроме большой «Истории одного
путешествия» были напечатаны несколько маленьких рассказов
писателя) и В.Яновский (его «Преображение» увидело свет в 8-й
книге журнала).
Гордостью «Современных записок» был литературно-философ­
ский раздел. Со статьями о русской классической литературе и
современном литературном процессе выступали ПАдамович, М.Алданов, проф. П.Бицелли, В.Вейдле, 3.Гиппиус, Б.Зайцев, М.Осоргин, В.Ходасевич, М.Цветаева, М.Цетлин. Журнал опубликовал
ряд работ русских религиозных философов, ставших событиями в
истории мировой философии. Это были труды Н.Бердяева, Н.Лосского, Ф.Степуна, Г.Федотова, Л.Шестова. На страницах «Совре­
менных записок» выступали такие публицисты и политики, как
«бабушка русской революции» Е.Брешко-Брешковская, П.Милю­
ков, Е.Кускова, А.Керенский, историк проф. А.Кизеветтер. С пер­
вых номеров и почти до самого прекращения издания журнала
статьи, посвященные прошлому и настоящему России, публико­
вали И.Бунаков, М.Вишняк и В.Руднев.
Журнал откликался на большинство вышедших за рубежом и
в России книг практически по всем отраслям знаний.
В июне 1937 года те же три редактора начали издавать на средст­
27
ва граждан шанхайской русской эмиграции журнал «Русские за­
писки». Первые три номера этого издания практически не отли­
чались от «Современных записок» ни программой, ни составом
авторов (И.Бунин, Д.Мережковский, М.Алданов, М.Цветаева,
3.Гиппиус, А.Ладинский, Ю.Терапиано, Ю.Софиев, Г.Адамович,
М.Осоргин, Л.Шестов, Н.Бердяев). Единственным новым авто­
ром оказался харбинец А.Несмелов («Песни об Уленспигеле»).
Да еще в каждом номере имелось небольшое количество статей о
Дальнем Востоке. Положение изменилось с четвертой книги жур­
нала, когда его единственным редактором стал П.Милюков, сма­
нивший туда в качестве секретаря редакции М.Вишняка, к тому
времени рассорившегося с «современниковцами». «От типа тра­
диционного «толстого» журнала старого времени», — говорилось
в редакционном извещении к четвертой книжке «Русских запи­
сок», — журнал переходит «к типу, приближающемуся к обыч­
ным иностранным Revues с подбором статей преимущественно акту­
ального и информационного характера». И хотя в дальнейшем
на страницах этого издания появилось несколько первокласс­
ных художественных произведений («Пуншевая водка» М.Алданова, рассказы Г.Газданова, воспоминания Б.Зайцева, «Повесть
об отце» В.Андреева (сына Л.Андреева), «Детство» М.Осоргина),
регулярно публиковались стихи молодых поэтов и немало до­
стойных публицистических работ, в том числе печатавшиеся из
номера в номер воспоминания самого П.Милюкова и статьи
М.Вешняка, «Русские записки» в целом уступали своему «тол­
стому» чисто литературному собрату. Впрочем, и выходили они
недолго: в 1939 году издание прекратилось. Общий уровень «Рус­
ских записок» и их значение в развитии русской реалистической
литературы несопоставимы со старейшим журналом русской эми­
грации.
В 30-е годы на квартире И.Фондаминского в доме 130 Авеню
де Версай раз в месяц за достаточно богато накрытым столом
собирались люди разных поколений для обсуждения насущных
вопросов выхода из тьмы, надвигающейся на Европу. Собрания
эти оформились в объединение «Круг», протоколы первых засе­
даний которого печатались в журнале «Новый град» (1931-1939),
издаваемом все тем же И.Фондаминским в содружестве с фило­
софами Ф.Степуном и Г.Федотовым. Постоянными участника­
ми заседаний «Круга» были Георгий Петрович Федотов и его
жена Елена Николаевна, Г.Адамович, Г.Иванов, мать Мария,
литературоведы и критики Константин Васильевич Мочульский
и Владимир Васильевич Вейдле, заходили «на огонек» филосо­
фы Н.Бердяев, Л.Шестов, Ф.Степун, бывал А.Керенский. Из мо­
лодежи постоянно присутствовали Ю.Фельзен, В.Яновский,
28
Ю.Терапиано, Л.Червинская, Л.Зуров, С.Шаршун. Стремясь объ­
единить писателей старшего и младшего поколений на религи­
озно-православной основе, Фондаминский создал «Внутренний
Круг», куда вошли преимущественно молодые писатели, тяготе­
ющие к метафизическим поискам, и дал средства на издание
альманаха «Круг». Вышли три книги этого альманаха (1936-1938).
Именно там напечатан в отрывках роман Б.Поплавского «Домой
с небес», рассказы В.Яновского, Ю.Фельзена, С.Шаршуна, от­
рывок из романа А.Алферова «Рождение героя». Поэтический
раздел первого номера альманаха открывало программное сти­
хотворение Г.Адамовича «Когда мы в Россию вернемся — о, Гам­
лет восточный, когда?» и «Отрывки» Г.Иванова, остальные авто­
ры этой и последующих книг альманаха — молодежь (В.Смолен­
ский, Ю.Софиев, Ю.Терапиано, И.Одоевцева, Л.Червинская,
A. Штейгер, Л.Кельберин, Г.Раевский, Д.Кнут и другие). Рели­
гиозно-метафизические и литературно-критические статьи на­
писаны как представителями старшего поколения (Г.Федотов,
B. Ходасевич, 3.Гиппиус, П.Бицилли, К.Мочульский), так и мо­
лодежью.
Воскресные чтения у Мережковских
Одним из объединяющих центров русской литературной эми­
грации стала квартира Мережковских на 11-бис Авеню дю Колонель в фешенебельном районе Парижа-Пасси.
По форме они напоминали дореволюционные воскресные
собрания-вечера писателей на петербургской квартире Мереж­
ковских. Проходили они с 4 до 7 часов пополудни и собирали
весь цвет «русского Парижа». Постоянными участниками этих
собраний были Г.Адамович, М.Алданов, Б.Зайцев, Тэффи,
Г.Иванов с И.Одоевцевой, В.Ходасевич с Н.Берберовой. Заха­
живал на них И.Бунин. Из философов частыми гостями Ме­
режковских были Н.Бердяев, Б.Вышеславцев, Л.Шестов, Г.Федотов. Бывали здесь издатели и критики И.Фондаминский-Бунаков, Н.Оцуп, С.Маковский, М.Цетлин. В гостиной Мереж­
ковских можно было встретить А.Керенского и Б.Савинкова,
других ранее непримиримых политических деятелей России.
Хозяева проявляли неизменный интерес к литературной мо­
лодежи, и потому среди собиравшихся регулярно появлялись
Б.П оплавский, Ю .Терапиано, В.Варшавский, С.Ш арш ун,
Л.Червинская, Б.Вильде, Ю.Фельзен, Г.Кузнецова и многие
другие.
По воспоминаниям очевидцев, собравшиеся делились на две
группы.
29
Одна — вокруг Зинаиды Николаевны. Ее любимым собесед­
ником был Г.Иванов, уступавший свое место тому или иному «но­
вичку», которого Гиппиус подвергала подробному опросу о его
взглядах на литературу, религию, эмигрантскую жизнь. Здесь го­
ворили и спорили о литературе, о только что вышедших журна­
лах, особенно много рассуждали о поэзии.
Вторую группу составляли «метафизики». Они обсуждали с
Мережковским религиозные идеи, проблемы философии.
И в той, и в другой группе не исключались жаркие споры.
Секретарь Мережковских Владимир Злобин разносил чай с
бисквитами и булочками. Самым «интересным», с точки зрения
Зинаиды Николаевны, гостям подавался кофе и рюмка любимого
ликера Мережковских «Le moine miraculeus» («Монах»).
К концу вечера разговор становился всеобщим. Порой Дмит­
рий Сергеевич или Зинаида Николаевна рассказывали о прошлом:
о литературной жизни дореволюционной России, о своих встре­
чах с Л.Толстым, В.Соловьевым, Ф.Сологубом, А.Блоком, А.Белым. Это была своего рода живая история русской литературы,
чрезвычайно полезная для литературной молодежи.
Часто вечера заканчивались или даже полностью были посвя­
щены чтению стихов: читали и гости, и хозяева.
Да и вся атмосфера «воскресений» Мережковских способство­
вала сохранению той высокой духовной жизни, которой всегда
жила русская интеллигенция. Собрания на квартире у Мережков­
ских продолжались с перерывами на время отъездов супругов до
1940 года, когда немцы оккупировали Париж.
Из этих вечеров выросло более широкое объединение:
«Зеленая лампа»
Название общества возникло по ассоциации с литератур­
но-политическим кружком, собиравшимся в 1819-1820 годах в
доме петербургского богача и страстного театрала Н.Всеволож­
ского. Членами этого кружка были А.Пушкин, А.Дельвиг,
Ф.Глинка, Н.Гнедич и многие будущие декабристы. Зеленая
лампа на столе во время их заседаний символизировала «свет и
надежду».
Именно эти настроения должна была поддерживать в русской
эмиграции новая «Зеленая лампа». Другим объединяющим свой­
ством обоих обществ выступивший со вступительным словом на
первом собрании «Зеленой лампы» 5 февраля 1927 года В.Ф.Ходасевич назвал принадлежность к роковому времени, обозначен­
ному в пушкинской поэзии символом кометы 1811 года, вслед за
появлением которой для России наступили большие историчес­
30
кие испытания. «Вино кометы, — утверждал В.Ходасевич, — во­
одушевляло важные роковые споры. Среди окружающей тупос­
ти, умственной лености и душевного покоя оно помогало бере­
дить умы и оттачивать самое страшное, самое разительное ору­
жие — мысль... Мы тоже не собираемся «перевернуть мир», но
мы хотели бы здесь о многом помыслить, главным образом, —
не страшась выводов». В условиях чужбины, «пустоты, призрач­
ности, бескровности, бесплодности» эмиграции, развивал мысль
коллеги Д.С.Мережковский на том же февральском собрании об­
щества, когда «зараза усталости, обывательщина очень сильна,
<когда> воздух напоен тончайшим ядом <и> мы теряем понем­
ногу чистые понятия свободы и родины», задача «Зеленой лам­
пы» — «искать противоядий», искать слов, которые слили бы
воедино Россию и Свободу».
Формально «Зеленая лампа» было закрытым объединением,
попасть туда можно было только по приглашению организато­
ров. Другое дело, что получить такое приглашение не составляло
особого труда. Постоянными участниками собраний были И.Бу­
нин с супругой, Б.Зайцев, М.Алданов, А.Ремизов, В.Ходасевич,
Тэффи и другие писатели, получившие известность еще до рево­
люции и объединенные в «Союз писателей и журналистов». На
заседаниях присутствовали редакторы журнала «Современные за­
писки» М.Вишняк, И.Бунаков-Фондаминский, В.Руднев; С.Маковский, представлявший редактируемую П.Струве газету наци­
ональной мысли «Возрождение», и С.Талин из милюковских ли­
беральных «Последних новостей». Частыми гостями и участни­
ками дебатов были философы Н.Бердяев, Л.Шестов, Г.Федотов.
Дискуссионную ноту вносили в заседания молодые писатели
Б.Поплавский, В.Варшавский, Д.Кнут, поэт и пианист Л.Кельберин.
Для собраний выбирались представительные залы, вмещаю­
щие несколько сот человек. Начинались заседания в 9 чаеов ве­
чера, когда за накрытый зеленым сукном стол усаживались Ге­
оргий Иванов — бессменный председатель всех собраний, спра­
ва и слева от него по концам стола Д.Мережковский и 3.Гиппи­
ус, между председателем и Мережковским — очередной доклад­
чик. Постоянный секретарь общества, он же секретарь Мереж­
ковских, молодой писатель Владимир Злобин в президиуме не
сидел, а собирал с присутствующих небольшую плату, чтобы оп­
латить аренду зала.
Докладчика перебивать не полагалось: за этим строго следил
председательствующий. Он же стремился «укротить» самых не­
сдержанных на язык участников прений. После их завершения
докладчик получал заключительное слово, где спорил или согла31
шалея со своими оппонентами. Порой заключительное слово брал
и Д.Мережковский, чей ораторский талант намного превосходил
его писательские способности.
За время существования «Зеленой лампы» (с 5 февраля 1927
по 26 мая 1939) состоялось 52 заседания.
Стенограммы первых пяти заседаний «Зеленой лампы» печа­
тались в журнале «Новый корабль» (1927-1928). Отчеты о после­
дующих появлялись в газете «Возрождение» (1928-1929), отдель­
ные доклады печатались в виде статей в журнале «Числа» (1931,
№ 2/3; 1935, № 5).
Особый интерес представляет разговор, вызванный докладом
З.Гиппиус «Русская литература в изгнании», длившийся на про­
тяжении двух заседаний. Достаточно сказать, что в нем, кроме
докладчицы, приняли участие И.Бунин, Д.Мережковский, В.Ходасевич, Н.Берберова, М.Вишняк, Г.Адамович и ряд других менее
известных писателей.
Участники дискуссии исследовали духовное состояние рус­
ской эмиграции, говорили о том, что если перед революцией
1917 года «целостное духовное состояние» русской интеллиген­
ции «было разорвано» и «с таким разорванным сознанием рус­
ская интеллигенция перешла в эмиграцию и в таком состоянии
пребывает до сих пор», то задачей литературы является сохране­
ние и восстановление этой целостности, и эту задачу уже начали
выполнять «Современные записки» (И.Бунаков-Фондаминский).
Не только сохранить «запас, вывезенный из России, а как бы
немножко вырваться из кольца «только русского», — призывал
собравшихся Д.С.Мережковский. — «Ведь Россия — не только
Россия, в России есть и нечто большее». «Выход из своего пруда
в реку, в море — это совсем не так плохо и никогда плохо не
было для художественного творчества», — поддержал своего веч­
ного соперника И.Бунин.
В свете этого особое место занял вопрос о литературной мо­
лодежи. В.Ходасевич говорил о засилии «стариков» в литератур­
ных журналах и о праве молодежи на эстетический поиск. Но он
же подчеркивал, что литература «не ясли, в которые пускают
всех по признаку беспризорности». Яростно отстаивала право
молодежи называться русской и писать не о России, а о своей
эмигрантской жизни Н.Берберова. «Можно всю жизнь писать и
о джас-банде, — полемизировала Н.Берберова с З.Гиппиус, —
оставаясь русским писателем». Молодежь, говорила начинаю­
щая писательница, «не может допустить, чтобы ее всерьез уверя­
ли, что она мертва, ибо живет в Европе, в которой все русские
задыхаются. Она считает изгнание трагедией ... И, сознательно
относясь к этой трагедии, она жертвует своим пребыванием в Рос­
32
сии ради того глубоко русского дела, которого там сейчас делать
нельзя».
И в докладе З.Гиппиус, и в выступлениях говорилось о необ­
ходимости развивать не только литературу, но и другие отрасли
миросозерцания, в том числе философию, чтобы потом вернуть
все это богатство России.
Большое внимание на заседаниях «Зеленой лампы» уделялось
обсуждению современной поэзии (реже прозы) в свете класси­
ческой традиции и традиций литературы Серебряного века. В
частности, дважды собрания посвящались поэзии А.Блока (в
1928 году обсуждался доклад Г.Адамович «Судьба Александра Бло­
ка»; в 1937-м — дискутировалась тема «Блок и Россия»). Боль­
шой резонанс, по свидетельству очевидцев, имел доклад Г.Иванова «Шестое чувство (о символизме и судьбах поэзии)», в об­
суждении которого 21 марта 1930 года приняли участие Г.Адамо­
вич, И.Бунин, В.Злобин, Д.Мережковский, К.Мочульский,
Н.Оцуп, Б.Поплавский, Н.Рейзини, М.Слоним.
Немало внимания уделялось проблемам современности: в
1928 году прошел диспут «Левизна в искусстве»; в 1929-м обсуж­
дался доклад Г.Адамовича «Конец литературы»; в 1930-м про­
шло собе-седование на тему «Чего они хотят?» о «Современных
записках» и журнале «Числа»; в 1935-м — вечер памяти Б.Поплавского; в 1938-м — состоялся большой разговор о современ­
ной поэзии в связи с обсуждением книги Г. Иванова «Распад ато­
ма». Внимание участников собраний привлекали и более общие
темы: «Эмигрантский молодой человек» (1931), «Человек и ма­
шина», «Одинокий человек в эмиграции» (1938), «Что с нами бу­
дет? (Атлантида — Европа)» (1931). Две беседы со вступительным
словом Д.Мережковского (30 мая 1929 года) и докладом З.Гиппи­
ус (3 июня того же года) были посвящены метафизике любви (док­
лад был позднее опубликован в «Числах», 1931, № 5).
В вечерах стихов «Зеленой лампы» участвовали почти все по­
эты русского Парижа.
Если «Союз писателей и журналистов» (как и «Современные за­
писки») объединял в основном «стариков», то молодежь входила в
«Союз молодых писателей и поэтов»
До его создания существовали кружки, наиболее активными и
яркими фигурами в которых были эмигрировавшие в первые годы
революции парижские старожилы — художник и эзотерический
прозаик Сергей Шаршун (1888-1975), поэт Александр Гингер (18971965), Борис Божнев (1898-1969), полуфутурист Георгий Евангу­
лов.
2— 1662
33
В 1922 году Б.Божнев и Д.Кнут создали «Выставку Тринадца­
ти» — объединение русских поэтов и художников в Париже, ус­
траивавшее вечера с чтением стихов и докладов.
В конце 1924 — начале 1925 годов Юрий Терапиано (18921980), Вадим Андреев (1903-1976), Довид Кнут (1900-1955), Анто­
нин Ладинский (1896-1961) и Виктор Мамченко (1901-1982) ос­
новали «Союз молодых писателей и поэтов», первым председате­
лем которого стал Ю.Терапиано.
В дальнейшем, уже в 30-е годы, председателем этого объеди­
нения не раз избирался поэт Юрий Бек-Софиев (1899-1975), в
1955 году вернувшийся на родину. Занимал этот пост и прозаик
Юрий Фельзен (1895-1943).
Союз вел весьма активную деятельность. По субботам в кафе
на улице Данфер-Рошеро молодые писатели читали свои произ­
ведения и весьма нелицеприятно, с юношеским максимализмом
их обсуждали. Как правило, в обсуждениях участвовали Г.Адамович и Г.Иванов, чей авторитет был непререкаем. Однако этим
дело не ограничивалось. Собрания молодых писателей были и
своего рода школой мастерства. На первых заседаниях Союза с
докладами о Е.Баратынском и о поэзии выступал К.Бальмонт, о
современной литературе — М.Гофман. Ю.Мандельштам читал
доклады «Парнасское начало и лирика», «Лирика Гумилева», Г.Раевский — «О конце искусства», И.Голенищев-Кутузов — «Про­
блема современной эстетики и литературная критика», где под­
вергал анализу эстетику Б.Кроче. Иногда на таких заседаниях
выступали с чтением своих новых произведений и маститые, на­
пример М.Осоргин. Союз организовывал и более широкие лите­
ратурные вечера, сперва в подвалах кафе «Ла Болле», затем «Мефисто».
Внутри Объединения молодых писателей и поэтов порой со­
здавались различные группировки. Одной из таких стала создан­
ная в 30-е годы поэтами Ю.Терапиано, Георгием Раевским-Оцупом (1897-1963) — братом редактора «Чисел» Н.Оцупа, В. Смо­
ленским и прозаиком А.Алферовым группа «Перекресток» (на­
звание предложил Д.Кнут: «Мы сошлись на перекрестке»), тяго­
тевшая в В.Ходасевичу и классическим формам стиха. На ее со­
браниях обычно сочетались выступления молодых писателей с
чтением своих произведений и доклады литературных критиков.
Так на тему «О молодых поэтах» делал доклад С.Маковский, «О
простоте поэзии» (вопрос — очень существенный для развития
литературы того времени) говорил В.Вейдле. Впрочем, с теорети­
ческими сообщениями выступали и сами молодые: И.ГоленищевКутузов не раз говорил о пафосе и патетичности в поэзии, Ю.Те­
рапиано включился в обсуждение проблемы о смерти и умира34
Сергей Шаршун — живописец,
график, литераторавангардист
Николай Оцуп —
поэт, критик,
мемуарист, редактор
журнала «Числа»
2*
Виктор Мамченко и Юрий Бек Софиев — поэты, организаторы
Союза молодых писателей
и поэтов
Владимир Варшавский — писатель,
мемуарист, литературный критик .
Автор книги «Незамеченное поколение»
нии. Вышло две книжечки «Перекресток» (1930), включающие
стихи названных и некоторых других поэтов.
В 1928 году по инициативе критика М.Слонима возникло еще
одно объединение, преимущественно молодых писателей — «Ко­
чевье». Позиция Слонима отличалась тем, что он не только при­
знавал советскую литературу как часть единого литературного
процесса, но и стремился познакомить с ней как можно боль­
ший круг зарубежной интеллигенции. Слоним регулярно высту­
пал с докладом «Советская литература в таком-то году». Вечер
Г.Газданова мог чередоваться с обсуждением творчества С. Есе­
нина, роман эмигранта И.Болдырева «Мальчики и девочки» вы­
зывал такой же интерес, как и проза начинающего советского
писателя ЛЛеонова. Стихи В.Андреева и Б.Поплавского обсуж-.
дались с такой же живостью, как и произведения Б.Пастернака
и Э. Багрицкого. Вечер А. Ремизова с участием автора сменялся
вечером памяти В.Маяковского. Особые заседания «Кочевья»
были посвящены рассказам М.Зощенко и В.Катаева. Принимала
участие в вечерах этого объединения и М.Цветаева. В 1930 году
«Кочевье» торжественно отметило свой сотый вечер. Однако к
середине 30-х, когда в СССР восторжествовал социалистичес­
кий реализм и ряд крупных писателей были репрессированы,
объединение захирело и в 1939-м прекратило существование.
Такая же судьба, но несколько ранее, постигла альманах «Вер­
сты» (1926-1928), редактируемый Д.Святополком-Мирским, П.Сувчинским и С.Эфросом при, как сообщалось в первом номере, «бли­
жайшем участии А.Ремизова, М.Цветаевой и Л.Шестова». Два
первых номера альманаха давали обширные перепечатки из со­
ветской периодики (поздние стихотворения С.Есенина, 5 стихот­
ворений И.Сельвинского, «История моей голубятни» И.Бабеля,
два отрывка из революционного эпоса А.Веселого, отрывок из
романа Ю.Тынянова «Кюхля») наряду с произведениями писате­
лей эмиграции (рассказы А. Ремизова, «Москва под ударом» А. Бе­
лого, «Поэма горы» и трагедия «Тезей» М.Цветаевой, обзоры те­
кущей литературы Д.Святополка-Мирского). Но уже в третьей
(ставшей и последней) книге редакция отказалась от мысли о един­
стве двух потоков русской литературы.
«Кочевье» сыграло еще одну важную роль в развитии литера­
туры русского зарубежья, роль, не предусмотренную М.Слонимом и другими его организаторами. На заседания «Кочевья» хо­
дил журналист, переводчик и предприниматель Николай Рейзини (Наум Георгиевич Рейзен), хорошо знавший, какую трудность
для молодого автора составляло издание своих произведений, и
решивший создать для этих целей журнал. Своих денег у него
тогда не было (позже, переехав в США, Рейзини разбогател, стал
36
владельцем шахт и кинематографов), но он сумел заинтересовать
богатую даму, увлеченную эзотерическими проблемами (в первую
очередь тибетской философией), меценатку Ирму Владимировну
Манциарли, давшую деньги и ставшую формальным редактором
журнала «Числа». По воспоминаниям В.Яновского, позднее
И.Манциарли с ужасом говорила, что вместо благообразного «при­
ятного» полурелигиозного издания вышло что-то сверхсовремен­
ное и даже, по ее мнению, неприличное. Фактическим редакто­
ром «Чисел» стал по рекомендации Г.Адамовича и Г.Иванова
Николай Авдеевич Оцуп (1894-1958). За четыре года с 1930 по
1934-й вышло десять номеров журнала. «Числа» стали зеркалом
творческих исканий молодых писателей, рупором новаторских
идей, оппозицией традиционалистским «Современным запискам»
и «Русским запискам».
Именно здесь сформировалось то многообразное единство, что
получило название «русского Монпарнаса», или «парижской ноты».
Термин «парижская нота» принадлежит Б.Поплавскому и харак­
теризует то метафизическое состояние души молодых художни­
ков, в котором соединяются «торжественная, светлая и безнадеж­
ная» ноты («Числа», 1930, № 2-3).
Духовным предтечей «парижской ноты», по утверждению од­
ного из самых глубоких ее исследователей Г.Федотова, был
МЛермонтов, воспринимавший в отличие от Пушкина мир как
дисгармонию, землю как ад. Лермонтовские мотивы можно об­
наружить почти у всех парижских молодых поэтов. Иногда в
завуалированной, а иногда в прямой форме, как это делает Ла­
зарь Кельберин в стихотворении «О как знакомо мне все близ­
кое тебе»:
Любить — зачем любить, без власти и без права?
Желать — зачем желать наперекор судьбе?
Однако отчаяние — только одна сторона поэзии «парижской
ноты». В статье «О парижской поэзии» Г.Федотов утверждал, что
она «билась между жизнью и смертью» («Ковчег», Нью-Йорк, 1942,
с. 193). Эту же мысль развивал Ю.Терапиано, рецензируя книги
одного из самых молодых поэтов первой волны эмиграции П.Ставрова «Без последствий» и «Ночью». Его тема, писал поэт-критик,
«столкновение между чувством обреченности человека и острым
ощущением жизни» («Круг. Книга вторая», 1938). Эти слова с пол­
ным правом можно отнести почти ко всем молодым писателям
парижской эмиграции.
«У нас нет прошлого, — говорил в 1933 году на вечере «Чисел»
молодой прозаик А.Алферов. — Мы не знали радости независи­
мого положения, к нам не успели пристать никакие ярлыки...
37
Отчаяние или почти отчаяние — вот основа нашего тогдашнего
состояния». «Страшные события, которых нынешние литератур­
ные поколения были свидетелями или участниками, — развивал
положение Алферова Г.Газданов, — разрушили все те гармони­
ческие схемы, которые были так важны, все эти «мировоззрения»,
«миросозерцания», «мироощущения» и нанесли им непоправи­
мый удар. И то, в чем были уверены предыдущие поколения и что
не могло вызывать никаких сомнений, — сметено как будто окон­
чательно». «Незамеченным поколением» назвал свою генерацию
ровесник и приятель Б.Поплавского прозаик В.Варшавский в од­
ноименной книге. Младшее поколение, покинувшее страну поч­
ти детьми, мучительно искало смысла жизни и своего места в ней
и встречало равнодушие и непонимание. Все это осложнялось
нищенским материальным положением большинства молодых
талантов. Никто из них не вел жизни профессиональных писате­
лей: работали таксистами, рабочими на заводах, поденщиками,
подрабатывали уроками, переводами, перебивались мизерными
стипендиями от различных фондов. Часто голодали.
У них был комплекс эмигрантской отверженности, гордыня
соединялась с «трансцедентной униженностью», сладкая безна­
дежность с поисками нищего рая, пишет Варшавский. Рядом с
надеждой на содружество, братство, обретение Бога жил всеразъедающий скептицизм.
Художественным воплощением этого типа молодого эмигран­
та стали герои романов Б.Поплавского «Аполлон Безобразов» и
«Домой с небес». Черты своего поколения отразил и Сергей Шаршун в своем лучшем произведении — романе «Долголиков» (1961),
названном им вслед «Мертвым душам» Гоголя поэмой. Юность
Миши Долголикова пришлась на то время, когда в России вместо
сказочных молочных текли кровавые реки, пишет Шаршун. За
плечами Долголикова и служба в русском экспедиционном кор­
пусе, и многие другие испытания. Это, говорит автор, «человек
исключительной тонкости, нервности... это пластинка высокой
чувствительности, которую способна воспламенить — строка по­
эзии или газеты, музыкальная фраза, или чужая мыслящая, на­
правляющая, приказывающая, все равно, хорошая или дурная —
воля». «Персонажи Шаршуна, — писал Ю.Терапиано, — трагич­
ны, одиноки, порой мнительны, горды, часто одержимы частич­
но манией величия и манией преследования». Низкая действи­
тельность соединяется в них с идеалистической или даже мисти­
ческой настроенностью.
Это позволило Георгию Раевскому, не разделявшему, как он го­
ворил, «парижско-нотную ересь», обратиться к поэтическому собра­
ту, не чуждому влиянию этой ноты, с ироническими стихами:
38
Борис Поплавский и Лидия Червинская
— поэты
Анатолий Штейгер
поэт
—
Юрий Терапиано — поэт,
критик, мемуарист, историк
религии
Владимир Смоленский — поэт
Смотри, мой друг, не дремля, в оба;
Могильщиками ты обманут —
Доумираешься до гроба,
А воскрешать тебя не станут.
Наиболее близким для молодых писателей был Г.Иванов, как
и они, находившийся в постоянном поиске преодоления распа­
дающегося мира. Философские и нравственные искания моло­
дых активно поддерживал поэт и критик старшего поколения
ГАдамович.
Вместе с тем призывы Г.Адамовича к «простоте» далеко не
всегда воплощались в книгах молодых. Здесь совершенно четко
прослеживается два полюса: одни тяготели к В.Ходасевичу с его
установкой на неоклассицизм (Ю.Териапиано, В.Смоленский,
А.Штейгер, Ю.Мандельштам, 3.Шаховская). Другая группа «ле­
вых» писателей находилась под влиянием усложненных поисков
Б.Пастернака (Б.Поплавский, ранний Г.Газданов, В.Варшавский,
Ю.Мамченко).
Ярким примером классического направления поэзии «париж­
ской ноты» являются стихи Анатолия Штейгера (1907-1944). По­
томок швейцарских баронов, Штейгер провел свое детство на
Украине, юношество — в Константинополе и Чехии. Жизнь его
прошла в скитаниях: Париж, Марсель, Ницца, Лондон, Рим, Бер­
лин, Берн. «Все столицы видели бродягу», — писал он в одном из
стихотворений. Уже в своей первой книге («Этот день», Париж,
1928) поэт мечется между «тоской и нерушимой верой», прияти­
ем жизни и ее трагическим осознанием:
Господи, я верую и жду,
Но доколь, о Господи, доколь,
Мне терпеть душевную нужду,
Выносить сомнения и боль?
Но даже «полуночная жуть» бытия, «странные жуткие сны»,
умирание «червоного листа» и «последний лебедь в стынущем
пруду» не могут до конца заглушить тягу лирического героя Штей­
гера к жизни:
С каждым часом и вздохом, земля,
Для меня ты становишься ближе.
В последующих книгах «Эта жизнь» (Париж, 1932), «Небла­
годарность» (Париж, 1936), «Дважды два — четыре» (стихи пос­
ледних лет, опубликованные посмертно; Париж, 1950) «душев­
ная нужда», «сомнения и боль» по «бедной далекой Украйне»,
по «покинутой Руси» расширяют «круг безвыходного одиночес­
тва»: «Как беззащитен в общем человек, И как себя он не считая
тратит».
40
Никто как в детстве нас не ждет внизу,
Не переводит нас через дорогу.
Про злого муравья и стрекозу
Не говорит. Не учит верить Богу.
До нас теперь нет дела никому —
У всех довольно собственного дела.
И надо жить, как все, — но самому...
Беспомощно, нечестно, неумело.
Краткие приглушенные строфы, обрыв стиха на полуслове
(«Только скоро нам правду скажет Осень голосом ледяным...»;
«И правду всю увидишь без прикрас И жизнь — какой она на
самом деле...») придают поэзии А.Штейгера трагизм, но не мо­
гут заглушить его светлых воспоминаний, его любовного чув­
ства:
У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: — Да, увы,
Любили... Как еще любили!..
Ощущение горечи пополам с надеждой вызвано у А.Ш тей­
гера отнюдь не смертельной болезнью (поэт страдал от тубер­
кулеза, унесшего его в могилу), а принадлежностью к поколе­
нию.
Еще более трагичны стихи Лидии Червинской (1907-1990). Уче­
ница Г.Адамовича, автор сборников «Приближение» (Париж, 1934),
«Рассветы» (Париж, 1937) и «Двенадцать месяцев» (Париж, 1956),
она стремится придать своим стихам форму дневника, создать
впечатление небрежности, едва ли не случайной записи, передать
сиюминутность настроения. Однако за всем этим встает вселенс­
кая боль, экзистенциальная трагедия. Порой, правда, и у нее дра­
матическое начало («Поздно. Все проходит мимо. В жизни, нако­
нец, любимой, Больше места нет») нейтрализуется более опти­
мистическим финалом:
Мы пойдем навстречу маю,
Вызывая птичий смех...
Ничего не принимая,
Принимая все — за всех.
Однако чаще все-таки побеждает настроение разочарования,
крушения любви, горечи («Как не сойти с ума?»):
Холодно. Тоска бездетная
Вновь протягивает руку
Под октябрьским, под дождем...
41
А цыганское, рассветное
Предвещает ту разлуку,
Для которой все живем.
И еще пессимистичнее в другом, более позднем стихотворе­
нии:
От безразличия мы лжем самим себе:
Нет правды в мире, смысла нет в борьбе...
О чем же спор?
Несколько более оптимистичны поэты «Перекрестка», хотя
по большому счету и они вполне соотносимы с «парижской но­
той».
Ярким свидетельством тому может служить поэзия Владими­
ра Смоленского (1901-1961). Сын военного, расстрелянного со­
ветской властью в 1920 году, он окончил Высшую коммерческую
школу в Париже, работал для заработка бухгалтером. Во Вторую
мировую войну ненадолго покидал оккупированный Париж, бед­
ствовал, но с фашистами не сотрудничал.
Ему удалось выпустить при жизни три сборника стихов, чет­
вертый — посмертный — издала его жена: «Стихи» (1963).
Уже в двух первых «Закат» (1931) и «Наедине» (1938) отчетли­
во проявилась принадлежность В.Смоленского к поэтам «париж­
ской ноты».
Лирический герой воспринимает действительность как «мир
призрачный, ненастоящий», «еле зримый», мерцающий «отра­
женным светом», «плывущий». Наиболее часто повторяется сло­
во «темный (темнота)»: «темноте бездонной», «темным дням и
мертвым ночам» соответствует «сознанье темное» поэта, «темные
черты и смертное томленье», «темные надежды» (рифмующиеся с
«истлевшими одеждами»); душа поэта отражается «в водах тем­
ного колодца»; даже «обручальное кольцо на пальце высохшем
темнело».
С темнотой связан образ мрака и холода: «звезды в мраке сты­
нут», «звездная мгла».
Есть тишина, ей нет названья,
Ей нет начала, нет конца,
И мертвое ее дыханье
Живые леденит сердца.
Подобно многим поэтам русского Монпарнаса, В.Смоленский явно находился под влиянием Г.Иванова, когда писал страш­
ные строки стихотворений «Никого не любить, ни себя, ни дру­
гих — никого» и «Все давным-давно просрочено»:
Все давным-давно раздарено,
Выменено на гроши,
42
Выкрадено, разбазарено,
Брошено на дно души.
Отчаяние звучит в стихотворении «Проклясть глухой и тем­
ный мир...»:
Из смерти в смерть, сквозь бред, сквозь ночь,
Сквозь холод, что синеет в жилах,
Сквозь страшные свои мечты...
Даже многоточие, завершающее стихотворение, напоминает
стиль Г. Иванова.
Однако — и это характерно для В.Смоленского — даже в пер­
вых сборниках отчаянье порой сменялось надеждой:
Конец всему. Но разве сердце может
Понять, поверить, что когда-нибудь,
Быть может, через несколько мгновений,
Оно сорвется в ледяную муть...
(Звезда с небесных падает вершин...)
Усталость героя стихотворения «Плывет луна в серебряном
огне» переходит в мысль о бессмертии. В ответ на голоса из Рос­
сии «в тьму из тьмы» поэт кричит «о гибели и надежде» («Иногда
из далекой страны...»).
Ужас смерти пронизывает и многие произведения последнего
прижизненного «Собрания стихотворений» (1957) В.Смоленско­
го. Однако весьма часто лирический конфликт таких стихов будет
завершаться победой веры и надежды. Так, начав повествование
страшными натуралистическими подробностями собственных по­
хорон:
А все-таки всего страшнее гроб —
На сердце лед и тление на лоб,
И гвоздь, что будут в крышку забивать.
И будет каждый горсть земли бросать,
— поэт во второй строфе скажет:
Но, может быть, за этим будет свет,
Который ты предвидел столько лет,
И станут явью все земные сны,
И все мечтанья будут свершены.
Все может быть, все может сердце ждать,
Когда оно не хочет умирать,
И ожидая неземной полет,
Оно страшится, и оно поет...
43
Характерно переосмысление поэтом в поздних «Стихах о мы­
шах» образа судьбы-кошки, играющей человеком-мышкой из
книги 1938 года. Тогда он нес страшноватый оттенок безысход­
ности:
Так с мышью играет кошка,
Гладит остреньким коготком —
«Помучься еще немножко,
Умереть успеешь потом...»
У самого сердца колет
Коготок, то слабей, то сильней,
Никуда не скрыться от боли,
От жестокой и нежной воли
Темной души твоей.
Теперь, несмотря на то, что метафора жизни (а скорее смер­
ти) — мышеловки, поджидающей человека, сохранилась, ей дано
и противопоставление:
И над этим мышиным страданьем,
Над страшной мышиной судьбой —
Заря в розоватом сияньи,
Звезда в вышине голубой.
Я все это вижу, зная,
Что мне не дано понять
Этого ада иль рая —
Ужас, смысл, благодать.
«Вся жизнь, как дым. Остался только Бог», — скажет В.Смоленский в другом стихотворении («Есть что-то дикое в моей судь­
бе...»). Даже в стихах 30-х годов прорывается вера в «Божье возда­
яние» за страдания, за потери. Кроме суеты жизни, есть и «божес­
твенное опьянение» жизнью, любовью, стихами. Есть высшие
чувства («Монблан»). Есть вера, что «смерти нет» («Ты встаешь из
ледяной земли...», «Стихи о Лермонтове»):
И победное смерти жало —
Не конец уже, а начало.
(Между жизнью и смертью прослойка...)
Идея очищающей смерти и воскресения проходит и через сти­
хотворения о России. Именно так надо понимать стихи «Ты в
крови — а мне тебя не жаль...»:
Мне тебя не жаль — гори, гори,
Задыхайся в черных клубах дыма —
Знаю я, что ты неопалима,
Мать моя, любовь моя, — умри!
44
Нет пощады, падай до конца,
Чтобы встать уже, весь мир жалея,
Чтобы в мире не было светлее
Твоего небесного лица.
«Верю, Россия осталась В страданьи, в мечтах и в крови», —
пишет В.Смоленский в 1955 году, соединяя свою скорую смерть с
родиной:
... сквозь страхи земные,
В уже безысходной тоске,
Я сильную руку России
Держу в моей слабой руке.
(Я знаю, Россия погибла...)
Образ Иисуса, на минуту сходящего с креста, чтобы коснуться
груди ослабевшего человека, мысль о слиянии с космосом выво­
дит позднюю поэзию В.Смоленского с экзистенциалистских по­
зиций поэтов «парижской ноты», сохраняя ее пронзительность и
трагизм.
Приверженность В.Смоленского к классической простоте не
снимает вопроса о новаторстве поэтов-традиционалистов, при­
надлежащих к русскому Монпарнасу. Метафоры и прозаизмы
того же Смоленского неожиданны и вполне выдержаны в духе
поисков новой выразительности, начатых В.Ходасевичем и
Г.Ивановым (не случайно обоим мэтрам Смоленский посвятил
стихотворения). Весьма смела и неожиданна и рифма поэта. Со­
временники восхищались оригинальностью рифмовки «ангеломВрангелем», «клевера-с севера» («Над Черным морем, над бе­
лым Крымом...»). Не уступают ей и многие другие. Даже когда
рифма В.Смоленского традиционна, она поражает вынесени­
ем в конец стиха самых ключевых слов (порой соединенных по
оксюморонному принципу), что было характерно для поисков
XX века.
Особое место среди младшего поколения поэтов занимает Юрий
Терапиано (1892-1980). Сборники его стихов «Лучший звук» (Мюн­
хен, 1926), «В дыму» (Париж, 1926), «Бессонница» (Берлин, 1935),
«На ветру» (Париж, 1938), «Избранные стихи» (Вашингтон, 1963).
Он, пишет о Терапиано критик и поэт Ю.Иваск, «не любил край­
ностей — ни авангардных, ни романтических и был чужд модного
в 30-х годах пессимизма. Он предпочитал золотую середину: был
всегда уравновешен в поэзии, но не холоден, не равнодушен к
современному миру, к человеку». («Новый журнал», 1981, № 44,
с. 143). Начиная с первых стихов и поэмы «Невод» и до конца
своего творческого пути, поэт неизменно обращался к философ­
ским проблемам бытия, среди которых большое место отводи45
Обложка книги воспоминаний и эссе Ю. Терапиано
лось Богу, религиозной мистике. Г.Федотов в уже упоминавшейся
статье «О парижской поэзии» даже назвал Терапиано поэтом «тор­
жественной религиозной мистики» и последователем Вяч.Ива­
нова, работавшего в той же манере. («Ковчег», Нью-Йорк, 1942,
с. 196.)
Другое направление «парижской ноты» воплощалось в слож­
ных сюрреалистических формах и представлено творчеством на­
иболее талантливых ее представителей Б.Поплавского и Г.Газданова. Последний, впрочем, к концу жизни пришел к почти реа­
листической ясности и простоте.
Конец русского литературного Парижа
Зарождение фашизма и приход фашистов к власти в Герма­
нии и Италии, начало Второй мировой войны и последовавшая
вскоре оккупация Парижа немецкими войсками поставили перед
русской диаспорой вопрос об отношении к фашизму.
Откровенную поддержку фашистам из крупных писателей ока­
зал только Д.Мережковский, хотя и здесь все было не просто.
Автор «Христа и Антихриста» довольно быстро разочаровался в
Муссолини, презирал Гитлера, но надеялся, что немцам удастся
победить сталинскую бесовщину. Из молодых писателей к фа­
шизму тяготел Л.Кельберин.
Большинство эмигрантов не приняло фашизм и его челове­
коненавистническую идеологию. «Между русскими гитлеровца­
ми и нами такая же пропасть, как между нами и коммуниста­
ми», — писалось в редакционной статье 14-го номера «Нового
Града».
В 30-е годы вернулись на родину М.Горький, М.Цветаева и
некоторые другие писатели-эмигранты.
Тотчас после оккупации немцами Парижа большая группа
писателей не только отказалась от какого-то ни было сотрудни­
чества с фашистами, но и покинула Париж, уехав в так называ­
емую Свободную Зону. Среди них был и Нобелевский лауреат
И.Бунин.
Многие эмигрировали в Америку по списку, подготовленному
И.Фондаминским. Сам Илья Исидорович полученной визой в
США не воспользовался, вернулся в Париж, где был тотчас ин­
тернирован и погиб в фашистском концлагере. Такая же судьба
постигла Юрия Фельзена, Юрия Мандельштама, Раису Блох,
Михаила Горлина.
Вместе с тысячами русских резервистов, получивших по зако­
ну 31 марта 1928 года право служить во французской армии и
отправившихся драться с фашистами в Абисссинию, Сирию, Еги­
47
пет, Ливию, Тунис, Италию, Францию, записался добровольцем
сорокапятилетний Георгий Адамович, скрыв от комиссии свой
порок сердца. Ушли в Сопротивление Гайто Газданов (с женой),
Николай Оцуп и Довид Кнут (с женой — дочерью композитора
Скрябина Ариадной, погибшей от руки фашистов). Десять меся­
цев провел в гестаповской тюрьме поэт и драматург Владимир
Корвин-Пиотровский (1891-1966) в ожидании исполнения смерт­
ного приговора, к счастью, так и не исполненного. С 1940 года
участвовала в борьбе с фашистами Зинаида Шаховская. Она
была сестрой во французском военном госпитале, участвова­
ла в деятельности Парижского подполья и чудом выскользну­
ла из лап гестапо. Награждена орденами Почетного Легиона
Франции и Бельгийским Крестом. Антифашистские статьи пе­
чатал смертельно больной А.Штейгер, за что и был занесен
гитлеровцами в список «врагов Рейха», подлежащих уничто­
жению.
Кстати, сам термин «Сопротивление» (Resistance) своим воз­
никновением обязан русскому поэту и ученому-этнографу Бори­
су Вильде-Дикому (1908-1942), вместе с другим сотрудником па­
рижского Института Человека начавшему издавать подпольную
антифашистскую газету под этим названием. Зная о провале и
аресте друга, Вильде вернулся в Париж, был арестован и столь
мужественно вел себя, защищая товарищей (и особенно юного
Рэнэ Сеняшаля, подпольная кличка «Мальчуган»), что на суде
немецкий офицер заявил, что если бы Вильде не был его врагом,
он хотел бы иметь такого друга. О духовной стойкости Вильде
свидетельствуют его шутливое стихотворение, написанное неза­
долго перед казнью:
Невозмутимый как всегда,
С отвагой никому ненужной,
Так послужу мишенью я
Для дюжины немецких ружей,
и вполне серьезная записка жене, составленная в ночь перед рас­
стрелом: «Как все ясно! Вечное солнце любви всходит из бездны
смерти... Я готов, я иду. Я покидаю Вас, чтобы встретить Вас
снова в вечности. Я благословляю жизнь за дары, которыми она
меня осыпала».
Погибла в концлагере Равенсбрюк и автор религиозных сти­
хов мать Мария (1891-1945), в миру Елизавета Юрьевна Кузьми­
на-Караваева (по второму мужу Скобцова). Ее единственная вина
заключалась в том, что она спасала от смерти людей, преимущест­
венно евреев. Мать Мария явилась добровольно в гестапо, когда
арестовали ее сына Юрия, тоже погибшего в фашистской неволе.
48
В концлагере она поддерживала упавших духом даже тогда, когда
сама уже не могла ходить. Избиения и оскорбления эсэсовок пе­
реносила с христианским смирением, оправдывая свои ранние
строки:
Ослепшие, как много вас!
Прозревшие, как вас осталось мало!
Участие в борьбе с фашизмом, как правило, не означало при­
нятия русскими эмигрантами советской власти. Это была соли­
дарность с русским народом. Объясняя уже в 1949 году свой пат­
риотический порыв, князь С.Оболенский процитировал стихот­
ворные строчки К. Симонова:
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всём миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не веривших внуков своих.
Некоторая часть эмиграции, впрочем, надеялась, что с по­
бедой над фашистской Германией в России восторжествует
демократия, будет возвращена свобода слова, свобода личнос­
ти.
Поэма А.Твардовского «Василий Теркин», рисовавшая пор­
трет простого русского человека, чрезвычайно высоко оценен­
ная столь строгим критиком, каким был И.Бунин; по-челове­
чески добрые национально окрашенные стихи К.Симонова (в
первую очередь «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»);
публикация в СССР в годы войны произведений А.Ахматовой;
выход книги стихов Б.Пастернака; переговоры с Буниным и
Тэффи о возвращении на родину и их книг, и самих писате­
лей; приемы в 1945-1946 годах эмигрантов в советском посоль­
стве в Париже давали некоторую надежду на это. Советские
паспорта взяли А.Ремизов, Тэффи, Н.Бердяев, Вяч.Иванов,
А.Гингер и его жена поэтесса Анна Присманова. Возник жур­
нал «Советский патриот».
В 1946 году состоялась встреча остававшихся во Франции рус­
ских писателей-эмигрантов с приехавшими в Париж полпредами
Союза писателей СССР К.Симоновым и И.Эренбургом. Как буд­
то бы намечалось новое единство. Даже постановление ЦК ВКП(б)
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”», документ, где подверга­
лись облыжным обвинениям А.Ахматова и М.Зощенко, на пер­
вых порах было воспринято как «зигзаг», как отступление от «но­
вых времен». Однако вскоре стало совершенно очевидно, что речь
идет не о случайности, а о закономерности, об очередном «закру­
чивании идеологических гаек». Намечавшиеся было контакты раз­
рушились.
49
И лишь очень немногие продолжили сотрудничество с со­
ветской властью. Среди них поэт и прозаик Антонин Ладинский (1896-1961), проявлявший интерес к проблемам истории,
в частности, к упадку Римской империи и приходу христиан­
ства (романы «XV легион», 1937 и «Голубь над Понтом», 1938).
Византия и Древняя Русь X-XI веков — круг его писательских
интересов с 30-х годов и до конца жизни. Высланный в 1950
году из Парижа в Германию за просоветскую деятельность, он
в 1955 году вернулся в Россию, где создал свои лучшие романы
о Древней Руси «Когда пал Херсонес...» (1937-1958), «Анна
Ярославна — королева Франции» и «Последний путь Влади­
мира Мономаха» (1960).
Жизнь русского литературного Парижа после 1945 года не
прекратилась, но и не имела столь бурного развития, как до
войны. 16 марта 1946 года на общем собрании Союза писате­
лей и журналистов 64 голосами против 45 было принято пред­
ложение Ю.Анненкова и Г.Газданова не сотрудничать с Сою­
зом советских писателей. Председателем Союза был избран
Б.Зайцев. Возродился и Союз поэтов и писателей, потерявший
по вполне понятным причинам бывшее до войны определение
«молодых». Его председателем стал бывший литературный ре­
дактор дореволюционного журнала «Аполлон» критик и поэт
Сергей Константинович Маковский. Секретарем Союза стала
Анна Марковна Элькан (дочь профессора медицины, действи­
тельного статского советника М.Абельмана). Оба они жили в
центре Парижа на улице Тильзит на углу авеню Ваграм неда­
леко от площади Этуаль. Тильзит стал местом сборов русских
писателей. Здесь продолжались чтения стихов, выступали с
докладами Г.Адамович, Н.Оцуп, Ю.Терапиано и многие дру­
гие.
В связи с закрытием большинства русских газет и журналов
(сохранилось только правое «Возрождение») остро встал вопрос
об издании произведений русских писателей.
Летом 1949 года Париж посетила достаточно богатая рус­
ская поэтесса из Нью-Йорка Рахиль Самойловна Чеквер (пи­
сала под псевдонимом Ирина Яссен), решившая издавать про­
изведения русских писателей. Так возникло издательство «Риф­
ма», в редколлегию которого кроме И.Яссен вошли Г.Адамо­
вич, С.М аковский, Г.Раевский, П.Ставров, Ю .Терапиано,
А.Элькан (секретарь). Первой книгой, вышедшей в «Рифме» в
феврале 1950 года, стал сборник стихов А.Штейгера «Дважды
два — четыре». За ним последовали «Портрет без сходства»
Г.Иванова, «Стихотворения» В.Набокова, «Странствие земное»
Ю.Терапиано, «Певчий час» В.Мамченко, «Двенадцать меся­
50
цев» Л.Червинской, «После ее смерти» В.Злобина, «Третья кни­
га» Г.Раевского, «Роза и чума» А.Ладинского.
Еще более драматическая судьба постигла
ЛИТЕРАТУРНЫ Й ХАРБИН
Восточным центром русского рассеяния был Харбин, до не­
давнего времени почти неизвестный литературоведам.
Положение изменилось в 80-е годы, когда за рубежом вы­
шли сборники «Остров Лариссы» (Орендж, 1980), «Песни с Вос­
тока» (Аделаида, 1989), воспоминания В.Перелешина «Два по­
лустанка» (1982) и М.Волина «Русские поэты в Китае» («Кон­
тинент», № 34, 1982), книги В.Петрова («Город на Сунгари»,
1988), Е.Рачинской, З.Жемчужной, И.Абросимова. Значитель­
ную роль в восстановлении исторического значения Харбина
для сохранения и развития русской культуры сыграли работы
Е.Таскиной, подготовившей в 1991 году ^совместно с Д.Селькиной антологию «Харбин — ветка русского дерева» (Новоси­
бирск) и выпустившей в 1994 году монографию «Неизвестный
Харбин» (Москва).
К началу 20-х годов, когда на восток устремились остатки
армий Колчака, Каппеля, атамана Семенова, Харбин был сытым
благоустроенным городом, центром Китайско-Восточной желез­
ной дороги, связывающим Россию и Европу с Дальним Восто­
ком. Порой его называли восточным Петербургом не только изза того, что улицы обоих городов носили одинаковые названия
(Садовая, Первая линия, Вторая линия, Большой проспект), но
и по размаху культурной жизни. Здесь выходило несколько рус­
ских газет и журналов, гастролировали известнейшие актеры
(Ф.Шаляпин, А.Вертинский), здесь начинал свою артистичес­
кую карьеру С.Лемешев.
Впрочем, Е.Таскина справедливо указывает на приблизитель­
ность такого сравнения: Харбин был замечателен соединением
русской и восточной культур. Исследования восточной природы,
китайского быта обобщались в научных трудах Общества изуче­
ния Маньчжурского края «Вестник Азии».
Наиболее знаменитым писателем-этнографом был Николай
Аполлонович Байков (1872-1958), живший в Харбине с 1901 по
1956 годы. Его первая книга «В дебрях Маньчжурии» вышла еще в
1914 году в Петрограде и была переиздана в Харбине в 1934 году.
Он автор книг «Великий Ван» (1936,1938), «По белу свету» (1937),
«Тайга шумит» (1938), «У костра» (1939), «Шу-Хай» (1942), «Та­
ежные пути» (1945). Этнографическая литература составила су­
щественное направление харбинской ветви русской литературы и
51
в последующие годы (книга М.Щербакова «Корень жизни», рас­
сказы А.Несмелова, эссе Вс.Н.Иванова).
20-е годы придали литературной жизни Харбина новый им­
пульс, связанный сперва с непродолжительным пребыванием в
городе таких известных писателей, как С.Скиталец и С.ГусевОренбургский. Оба принимали участие в возникшем в 1922 году
литературно-художественном кружке при Коммерческом собра­
нии. Кружок этот издал сборник «Сунгарийские вечера» (1923).
Вслед за этим и в связи с прибытием в Харбин интересующей­
ся литературой молодежи возникли вечера «Зеленой лампы»,
возглавляемые молодым поэтом Алексеем Алексеевичем Гры­
зовым (писал под псевдонимом Алексей Ачаир). Из этих со­
браний у «Зеленой лампы» в 1926 году возникло литературное
объединение «Чураевка». Название взято по имени героев мно­
готомного романа писателя-эмигранта Георгия Гребенщикова
«Братья Чураевы» (1913-1936) — первых русских поселенцев
на Алтае.
«Чураевка» регулярно проводила по вторникам открытые ве­
чера, собиравшие до тысячи человек, по пятницам — студии с
анализом творчества членов объединения. На вечерах «Чураевки»
обсуждались пути развития современной литературы, искусства;
творчество как советских писателей (Б.Пастернака, И.Сельвинского, Б.Пильняка, последний даже приезжал в Харбин), так и
эмигрантов (Д.Мережковского, И.Бунина, Саши Черного). Закан­
чивались такие собрания выступлениями поэтов с чтением своих
стихов и музыкой.
Однако основная деятельность «Чураевки» была связана с ра­
ботой поэтической студии, фактическим руководителем которой
был А.Ачаир, а председателями молодые литераторы Николай
Кичий, Николай Щеголев, Александр Шнапштис и Владимир
Слободчиков*.
На занятиях студии изучались «Основы стиховедения» В. Брю­
сова, «Теория литературы» Б.Томашевского, «Теория стиха» и
♦Будущим исследователям будет интересно знать имена поэтов и про­
заиков, посещавших студию: Л.Андерсен, Я.Аракин, А.Ачаир, Васильева
(Юрка), М.Визи, М.Волин, Л.Гроссе, Г.Гранин (Сапрыгин), Ел.Даль,
Ф.Дмитриева, АДостоевич (Носова), А. и 3. Жемчужные, Н.Завадская,
Вс.Иванов, В.Иевлева, Н.Ильнек, Ф.Камышнюк, М.Колосова (Покровс­
кая), А.Кондратович, М.Коростовец, В.Логинов, АНесмелов, В.Обухов,
И.Орлова, А.Паркау, В.Перелешин, Н.Петерец, В.Померанцев, Е.Рачинская, Н.Резникова, Г.Сатовский, Н.Светлов, С.Сергин (Петров), О.Скопиченко, В.Слободчиков, О.Тельтофт, Ливан и Лидия Хаиндравы,
М.Шмейссер, Н.Щеголев, Л.Энгельгард, Б.Юльский, В.Янковская (спи­
сок предоставлен автору книги В.А.Слободчиковым).
52
«Рифма, ее история и теория» В.Жирмунского, «Теория и практика
поэтического творчества» Н.Шульговского. Но самым главным был
анализ творчества членов студии. Каждый участник читал свои стихи,
подвергавшиеся затем обсуждению и нелицеприятной критике.
Объединение сначала еженедельно с июля 1932 года выпуска­
ло двухстраничный вкладыш «Молодая Чураевка» — приложение
к газете «Harbin Daily News» (редактором ее был Г.Визи, отец
молодой поэтессы Марии Визи и большой ценитель поэзии). За­
тем, набрав сил, стало с конца декабря 1932 года издавать ежеме­
сячную собственную восьмистраничную газету, редактируемую
поэтом Валерием Францевичем Салатко-Петрище (писал под псев­
донимом Валерий Перелешин). При этом из названия выпало
первое слово, газета стала называться просто «Чураевка».
Восемнадцать лет (с 1927 по 1945-й) выходил еженедельный
литературно-художественный журнал «Рубеж» (издатель ЕЖауфман, редакторы — сперва Г. Шипков, затем М.Рокотов-Бибинов
и К.Сабуров) типа российского «Огонька». В нем не считали за­
зорным публиковаться Саша Черный, А.Амфитеатров и другие
писатели с европейскими именами. Художественные произведе­
ния охотно публиковал и журнал «Лучи Азии».
За годы своего существования «Чураевка» выпустила четыре
сборника стихотворений: «Лестница в облака», «Семеро», «Багуль­
ник» и «Излучины».
Всего же в Харбине вышло более 60 поэтических сборников.
Ввод японских частей в Харбин (6 февраля 1932 года) на пер­
вых порах не коснулся литературной жизни русской диаспоры. В
1932-1935 годы «Чураевка» продолжала активно функционировать.
Попытки как японских оккупантов, так и немногочисленных рус­
ских фашистов вовлечь участников бывшей «Чураевки» в литера­
турное объединение национал-шовинистического толка успехом
не увенчались. Но когда в 1942-43 гг. русские фашисты стали при­
нудительно призывать молодежь в свои военизированные отря­
ды, почти все молодые поэты покинули Харбин и переехали в
Шанхай.
К 1943 году в Шанхае уже существовали объединения «Поне­
дельник», «Среда» и «Пятница», куда входили многие переехав­
шие из Харбина «чураевцы» (Лариса Андерсен, Юстина Крузенштерн-Петерец, Валерий Перелешин, Николай Петерец, Влади­
мир Слободчиков, Лидия Хаиндрова, Николай Щеголев). Несмотря
на нужду и даже голод настроение у молодых поэтов было бодрое.
Как вспоминает В.Перелешин, «постоянное общение создавало
близость и дружелюбие» (Russian Poetry and Literary Life in Harbin
and Shanghai, 1930-1950: The Memoirs of Valerij Pereleshin. — Am­
sterdam, 1987. — C. 104).
53
Это нашло отражение в названии альманаха «Остров», вышед­
шего под редакцией В.Перелешина и Николая Щеголева. «Ост­
ров, — говорилось в написанном Щеголевым предисловии, — нечто
отделенное, изолированное от остального мира, замкнутое в себе.
Действительно, наши сборы ... для занятий литературой (преиму­
щественно поэзией) были для нас своеобразным уходом, изоля­
цией от мира, в котором грохотали бомбы и рвались снаряды, и
выли сирены, и остро пахло кровью».
На протяжении всех военных лет в Шанхае выходили журна­
лы «Сегодня» и «Эпоха», авторские сборники стихов.
В годы Второй мировой войны симпатии большинства лите­
раторов Харбина и Шанхая были на стороне советского народа.
После войны писательские судьбы разошлись. Одни, те, кто
уехал в Америку, в Австралию, продолжали там писать, публикова­
ли новые книги и дожили до глубокой старости (из 5 остававшихся
в живых к 1996 году чураевцев 4 жили за пределами России и лишь
один — на родине). Других ждали новые и горькие испытания.
В 1945 году в Харбин вошли советские войска. В августе ос­
тавшиеся в городе русские эмигранты были приглашены через
прессу на собрание-митинг. Персональные приглашения получи­
ли и писатели. 13 тысяч собравшихся прямо там были арестованы
органами НКВД, погружены в эшелоны и отправлены в ГУЛАГ.
Многие погибли; некоторые — после освобождения трудоустрои­
лись, но и им пришлось долгое время преодолевать подозритель­
ность властей, недооценку критики, груз положения недавнего
эмигранта-изгоя.
Немногим лучше складывалась судьба писателей, оставшихся
в Шанхае. Находясь под впечатлением Победы 1945 года, значи­
тельная их часть взяла советские паспорта, искренне стремилась
понять и принять коммунистический режим. А несколько позже,
поверив пропаганде, вернулась на родину, где их тоже в основном
ждал ГУЛАГ или ссылка.
К середине 50-х годов русская диаспора в Харбине и Шанхае
прекратила свое существование.
Не следует преувеличивать значение харбинских литераторов
для глобального развития русской культуры. Большинство авторов-дальневосточников внесли вклад лишь в развитие региональ­
ной литературы, но по крайней мере четыре имени следует на­
звать как вошедшие в золотой фонд литературы русского рассея­
ния: Арсений Несмелое (в нашей книге ему посвящена особая
глава), Алексей Ачаир, Валерий Перелешин и Вс. Н.Иванов, со­
здавший после возвращения в Россию ряд превосходных худо­
жественно-исторических книг («Иван Третий», «Ночь царя Пет­
ра», «Императрица Фике»).
54
Характерной особенностью дальневосточной ветви русской
литературы является ее суровая мужественность.
Несмотря на то, что в Харбине хорошо знали и ценили поэ­
зию В.Ходасевича, Г.Адамовича, Г.Иванова, Д.Кнута, Б.Поплавского, А.Штейгера, весьма интересовались творчеством Сирина
(Набокова), поэты Харбина не принимали парижской меланхо­
лии, полемизировали с «парижской нотой». Поэтов «Чураевки»
больше привлекала энергичная манера В. Маяковского (при пол­
ном неприятии его политических взглядов) и Б. Пастернака. Ог­
ромной популярностью пользовался А. Белый (хотя его философ­
ские увлечения поддержки не находили).
Почти ко всем писателям региона можно отнести слова из
стихотворения А.Ачаира:
Не согнула судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли,
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.
Алексей Ачаир (Алексей Алексеевич Грызов) (1896-1960) ро­
дился в Омске. Детство его прошло в казачьей станице Ачаир, по
названию которой позже взял себе псевдоним. В 1922 году при­
ехал с отцом в Харбин. Занимался педагогической деятельностью:
преподавал пение. «Внешность его, — вспоминал И.Волин, —
никак не соответствовала его происхождению. Тонкий в кости,
изящный, с золотой шапкой вьющихся волос, хороший пианист,
он скорее походил на рафинированного эстета петербургских гос­
тиных, чем на сибирского казака».
Издал пять сборников стихов: «Первая» (1925), «Лаконизмы»
(1937), «Полынь и солнце»( 1938), «Тропы» (1939), «Под золотым
небом» (1943).
Грусть по утерянной родине сливается в его стихах с прослав­
лением сильных и мужественных людей, с верой, что «будут но­
вые штормы и бури, Будут вихри».
Тоска по родине принимает порой в поэзии Ачаира гипербо­
лизированное выражение:
Так голову от гильотины
Палач берет за волоса.
Так смотрят в милые глаза.
Так всматриваются в картины...
(Бессонница).
«Юность моя разлетелась, как дым», «жизнь ушла без сле­
да. Вас не было здесь никогда, никогда», — обращается поэт к
любимой в стихотворении «Был дом и крыльцо, выходившее в
сад...».
55
Но чаще настроение поэта выражается словом, вынесенным в
заголовок одного из его стихотворений, — «Взгрустнулось»:
О вьющемся снеге,
о радостном беге
сибирских салазок
с горы ледяной;
о девичьем смехе,
о беличьем мехе,
о лунности сказок
над снежной страной,
о вихревом взлете —
ковре-самолете,
о том, что так скоро
скользнул поцелуй;
взгрустнул я, ты — тоже;
мир есть, но не тот же,
а тот, что нам снится, —
исчез.
«Сказка — греза — Россия» объединяются поэтом воедино
(«Я хотел бы домой»). Дорогие его сердцу русские реалии пре­
вращаются в поэтические тропы: «На взмыленной тройке про­
мчала Сверкнувшая звездами жизнь»; «С севера заманивают вьюгу
Ветры — покататься по ковру». Поэт-эмигрант из стихотворения
«Провинциальный маэстро» неожиданно сравнивает себя с «ко­
нем без уздечки». Во многих стихотворениях присутствуют рус­
ские «ледяные разводы», «алмазные снега», «скрипучие снега»,
«морозные ночи», «телеги». В «Степных звонах» знаками поэти­
ческой ностальгии становятся названия православных праздни­
ков: Покров, колядки, масляная, Великий пост, Никола вешний,
Никола летний:
Разгул на масляной широкий.
И бубенцы, и шаль, и бег —
коней по Питерской широкой.
И всюду — снег, и снег, и снег...
Вся Русь — одно. Отцы и дети...
В колосьях Русь. А степь звенит...
О, Боже, пусть же звоны эти
нам память в сердце сохранит.
«Оранжевые, розовые, желтые, багряные» цвета Востока, зна­
комые нам по работам Н. Рериха и часто присутствующие в па­
литре А.Ачаира, неизменно сочетаются у него с российской голу56
Собрание
Валерий Перелешин
—
«Чураевки»(Харбин)
поэт, переводчик, критик, мемуарист
бизной. «Голубые глаза», «синий плат», «ветер синеокий», «голу­
биная высь», «голубые слова», «воздух синий поет и звенит», «рас­
теклась синева», «ледяные цветы» — вот далеко не полный пере­
чень рассыпанных по разным стихотворениям поэта цветовых
словосочетаний.
Не только «поэтом-музыкантом» (определение поэтессы Оль­
ги Тельтофт), но и поэтом-живописцем был ААчаир.
Умение видеть мир в его красоте спасло ААчаира от победы
пессимизма. Печаль поэта светла.
Его лирический герой не теряет надежды, призывает читателя
к стоическому мужеству:
Не огорчайся, друг мой юный, полно!
Что тьма, что свет?
От грани дня отчаливает полночь,
плывет — в рассвет.
(Ладья Хроноса)
Как и у А.Несмелова, у ААчаира одно из любимых слов —
«воля». О «воле к победе над властью земли» Ачаир говорит в сти­
хотворениях «В странах рассеяния» и «Устремленность»; волей на­
деляет героя стихотворения «Он водил Добровольного флота...»; в
«Тайфуне» славит тех, кто сумел противостоять стихии и презирает
«предавших близких».
Воля сопрягается в поэзии Ачаира с понятиями чести, любви и
Бога. В стихотворении «Атеизм» из книги «Лаконизмы» он пишет:
Так. Бога нет. Но есть закон и честь,
Добро, любовь и жизнь всего живого...
— Чудак какой! Бежишь трусливо слова:
«Добро... Любовь...» — так это Бог и есть.
Гимном верности отчизне и любви стало стихотворение «Ма­
рия Консепцион», рассказывающее о русском путешественнике
Резанове и его испанской возлюбленной в Америке Марии Кон­
сепцион.
В этом стихотворении поэт дал определение своей музы и
выразил свое поэтическое и этическое кредо:
Муза сурова моя... Черное платье — как саван.
Если разлука вернет — снова улыбке блеснуть.
Улыбка блеснула поэту, но не надолго. Лишь пять лет (с 1955
по 1960) он имел возможность чувствовать себя свободным чело­
веком (предыдущие 10 лет поэт был узником ГУЛАГа): самозаб­
венно преподавал пение в одной из школ Новосибирска. Смерть
настигла его прямо в школе, на работе.
Другим крупным поэтом русского зарубежья, начавшим свою
деятельность в Харбине, был Валерий Перелешин (Валерий Фран­
58
цевич Салатко-Петрище) (1913-1992), происходивший из старин­
ного польско-белорусского рода. Псевдоним взят случайно, но он
очень нравился поэту.
Своими учителями Перелешин называет Е.Баратынского,
Ф.Тютчева, МЛермонтова, из современников — АЛадинского, с
которым состоял в переписке. Историософия — это то, что объ­
единяет его с названными поэтами. Большое место в поэзии Перелешина занимают и религиозные (или, как он сам определяет,
полугностические) мотивы.
Характерным явлением творчества Перелешина можно считать
«Поэму о мироздании». Опубликованная впервые в 1944 году в жур­
нале «Лучи Азии» под названием «Ангелы», она продолжала волно­
вать автора и в последующие годы, была переработана им в конце
60-х и вошла в 6-ю книгу стихов «Качель» (1971). (На родине опубли­
кована в 1989 году в журнале «Литературная учеба» № 6). Главная
проблема поэмы — теодиция (вопрос о существовании зла в сотво­
ренном Богом мире). Он поставлен уже во «Введении» к поэме:
Мир исконных противоречий,
Где добро пополам со злом, —
Страшным грузом ты лег на плечи,
Придавил угластым ребром.
Сотворенного человека ждут беды, в мире будет зло (Змейискуситель, Каин, Ламех). Но именно в преодолении этого зла и
проявится духовная сила человека:
Он осмысленным взором глянет
На сияющий день кругом:
Он орлом дерзновенным станет,
Легкой серной, сильным слоном.
В борьбе со злом сформируется Ной, возьмет на себя страда­
ния за людские грехи Христос. В финале поэмы автор дает свое
понимание Божьего замысла человека, вложив в уста Творца сло­
ва, обращенные к архангелам:
Пусть восходит дорогой длинной
К очищению и торжеству.
... созданный Нами,
Бесконечно прекрасен мир:
Он поет и пахнет цветами,
Как воскресный ангельский пир.
Он звенит, как ваша осанна:
Как небес высокая синь,
Безгранична и осиянна.
И сказали духи:
— Аминь.
59
По окончании Второй мировой войны поэт покинул Китай, и
после долгих перепетий обосновался в Бразилии, изредка посе­
щая Европу и США.
Автор 13 оригинальных поэтических книг, 4 книг переводов
(поэт владел китайским, португальским, испанским, французс­
ким языками, в 1983 году в Рио-де-Жанейро им издан сборник
стихов на португальском «Nos odres velhos»), В.Перелешин неиз­
менно возвращается в них к теме России. В 1943 году он пишет в
стихотворении «Ностальгия»:
Я сердца на дольки, на ломтики не разделю,
Россия, Россия, отчизна моя золотая!
Все страны вселенной я сердцем широким люблю,
Но только, Россия, одну тебя больше Китая.
Китай — неизменно присутствует в его творчестве как вторая
родина поэта. В той же «Ностальгии» говорится:
У мачехи ласковой — в желтой я вырос стране,
И желтые люди мне братьями стали:
Здесь неповторимые сказки мерещились мне
И летние звезды в ночи для меня расцветали.
И еще решительнее:
Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто:
В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай.
Это в свою очередь приводит в широкому использованию, как
в ранней, так и в' поздней лирике звучной восточной лексики:
названий («Ночь на Сиху», «Баошан», «Хусиньтинь», «Сяньтанчен»), имен («Свирель Луны», «Утес Дракона», «Луг Тишины»,
«Ли Бо», Художник «Чжихуа»), образов (особенно часто упомина­
ются лотос, бабочки, озера).
Со временем появятся стихи и о третьей родине — Бразилии. Но и
она в стихах В.Перелешина всегда будет сопрягаться с Россией:
Различные широты нам даны,
Разогнанным по маленьким вселенным;
Здесь томный зной висит над морем пенным,
Там — мерзлота полярной стороны.
Здесь — карнавал и радужные сны,
Там — выкрики о вызове военном:
Не кажется и солнце неизменным,
И рознятся чужие две луны.
Но, вопреки несовместимой были,
Мы издали друг друга полюбили:
Ты позовешь — я тотчас отзовусь.
Так ветхие преграды уничтожим:
Несходные Бразилию и Русь
В единый мир нерасторжимо сложим!
60
«Письмо в Россию» (1971), процитированное выше, — сонет.
«Моей любимой формой стал сонет: чем труднее, тем лучше! —
писал В.Перелешин в послесловии к одному из своих сборни­
ков. — Сонет, венок сонетов («Крестный путь», «Звено») — фор­
мы труднейшие и обеспечивающие успех, когда поэту есть что
сказать».
Ему было что сказать, и его сонеты являются образцом поэ­
тического мастерства. К сожалению, отечественный читатель ли­
шен возможности убедиться в этом. Быть может, некоторое пред­
ставление о сонетах Перелешина даст вышеприведенный и еще
один — «Жребий» (1974):
Стоял бы я в России над Невой
И выбрал бы одну из перекладин:
Ведь я и там, бездомен и бесчаден,
В игру живых играл бы, неживой.
А здесь бреду по серой мостовой,
Но жребий мой высок и тем отраден,
Что, вопреки повизгиванию ссадин,
Бразилия, я сын приемный твой!
Твоя ль вина, что пришлецам усталым
Нельзя помочь разгульным карнавалом,
Когда твои природные сыны
Идут стеной, отшлепывая самбы,
А я смотрю на них со стороны
И слышу снег и пушкинские ямбы?
Однако ностальгия и осознание своего одиночества никогда
не переходили у поэта в мизантропию. Характеризуя свои позд­
ние стихи, В.Перелешин в автобиографической «Поэме без пред­
мета» (1989), написанной онегинской строфой, шутливо замечал:
Да, я Салатко и Петрище,
я двойственный, и с юных дней,
чем глубже увязал в грязище,
тем небо делалось ясней.
До последних дней поэт сохранил привитое в Харбине жизне­
любие:
В часы душевного разлада
Не раз твердил я: «Выбирай
Миг радости ценою ада
Или ценою скорби — рай».
Но жадного равно манили
И рай, и радости земли,
И отвергал я слово «или»
Во имя радостного «и» !
(Два союза)
61
Оптимизм поэта выражен и в строках одного из его сонетов:
В две тысячи сороковом году
(Прости просчет на три-четыре года)
В моей стране затеплится свобода,
И я туда, раскопанный, приду.
(В 2040-м году)
Перу В.Перелешина принадлежат и воспоминания «Два полу­
станка» (Амстердам, 1987), содержащие в том числе и много све­
дений о литературной жизни Харбина.
РУССКАЯ А М ЕРИКА
Как уже говорилось, немецкая оккупация Франции привела к
массовому исходу русских писателей, не желавших сотрудничать
с фашистским режимом, в США.
На первых порах связь с Европой была нарушена настолько,
что не была известна судьба оставшихся там писателей. Широко
известен курьезный случай опубликования в США некролога Тэф­
фи, прожившей после этого еще девять лет.
Первой попыткой собрать оставшиеся литературные силы стал
сборник русской зарубежной литературы «Ковчег», изданный в
Нью-Йорке в 1942 году. В нем опубликована проза И.Бунина («Зой­
ка и Валерия»), М.Алданова («Микрофон»), Аллы Головиной,
Натальи Кодрянской, Натальи Резниковой, Михаила Цетлина,
Марии Толстой («Ясная Поляна»); стихи А.Ачаира, А.Головиной,
А.Несмелова, Ю.Софиева, Ю.Терапиано, А.Штейгера и ряда дру­
гих менее известных поэтов. Среди публицистики выделялся только
материал Г.Федотова.
Однако уже вскоре положение существенно меняется. М.Цетлин и МАлданов сумели осуществить обсужденную ими в беседе
с И.Буниным в Грассе еще в 1940 году после закрытия «Совре­
менных записок» мысль о создании в Америке в это «небывалое
катастрофическое время» нового журнала русской эмиграции,
«единственного русского толстого журнала во всем мире вне Со­
ветского Союза». Его так и назвали, не мудрствуя лукаво, «Новый
журнал». Первыми редакторами стали М.Алданов (отошедший от
обременительных издательских забот после четвертой книги жур­
нала) и поэт и критик М.Цетлин (умер, готовя одиннадцатую книж­
ку «Нового журнала»). С 1946 по 1959 годы во главе журнала стоял
профессор Гарвардского университета добрейший человек «ры- царь свободы и законности» (Р.Гуль. «Я унес Россию...» Т. III. —
С. 155) Михаил Михайлович Карпович (1888-1956). Его доброта
приводила иногда к появлению на страницах журнала «проход­
ных», средних вещей. Но в главном он свято соблюдал деклара62
Роман Гуль — прозаик, мемуарист,
литературовед-критик, один из редакторов
«Нового журнала»
цию основателей журнала, помещенную в редакционном объяв­
лении первого номера: «Мы считаем своим долгом открыть стра­
ницы «Нового журнала» писателям разных направлений, — разу­
меется в определенных пределах: люди, сочувствующие нацио­
нал-социалистам и большевикам, у нас писать не могут» («Новый
журнал», 1942, № 1). С 1959 по 1986 год во главе журнала стоит
Роман Борисович Гуль, уже не раз упоминавшийся ранее, один
или во главе редколлегии.
«Новый журнал» стал достойным преемником «Современных
записок» и, пожалуй, лучшим журналом русского литературного
зарубежья. В сдвоенном 190-191 номере журнала опубликован
указатель всего, что печатал журнал за 50 лет*. Здесь и произведе­
ния старейших писателей русского зарубежья, в том числе из их
* В юбилейном 200 номере помещен указатель содержания №N° 192200.
63
архива. Наряду с такими широко известными шедеврами И.Бу­
нина, как «Руся», «Натали», «Генрих», «Чистый понедельник»,
«Галя Ганская» изданы бунинские записи, дневники, письма. На
страницах журнала увидела свет сокровенная автобиографичес­
кая проза Б.Зайцева и его романы о Жуковском и Чехове, фило­
софско-религиозные эссе Д.Мережковского и эксперименталь­
ная проза А.Ремизова. «Новый журнал» публиковал повести и
рассказы М.Алданова, М.Осоргина, Е.Замятина, «Другие бере­
га» В.Набокова, стихи Г.Адамовича, К.Бальмонта, И.Бунина,
3.Гиппиус, Вяч.Иванова, Г.Иванова, В.Перелешина, В.Вейдле.
Широко представлены в «Новом журнале» младшее поколение:
прозаики Г.Газданов, Н.Берберова, Р.Гуль, В.Корвин-Пиотровский, Б.Поплавский (посмертно), В.Яновский, поэты В.Злобин,
Ю.Иваск, И.Одоевцева, В.Перелешин, В.Смоленский, Н.Туроверов, И.Чиннов, 3.Шаховская. «Новый журнал» предоставил
свои страницы и лучшим писателям второй волны русской эмиг­
рации. Здесь опубликованы многие стихотворения Д.Кленовского,
И.Елагина и О.Анстей, почти все — Н.Моршена, роман Н.Наро­
кова «Могу!», рассказы Л.Ржевского. На страницах «Нового жур­
нала» печатались и произведения писателей, живших на родине,
но не издаваемых там: А.Белого, М.Булгакова, А.Барковой, М.Во­
лошина, Н.Гумилева, Н.Клюева, Б.Пастернака. Это позволяло
писателям рассеяния не отрываться от традиций русской лите­
ратуры. В дальнейшем мы не раз будем говорить о влиянии на­
званных писателей и некоторых из неназванных нами художни­
ков русского зарубежья.
Огромное влияние на формирование мировоззрения писате­
лей русского зарубежья и в целом на литературный процесс рус­
ского рассеяния оказывали литературоведческий и философский
разделы «Нового журнала». Статьи Г.Адамовича, В.Вейдле,
Ю.Иваска, М.Карповича, К.Мочульского, Г.Струве, Н.Ульянова, Б.Филиппова, М.Цетлина глубоко вскрывали национальные
особенности русской классики, выявляли классические тради­
ции и новаторские поиски (как плодотворные, так и ошибоч­
ные) писателей-эмигрантов, воспитывали вкус зарубежных чи­
тателей и были школой для эмигрантских писателей. Журнал
постоянно интересовался новыми сторонами русской религиоз­
ной философии, поддерживал этические искания мастеров сло­
ва и ту приверженность к неортодоксальному православию, ко­
торая составляла нравственный стержень русской литературы.
Достаточно сказать, что среди авторов журнала были Н.Бердяев,
историк религии протоиерей В.Зеньковский, А.Лосев, Ф.Степун,
Г.Федотов, о.П.Флоренский, Л.Шестов, игумен Геннадий (Эйкалович) и многие другие.
64
ОДНА ИЛИ ДВЕ РУССКИЕ КУЛЬТУРЫ?
С первых дней существования эмиграции перед ней встал во­
прос об отношении к культуре Советской России. Одни (М.Слоним
и стоящая за ним группа «Кочевье») признавали за советской куль­
турой (и в первую очередь литературой) знание современной жизни
русского народа, чего, по их мнению, была лишена эмигрантская
литература, видели в лучших произведениях оставшихся на родине
писателей продолжение традиций русской классики или наоборот
— поиски новых форм. Другие (В.Ходасевич) утверждали, что и в
эмиграции можно сохранить дух нации, ее культуру, что, наконец,
жизнь русской диаспоры — часть России, сохранившая свободу
мысли и слова, во многом утраченную на родине.
Видимо, истина лежала посередине. С одной стороны, ряд
проблем волновал писателей обоих берегов. Судьбы XX века, ре­
волюции и человека в равной мере интересовали М.Шолохова,
ЛЛеонова, молодого К.Федина и П.Краснова, Р.Гуля, М.Алданова. Сегодня очевидно, что собранные вместе, их книги воссозда­
ют картину 17-20-х годов во всей ее полноте. Что же касается
вопроса о художественном совершенстве, то здесь приоритет не­
сомненно за советскими писателями. Проблемы духовности, пре­
одоления индивидуализма и прославление «коллективной жизни»
в советской терминологии, «соборной» в терминологии эмигра­
ции затрагивались М.Булгаковым (другой вопрос, можно ли счи­
тать его советским писателем), М.Пришвиным, Ю.Олешей, М.Зощенко, М.Осоргиным, И.Шмелевым, Б.Зайцевым. И вновь мож­
но утверждать, что лишь в совокупности предложенных решений
воплотилась полнота русской идеи духовности. Без труда устанав­
ливается стилевое влияние А.Ремизова на творчество Б.Пильняка
и частично М.Пришвина.
Еще более ярко прослеживается взаимодействие двух потоков
литературы в поэзии. Опыт В. Маяковского, Б. Пастернака, О. Ман­
дельштама, С. Есенина оказывал влияние на молодых поэтов рус­
ской эмиграции, в том числе на М.Цветаеву, что подробно пока­
зано в статье Е.Эткинда «Русская поэзия как единый процесс»
(«Вопросы литературы». — 1988, № 10). Эткинд приводит и при­
мер обратного воздействия: влияние В.Ходасевича на поэзию Н.За­
болоцкого и В.Инбер.
Можно с уверенностью говорить, что советским писателям
удалось показать активную преобразующую сторону русского на­
ционального характера, продолжив тем самым ту традицию рус­
ской литературы, что связана с героическим эпосом, песнями о
Стеньке Разине, древнерусскими воинскими повестями, книгой
А.Радищева, вольнолюбивыми стихами молодого А.Пушкина,
3— 1662
65
поэзией Н.Некрасова, романом Н.Чернышевского, творчеством
М.Горького. Лучшие произведения А.Твардовского и А.Фадеева,
А.Малышкина и Н.Островского, Ф.Гладкова и В.Катаева, целой
плеяды писателей военных лет не были данью конъюнктуре. Они
отражали то героическое и высокодуховное состояние, в котором
находился советский народ, несмотря на все трудности и невзго­
ды, выпавшие на его долю.
Вместе с тем, для советской литературы были полностью за­
крыты такие аспекты национального характера, как созерцатель­
ность, размышления о жизни и смерти, о Боге. Если они и появ­
лялись в произведениях А.Платонова или М.Зощенко, то не обре­
тали печатного воплощения, рукописи оставались в столах авто­
ров. Именно эти проблемы стоят в центре большинства книг пи­
сателей русского зарубежья. Достаточно назвать И.Бунина, И.Шме­
лева, Б.Зайцева, М.Осоргина, Г.Иванова, М.Цветаеву, Б.Поплавского, Г.Газданова. Именно в их творчестве в той или иной мере
сохранялись традиции Гоголя и позднего Пушкина, Л.Толстого и
Достоевского.
К началу 30-х годов из советской литературы были насильствен­
но удалены все те, кого интересовало игровое, смеховое направле­
ние, сопряженное, как правило, и с формальными поисками. Сосла­
ны или арестованы все ОБЭРИУты, Б.Пильняк, И.Бабель. Замолча­
ли А.Крученых и Ю.Олеша, утратили свою оригинальность и непов­
торимость К.Федин и Вс.Иванов. Отказался от сказовой смеховой
манеры М.Зощенко, что, впрочем, не спасло его от последующих
разгромов. Единственным продолжателем традиции древнерусской
смеховой культуры, фольклорной игры словом, озорства И.Баркова,
А.Пушкина, В.Хлебникова стал А.Ремизов.
Еще одно преимущество литературы рассеяния заключалось в
том, что она не была отделена железным занавесом от европей­
ской и общемировой. Проблема взаимосвязи русской зарубежной
литературы с другими литературами (в первую очередь француз­
ской) только начинает привлекать внимание ученых. Но нет со­
мнения, что на творчество молодых русских писателей влияли
почти неизвестные тогда в СССР М.Пруст и ДДжойс. В свою
очередь огромное влияние на мировую и американскую литерату­
ру оказал В.Набоков, писавший как на русском, так и на англий­
ском языках.
Думается, прав профессор А.Николюкин, утверждавший, что,
с одной стороны, «лицо русской литературы XX века проступает
лишь в целостности литературы в России и в зарубежье», а с дру­
гой, «шли два литературных процесса» («Культурное наследие
русской эмиграции»: Кн. вторая. — М., 1994. — С. 10-11).
Культура русской эмиграции — неотъемлемая часть русской
66
национальной культуры. Сегодня сбывается мечта первых эмиг­
рантов: их труды возвращаются на родину, их имена звучат в списке
тех, кто обогатил русскую науку и культуру. Сделаны и первые
попытки научного осмысления вклада русского зарубежья в на­
циональную и мировую культуру, начатые выдающимся русским
ученым Глебом Петровичем Струве (1898-1985), чья книга «Рус­
ская литература в изгнании» выдержала 3-издания.
Наш дальнейший рассказ будет посвящен творчеству наибо­
лее крупных художников русского зарубежья, их индивидуально­
му художественному миру, обусловленному вместе с тем общими
закономерностями, отмеченными в этом вступлении.
При этом было бы неразумным стремиться охарактеризовать
все творчество того или иного писателя. Во-первых, это не только
потребовало бы многих томов, но и просто не под силу ни одному
человеку. Во-вторых, осилить столь большой материал не под силу
и читателю. Вполне достаточно познакомиться с основными кни­
гами того или иного художника русского зарубежья. А на случай
появления углубленного интереса и желания узнать дополнитель­
ный материал о творчестве полюбившегося писателя, каждая глава
завершается подробным аннотированным списком литературы.
Список начинается максимально полным перечнем произведений,
написанных в эмиграции и опубликованных на родине. Далее
следуют издания, вышедшие только за рубежом, и, как правило,
труднодоступные массовому читателю, но имеющиеся в научных
библиотеках. Этот же принцип выдержан и при составлении списка
литературоведческих работ: в первую очередь названы и проанно­
тированы статьи и монографии, доступные читателю, и лишь за­
тем лучшие работы, изданные за рубежом. Читатель сам решит, с
чем из названного ему следует непременно познакомиться, а что
можно оставить «на потом».
Наличие подробных аннотированных списков избавило авто­
ра от необходимости предлагать темы возможных курсовых работ,
кандидатских исследований или школьных сочинений. Вдумчи­
вый читатель определит их сам.
Автор сердечно благодарит за помощь сотрудников Славян­
ской библиотеки в Праге и Тейлорианской библиотеки в Оксфорде,
профессоров Оксфордского университета Дж.Смита и сэра
Д.Д.Оболенского; профессоров А.Н.Николюкина и В.А.Слободчикова (Москва); докторов Оксфордского университета К.Андрееву, Дж.Кертис и Карин Хэвитт; господ Н.С.Матвеева и Х.Готту
(Оксфорд); ведущего специалиста Министерства образования Рос­
сии г-жу Т.А. Калганову.
з*
67
Эта книга не могла бы быть написана без помощи живущих в
Америке В.А.Синкевич, Н.Н.Марченко (Морщена), А.С.Ржевской, О.П.Ильинского, В.В.Шкуркина, второго секретаря Посоль­
ства Израиля в Москве г-жи Н.Сегев. Предоставленные ими ма­
териалы легли в основу ряда глав.
Я благодарю моих друзей кандидатов наук Н.С.Выгон, В.ВЛеонидова и А.Ю.Леонтьеву, ставших соавторами глав о М.Алданове, И.Елагине и М.Цветаевой; А.В.Леденева, написавшего главу о
В.Набокове.
ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ
( 1865 - 1941)
ЗИНАИДА ГИППИУС
( 1869 - 1945)
« М Ы Н Е Р А З Л У Ч А Л И С Ь ...»
«На идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережков­
ского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им
вслед, — вспоминает Ирина Одоевцева. — Они шли под руку —
вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспо­
мощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку
Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой
шляпе, замысловатого, совершенно не модного фасона ..., с мо­
ноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв
голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступа­
ли на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица,
украшенная розой, а после визита к королю Александру Сербско­
му — орденом Саввы II степени ... Они всегда находили интерес­
ную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней
давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не
чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и
смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинако­
во. Для них мертвые, наравне с живыми, действовали и участво­
вали в их беседах».
69
«В памяти моей они сливаются вместе, — вторит И.Одоевце­
вой Нина Берберова, — словно одно существо в двух аспектах,
словно голос, поющий длинную песнь под аккомпанемент, и то
она.поет, а он аккомпанирует, то (пожалуй, чаще) он поет, а она
следует за ним».
Они встретились в мае 1888 года в Боржоми. Два молодых
писателя. Разговорились и не понравились друг другу. Тем не менее
встречи и беседы продолжались и постепенно увлекли их обоих.
Вместе поехали в Грузию. «В сентябре, — вспоминала позже Зи­
наида Николаевна, — Д.С. уехал из Тифлиса, и тогда-то мы и
стали писать друг другу каждый день. Это была наша единствен­
ная разлука, после свадьбы мы уже не разлучались...» В автобиог­
рафической справке для монографии «Русская литература XX века»
(1916) Гиппиус писала: «Никогда не отрицала я влияния Мереж­
ковского на меня уж потому, что сознательно шла этому влиянию
навстречу, — но совершенно так же, как он шел навстречу мое­
му». На самом деле, по свидетельству близких к их семье людей,
идейным центром их союза была-таки Зинаида Николаевна. «Оп­
лодотворяет она, рожает он», — вспоминал литературный секре­
тарь и друг Мережковских Владимир Злобин.
Их объединяла глобальная, прошедшая через всю жизнь мечта
о соединении духа и плоти, античности и христианства, о созда­
нии Третьего Царства на земле (хилиазм). Оба они говорили о
раздвоении человека вообще и особенно в XX веке. Оба интересо­
вались проблемой «Христа и Антихриста» (именно так называ­
лась самая известная дореволюционная трилогия Мережковско­
го). Оба боялись «Грядущего Хама» (это тоже заголовок одной из
работ Дмитрия Сергеевича), то есть бездуховного самоуверенного
существа, и потому ратовали за самоусовершенствование под эги­
дой Новой Церкви (старую, как они говорили, «историческую»
церковь супруги критиковали за конформизм и подчиненность
государству).
Бог помочь всем, кто в наш жестокий век
Желает блага искренне отчизне,
В ком навсегда не умер человек,
Кто ищет новой веры, новой жизни,
Кто не изменит родине вовек!
Привет мой всем, кто страстно жаждет Бога,
В ком не затихла совести тревога! —
так писал Мережковский в поэме «Вера». В поисках «новой веры
и новой жизни» супруги организовывали Религиозно-философ­
ские собрания (1903-1904), где пытались объединить священно­
служителей и интеллигенцию для создания Новой Вселенской
Церкви. В Первой мировой войне и Мережковский, и Гиппиус
70
увидели начало конца человечества, предсказанного в Апокалип­
сисе. В февральской революции 1917 года они увидели предвес­
тие райского объединения антиномий. «Там солнце со снегом
целуется /И льет огнерадостный хмель», — писала Гиппиус
(«Юный март»). Тем большим разочарованием стал для супругов
Октябрь.
«Голод, тьма, постоянные обыски, ледяной холод, тошнотвор­
ная, грузная атмосфера лжи и смерти, которой мы дышали, — все
это было несказанно тяжело. Но еще тяжелее — ощущение пол­
ного бессилия, полной невозможности какой бы то ни было борь­
бы с тем, что вокруг нас происходило; мы все точно лежали гдето, связанные по рукам и ногам, с кляпом во рту, чтоб и голоса
нашего не было слышно», — писала незадолго до смерти Гиппиус
о том времени.
Не получив официального разрешения на отъезд из России,
Мережковские вместе с их старым другом писателем Дмитрием
Философовым и начинающим литератором Владимиром Злоби­
ным 24 декабря 1919 года уезжают из Петрограда на юг, якобы для
чтения лекций красноармейцам. Через 16 лет Гиппиус опишет
это в дольниках стихотворения «Отъезд»:
До самой смерти... Кто бы мог думать?
(Санки у подъезда. Вечер. Снег.)
Никто не знал. Но как было думать,
Что это — совсем? Навсегда? Навек?
Молчи! Не надо твоей надежды!
(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)
Но как было знать, что нет надежды?
(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)
В январе 1920 они пересекают польскую границу. Путь их
лежал через Бобруйск, Минск, Варшаву, Вильно, Краков, Вис­
баден в Париж. 20 октября 1920 года они своим ключом открыли
еще до революции снятую и остававшуюся за ними все это вре­
мя Парижскую квартиру на 11-бис Авеню дю Колонель Бонне. С
этой квартирой будет связан целый этап их жизни. Сюда будут
приходить старейшие деятели русской культуры (И.Бунин, М.Алданов, Б.Зайцев, Н.Бердяев, Тэффи, Л.Шестов, Г.Адамович), ли­
тературная молодежь (Г.Иванов, Б. Поплавский, В.Варшавский,
В.Смоленский, А.Ладинский, Ю.Фельзен и многие другие), по­
литики (от Керенского и Милюкова до Савинкова), здесь возни­
кнет идея создания общественных собраний «Зеленой лампы».
Здесь оба писателя создадут лучшие произведения эмигрантско­
го периода.
Свою главную цель в первые годы эмиграции супруги видели
в том, чтобы рассказать Западу «о безымянном русском ужасе».
71
Мережковский выступает в Париже с лекциями о российских
событиях, публикует открытые письма Ф.Нансену, Г.Гауптману, Г.Уэлсу с призывами не поддерживать большевистский ре­
жим. Несколько позже (в 1922 году), узнав о переговорах Свя­
того Престола с Наркомом иностранных дел Чичериным, он об­
ращается к Папе Римскому Пию XI с гневным письмом о том,
что негоже наместнику Христа на земле иметь дело с царством
Антихриста.
Страстным словом о событиях в России стали «Записная книж­
ка» Мережковского и «Петербургский дневник», «История моего
дневника», «Черная книжка», «Серый блокнот» Гиппиус, соста­
вившие вместе со статьями Д.Философова («Наш побег») и В.Злобина («Тайна большевиков») книгу «Царство Антихриста» (Мюн­
хен, 1921). Название книге дало вводное эссе Мережковского.
Дневники супругов имеют много общего. Оба автора говорят
о разрушительной силе революции.
Мережковский: «Большевизм — труп войны. Всемирной была
война и труп ее всемирен»; большевики «ничего не могут создать,
но все могут разрушить, растлить». «Грядущий Хам узнается по
дурному запаху ... Некрасота, антиэстетика русской «социалисти­
ческой революции» — зловещий знак; все живое цветет и благоу­
хает; только мертвое тлеет и смердит». И тут же почти прямая
цитата из «Юного марта» 3.Гиппиус: «Как благоуханны наши
Февраль и Март, солнечно-снежные, вьюжные, голубые, как бы
неземные, горние! В эти первые дни или только часы, миги, какая
красота в лицах человеческих! Где она сейчас? Вглядитесь в толпы
Октябрьские: на них лица нет. Да, не уродство, а отсутствие лица,
вот что в них всего ужаснее». Явной реминисценцией стихотворе­
ния Гиппиус «Тли» (1917) являются слова Мережковского о том,
что Россию губят «не люди, а тли»: «В гербе самодержавия цар­
ского св. Георгий Победоносец, пронзающий крылатую тлю. А в
гербе самодержавия народного — бескрылая Победоносная Тля».
В запись об отказе выступить в Зимнем с речью о декабристах
(«прославлять мучеников свободы перед лицом свободоубийц»)
уже прямо входит цитата из стихотворения жены: «О, петля Ни­
колая чище, чем пальцы серых обезьян».
Гиппиус: «Большевистская власть в России — порождение,
детище войны. И пока она будет — будет война»; «Россияне обал­
дели и одичали»; «С воцарением большевиков стал исчезать чело­
век как единица». Совпадают факты (оба пересказывают слухи о
продаже на рынках человеческого мяса, об использовании стариков-профессоров университетов и интеллигенции на рытье око­
пов), оценки отдельных людей (Горького, Гржебина, Ленина),
описания психологических состояний («Страх голода страшнее
72
самого голода»; «холод мучительнее голода», всеобщее отупение).
Наиболее страшным обоим писателям представляется именно ду­
ховное отупение. Наиболее часто встречающееся слово в дневни­
ках Гиппиус (в том числе, что и не вошел в публикацию 1921
года, а стал известен лишь недавно) «скука» и производные от
него: «каменная скука», «всемирная скука владеет мной», «не уны­
ние, а именно тупость начинала все больше овладевать всеми»;
«Хрип нашей агонии. Так однообразно. Так скучно», «Ощущение
тьмы и ямы».
Есть однако и существенные различия между двумя дневни­
ками. Мережковский аналитичнее, абстрактнее, хотя и у него
есть несколько живых зарисовок. Гиппиус фактологичнее, эмо­
циональнее: «Вчера видела на улице, как маленькая 4-летняя
девочка колотила ручонками упавшую с разрушенного дома ста­
рую вывеску, [где были] превкусно нарисованы яблоки, варенье,
сахар и — булки. Целая гора булок. Я наклоняюсь над девочкой.
— За что ты бьешь такие славные вещи? — В руки не дается! В
руки не дается! — с плачем повторяла девочка, продолжая коло­
тить и топать босыми ножками заколдованное варенье». Днев­
ник писательницы метафоричен, порой символичен: «Время точно
каменело»; «Мы — недвижимые кости»; «Сегодня было холод­
ное солнце»; «... сидит, как худая печальная птица»; «дни кати­
лись один за другим, кругло шелкая, словно черепа».
Однако эмоциональность порой из достоинства превращается
в недостаток, в несправедливые грубые фразы, ведет к полемичес­
ким перехлестам. Именно это позволило видному религиозному
философу русского зарубежья И.Ильину назвать дневники Гип­
пиус «злой и озлобленной книгой, в которой очень много протес­
та, возмущения, негодования против большевиков и, может быть,
еще больше презрения к некоммунистическому слабовольному
русскому обывателю». «Но чего в этой книге нет, — развивал
свою мысль Ильин, — это религиозности, веры в Бога, духовно­
го прозрения в смысл развертывающихся событий». В этом уп­
реке есть свой резон. Но не следует, видимо, сбрасывать со сче­
тов тот факт, что недосказанное Гиппиус или отсутствующее у
нее присутствовало в работе Мережковского, заканчивавшейся
как раз тем, чего не хватало в тексте Гиппиус христианину И.Иль­
ину: «Россия — наша земля, наше тело. Без земли — без тела.
Наша любовь к России неутолимая — неутолимая жажда облечь­
ся в новое тело, в новую землю ... Наша любовь к России — не
только любовь, но и влюбленность. Россия — Мать и Невеста,
Мать и Возлюбленная вместе». Мережковский утверждает, что
«накануне гибели России русская Матерь Божья, Всех Скорбя­
щих Матерь ходила по русским полям, скорбела и плакала. И из
73
слез Ее вырос цветок. Имя цветка — «Сердце России» — месси­
анизм русский». Не о гибели и тупом народе последние слова
писателя — о возрождении: «Спасение мира другие народы кон­
чат — Россия начнет».
Со временем и Гиппиус придет к более христианскому пони­
манию происшедших событий. Критики русского зарубежья, ре­
цензировавшие ее книгу «Стихи. Дневник 1911-1921» (Берлин,
1922), отмечали, что уже в ней присутствует не только «темная
проклинающая безнадежность», но и «надежда и любовь».
Земля, пропитанная Сыновней кровью («Адонаи»), маши­
на смерти — война («Все она»), «никто не любит друг друга»
(«Страшное»), «Гибель», «живые мертвее мертвых» («Мосты»),
«изломанные дни» («Дни»), «Тяжелый снег» — такой рисуется
Россия периода Второй мировой войны и революций 1917 года
Гиппиус.
Характерны три стихотворения на одну тему и почти с оди­
наковыми названиями: «14 декабря», «14 декабря 17 года» и «14
декабря 18 г.». Все они посвящены декабристам. Первое завер­
шает книгу стихов, перекликаясь с открывающим ее «Петербур­
гом», где пушкинскому «Люблю тебя, Петра творенье», выне­
сенному в эпиграф, противопоставляется «проклятый город, Бо­
жий враг». Смерть, тление, трупный запах, ржавчина, рыжие пятна
(ассоциация с кровью), змея, червь — вот далеко не полный пе­
речень образов «Петербурга». Как и у Д.Мережковского и А.Белого, Медный Всадник летит в пропасть. Однако несмотря на
пессимистическое «Мы корчимся все в той же муке, И с каждым
днем все меньше сил», в «14 декабря» в отличие от «Петербурга»
присутствуют и возвышенные образы: костер, кровь, вино. Бо­
лее мрачны стихотворения 1917 и 1918 годов. Здесь и «Нева оп­
леванная», и «кровавый и пьяный» лед реки, и «пальцы серых
обезьян». И все же, особенно в двух первых стихотворениях, мечта
о продолжении благородных заветов:
И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!
(14 декабря)',
и нежелание вести скотскую жизнь:
Чтоб умереть — или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!
(14 декабря 17 года)
А вслед за «напрасно все: душа ослепла, Мы преданы червю и
тле» («14 декабря 18 г.») следует стихотворение «Знайте!»:
74
Она не погибнет — знайте!
И мы не погибнем — верьте!
Но что нам наше спасенье?
Россия спасется — знайте!
И близко ее воскресенье.
От слияния ненависти и любви в стихотворении 1918 года
«Если» («Если человек хуже зверя — я его убиваю. Если кончена
моя Россия — я умираю») Гиппиус переходит к Вере:
Ничто не сбывается,
А я верю.
Везде разрушение,
А я надеюсь.
Все обманывают,
А я люблю.
Кругом несчастие,
Но радость будет.
Близкая радость,
Нездешняя — здесь.
(Будет. 1922)
Впереди были еще 23 года трудной эмигрантской жизни во
Франции. Но и в 1938 году Гиппиус, сравнивая Россию с библей­
ским Лазарем, умершим и воскрешенным Христом, уверена:
Близок Кто-то. Он позовет.
И выйдет обвязанный пеленами:
«Развяжите его. Пусть идет».
(Лазарь)
Публицистическая деятельность не мешала Мережковскому
продолжать дело всей своей жизни — философско-художествен­
ное обоснование идеи Новой Вселенской Церкви, Третьего Цар­
ства. Напротив, все то, что было заложено в двух дореволюцион­
ных трилогиях (писатель любил форму трилогии), получило в
эмиграции завершение. Говоря словами самого Мережковского,
через все его книги проходит идея «единства религиозного опыта
человечества в веках и народах, во всемирной истории, идея рас­
крытия движения Святого Духа и истории» и — добавим — Свя­
той Троицы.
Если попытаться расшифровать эту «генеральную думу» писателя-философа и «вписать» в нее его многочисленные книги, то
схема будет сводиться к следующему. Вся история человечества,
по Мережковскому, делится на три этапа (Завета). Первый — Богаотца, дохристианский. Однако в языческих религиях Египта и
Вавилона, Крита, Древней Индии и Израиля, Древней Греции и
75
Рима, Атлантиды таилось ожидание Христа («сон язычества о
Христе»). Таким образом, в этот период вписывался дореволюци­
онный роман «Юлиан Отступник» и новые книги писателя «Ро­
ждение Богов (Тутанхамон на Крите)» и «Тайна Трех. Египет и
Вавилон» (обе — 1925). Период этот завершается гибелью пре­
красной Атлантиды, миф о которой в художественном мире Ме­
режковского символизирует спиральный путь всех цивилизаций.
Атлантида, привлекавшая в свое время многих символистов (в том
числе В.Брюсова), находит отклик во всех последующих мировых
событиях (Средневековье, мировые войны и катаклизмы); она
своего рода синоним Апокалипсиса, Конца. Двойственный ха­
рактер Атлантиды (Мережковский любит наделять всех и вся
двойственностью, антиномиями) воплощает в себе ее посланник
в XIX век Наполеон (одноименный роман опубликован Мереж­
ковским в 1929 году).
Второй Завет связан с появлением Сына Божия. Если в пер­
вом отношения между человеком и Богом строились на Законе
(как между господином и рабом), то теперь как между Отцом и
Сыном. В этот период обостряются противоречия между плотью
и духом, усиливаются мытарства человека, а к концу эпохи (для­
щейся, по мысли Мережковского, до наших дней, но близящейся
к гибели) возникает еще и чувство оставленности Богом. Цен­
тральной фигурой становится Сын Божий, свое представление о
котором писатель воплотил в заключительной части трилогии
«Тайна Запада» — «Атлантида-Европа» — «Иисус Неизвестный».
Люди этой эпохи либо воплощают ее противоречия, как Леонар­
до да Винчи, Петр и Алексей (из второй и третьей частей создан­
ного до революции «Христа и Антихриста»), либо выходят за пре­
делы своего времени и приближаются к Третьему Завету. Таковы
«Павел и Августин» (1937), «Святой Франциск Ассизский» (1938)
и Жанна д'Арк («Жанна д'Арк и Третье Царство Духа», 1938). Все
три книги объединены под заголовком «Лица святых от Иисуса к
нам». Таков Данте («Жизнь Данте», «Что сделал Данте», 1939).
Таковы герои трилогии «Реформаторы», состоящей из книг «Лю­
тер» (1937), «Кальвин» (1938), «Паскаль» (1939). Таковы, наконец,
персонажи посмертно опубликованных произведений «Санта Те­
реза Испанская», «Святой Иоанн Креста» (оба — 1939) и незакон­
ченной «Маленькой Терезы» (1941).
Третий Завет — Царство Духа Святого, когда восторжествует
Любовь, все религиозные конфессии воссоединятся во Вселен­
скую Церковь.
«Будет день: совьются дни в одну Трепещущую Вечность» —
поэтически выразит эту мысль Гиппиус в стихотворении 1933 года
«Etemite Fremissante». И если сегодня
76
Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» — не слиты,
Не слиты — сплетены,
то завтра это мертвое сплетение воскреснет, «концы концов кос­
нутся»,
Сплетенные сольются,
И смерть их будет — Свет.
( Элект ричест во)
Другими словами, вслед за Концом истории наступит внеисторическое Третье Царство, коему не будет конца. Не случайно
на могиле писателя установлен памятник с надписью из любимо­
го им Евангелия: «Царству Моему не будет конца».
Современники разошлись в оценке эмигрантской прозы Ме­
режковского.
«Из его писаний за время эмиграции все умерло — от «Цар­
ства Антихриста» до «Паскаля» и «Лютера», — пишет Нина Бер­
берова в книге «Курсив мой». — Живо только то, что написано
до 1920 года: «Леонардо», «Юлиан», «Петр и Алексей», «Алек­
сандр I и декабристы» да еще литературные статьи ... «Эстети­
кой» он не интересовался, и «эстетика» отплатила ему: новое
искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось
недоступно».
Еще более суров в своих оценках И.Ильин, обвиняющий
писателя не только в художественной несостоятельности, но
и в религиозной ереси: «Он играет (и заигрывается) со святы­
ми понятиями, доходит до воображения себя пророком и,
страшно вымолвить, Христом, а потом упивается своими мер­
зостями».
Переходя к разговору о Мережковском-художнике, Ильин
обвинил его в отступлении от исторических фактов при перегру­
женности историческими деталями, архивными материалами,
ссылками на источники. Упрек этот писателю приходилось слы­
шать едва ли не со времени публикации его первых романов.
Еще вождь русских народников Н.Михайловский сопоставил
роман о Леонардо с научной монографией о художнике и «ули­
чил» Мережковского во множестве отступлений от историчес­
кой правды. Десятки фактических ошибок нашел в «Юлиане
Отступнике» критик А.Амфитеатров. «Механикой широкого компиляторства, сшиванием чужих страниц» называл пристрастие
Мережковского к цитатам А.Волынский. «Излишество археоло­
гических деталей» отмечал П.Кропоткин. Все они впадали в одну
ошибку: по романам не изучают историю, для этого есть учебни­
ки. Мережковский сознательно отступал от хорошо известных
77
ему фактов во имя своей концепции, концепции символистской:
за событиями и фактами реальными, бытовыми искать провид­
ческий смысл, бытийное наполнение.
Сложнее обстоит дело с другим упреком И.Ильина, тоже
повторяющим обвинения дореволюционных критиков: «Исто­
рические фигуры оказываются в руках Мережковского вешал­
ками, чучелами или манекенами, которыми он пользуется для
иллюстрации своих психологически-диалектических открытий».
Действительно, увлеченный «антиномиями» Мережковский до­
статочно часто «навязывает» и своим персонажам, и самой дей­
ствительности эти самые антиномии — тогда вместо живых
людей и художественно убедительного романного мира появ­
ляются схемы.
Но «часто» не значит «всегда».
Тому же Ильину удалось заметить важнейшую особенность
всех книг Мережковского: «Эпохи, которые он выбирает для сво­
их романов, — суть неустойчивые, колеблющиеся, смутные вре­
мена соблазнов и туманов: двусмысленные и раздвоенные». Оста­
ется только добавить: подобные нашему XX столетью. А если это
так, то и раздвоенность персонажей, и безволие положительных
героев, и свирепость и жестокость отрицательных (все это постав­
лено Ильиным в укор писателю) становится оправданным и во
многом убедительным.
Можно спорить с общей концепцией писателя о трех Заветах,
но нельзя не признать, что в частных своих замечаниях Мереж­
ковский оказался провидцем, что его смелые сопоставления раз­
ных эпох и цивилизаций при всей их научной «некорректности»
не лишены художественной убедительности.
Рождеством 1929 года датировано окончание книги «Тайна
Запада. Атлантида-Европа». Четыре года оставалось до прихода
Гитлера к власти в Германии, десять — до начала Второй миро­
вой войны, а Мережковский на основании своих наблюдений
над судьбой Атлантиды пишет: «Кажущийся мир на самом деле
только перемирие ..., щель между двумя жерновами, духота меж­
ду двумя грозами ... Будет вторая война». И далее: «Первая
Атлантида истреблена была внешним огнем, вулканическим;
может быть, вторая — истребится огнем внутренним», то есть
людским, будет «самоистреблением человечества». Человечество
должно бояться самого себя, настойчиво доказывает он в своей
«Атлантиде». Можно спорить с концептуально важным для «од­
нодума» Мережковского (как назвал его Г.Адамович) положени­
ем о том, что «Огонь Конца соединяет Историю и Предысто­
рию», но не подлежит сомнению метафора-призыв «соединить­
ся всем» и «строить Ковчег» — «он и спасет семя человечества».
Призыв не был услышан — и в этом трагедия Мережковского.
«Я призывал, вопил, умолял, заклинал, — признавался он. —
Мне даже стыдно сейчас вспомнить, в какие только двери я не
стучался».
Можно найти искажения положений догматического богосло­
вия в его «Иисусе Неизвестном» (их еще больше во всемирно
признанных книгах Э.Ренана), но нет сомнения, что попытка
постичь Богочеловека, страдавшего за все человечество, любивше­
го всех без исключения, в жестокий и фанатичный XX век — про­
явление гуманизма.
«Иисус Неизвестный», как справедливо отмечал высоко оце­
нивший эту книгу глубоко религиозный писатель Б.Зайцев, отли­
чается от предыдущих книг Мережковского эмоциональностью:
«Человек всматривался изо дня в день в тот Лик, без Которого все
труднее, если не невозможнее, становилось жить. Трагедия росла,
ощущение конца (в смысле апокалиптическом) тоже росло. Все
это как бы придвинуло Мережковского ко Христу — тут уж не до
холодноватых и двусмысленных высот ... Плодом чего и явилась
книга: книга всматриваний припавшего ко Христу... Вся книга
написана словом возбужденным, легким и патетическим. Нечто
текучее, переливчатое есть в нем — по временам очень пронзи­
тельное». Зайцеву не кажется кощунственным ни использование
писателем материалов «Аграфа» («незаписанного слова») и апок­
рифов, ни даже собственных домыслов, любовно рисующих дет­
ство Иисуса, пытающихся постичь владевшие Сыном Божьим
чувства. Дело не в том, считает проницательный и доброжела­
тельный критик, всегда ли прав Мережковский, пытаясь постичь
Христа, «а в том, что дается ощущение тайного: сложнее, противо­
речивей как будто оказывается все — и человеческим взором —
бедным и малым — видимый, человеческим ухом слышимый...
«Иисус Неизвестный» волнует читающего, как волновал он пи­
савшего. Как составлял часть жизни автора, так частью жизни
становится для читателя. Богослов историк Церкви, христианский
философ могут вести с Мережковским свою беседу. Просто чита­
тель прочтет с увлечением своеобразнейшую книгу, написанную
с некою иступленностью, острую, смелую — в центре которой
величайшее Солнце мира».
Аналогичную точку зрения на «Иисуса Неизвестного», вполне
распространимую и на другие творения писателя, высказывает
философ Б.Вышеславцев, утверждающий, что поздние книги Ме­
режковского «не литература, не догматическое богословие, не ре­
лигиозно-философское рассуждение, а интуитивное постижение
скрытого смысла, разгадывание таинственного «символа» веры,
чтение метафорического шифра».
79
Прав был А.Белый, утверждавший, что «Мережковский при
всей огромности дарования нигде не довоплощен: не до конца
большой художник, не до конца проницательный критик, не до
конца богослов, не до конца философ». Но не менее прав и веч­
ный оппонент Мережковского Г.Адамович, писавший, что несмот­
ря ни на что «человек он был удивительный, совершенно не по­
хожий на других людей ... До старости он пронес брезгливость к
«ожирению» души, инстинктивную враждебность к грубоватой
житейской беззаботности, острый слух ко всему тому, что расплыв­
чато, в ницшеанском смысле слова можно назвать музыкой.
В каждой книге писателя есть нечто непреходящее: то призыв
отнять власть у «не-людей» и объединиться в единую семью наро­
дов («Иисус Неизвестный»), то утверждение, что множественность
и соборность не отрицают единичности, не уничтожают личность
(«Паскаль»), то раскрытие трагедии изгнанничества («Данте»).
«Главная мука изгнания, — пишет Мережковский, — вечная мука
ада — это извращенная любовь-ненависть изгнанников к родине,
проклятых детей — к проклявшей их матери».
Эта любовь-ненависть не раз приводила писателя к трагичес­
ким ошибкам: к поочередному восславлению то Пилсудского, то
Муссолини, то Гитлера. Последнего Мережковский сравнил, вы­
ступая по радио в 1939 году, с Жанной д‘Арк, хотя, по воспомина­
ниям близко знавших его людей, Гитлера он «считал гнусным,
невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же». Тем
не менее это выступление имело для Мережковских драматичес­
кие последствия: большая часть русской эмиграции их осудила.
Зинаида Николаевна не ошиблась, сказав мужу после его речи на
радио: «Теперь мы погибли».
7 декабря 1941 года, в день, когда Япония вступила во Вторую
мировую войну, Д.Мережковский умер.
Зинаида Гиппиус пережила мужа на неполных четыре года.
Ее собственное творчество (особенно книга «Сияния», 1938)
достаточно скоро избавилось от публицистических тем. По еди­
нодушному мнению критики, поэтесса осталась и в эмиграции
верна своим дооктябрьским пристрастиям, разве что стихи ее ста­
ли драматичнее и строже, исчезла некоторая, присущая ранней
лирике Гиппиус аффектация.
В стихотворении 1927 года «Тройное» Гиппиус определила круг
своих «вечных тем»:
Тройной бездонностью мир богат.
Тройная бездонность дана поэтам.
Но разве поэты не говорят
Только об этом?
Только об этом?
80
Тройная правда — и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте.
Только об этом думает Бог:
О Человеке.
Любви.
И Смерти.
При этом в ее стихах, как заметил в свое время еще И.Анненский, «всегда сквозит или тревога, или несказанность, или мучи­
тельное качание маятника в сердце».
Качание маятника в сердце декларировано уже названием од­
ного из программных стихотворений — «Между», лирический ге­
рой которого признается, что качается «в воздушной сетке, Земле
и небу равно далек»:
Внизу мне горько, вверху обидно...
И вот я в сетке — ни там, ни тут.
В эмиграции это противоречие поэт расширила до состояния
всего мира:
Всегда чего-нибудь нет, —
Чего-нибудь слишком много...
На все как бы есть ответ —
Но без последнего слога.
Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый неверен знак,
В решенье каждом — ошибка.
(Мера)
Антиномии (противопоставления) — любимый прием поэтес­
сы, выраженный в часто встречающихся у нее образах снега и
пламени.
Два верных спутника мне жизнью суждены:
Холодный снег, сиянье белизны, —
И алый гиацинт, — его огонь и кровь...
(О вен и Ст релец), —
утверждала Гиппиус еще в 1907 году. «Всюду бренность. Радость с
горем сплетена», — настаивала она тогда же в стихотворении «Ма­
линка».
Противоречия, расколотость, по Гиппиус, неотъемлемые свой­
ства человека XX века, а следовательно, и лирического героя
стихов поэта.
Во второй книге «Собрания стихов» рядом помещены два сти­
хотворения о душе под одним и тем же названием «Она». В пер­
81
вом «она, как пыль сера, как прах земной», «неповоротлива, тупа,
тиха» — «холодная» душа-змея:
Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа,
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа!
Во втором все наоборот. Холод уже не несет отрицательного
оттенка: «То холод утра, — близость д н я ... И в нем дыхание огня».
И сама душа —
...душа свободная!
Ты чище пролитой воды,
Ты — твердь зеленая восходная,
Для светлой Утренней Звезды.
Пару составляют и стихотворения «Ночью» и «Днем».
Днем героя охватывает «тяжелый холод», а душа становится
«мертвым ястребом», «убитым ястребом». Ночью наоборот к ге­
рою во сне приходят прозрения светлого будущего, вера в беспреградность и властность его хотений.
Это противоречие трагически обостряется в цикле «Южные
стихи» 1924 года. Первое и третье стихотворения цикла мрачны:
Как чаша, полна тоски
Душа — до самого края.
(За что?)
Опять черна, знакома и чиста,
Свой звездный купол ночь вскружила.
Давно мне сердце эта пестрота
Неотвратимостью своею утомила.
(Жара)
Тоска, ночь, пропасть, духота, омертвление —достаточно пос­
тоянные во всем творчестве Гиппиус эмигрантского периода. Во
втором стихотворении цикла состояние тоски переходит в иро­
нию, в отказ задуматься о тайнах мира, столь важных для поэтовсимволистов. «Тайны» превращаются в «мару ночи южной». Вен­
чает стихотворение презрительный прозаизм: «Очень нужно!»
Тем неожиданнее заключительное стихотворение цикла
«Дождь»:
О, милый дождь! Шурши, шурши,
Родные лепеты мне близки,
Как слезы тихие души.
Не менее противоречиво отношение лирического героя Гип­
пиус к людям. Если в начале книги «Сияние» утверждается мысль
о ценности каждой человеческой личности:
82
У каждого, кто встретится случайно
Хотя бы раз — и сгинет навсегда,
Своя история, своя живая тайна,
Свои счастливые и скорбные года,
и автор «хотел бы знать все о каждом».
Чужое сердце видеть, как свое,
Водой бессмертья утолять их жажду —
И возвращать иных в небытие
(Идущий мимо),
то в середине сборника в «Наставлении» звучит разочарование в
людях и горделивое осознание своего одиночества:
Молчи. Молчи. Не говори с людьми,
Не подымай с души покрова,
Все люди на земле — пойми! Пойми! —
Ни одного не стоят слова.
Весь этот мир одной слезы твоей,
Да и ничьей слезы не стоит.
Ни слов, ни слез, ни вздоха, — ничего
Земля и люди недостойны.
Надежда и страх — два демона не только стихотворения «Все
равно», но и, пожалуй, всего творчества писательницы.
Надежда связывается у Гиппиус с Божьей Матерью, с канони­
зированной французской монахиней Терезой Лизьеской («Вечно­
женственное», «St. Therese de l'Enfant Jesus»), повесть о которой не
дописал Мережковский, с Христом.
Чередование пяти и шестистопных ямбов придают торжествен­
ность стихотворению «Рождение», датированному Рождеством 1920
года. Иисус сравнивается здесь с живой водой, что мастерски под­
черкнуто нарушающими ритм пиррихиями. В четвертом («Много­
конечная, многолучистая») и последнем («Многоочитая, многоко­
нечная») стихах из шести стоп только вторая и четвертая имеют
ударение, что вместе с ассонансами придает стиху особую плав­
ность, текучесть.
Вместе с тем христианство Гиппиус, как и христианство Ме­
режковского, далеко не всегда совпадает с догматами правосла­
вия. Еще в доэмигрантских стихах Гиппиус, как и Мережковский,
утверждала, что христианство соединяет плоть и дух («Псалмо­
певцу», «Божья», «Черненькому», «Tabula Smaragdina»). В эмигра­
ции эта мысль получит воплощение в стихотворениях «8 ноября»,
«Горнее» и — особенно — в «Зеркалах», где говорится, что земля
и небо, подобно зеркалам, отражают друг друга:
83
И в каждом — зари розовенье
Сливалось с зеленостью травной;
И были, в зеркальном мгновеньи,
Земное и горнее — равны.
Земная жизнь для символистки Гиппиус «мост, путь в зазвездную страну» («Прорезы»). Идея христианской любви звучит в сти­
хотворении «Втайне», христианского стоицизма перед труд­
ностями жизни — в стихотворении «Как он»:
Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять.
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать, —
Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.
Однако лирический герой поэтессы, как и прежде, может ска­
зать:
Я не могу покоряться Богу,
Если я Бога люблю.
Он указал мне мою дорогу,
Как от нее отступлю?
Я разрываю людские сети —
Счастье, унынье и сон.
Мы не рабы, — но мы Божьи дети,
Дети свободны, как Он.
(Свобода)
Если в свое время Гиппиус упрекала Бога за то, что Он допус­
тил войну, Октябрьский переворот, то теперь она не может сми­
риться в тем, что Бог оставил Россию:
Я от дверей не отойду.
Пусть длится ночь, пусть злится ветер.
Стучу, пока не упаду.
Стучу, пока Ты не ответишь.
Не отступлю, не отступлю,
Стучу, зову Тебя без страха:
Отдай мне ту, кого люблю,
Восстанови ее из праха!
(Неотступное)
В энергичных повторах слов, в характерном для писательни­
цы чередовании длинных и коротких стихов — энергия, богобор­
ческие мотивы, столь характерные для обоих Мережковских с их
неортодоксальным христианством.
84
С темой Бога у Мережковских всегда связана и тема Дьявола.
В эмигрантском творчестве Гиппиус получает развитие (и завер­
шение) сюжет встречи лирического героя с чертом. Это подчер­
кнуто предваряющими стихотворение 1928 года «Равнодушие»
эпиграфами из ранних вещей писательницы «В черту» (1905) и
«Час победы» (1918). Если в первом стихотворении герой не мог
разомкнуть трагический круг (излюбленный образ поэта для обоз­
начения драмы жизни), а во втором Дьявол «сник в пустоту» и «В
этот час победное кольцо мое В огненную выгнулось черту», то в
третьем все двусмысленно. С одной стороны, Дьявол превратился
в мелкого беса, «шепчущего, лепечущего в углу», «жалкого, ма­
ленького», с подгибающимися «тонкими ручками», валяющегося
на полу. С другой — и лирический герой «неответен и равноду­
шен». Причем последнее слово повторяется дважды. Именно им
оканчивается стихотворение.
В эмигрантских стихах вновь отразились и даже усилились
кричащие противоречия и душевные муки человека XX века, по­
павшего в жернова истории.
Если в 1901 году поэтесса утверждала:
Люблю я отчаянье мое безмерное,
Нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
Надо всякую чашу пить — до дна,
то в 1933 году у нее вырывается горькое:
Чаша земная полна
Отравленного вина.
Я знаю, знаю давно —
Пить ее нужно до дна...
Пьем, — но где же оно?
Есть ли у чаши дно?
(Здесь).
В стихах «Прежде.Теперь», «Стужа», «Отъезд», «Одиночество
с вами... Оно такое...» прорываются ноты безысходности, уста­
лости:
Не знаю, не знаю, и знать не хочу
Я только страдаю и только молчу...
Сомнения в возможности найти ответ на вопрос о смысле бытия
усиливается в стихотворении «Быть может»:
Как этот странный мир меня тревожит!
Чем дальше — тем все меньше понимаю.
Ответов нет. Один всегда: быть может.
А самый честный и прямой: не знаю.
85
Стихотворение заканчивается трагическим вопросом:
...Где-то —
Не знаю где — ответы есть... быть может?
«Быть может» относится к 1930 году. Но оно уже предваряет
то трагическое мироощущение, которое станет почти постоян­
ным у Гиппиус после смерти Дмитрия Сергеевича. «Моя жизнь
кончена. Жить мне нечем и не для чего», — говорила Зинаида
Николаевна поэту и секретарю Мережковских В.Злобину.
Как эта стужа меня измаяла,
Этот сердечный мороз,
Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло,
Да нет слез.
Утешение Гиппиус пыталась найти в работе над биографичес­
кой книгой «Дмитрий Мережковский», оставшейся незакончен­
ной, и поэмой «Последний круг (И новый Дант в аду)».
По воспоминаниям Н.Берберовой, в последние годы жизни
все свои разговоры Гиппиус «всегда заканчивала одним и тем же:
«Я ничего не понимаю». «В этом «ничего не понимаю», — ком­
ментирует мемуаристка, — для меня все больше и больше звучал
отказ от жизни, безнадежная пропасть между человеком и миром,
смерть, а не жизнь».
Тема смерти — тоже одна из постоянных в творчестве писа­
тельницы. Уже в раннем стихотворении «Осень» (1895) есть
строки:
Приветствую смерть я
С бездумной отрадой,
И муки бессмертья
Не надо, не надо!
Смерть — выход из людской пошлости, одиночества и бесси­
лия:
Я не умею жить с людьми.
И знаю, с ними — задохнусь.
Я весь иной, я чуждой веры.
Их ласки жалки, ссоры серы...
Пусти меня! Я их боюсь.
Забвенье и освобожденье — «лишь там... внизу... на дне... на
дне...» («К пруду»). И потому, провозглашает герой другого сти­
хотворения, «отрадно умирать» («Отрада»). В одном из немногих
сюжетных стихотворений Гиппиус «Родина» плененный рыцарь
убеждается, что его прежние свободные годы были только «сном
свободы», а на самом деле он прожил их «в плену, за решеткой».
Его географическая родина предала его. И есть лишь одна не­
to
лживая свобода и родина — «родина, чуждая жизни, и вечно
живая» — смерть, «нездешняя прохлада» («Вечерняя заря»).
Однако, и отношение к смерти, как и ко всему другому, у
Гиппиус неоднозначно: «Хочу, боюсь и жду я зова»(«К ней»); «Что
мне делать со смертью — не знаю... Я ее всякую — ненавижу... За
то и люблю, что она неизвестная, Что умру — и очей ее не увижу»
(«Неизвестная»).
Подобная раздвоенность присуща в еще большей степени пос­
ледним стихам поэта. По-прежнему герой Гиппиус готов воспри­
нимать смерть как переход из земного в вечное:
Господи! Иду в неизвестное,
но пусть оно будет родное.
Пусть мне будет небесное
такое же, как земное.
(Когда?)
Там произойдет встреча с любимым. И потому в стихах о
смерти нет ужаса, а лишь вера в новую встречу:
Здесь неразлучные — мы неразлучны там.
(Я больше не могу тебя оставить...)
А я пойду туда, в St. Genevieve, и ниже
И встречусь с тем одним, с кем быть хочу и там.
(Я должен и могу тебя оставить...)
Смерть для Гиппиус — уход от ужаса жизни, обретение успо­
коения, возвращение «Домой»:
Когда предлагали
мне родиться —
не говорили, что мир такой.
Как же
я мог
не согласиться?
Ну, а теперь — домой! домой!
В этих строках и боль, и равнодушие — слово, которое станет
ключевым не только в заголовке уже упоминавшегося стихотво­
рения, но и в строках, написанных незадолго до смерти:
По лестнице... ступени все воздушней
Бегут наверх иль вниз — не все ль равно!
И с каждым шагом сердце равнодушней:
И все, что было, — было так давно...
З.Гиппиус умерла 9 сентября 1945 года и была похоронена под
одним надгробьем с мужем.
Поэтическое наследие Гиппиус невелико, но оно оставило
глубокий след в русской литературе. В нем проявились не только
87
многие идеи Серебряного века, но и до сих пор в полной мере не
оцененное новаторство формы.
Неверно, что Гиппиус не были доступны реалистические за­
рисовки русской природы. Достаточно обратиться к таким ее сти­
хотворениям, как «Осень», «Пыль», «Вечер», «Там». Подвластны
поэту и бытовые сцены («Отъезд»).
И все же не реализм и быт составляют своеобразие образной
системы поэта. Верная идее связи земного и небесного, Гиппиус
достигает этого соединения в словах. Бытовое, природное («Снег»,
«Журавли», «Дождик», «Август» и другие повседневные понятия,
не вынесенные в отличие от названных в заголовки) наполняются
духовным содержанием. «Водоскат», к примеру, становится обо­
значением души лирического героя; «Малинка» — символом забвенности, сна и тишины, даже смерти; «Серое платьице» девочки
олицетворяет Разлуку, дочь Смерти. При этом писательница
пользуется фольклорными, старообрядческими, библейскими,
мифологическими образами, придавая им свое, глубоко индиви­
дуальное наполнение.
Среди излюбленных образов-символов 3.Гиппиус, как уже
отмечалось, снег, огонь, Бог, черт, Любовь, Смерть.
Уже в первом стихотворении первой книги стихов автор смело
нарушила ритм, добавив в третьем стихе каждой строфы к пра­
вильному ямбу один лишний слог, использовала разностопный стих:
Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею, —
С вечернею зарею.
(Песня)
А
/-
/'
А
/-
/- - Г - / - / - /-
Тем самым создавалось ощущение речитатива, а повторение
последних слов предыдущей строки прихотливо подчеркивало
смысл сказанного. Стихотворение «L'imprevisibilite» («Непредви­
денность») в соответствии со своим названием чередует ямб, хо­
рей и дактиль, то есть дает сложнейший образец дольника. В об­
ращении «Блоку» Гиппиус использует излюбленный ее адресатом
ямб, в политических стихах пользуется трехсложными размерами,
столь любимыми гражданскими поэтами некрасовской школы
(«Без оправданья», «Юный март», «Знайте!»), обогатив их про­
пусками ударений (пиррихиями). Гиппиус смело соединяет пяти­
стопный ямб с двухстопным («Глаза из тьмы»), трехстопный с од­
88
ностопным («Ключ»), В ряде стихотворений использован логаэд
(дольник, где смещения ударений повторяются на одном и том
же месте). Впрочем, Гиппиус усложняет свою задачу тем, что в
каждой строфе свой логаэд, не предыдущий.
Разностопность стихов Гиппиус подчеркивается строфикой и
синтаксисом, порой крайне усложненными, что предполагает до­
полнительные паузы, смену интонаций и делает стихотворение
эмоционально выразительным. Примером тому может служить
приведенное выше стихотворение «Домой». Или миниатюра
«Ключ»:
4
С т р у и сь ,
С т р у и сь ,
Холодный ключ осенний.
М олись,
М олись,
И веруй неизменней.
В приведенных стихах хорошо видно мастерство звукописи
поэта — ассонансов (и-и-о-у-э-и-и-э-э) и аллитераций (стр-стрхл-кл-нн-мл-р-нн), передающих течение ручья.
Современники отмечали и новаторство писательницы в риф­
мовке слов. Довольно простые рифмы обновляются за счет не­
обычных словосочетаний, простейшие соседствуют с усложнен­
ными составными («не то ль — та ли боль»; «ночей — но чей»,
«длинна — со дна»).
Повторы-выделения ключевых слов, ритмические контрас­
ты — характерная особенность Гиппиус на всем пути ее твор­
чества. Свою главную книгу эмигрантских стихов Гиппиус назва­
ла «Сияния», имея в виду «сиянья слов». В ее стихах такое сияние
присутствует.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Мережковский Д . Записная книжка. 1919-1920 / / В ильню с. 1990. —
№ . 6. - С. 130-143.
П убликация и з сб орн и ка «Ц арство А нтихриста» (М ю н хен : D rei M asken Verlag, 1921). В ступительная зам етка А .С ел ьч и н ск ого дает р яд д о п о л ­
нительны х м атериалов к б и о граф и и писателя. О ш и б оч н о утверж дается,
что В ильню с бы л первы м городом , п ри ю ти вш и м чету М ереж ковски х. И з
восп о м и н ан и й Г иппиус известно, что это бы л Б обруйск.
Мережковский Д . Рождение богов (Туганхамон на Крите)// М ер еж ко в­
ский Д .С . Собр. соч. В 4 т. Т. 4. — М.: П равда, 1990. — С. 261-366.
П ервая п убликация н а родине ром ан а 1925 г.
Мережковский Д . Атлантида — Европа. Тайна Запада. — М.: Русская
к н и га, 1992.
П ервая п у бл и к ац и я в Р осси и к н и ги 1929 г. (изд. в 1930 г.).
89
П редваряется статьей п о эта В .Д .Ц ы б ина «А тлантида — н а за к л а н и и
истории» (с. 3-10), рассм атриваю щ ей прои зведен и е М ереж ковского к а к
явл ен и е м и ф ол оги и XX века.
Мережковский Д . Иисус Неизвестный// О ктябрь. — 1992. — № № 1112; 1993.— № № 1-10; 1994. — № № 4-6, 8-11. О тдельное иэд.: М ., 1995.
П ер вая п убл и к ац и я на родине к н и ги писателя. О пущ ены то л ько а в ­
то р ски е ссы лки н а и сточники. П редисловие и п убл и к ац и я И го р я В а­
сильева.
Мережковский Д . Жизнь Данте (Ж урнальны й вариант) / / Ю ность. —
1992. - № 9. - С. 38-58.
П убли кация первой части дилогии писателя о Д анте (н ап и сан о в 1936,
опубл. — в 1939).
П редваряется статьей члена редколлегии И М К А -П р е сс А .Б о го сл о вского, даю щ его общ ую характеристику к о н ц еп ц и и М ереж ковского о Т рех
Заветах.
Мережковский Д . Реформаторы: Паскаль// Звезда. — 1993. — № 12. —
С. 115-160.
П у б л и к ац и я заклю чительной части три л оги и «Р еф орм аторы ». Д ве
первы е: «Лютер» и «Кальвин».
Мережковский Д .С . Наполеон. — М.: Р еспублика, 1993.
П у бл и к ац и я обоих том ов к н и ги М ереж ковского п редваряется п о д ­
р о б н о й кон ц еп туал ьн ой статьей А .Н .Н и к о л ю к и н а , п оказы ваю щ ей м есто
р о м ан а в систем е эм и гран тского творчества писателя. В ы явлено н о в а ­
торство М ереж ковского-би ограф а, его п ол ем и ка с Л .Т олсты м .
Гиппиус З.Н . Дмитрий Мережковский / / М ереж ковски й Д .С . 14 де­
кабря. Гиппиус З.Н . Д м итрий М ереж ковский. — М.: М оек, рабочий, 1991.
- С. 283-523.
В о сп о м и н ан и я писательн и ц ы о ее супруге. С одерж ат ряд св ед ен и й о
сем ье Гип пиус, о ее взглядах и взаи м оотн ош ен и ях с пи сателям и С ер еб ­
рян о го века.
Зайцев Б. «Иисус Неизвестный» //Н а ш е наслед и е. — 1990. — № 3. —
С. 91-92.
Д о брож елательн ая р ец ен зи я н а кн и гу М ереж ковского. О тм ечен ы и з ­
м ен е н и я в худож ественной м анере писателя.
Ильин Н А . Творчество Мережковского / / М осква. — 1990. — № 8. —
С. 186-197. Т о ж е / / И л ьи н И.А. О д и н ок и й худож ник: Статьи. Речи. Л е к ­
ц и и . — М .: И скусство, 1993. — С. 134-161.
Р абота п р и м ы кает по своей структуре к кн и ге И .А .И л ьи н а «О тьм е и
просветлен ии». В идны й п равославны й ф и л о со ф обви н яет п и сателя к ак в
р ел и ги о зн о й ереси, так и в худож ественной несостоятельности.
Агеносов В. В. Новое о Мережковском (обзорн ая с т а т ь я )// Р Ж ИНИО Н А Н С С С Р . С ерия 7. Л итературоведение в С С С Р . — 1990. — № 5.
В статье содерж ится ан ал и з работ О .М ихайлова, В .Злоби н а и ряда
других авторов, и зд ан н ы х п реи м ущ ествен н о в С С С Р и п о св ящ ен н ы х
Д . М ереж ковском у.
Bedford С.Н, The Seeker, D.C.Mererzhkovsky. — T oro n to , 1975.
Гиппиус З.Н . Сочинения: Стихотворения. Проза. — Л.: Х удож ли т., 1991.
Н аи б о л ее пол н ое и з и зданны х н а ро д и н е соб ран и е стихов п оэта.
П олн остью вош ли две первы е к н и ги стихов, в т.ч. и авторское п р ед и сл о ­
90
ви е к ни м . Ц икл « Д н ев н и к 1911-1921». И зд ан н ая за рубеж ом к н и га ст и ­
хов «С ияния».
П роза пред ставл ен а д оревол ю ц и он н ы м и рассказам и .
К н и га предваряется статьей К .М .А задовского и А .В .Л аврова « З .Н .Г и п ­
пиус: м етаф и зи к а, л и ч н о сть , творчество» (с. 3-44). С од ерж и т м н о го сс ы ­
л о к н а литературу о пи сательн и ц е.
Гиппиус З.Н . Стихотворения. Ж ивые лица /С о с т ., подгот. текста, к о м м ент. Н .Б о гом ол ова. — М .: Х уд о ж л и т., 1991.
К ром е стихотворен и й (и з эм и гран тского пери од а вк л ю чен ы «Стихи.
Д н ев н и к 1911-1921» и «С ияния»), публикуется к н и га во сп о м и н ан и й «Ж и ­
вы е лица» (П рага: П л ам я, 1925), вклю чивш ая в себя эссе: «М ой л у н н ы й
друг. О Блоке», «О держ им ы й. О Брю сове», «Задум чи вы й стр ан н и к . О
Розанове», «Б лагоухание седин. О многих» (о А .Н .П л е щ е ев е, Я .П .П о л о н ск о м , А .Н .М ай к о в е, Л .Н . и С .А Л олсты х и др.). Глава « М ален ьк и й
А н и н дом ик» со д ер ж и т во сп о м и н ан и я о ф р ей л и н е и м п ер атр и ц ы А л ек ­
сан дры Ф едоровн ы А .А .В ы рубовой и ф акты о ж и зн и ц ар ско го дв о р а, о
Г. Распутине.
В о сп о м и н ан и я вы звали неод н озн ач н ую реак ц и ю в к р и ти ке. Г и п п и у с
о б в и н ял и в суб ъ ек ти ви зм е, ж елчности. В п р и л о ж е н и и к к н и ге д а н а р е ­
ц е н зи я В .Х одасевича, п и савш его, что к н и га Г иппиус п ред ставл яет « ц ен ­
н ей ш и й м ем уарн ы й м атериал», что она н ап и с ан а «в ли тер ату р н о м см ы с ­
ле блестящ е», что и з нее встает и «живое л и ц о сам о й Гиппиус». В п и сьм е
Г иппиус кри ти ку, тож е п о м ещ ен н ом у в п ри л ож ен и ях, п и са те л ь н и ц а о с ­
пари вает ряд к р и ти ч е ск и х зам еч ан и й Х одасевича о н ето чн о сти и зл о ж е н ­
н о го ею ф акти ч еско го м атериала.
С б орн и к п редваряется статьей проф . Н.А. Богом олова «Лю бовь — одна
(О творчестве З и н а и д ы Гиппиус)», содерж ащ ей гл убо ки й ан а л и з худо­
ж ествен н ого м и р а п и сательн и ц ы .
Злобин В. Т яж е л ая душ а. — В аш ингтон, 1970.
В о сп о м и н ан и я и эссе поэта, литературного сек р етар я и друга сем ьи
М ереж ковских (вм есте с н и м и эм и гри ровавш его и з Р о сси и ). В о сн о в н о м
говорится об эм и гр а н тск о м периоде ж и зн и п и сател ь н и ц ы , со д ер ж и т и н ­
тересн ы е св ед ен и я о п оследних днях супругов.
Л и тературоведчески р ассм отрен а тем а С м ерти и Ч ер та в п о э зи и Г и п ­
пиус.
Pachmuss Т. Z inaida H ippius. An Intellectual Profile. — L o n d o n & A m ster­
dam , 1971.
К н и га п р о ф е ссо р а И л ли н ой ского универси тета Т ем и р ы П ахм ус я в ­
л яется п о дроб н ы м исслед ован и ем духовного м и ра 3. Г и п п и у с и ее тв о р ­
чества. В ш ести п ервы х главах (с. 1-213) просл еж ен а ж и зн ь п и са те л ь н и ­
ц ы д о эм и гр ац и и , р ассм отрен ы м етаф и зи ч ески е к о н ц е п ц и и Г и п п и ус, ее
р ели ги озн ы е взгл яд ы , о тн о ш ен и е к вой н е и револ ю ц и и . Д ве п оследую ­
щ и е главы р ассм атр и ваю т ж и зн ь и творчество Г и ппиус в э м и гр а ц и и (с.
214-304). С п е ц и ал ь н ая глава п освящ ен а Г иппиус к а к л и тер ату р н о м у к р и ­
ти ку (с.305-383).
М о н о граф и я содерж ит бол ьш ой б и б л и ограф и ч еск и й с п и с о к к ак п р о ­
и зведен и й сам ой п и сател ь н и ц ы (с.455-478), так и работ о н ей (с.468470). У казатель и м е н и тер м и н о в (с.479-491) п озвол яет находи ть то л к о ­
ван и е таких п о н я т и й , к ак см ерть, вы бор, Бог, свобода, л ю бо вь и т.д.
91
ИВАН ШМЕЛЕВ
( 1873- 1950)
«САМЫЙ РУССКИЙ ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ»
«Самым русским из писателей» назвал Шмелева Константин
Бальмонт.
«В его среднего роста худощавой фигуре выделялись боль­
шие серые глаза и складки — впадины от созерцания и сострада­
ния», — утверждала близко знавшая Шмелева племянница его
жены Ю.А.Кутырина. «Изборожденное морщинами, измученное
лицо с седой бородой», — первое, что бросилось в глаза посетив­
шему Шмелева немецкому писателю Томасу Манну.
Среди многочисленных фотографий и портретов писателя луч­
шие те, где он изображен в профиль: высокий лоб, нос с неболь­
шой горбинкой, борода клинышком. И глаза. Глубоко посажен­
ные, а от них лучи морщин, идущие к вискам, переходящие на
подбородок. Обыкновенный, каких тысячи, русский человек, чемто похожий на Иисуса Христа, пострадавшего за людей и не разу­
веривш егося в них.
«Шмелев — поэт мировой скорби, — писал о нем видный рус­
ский философ и друг писателя И.Ильин. — Идея ..., которая со­
ставляла духовный предмет его творчества, — путь, ведущий че­
ловека из тьмы, — через муку и скорбь к просветлению».
Иван Сергеевич Шмелев родился в семье строительного под­
рядчика в купеческом районе Москвы — Зарядье. Семья была
92
глубоко религиозной, вела строгий образ жизни. «Дома я не видел
книг, кроме Евангелия», — вспоминал писатель. Зато — «во дворе
было много ремесленников — бараночников, сапожников, скор­
няков, портных. Они дали мне много слов, много неподражаемых
чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой
жизни —самой важной и мудрой. Здесь получились тысячи толч­
ков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет
жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен
простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ре­
бенка, глазами... Слов было много на нашем дворе — всяких. Это
была первая прочитанная мной книга — книга живого, бытового
и красочного слова».
Московские впечатления и русское просторечное слово игра­
ют огромную роль в творчестве писателя. Восемь лет тягостной
службы после окончания юридического факультета Московского
университета помощником присяжного поверенного и налоговым
инспектором, из которых пять лет прошли в провинции, позво­
лили Шмелеву, по его собственному признанию, «узнать дерев­
ню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелко­
поместное дворянство» и тем самым расширить диапазон своих
будущих книг до масштабов всей России.
В 1907 году, имея за плечами не одно опубликованное произ­
ведение, Шмелев решает стать профессиональным писателем и
уходит в отставку.
До отъезда в эмиграцию он уже был автором 53 книг и 8-томного собрания сочинений. Наибольшим успехом пользовалась его
повесть «Человек из ресторана» (1911).
Принято считать, что в своих ранних произведениях писатель
развил традиционную для русской литературы линию «маленько­
го человека». Это, безусловно, так. Верно и то, что художник не
только симпатизирует своим героям, но и, подобно Ф.Достоевскому и М. Горькому, наделяет их «душой живой», превосходя­
щей по своему нравственному развитию тех, кому они вынужде­
ны подчиняться или служить. Не вызывает сомнения и критичес­
кое отношение писателя к обществу, к его верхушке. Однако — и
это стало ясно только после появления эмигрантских произведе­
ний писателя, — уже в ранних вещах Шмелева звучал христианс­
кий мотив прихода через муку и скорбь к «сиянию» жизни. Зна­
менателен воспроизведенный главным героем «Человека из рес­
торана» Скороходовым разговор со старичком-торговцем, укры­
вавшим от полиции Скороходова-младшего. Старик «сказал глу­
бокое слово:
— Без Господа не проживешь.
А я ему и говорю:
93
— Да и без добрых людей трудно.
— Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа!..»
Не менее знаменателен и тот факт, что Шмелев воспринял
Первую мировую войну как осуществление пророчеств Апока­
липсиса, возмездие за содеянное (рассказ «Лик скрытый») и на­
чало всеобщей расплаты. Еще более значимо, что уже тогда он
ратовал за дружную соборную жизнь (рассказ «Праздничные ге­
рои»). «Перед читателем, — писал об этом рассказе рецензент
журнала «Новости детской литературы», — встает русская ста­
ринная действительность, чувствуется атмосфера простых отно­
шений, непосредственное сближение разных социальных по­
ложений, хотя бы только и в праздничные дни».
Октябрь 1917 писатель расценил как нарушение норм нрав­
ственности и уехал с женой и прошедшим окопы германского
фронта сыном в Крым. Там семью Шмелевых постиг страшный
удар. Был арестован и увезен из Алушты, где он служил при уп­
равлении коменданта и не принимал участия в боях, единствен­
ный сын писателя Сергей, поверивший в объявленную большеви­
ками амнистию для участников врангелевской армии. «На все мои
просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, — вспо­
минал позже об этих кошмарных днях Шмелев, — мне отвечали
усмешками: «Выслали на Север!». Не зная, что Сергей давно рас­
стрелян вместе с 60 тысячами других белых офицеров, Шмелевы
кинулись в Москву в надежде на помощь. Им пришлось проехать
весь Крым, видя всюду произвол, разрушения и смерть. Но уви­
дели они и отзывчивость простых людей. От голода их спас офи­
циант, узнавший в Шмелеве автора «Человека из ресторана» и
вынесший ему краюху хлеба.
Осенью 1922 года супруги выехали в Берлин, все еще не зная
о судьбе сына, а через год по приглашению И.Бунина переехали
в Париж. Здесь писателя постиг второй удар: в 1936 году умерла
его жена Ольга Александровна. Иван Сергеевич пережил ее на
14 лет и умер от сердечного приступа по дороге в монастырь
Покрова Божьей Матери, что под Парижем. Его мечта быть по­
хороненным в семейной могиле Донского монастыря Москвы
осталась неосуществленной. Впрочем, и могила не сохранилась.
Но сбылась другая мечта писателя: он вернулся на родину свои­
ми книгами.
Лучшие из них — «Солнце мертвых» и «Про одну старуху»
(1925), «Богомолье» (1931-1948), «Лето Господне» (1933-1948).
«Солнце мертвых» написано на основе крымских впечатлений
писателя. И тем не менее это не воспоминания и даже не публи­
цистические эссе, каковыми были «Окаянные дни» И.Бунина или
«Последний дневник» 3. Гиппиус. И хотя повествование ведется
94
от первого лица, было бы неверно полностью отождествлять авто­
ра и рассказчика.
Лучше всех жанр своей книги определил сам Шмелев: эпопея.
То есть предельно широкое повествование о судьбе народа, стра­
ны, истории, космоса — всего, что находится под солнцем в годи­
ну великих испытаний. Можно даже сказать, что это апокалипти­
ческое столкновение мира Божьего с дьяволом (оба эти образа
присутствуют в тексте книги).
В первом мире все одушевлено, слито в едином порыве к
жизни. На первой странице появляется корова, «красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, опора семьи», что живет рядом
с рассказчиком. Характерно, что у коровы человеческое имя: Та­
марка. Имена, то нежные, то иронические, имеют и другие жи­
вотные, один за другим входящие в рассказ: куры — Жаднюха и
Торпедка, кобыла — Лярва, коза — Прелесть, козел — Бубик,
павлин — Пава, еще одна корова — Цыганочка. Точно живые
существа, описаны Шмелевым виноградники, грушевые деревья,
розы, олеандры, миндалевые сады. Вот стоят кусты граба, «не
кусты, а чудесные превращения, таинственные намеки... Вот
канделябр стоит, пятисвечник, зеленой бронзы ... . А вот, если
прищуришь глаз, — забытая кем-то арфа... рядом старик горба*тый, протягивающий руку. Кольцами подымается змея, живая
совсем, когда набегает ветер. А где-то вознесшийся черный крест,
заросший...»
Казалось бы, все дано людям на радость. Мир прекрасен и
благостен. «Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Кра­
сота какая! ... Хорош городок отсюда (с гор — В.А.) в садах, в
кипарисах, в тополях высоких. Стеклышками смеется! Ласковыкротки белые домики — житие мирное. А белоснежный Дом Бо­
жий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь
вечернее — «Свете Тихий». Но, замечает писатель, городок «хо­
рош обманчиво». Порушена цельность мира. «Не благостная ти­
шина эта: это мертвая тишина погоста».
Все, что вчера радовало человека, нынче умирает. Две пер­
вые главы «Утро», «Птицы» переходят в трагическую третью —
«Пустыня». Все чаше в заголовки глав выносится слово «конец»:
«Конец павлина», «Конец Бублика», «Конец доктора», «Конец
Тамарки», «Три конца», «Конец концов». Гибнут сады, рубят и
вырывают с корнем плодовые деревья, разрушаются розарии, за­
сыхают олеандры. Вместе с животными и растениями гибнет и
человек.
Писатель создает десятки образов людей из самых разных со­
циальных слоев общества. Одни появляются всего на мгновение,
другие переходят из главы в главу. Наиболее подробно выписан
95
бывший вологодский мужик Иван Михайлович, ставший знаме­
нитым профессором. Обладатель медали Академии Наук за фи­
лологические труды, он просит милостыню, чтобы не умереть с
голоду, сжигает мебель, чтобы не замерзнуть, но бережет четыре
ящичка «из-под Ломоносова... с карточками выписками... хоро­
ших четыре ящика! Нельзя, материалы истории языка...» Книгу
дописывает. Он умрет, избитый кухарками в советской кухне:
«надоел им старик своей миской, нытьем, дрожаньем: смертью
от него пахло». Закончит свою жизнь самосожжением доктор
Михаил Васильевич Игнатьев, чьи миндальные сады пришли в
упадок. Он стал похож на чучело, «пахнет тленом», но почти до
последнего философствует, пишет книгу «Апофеоз русской ин­
теллигенции». Будет расстрелян трижды спасавшийся от смерти
тихий юродивый поэт Борис Шишкин, мечтавший написать книгу
«о детском, о таком чистом, ясном». Все эти люди для Шмелева,
несмотря на их человеческие слабости, — святые, страдальцы. К
этой же категории относятся и простые люди, населяющие кни­
гу. Умирает от голода замечательный кровельщик со «съедоб­
ным» прозвищем Кулеш. Наелся жмыху и помер, чтобы не ви­
деть смерти своих семерых детей, старый рыбак Николай, тщет­
но просивший у комиссаров помощи.
Погибают от «своей» советской власти столяр Гриша Одарюк,
поверивший во вседозволенность и ставший мародером. Забили
его вместе с Андреем Кривым и дядей Андреем на «революцион­
ном» допросе. История дяди Андрея — одна из самых сложных в
книге. Циник и вор, он не постеснялся украсть козла у учитель­
ницы Прибытко, обрекая тем самым ее детей на голодную смерть.
И все же есть в его предсмертных оправданиях слова истины. На
упрек, что он добил сироток, дядя Андрей отвечает: «Не я добил...
нас всех добили».
Причину упадка Шмелев видит в отступлении от Бога. «Со­
рвали завесу с «тайны», — говорит доктор Игнатьев, — хулиган
пришел и сорвал... до сроку сорвал, пока превращение из скотов
еще не закончилось». Продолжая традиции Достоевского, писа­
тель утверждает, что, заменив Бога человеком, недолго прийти к
отрицанию вечных истин и вседозволенности; что, проповедуя
происхождение человека от обезьяны, можно дойти до отрица­
ния духовного в пользу животного естества. «Всякая вошь (явная
перекличка со словами Раскольникова «Вошь я или человек —
В.Л.) дерзает смело и безоглядно. Вот оно, Великое Воскресе­
ние... для вши», — восклицает все тот же доктор. Но если у До­
стоевского переустроители мира еще мечтали через кровь «сде­
лать человечество счастливым», то у Шмелева революционерыпрактики превратили жизнь в «человеческую бойню», чтобы по­
96
лучить личное благополучие. Это уже даже не народный гнев на
эксплуататоров за долгую беспросветную жизнь, не блоковское
возмездие, а бесовщина. Интересно в этом плане сопоставление
первых революционных матросов, чуть не расстрелявших про­
фессора Ивана Михайловича и тихого почтальона Дрозда, с но­
выми властителями. Услышав родное вологодское слово, разгля­
дев в «буржуе» земляка, умирили матросы свое сердце и, как ни
приказывал им мальчишка-фанатик, не стали палачами, отпус­
тили арестованных. «Были они свирепы, могли разорвать чело­
века в клочья, — рассуждает рассказчик, — но они не способны
были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило
бы «нервной силы» и «классовой морали». Для этого нужны были
нервы и принципы «мастеров крови», для которых убийство удо­
вольствие, доказательство своего могущества, способ унизить
человека.
Так входит в книгу тема дьявола, появляются емкие образы
людей-«обезьян» и людей-«микробов». «Ужас в том, — рассуж­
дает доктор,* — что они-то никакого ужаса не ощущают! Ну ка­
кой ужас у бациллы, когда она в человеческой крови плавает?
Одно блаженство!... И двоится, и четверится, ядом отравляет и в
яде своем плодится! А прекрасное тело юного существа бьется в
последних муках от какого-то подлого менингита! Оно — «папа,
мама... умираю... темно., где же вы?!» — а она, бацилла-то, уж в
сердце, в последнем очажке мозга-сознания канкан разделывает
под «барыню»! На автомобилях в мозгу-то вывертывает! У ба­
циллы тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются, с
поправочками, понятно...». К человекам-бациллам относится
«конопатый Гришка Рагулин, вихлястый и завидущий, конокрад
недавний и словоблуд», заколовший штыком недававшуюся ему
женщину и защищенный от гнева народного пулеметом. Еще
страшнее и саркастичнее рисует Шмелев ставшего палачом вче­
рашнего пианиста Шуру-Сокола: «Шура кушает молочную каш­
ку, вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу
поудобнее и принимает женщин. Расплачивается мукой... солью.
Что значит-то быть хорошим музыкантом!» Деэстетизирован и
«товарищ Дерябин», бывший мясник или борец, «широкорылый,
скуластый», «в бобровой шапке, в хорьковой шубе», жрущий ба­
ранину и сало, лакающий вино, орущий на голодного рыбака и
цинично каламбурящий перед собранной им на «беседу» интел­
лигенцией: «Такие-сякие... за народную пот-кровь набили себе
головы всяческими науками! Требую!! Раскройте свои мозги и
покажите пролетариату! А не рас-кро-ете... тогда мы их рас-кроим. И наганом!».
Пустыми посулами обернулись для Кулеша, старой няньки,
4— 1662
97
рыбака Прошки и многих других простых людей обещанья «за­
валить трудящихся хлебом», дать каждому по автомобилю, пос­
троить хрустальные дворцы, снившиеся героям Н.Г.Чернышевского. Вместо культурного подъема революция обернулась хао­
сом и разорением, уничтожением тех, кто создавал прекрасный
гармоничный мир.
Так реализовался в книге один из смыслов ее заголовка. Ис­
точник жизни и радости — солнце — превратилось в «солнце
смерти». «Солнце все выжгло». Оно, а с ним и жизнь, совершает
«круг адский», «круг смерти», «последний круг». Уже упомяну­
тая метафора «пустыни», образы дачи-калеки, лачуг-сирот, «пше­
ницы с кровью», руки, пишущей на стене Куш-Каи (библейская
реминисценция на тему Валтазарова пира, во время которого
руки начертали на стене пророчество о скорой гибели царства —
Дан. 5:25), в сочетании с многочисленными рассказами о смерти
персонажей подготавливают апокалиптический образ крушения
мира: «Никто не придет из далей. И далей нет ... Смотрю на
море. Свинцовое... И вот выглянет на миг солнце и выплеснет
бледной жидкостью. Бежит полоса, бежит... и гаснет. Воистину —
солнце мертвых!»
Мысль о бессмысленном круговороте жизни, казалось бы,
подкрепляется вставной новеллой, рассказом доктора о покупке
часов. Часы (традиционный символ истории, времени), куплен­
ные доктором у рыжего ирландца с гарантией, что они послужат
до российской революции, отобраны у доктора этой самой рево­
люцией и, возможно, через красного Кребса или Крабса (знаме­
нательно почти ирландское звучание фамилии русского «революционера-обезьяны») вернутся в Англию и прозвенят и там разгул
бесовщины.
Однако это лишь версия доктора. Возможный, но не един­
ственный вариант развития истории для рассказчика.
Позиция повествователя шире взглядов его собеседников. «Каторжник-бессрочник», как он себя называет, рассказчик воспри­
нимает свою жизнь и происходящее как наказание за грехи ин­
теллигенции, не уважавшей сотворенной Богом жизни и самона­
деянно взявшейся за ее изменение. Вся книга, подобно грабам,
похожим то на знак вопроса, то на крест, — размышление о при­
чинах случившегося, рассказ о крестном ходе на Голгофу (образ
этот тоже введен в эпопею) и о воскресении.
При этом выявляется второе значение заголовка: солнце —
надежда для мертвых, надежда на воскресение. «Солнце мерт­
вых», — писал И.Ильин, — с виду бытовое, крымское, истори­
ческое, таит в себе религиозную глубину: ибо указует на Госпо­
да, живого в небесах, посылающего людям и жизнь, и смерть».
98
В первой главе герой-повествователь сдал властям вместе с
другими книгами и «маленькое Евангелие» и потому чувствует
себя так, «словно и Его я предал». Бог на какое-то время ушел из
сознания рассказчика, с детства привыкшего «отыскивать Солн­
це Правды». «Где Ты, Неведомое?!» — взыскует повествователь:
«Хочу Безмерного — дыхание Его чую. Лица Твоего не вижу,
Господи! Чую безмерность страдания и тоски... ужасом постигаю
Зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный
звериный рык». Люди «в Проповеди Нагорной продают камсу ржа­
вую на базаре, Евангелие пустили на пакеты». Но к концу книги
сознание героя меняется: «Коснулся души Господь — и убогие сте­
ны тесны. Я хочу быть под небом — пусть не видно его за туча­
ми. Ближе к Нему хочу... чуять в ветре Его дыхание, во тьме —
Его свет увидеть».
Писатель нашел способ художественно убедительно пока­
зать, как произошла эта метаморфоза. В главе с характерным
названием «Жива душа!» татарин приносит рассказчику пода­
рок. «Не долг это, — подчеркивает автор, — а подарок. ... «Не
табак, не мука, не грушки, — восклицает автор. — Небо! Небо
пришло из тьмы! Не-бо, о Господи! Старый татарин послал...
татарин...».
Знаменательно, что христианин Шмелев сделал проводником
Нагорной Проповеди любви к людям мусульманина. Как перед
этим, в главе «В глубокой балке», в унылом крике муэдзина услы­
шал «измученный привет утру», а в шпиле мечети увидел христи­
анскую свечу, утверждающую, что над всем «пребывает Великий
Бог, и будет пребывать вечно, и все сущее — Его Воля. Вознесите
В е л и к о м у молитву за день грядущий!»
И теперь, в бытовой сцене, автор вновь утверждает, что над
людьми разных вер — одно Солнце.
«Аллах... — говорит в огонь сумрачное коричневое лицо. — У
тебя Аллах свой... у нас Аллах мой... Все — Аллах!
Смотрит в огонь старый Абайдуллин. И я смотрю. Смотрим,
двое — одно, на солнце. И с нами Бог». К Нему со страстной
молитвой обращается рассказчик; обращаются люди. И Он делает
чудо. Тем, кто верует в «тайную связь событий», в Провиденье
Божье.
«Ничего мне не страшно, — говорит отец-дьякон, — земля
родная, народ русский. Есть и разбойники, а народ ничего, хо­
роший. Ежели ему понравишься — с нашим народом не пропа­
дешь! Что ж, — скажу, — братцы... все мы жители на земле, от
хлебушка да от Господа Бога». ... Так подбадривал себя отецдьякон, веселый духом: не боялся ни огня, ни меча, ни смерти.
Дерево в поле: Бог вырастил — Бог и вырвет. И вот за веру, за
4*
99
кротость, и за веселость духа — получил он свою корову: нашли
привязанную в лесу. «Господь привел!» — кротко сказал дьякон».
«Праведники... В этой умирающей щели, у засыпающего моря,
еще остались праведники, — убеждает себя рассказчик. — Я знаю
их. Их немного. Их совсем мало. Они не поклонились соблазну,
не тронули чужой нитки — и бьются в петле. Животворящий дух
в них, и не поддаются они всесокрушающему камню. Гибнет дух?
Нет — жив».
Шмелев создает целый ряд портретов таких праведников. Это
уже упоминавшийся юродивый поэт Борис Шишкин. На Сергия
Радонежского и Серафима Саровского (двух самых чтимых на Руси
святых) похож доктор Игнатьев. Праведником на кладбище на­
шем называет повествователь почтальона Дрозда. Целая глава
«Праведница-подвижница» посвящена многодетной вдове сапож­
ника большеглазой Тане (читатель не может не увидеть в этом
эпитете напоминание о глазах святых на русских иконах). При
этом писатель употребляет слово «подвижница» и в религиозном,
и в прямом смысле: с риском для жизни женщина ходит через
горы за едой для детей.
К концу эпопеи рассказчик, пережив ряд сомнений и искуше­
ний, говорит словами христианского Символа Веры: «Чаю вос­
кресения мертвых!». И уже от себя добавляет: «Я верю в чудо.
Великое Воскресение да будет».
Но будет не скоро. Конец света и пришествие Нового Вечно­
го Царства еще далеко. «Когда размотает клубок?.. Скажут го­
рам: падите на нас! Не падают... Не пришли сроки? Прошли все
сроки, а чаша еще не выпита!..». Образ чаши страданий в это
время характерен не только для Шмелева, он присутствует в кни­
гах А.Ремизова, М.Пришвина, близких по духу автору «Солнца
мертвых».
Неопределенный финал (вновь кричит муэдзин «о Боге, все
зовет к молитве... благодарит за новый день», а рассказчик грус­
тит и подозревает, что наступающая заря будет для него послед­
ней) как нельзя лучше передает душевное состояние писателя в
начале 20-х годов, столь точно выразившееся в многозначности
названия эпопеи — «Солнце мертвых».
Жанр эпопеи обусловил многообразие стилистики книги. В
ней говорят, жалуются, стонут, философствуют самые различ­
ные люди, вместе составляющие Русь, Россию. Речи доктора —
монологи грозного судии, нервные до истерики, построенные
по законам не логики, а ассоциативно-художественного мышле­
ния. В них символы, метафоры, прыжки мысли. Все это порой
напоминает бред сумасшедшего, адекватный происходящему.
Профессор Иван Михайлович не забыл народного языка. «Гово­
100
ру своего не чуешь? — обращается он к земляку-матросу. — Смеются-то как про нас! «Ковшик менный упал на нно... оно хошь и
досанно, ну да ланно — все онно!». Самая высокая лексика в его
устах приобретает мягкий человеческий оттенок: «Вот, голубуш­
ка... Христосовым именем побираюсь! Не стыдно мне это, ста­
рику, а хорошо... Господь сподобил принять подвиг: в людях
Христа бужу!..» Тяжело ворочает слова непривыкший к большим
речам рыбак Николай. С гневом и обидой жалуется Пашка: «Под
зябры взяли, на кукане водят! Придешь с моря — все забирают,
на всю артель десять процентов оставляют! Ловко придумали —
коммуна называется. Они правют, своим места пораздовали, пай­
ки гонят, а ты на их работай! Чуть что — подвалом грозят... А
мы... — нас шестьдесят человек дураков-рыбаков — молчим».
Красочно крестится и лжет вор дядя Андрей: «Шоб менэ... ну,
шоб здохнуть, як собака... без попа покаяния... шоб и на сем и
на тиим свите... шоб мои очи повылазили... шоб менэ черви
зъилы!». И строго спокойно отвечает на эту божбу обворованная
им Марина Семеновна: «Здохните, дядю Андрей... попомните
мое слово! Я на вас слово знаю! Будут вас черви есть! Как вы
моего козлика съели, так и...». Трагизм эпохи особенно отчетли­
во выступает из детских речей, мастерски воспроизведенных ху­
дожником. «Хле-а-ба-ааааа... са-мый-са-ааа в пуговичку-ууу.. саа-мый-са-аааа», — тянет маленький Вова. «А Рыбачиха-то не сдю­
жила, продали корову-то, Маньку! У них очень семейство боль­
шое, ребят, что опят», — по-взрослому умудренно рассуждает
его сестренка Ляля. Ожесточился маленький сынишка Вербы и
готов за гуся застрелить человека: «Убью! Вот подстерегу к ночи
да из двустволки в зад, утятником! Меня не засудят, я мальчиш­
ка... Скажу, с курка сорвалось!». Одно только слово вкладывает
писатель в уста «мальчику лет десяти-восьми, с большой голо­
вой на палочке-шейке, с ввалившимися щеками, с глазами стра­
ха»: «Д...вай...». Это уже не ребенок, а «смертеныш», как метко
определяет его автор.
Образ рассказчика связывает повествование воедино. Писа­
тель дает ему свое острое зрение. Книга полна яркими описа­
ниями, красочными деталями-подробностями. Почти каждая
имеет и второй, обобщающий, смысл (минарет-свеча; миндаль­
ный сад как обозначение горечи жизни; уже упоминавшиеся
грабы в виде вопроса, креста). Широко пользуется Шмелев и
публицистическими обращениями к Европе, спокойно взира­
ющей на крестный путь ее российских братьев. Сарказмом на­
полнены раздумья о советской «благодарности» Ивану Михай­
ловичу за его труды. Разговорные интонации приобретает мыс­
ленная беседа рассказчика с обманутым рыбаком. Ласково-не­
101
жно, родственно говорит повествователь с коровой, павлином,
курами.
Диапазон языка Шмелева, таким образом, колеблется от про­
сторечия до высокого стиля Библии, от бытовой лексики до по­
литических инвектив.
Символика, перевод бытового текста в бытийный (философски-обобщенный) характерны и для рассказа «Про одну старуху».
В центре повествования праведница, вечная труженица, корми­
лица семьи.
Совесть и вера не позволяют ей взять корову расстрелянных
хозяев, и старуха отправляется в крестный путь, добыть детям
муки. Сюжет дороги позволяет писателю вновь дать эпическую
картину. Одной-двумя фразами («и везде упокойники на линии»,
«мужчина на елке удавился — деньги у него вырезали», «народ
как в облаве мечется») показывает Шмелев, как разрушилась при­
вычная жизнь, как страдает Россия. Испоганились души людс­
кие. И все же где-то даже у самых отпетых есть сердце: то матрос
вступится за старуху; то жадноватый попутчик, поначалу обоб­
равший бабку, устыдится и даст ей «некоторый капитал». Куль­
минационной сценой рассказа является встреча старухи с про­
павшим без вести сыном Никитой, ставшим красноармейцем
беспощадного отряда «особого назначения». Узнав мать и вы­
слушав страшные слова ее проклятья, застрелился Никита. По­
действовала эта смерть и материнская анафема и на «отпетых»
его товарищей: «Сразу как обмякли». Да и народ осмелел: «на­
швырял им всяких слов». Отказалась праведница и от сыновнего
кровавого наследства: награбленных денег, золота, часов, порт­
сигаров. Плюнула на руку командиру, протягивавшему ей вещи
сына: «Про...клятые!..»
«А она была божественная, хорошей жизни», — говорится о
старухе в начале рассказа. «Сколько мытарств приняла, — сказа­
но перед самым концом. — Через ее спаслись маленько». (Выде­
лено мной — В.Л.). Фраза эта несет бытовой характер (растерян­
ность красноармейцев после самоубийства Никиты позволила
спутникам старухи избежать реквизиции добытой муки) и, как
представляется, одновременно символический. Старуха подтвер­
ждает слова рассказчика, что «не в законе правда, а в человеке».
Характерно, что рассказчик теперь не интеллигент, а человек из
народа, голос России. Тем значимее, что и он, подобно повест­
вователю из «Солнца мертвых», и, может быть, даже отчетливее,
формулирует важную для Шмелева мысль о том, что происходя­
щее — наказание Господне за разрушение «надежного спокон
веку», за «крутило, смуту». Форма рассказа в рассказе позволила
писателю художественно убедительно, простыми словами сфор­
102
мулировать важнейший для него историософский вывод. «Я так
соображаю, — рассуждает рассказчик, — что либо народу гибель,
либо, если выбьется из этой заразы, должен обязательно просвет­
леть».
Начиная рассказ о пути старухи за мукой, И.Шмелев сравнил
ее сборы с «богомольем» — обрядом очищения от грехов, приоб­
щения к Богу. Именно этот образ писатель вынес в заголовок
своей новой книги. От мрачных картин предреволюционной России художник
возвращается к Руси христианской, к Москве своего детства, что­
бы там найти опору для дальнейшей жизни.
Философско-эстетическая позиция Шмелева выражена в про­
ходящей лейтмотивом фразе праведника Михаила Панкратьевича
Горкина: «Делов-то пуды, а она — туды». Она — это и смерть, и
душа, и жизнь. По мысли художника, обыденная жизнь должна
соединиться с идеальной, одухотвориться. Вот почему погружен­
ный в коммерческие заботы Сергей Иванович, «плохой молель­
щик», как он сам себя называет, в разгар ведущихся под его нача­
лом строительных работ не только отпускает правую свою руку
Горкина на богомолье, но и сам, бросив все, на денек приезжает в
Троице-Сергиеву лавру. С другой стороны, знаток всех преданий
и обрядов Горкин, принимаемый богомольцами за святого, почи­
тает Бога не абстрактно-умозрительно, а в людях, их творениях,
видит его в природе, в любом проявлении, как церковном, так и
мирском. Богу равно угодно, чтобы заикающийся тихий Саня
Юрцов стал монахом, а могучий красавец Федор пек хлеб, кор­
мил людей, завел семью, воспитал детей. «В миру хорошие-то
нужней! — обосновывает свой отказ благословить Федю на мона­
шество святой старец Варнава.
Рождение гармонии этих двух начал в душе главного героя
повести маленького мальчика и составляет внутренний сюжет
«Богомолья». «Родится дите чистое, хорошее, ангельская душка»,
одинаково открытая Земле и Небу.
В процессе путешествия мальчик встречается со множеством
хороших людей, среди которых и праведники, и труженики, и
страдальцы, и юродивые. Шмелев не утаивает и мрачных картин
жизни (на пути богомольцев встречаются и «охальники», и ко­
рыстолюбивые нищие, и несчастные инвалиды), но все темное
теперь находится на периферии повествования.
Вот почему изменились краски. В «Богомолье», как и в древ­
нерусских житиях и повестях, преобладают золотые, розовые, ярко­
синие цвета; обильно употребляются эпитеты. Авторский стиль
носит подчеркнуто лирический характер, передающий настрое­
ние благодарения, умиления.
103
Успех «Богомолья» вдохновил писателя на создание новой
книги с теми же героями, но более широким размахом повество­
вания. По сути это была новая эпопея: о русской христианской
душе.
Так родилось «Лето Господне». Название книги взято из Биб­
лии, где оно встречается в двух близких, но далеко не одинаковых
контекстах. В Евангелии от Луки (4:18-19) рассказывается, что
Христос вслед за ветхозаветным пророком Исайей видит свою цель
в том, чтобы, «проповедовать лето Господне благоприятное». При
этом под «летом» имеется в виду время спасения человечества.
Однако Христос оборвал своего предшественника на половине
фразы. У Исайи она заканчивается словами: «и день мщения Бога
нашего» (Ис. 61:2). Шмелеву тоже чужда непримиримость Ветхо­
го Завета. Не о зле, а о добре его книга.
Две первые части построены по принципу замыкающегося
календарного круга. Первая открывается описанием начала Вели­
кого Поста, Прощеным Понедельником, и завершается Проще­
ным Воскресеньем. Между этими событиями ровно год. От весны
до весны развиваются действия второй части. И лишь в третьей
круг не завершен: начавшись с мая, время повествования обрыва­
ется зимой, что соответствует атмосфере скорби, пронизывающей
заключительные главы книги.
Такая композиция, с одной стороны, позволила И.Шмелеву
передать важнейшую христианскую идею кругового развития жиз­
ни: люди ежегодно вновь и вновь переживают евангельские собы­
тия. Божий мир стабилен и един, хотя в жизни отдельного чело­
века этот круг разрывается скорбью, смертью.
С другой стороны, избранное писателем композиционное пос­
троение создавало угрозу повторов и разрушения сюжета. Шме­
леву удалось счастливо избежать этой угрозы благодаря тому, что
его герой рассказчик, взрослея на глазах у читателя, открывает в
повторяющихся событиях все новый смысл.
В первой части с характерным названием «Радости» малыш
воспринимает сотворенный Создателем мир, или, как он сам го­
ворит, «Господню благодать».
Как на полотнах И.Машкова и Ф.Малявина, встают перед чи­
тателем картины торговых лавок, товаров. «Стоят короба снетка,
свесила хвост отмягшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с
воткнутой лопаточкой, коробочки с копчужкой. От закусочных
пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в ка­
менных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С
санных полков спускаются пузатые бочки с подсолнечным и чер­
ным маслом, хлюпают-бултыхаются жестянки-маслососы — пош­
ла работа! Стелется вязкий дух — теплым печеным хлебом». «Сай­
104
ки, баранки, сушки... калужские, боровские, жиздринские, — са­
харные, розовые, горчичные, с анисом — с тмином, с сольцой и
маком... переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки... хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с
изюмцем, пеклеванный». «Вот белый налив, — если глядеть на
солнышко, как фонарик! — вот ананасное царское, красное, как
кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровин­
ка, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовка сладкая,
горькая». Не менее живописны описания еды: «За ухою и растегаями — опять и опять блины. Блины с припеком. За ними залив­
ное, опять блины, уже с двойным припеком. За ними осетрина
паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины, с
грибками, с кашей... наважка семивершковая, с белозерским снет­
ком в сухариках, политая грибной сметанкой... блины молочные,
легкие, блинцы с яичками... еще разварная рыба с икрой судачьей,
с поджарочкой... желе апельсиновое, пломбир миндальный — ва­
нилевый...».
Шмелевский герой, открывая мир предметов, в обычной свек­
ле увидит «кроваво красный арбуз», в соленых огурцах — золото.
Даже битые скорлупки от яиц необычны: «розовые, красные, си­
ние, желтые, зеленые ... в луже светятся». Да и сама лужа — чудо:
«в полдвора. ... Вся голубая лужа, и солнце в ней, и мы с Горки­
ным, маленькие, как куколки, и белые штабеля досок, и зеленею­
щие березы сада, и круглые снеговые облачка». Столь же нагляд­
но, осязаемо реально воспринимается капель («за окном, как пла­
чет»), снег («как толченые орехи или халва»), лед («сахар», «золо­
тое и голубое утро»). Чудо, что «запел-зажурчал» чижик зимой.
Чудо, что старая кобыла Кривая сама останавливается там, где
много лет назад останавливалась умершая бабушка. Чудо — воро­
бьи («хочется покачаться с ними»). Даже тараканы-прусаки вызы­
вают интерес ребенка: «С пузика они буренькие и в складочках, а
сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то
белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут, как буд­
то ваксой или сухим горошком».
Юный герой Шмелева ощущает свое родство с миром, всее­
динство людей, зверей, природы — важнейшая особенность рус­
ского национального характера. Церковные праздники воспри­
нимаются им, как и самим писателем, не как исторические вос­
поминания об ушедшем прошлом, а как сегодняшняя жизнь. «Пой­
дет завтра Господь, во Святой Троице, по всей земле. И к нам
зайдет», — внушает мальчику старик Горкин. «Кажется мне, —
подхватывает рассказчик, — что и на нашем дворе Христос. И в
коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном
крестике от моей свечки — пришел Христос. И все для Него, что
105
делаем.... Мне теперь ничего не страшно, потому что везде Хрис­
тос». Бог — живой. Не суровый Бог Ветхого Завета, а добрый и
ласковый русский Бог. Да и сама Троица — «веселый образ. Си­
дят три Святые с посошком под деревцем, а перед ними яблочки
на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то
гости, именины». В праздник Троицы «вся земля именинница».
Вера в то, что Бог всегда рядом, что все от Него, спасает юно­
го героя от страха перед Т-е-м-и («синими», слугами сатаны, чертями-соблазнителями), от еще детской боязни смерти.
Своего рода итогом первой части являются авторские слова, в
которых Шмелев дистанциируется от своего героя и уже с высоты
своих прожитых лет говорит: «Тогда всё и все были со мной свя­
заны, и я был со всеми связан от нищего старичка на кухне, за­
шедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в
темноту со звоном».
Тема всеединства продолжается во второй части книги «Праз­
дники-Радости». Автор по-прежнему не противопоставляет хрис­
тианское и материальное начала (душу и мамону), но настойчи­
во говорит об одухотворении материи. Даже в таком сугубо мир­
ском деле, как соление капусты, писатель видит смысл сокро­
венный, сакральный. Горкин произносит молитву «над солию:
«сам благослови и соль сию и приложи ю в жертву радования...»
Молитву над огурцами. Теперь, — вновь дистанциируется Шме­
лев от описываемого времени, — я знаю душу молитвы этой: это
же — «хлеб насущный»: «Благослови их, Господи, лютую зиму
перебыть... Покров Мой над ними будет». Благословение и Пок­
ров над всем». С другой стороны, и простая верба, «наша верба,
из стариковских санок, с нашего двора, от лужи», попав в Цер­
ковь, «как просветилась-то в огоньках... и вот — свяченая, со
всеми поет «Осанну». Конечно, поет она: ведь теперь все жи­
вое...»
Слово «живое» — своего рода лейтмотив второй части книги.
«Дышит» полынья; о пролетке говорится, что «конечно, она
живая, дышит»; огонь в выдолбленной свекле «малиново-лило­
вый, ж и в о й » (причем автор, дистанциируясь от своего детства,
добавляет: «Вижу живым доселе»). Крендель, подаренный отцу
героя, «живой! — Так все и говорили, что крендель в ж и в о м
румянце, будто он радуется и дышит — и особенно ласковом об­
хождении отца с гостями».
В последних словах этой фразы — ключ к шмелевскому по­
ниманию живой жизни. Живыми вещи и явления природы дела­
ются только в том случае, когда с ними соприкасаются хорошие
люди.
Беглые портреты окружающих мальчика людей давались авто­
106
ром уже в первой трети книги. Во второй и частично в последней
характеры взрослых раскрылись во всей полноте, обусловливая
формирование внутреннего мира ребенка.
Важнейшая роль в книге принадлежит отцу рассказчика Сер­
гею Ивановичу. Подрядчик, нанимающий сотни рабочих, он их
«без путя не балует, под горячую руку и крепким словом ожгет,
да тут же и отойдет, никогда не забудет, если кого сгоряча оби­
дел». Он заботится о еде работников, не стыдится сам вместе с
ними до пота работать (глава «Ледоколье»). Именно такое ува­
жительное отношение к людям делает его всеобщим любимцем,
истинным христианином. Не случайно мастёровые на именины
дарят ему огромный калач с надписью «Хозяину благому» —
выражение, употребляемое в церковном лексиконе применитель­
но к Богу. Чтобы усилить именно этот символический смысл
подарка, Шмелев рассказывает, что в Казанской церкви в нару­
шение всех правил ударили в честь калача и именинника в ко­
локола.
В характере Сергея Ивановича сочетается деловитость с бес­
корыстием, удаль с христианским смирением. Вынужденный во
имя семьи вечно думать о подрядах, заработках, не раз показан­
ный со счетами, в деловых разговорах, Сергей Иванович тайком
(не для славы) платит пенсии работавшим у него долго старикам,
угощает нищих и неимущих, жертвует еду в богадельню. Не ради
заработка, а из уважения к национальной святыне берет он под­
ряд на строительство трибун к открытию памятника Пушкину.
Себе в убыток строит в Москве ледяной дом по образцу описан­
ного в романе И.Лажечникова: не из тщеславия, а из детского
интереса и желания выказать русскую смекалку и сноровку, до­
ставить радость себе и людям. О нем «все говорят, красивее лов­
чее всех: «Огонь, прямо., на сто делов один, а поспевает». А сам
он всему этому предпочел бы возиться в саду, зажигать в доме
лампадки, напевая свое любимое «Кресте Твоему поклоняемся,
Владыко... и Святое Воскре-се-ние Твое... сла-а-а-вим».
Автор не ограничивается описанием внутренней красоты это­
го человека, но постоянно подчеркивает и его внешнюю красоту,
в том числе и русскую щеголеватость в одежде; идущий от него
запах флердоранжа, смешивающийся с запахом лошади, стружек,
свежести; походку; умение держаться в седле.
Еще более многогранно выписан Шмелевым образ старшего
приказчика Василия Васильевича Косого.
Рыжий, часто всклокоченный, он питает слабость к горячи­
тельным напиткам, «ублаготворяется» до потери сознания, и по­
тому частенько попадает в сложные положения. Но все его пос­
тупки от широты души. И тогда, когда катался с горки, перевер­
107
нул сани, забыл про мешок с выручкой. И тогда, когда от любви к
хозяину обманул звонаря у Казанской, и тот колокольным звоном
почтил калач. И тогда, когда «пересидел» немца в ледяной прору­
би. И тогда, когда подхватил тяжеленную хоругвь у занемогшего
человека. Шмелев не раз показывает, что Василий Васильевич,
пользующийся безграничным доверием хозяина, не присвоил ни
копейки. Он — мастер милостью Божьей, и потому уважает таких
же, как он сам, работяг, «с народом по правде поступает», но не
жалует неумех-смутьянов. Характер Косого предельно полно вы­
ражен в сцене покаяния за обман звонаря. Огромный Василий
Васильевич «будто дите заплакал ... А преосвященный и говорит,
будто про себя: — И в этом — все». Эпизод этот настолько значим
для понимания русского национального характера, что Шмелев
счел нужным прокомментировать слова архиерея с высоты своих
прожитых после этого события лет: «Теперь я знаю: в этом детс­
ком плаче Василь Василича, медведя видом, было и сознание сла­
бости греховной, и сокрушение, и радостное умиление, и дет­
скость души его, таившейся за рыжими вихрами, за вспухшими
глазами». Именно такому размашисто бескорыстному человеку
поручил свою семью умирающий Сергей Иванович./«Вот перед
Истинным говорю, — поклялся тогда Косой, — буду служить, как
Сергей Иванычу покойному, поколь делов не устроим. А там хошь
и прогоните». «И слово свое сдержал», — лаконично прокоммен­
тировал автор эту речь.
Сергей Иванович, Василий Васильевич при всей разнице их
социальных положений, индивидуальностей являют единый на­
циональный тип русского человека-христианина.
Их типичность подчеркнута введением в книгу десятков пер­
сонажей из народа, как и главные герои, наделенных широкой
душой и щедрым сердцем.
При этом писатель не скрывает, что многие из них подвер­
жены национальному недугу: отравляют себе жизнь пьянством.
Но главное для Шмелева не это, а то лучшее, что несет в себе
человек. Талантлив и совестлив рыбак Денис, признанный зна­
ток реки, с риском для жизни поймавший сорванные половодь­
ем барки. Виртуозно укрепляет на луковке церкви щит подвы­
пивший Ганька-маляр. Удивляет своим искусством повар Гаранька. Не хуже Шаляпина поет протодьякон Примагентов, от звука
голоса которого сотрясаются и лопаются стекла в окнах. На мгно­
вение входят в повествование солдат-инвалид Махоров, Петькагармонист, банные мойщики и прачки или молодой пастух Ваня,
от игры которого на рожке сердце заходится. Не раз покажет
писатель, как участие в церковных праздниках преображает этих
людей, дает им подлинное счастье. «Грязные у них руки, а лица
108
добрые, радостно смотрят на хоругви, будто даже с мольбой взи­
рают», — осмысляет свои впечатления ребенок-рассказчик.
Даже ссорящиеся «разные», даже обнищавший Подбитый Ба­
рин Энтальцев с его хвастовством вызывают у автора и его героя
сочувствие и любовь, смягченные легким юмором. Все они «птицы
небесные, создание Творца».
Тем более дороги писателю народные праведники, галерею
которых в системе образов книги открывает уже знакомый чита­
телю по «Богомолью» Михаил Горкин. Он — «сама правда», «че­
ловек старинный, заповедный», «сиянье от него идет», как от
святого. Сохраняя в своем описании главное, что уже было ска­
зано об этом старике в «Богомолье», Шмелев конкретизирует
характер Горкина, делает его объемнее. Преданность вере, церк­
ви, подчеркивает писатель, не превратила Горкина в сурового
аскета, нетерпимого фанатика. Напротив, Горкин мягок, у его
глаз «светятся лучики-морщинки». Он склонен к шутке, но шут­
ке незлобивой. Полна мягкого юмора глава «Круг царя Соломо­
на», где старик читает вовсе не то, что выпало на листе гадающе­
му, а то, что поддержит этого человека или поможет исправить­
ся. Сам трезвенник, Горкин заступается за пьяницу Дениса, что
не мешает ему и поучать того же Дениса. Сорок седьмой год он
живет при доме, помог оставшемуся рано без отца Сергею Ива­
новичу справиться с делом, поможет и осиротевшей со смертью
Сергея Ивановича семье хозяина. Посылаемый с самыми ответ­
ственными поручениями, чудо-мастер, Горкин по-детски увле­
ченно гоняет голубей, готов сооружать снежную бабу. Его жур­
чащая окающая речь, полная пословиц, прибауток, поговорок то
вразумляет героя, то утешает, то придает сил. Горкин бескорыс­
тен: не продал за большие деньги баночку зеленого стекла, свою
ценную икону собирается «отказать» (завещать) мальчику. Чело­
век небогатый, он, как и Сергей Иванович, тратит немалые день­
ги, чтобы в свои именины выставить угощение нищим и убогим.
Типичность такого характера для России подчеркнута введе­
нием в книгу эпизодических персонажей других праведников,
таких, как лесник Михаил Иванович с женой, продавец птиц
«без барышей», а лишь от большой любви к птичьему пению
Солодовкин, садовод Андрей Максимович, безымянный старикцветовод, полублаженный странник во имя Божье Клавдий Квас­
ников. Порой одноабзацный рассказ о каком-нибудь человеке
вырастает в микроновеллу. Банщик Акимыч, пишет, например,
Шмелев, «получает за баню выручку, а одним глазом читает толс­
тую книгу — «Добро-то-любие». ... Про Акимыча говорят, будто
он по ночам сапоги тачает и продает в лавку, а выручку за них —
раздает. Бьш он раньше богач, держал в деревне трактир, да беда
109
случилась: сгорел трактир, и сын-помощник заживо сгорел. Он
пошел в люди, и так смирился, что не узнать Акимыча».
«Живая вода» — назвал писатель главу, рассказывающую о
посещении Сергеем Ивановичем с сыном бани. Но заголовок этот
имеет и иной смысл. Не столько от воды, сколько от доброты
человеческой, от душевности и любви окружающих его людей из
народа почувствовал себя здоровым отец героя.
И напротив, глава «Ледяной дом» несет в себе не только пря­
мой смысл рассказа о строительстве чудесного сооружения, а
передает противоположную Господней атмосферу быта «живог­
лота» купца Кашина. Крестный мальчика и кредитор его отца,
Кашин, как и дядя Егор, и мать Егора Надежда Тимофеевна,
утратили русскую духовность, стали дельцами. Им не понять ра­
дость освобождения героями из клеток птиц, не понять беско­
рыстия Сергея Ивановича. Они лишь формально ходят в цер­
ковь, но не испытывают потребности приобщения к Богу, к веч­
ному, иронизируют над верой. Символично, что именно после
богохульств Кашин и Егор проиграли в карты крупную сумму
денег — единственное, что могло их взволновать и стать своего
рода наказанием. Правда, и в повествовании о чуждых ему лю­
дях Шмелев остается предан христианской вере в раскаяние и
воскресение грешника, рассказывая, как праведная смерть Сер­
гея Ивановича заставила и «живоглотов» признать, что есть вы­
сшая правда на земле.
На протяжении всей второй части книги писатель показыва­
ет, как общение с отцом, Горкиным, Косым, народом и даже с
крестным, его сыном и дядей Егором формирует в герое христи­
анское отношение к людям. Мальчик понимает, что, плюнув в
охальника Гришу, он не восстановил справедливость, а согре­
шил. Ведь за каждым ангелы стоят, каждый человек «образ-по­
добие» Бога. И герой в одном случае извиняется перед Гришей,
в другом — говорит ему в ответ на циничную фразу мягкие сло­
ва, чем, к своему удивлению, хоть и на минуту вызывает смяте­
ние грешника. В другом эпизоде ребенок-повествователь глубо­
ко проникается драмой Дениса и, когда тот от отчаяния отдает
ему свой талисман успеха — огромного рака, возвращает пода­
рок, и тем вселяет в душу обезверившегося человека надежду на
счастливый исход его судьбы.
Именно во второй части показано начало формирования у ге­
роя понятия жизни-крестного хода, или — другими словами —
радость жизни осложняется раздумьями о смерти.
Третья часть «Скорби» довершает эти раздумья.
Вновь, как и в «Богомолье», появляется мотив «Трудов пуды,
а она туды». Загадочные слова вскоре умершей Пелагеи Иванов­
110
ны о себе («Пора и на паре, с песнями!») и племяннике («Горя­
чая голова... остынет»), вещие сны Горкина и Сергея Иванови­
ча, пропажа самовара, незаселенные скворечники (птицы почу­
яли грядущую «пустоту»), вой собаки, невероятное цветение сада
и ядовитого «змеиного цвета», гибель голубей — все служит про­
видческим предзнаменованием смерти, еще одним подтвержде­
нием единства человека и природы и, может быть, дополнитель­
ным доказательством святости любимых героев автора: Бог дает
только праведникам возможность почувствовать приближение
смертного часа.
Писателю христианской культуры Шмелеву важно художес­
твенно передать мысль Символа Веры о неизбежности воскресе­
ния и вечной жизни.
Еще во второй части (глава «Крестопоклонная») Горкин вну­
шает ребенку мысль, что «нету упокойников никаких, а все жи­
вые у Господа», приводит начальные слова тропаря Вербного
Воскресения («Общее воскресение прежде Твоея страсти уве­
ряя...»), имеющее следующее, хорошо известное христианским
читателям Шмелева, продолжение: «Из мертвых воздвиг еси Ла­
заря, Христе Божий». Тема воскрешения Лазаря — не только
важнейшая в православных преданиях, но и весьма распростра­
ненная в русской литературе. Достаточно вспомнить произведе­
ния Ф.Достоевского.
Но одно дело для ребенка понять христианскую истину умом,
другое — столкнуться со смертью на практике.
Сложность решения темы заставила И.Шмелева чаще, чем в
двух первых частях, прибегать в третьей к принципу дистанциирования: то, что ребенок воспринимает эмоционально и потому
однозначно, старый писатель видит по-мудрому многосторонне.
Для мальчика смерть отца — трагедия. Радостное веселое вос­
приятие жизни померкло. Шмелев подчеркивает это, вводя в гла­
вы третьей части те же самые церковные праздники и сопровож­
дающие их мирские события, что были в первых двух частях. Гла­
вам «Горькие дни» и «Соборование» соответствуют в первых час­
тях «Яблочный Спас» и «Покров». Но теперь ни яблоки, ни засол­
ка капусты при почти полном совпадении деталей не вызывают
радости. Ожидание смерти подавило все. Не может ребенок-рас­
сказчик смириться с потерей отца. И потому психологически впол­
не оправданны и его ожидание чуда, и протест, когда чуда не
случилось. Иное дело воспоминания прожившего долгую жизнь
автора об этом же событии: «Все мы расстроены, места не нахо­
дим, кричим и злимся, не можем удержаться, — «горячи очень»,
все говорят. О т о непосредственное восприятие мальчика — В.А>
Я тоже много грешил <выделено нами — В.А> тогда, даже крик­
111
нул <Шмелев меняет формы глаголов: с настоящего времени на
прошедшее, тем самым дистанциируясь от детства и вынося более
скорректированную оценку описываемого — В.А.У Горкину, то­
пая: — Все сирот жалеют!.. О.Виктор сказал... нет, благочинный!..
«На сирот каждое сердце умягчается». Папашенька помирает...
почему Бог нас не пожалеет, чуда не сотворит?!..»
Писатель не ограничивается тем, что суть этого греха ребенку
объяснил Горкин, но выстраивает чрезвычайно сложную компо­
зицию заключительных глав и событий, приводящую к желаемо­
му христианскому итогу.
Три первых главы третьей части «Святая радость», «Живая
вода» и «Москва» подводят итог двум предшествующим частям:
прекрасна земная жизнь, в которой высшую ценность составля­
ет взаимная любовь людей и чувство родины. Пожалуй, нет в
литературе XX века столь проникновенного описания русской
столицы, первопрестольной, как в главе «Москва». Не случайно
автор вводит в нее стихи Ф.Глинки и А.Пушкина. События трех
названных глав, повествующих о временном выздоровлении Сер­
гея Ивановича, служат живым подтверждением слов Горкина о
том, что «бывает <Божье> милосердие от смерти к жизни». Но
тут же мудрый старик говорит, что «еще бывает милосердие к
праведной кончине». И слова эти, как и вся глава «Серебряный
сундучок», где они произнесены, подготавливает переход к дра­
матической части повествования.
Характерно, что в авторской речи ни разу не употребляется
слово «умирать». Сергей Иванович «готовится уходить», «отхо­
дит», «благословляет остающихся» (глава «Благословение детей»).
Он просит прощения у Бога (глава «Соборование»), что, как и
само святое действо, предполагает или возвращение к жизни, или
уход Туда. Над постелью умирающего читают отходную. Да и сама
его смерть — лишь кончина земного бытия. «Господи, неужели
у м и р а е т?.. вот сейчас, т а м?.. И скорбный, будто умоляющий
голос батюшки ... говорит мне: о т х о д и т » . В той детской жизни
победила естественная привязанность к отцу: герой впал в горяч­
ку, хотя разумом и понял слова Горкина, что Там все встретятся.
В отдаленном времени писатель Шмелев утешается словами Анны
Ивановны о том, что и можжевельник, устлавший последний путь
отца, и душа человеческая бессмертны.
Настойчиво подчеркивается писателем и мысль о единстве
отошедших и живых. Сергей Иванович «ушел» к не раз упоми­
наемой и сохраненной в памяти многих бабушке Устинье, к сво­
ему отцу. Сыну Ивану он передал фамильную икону Пресвятой
Троицы. «Радостный образ-те, — говорит о ней Горкин, — три
лика под древом, и веселые перед ними яблочки. А в какой день112
то твое благословение выдалось... на самый наД ень Ангела, ка­
сатик! Так папашенька подгадал, а ты вникай». Передача образа
сыну подразумевает и заповедь той праведной по-христиански
веселой жизни, которую вел сам отец. И действительно, в главе
«Кончина» мальчик проявляет отцовское благорасположение к
людям, когда стыдится злых слов сестры о «правильном, совес­
тливом человеке» Пал Ермолаиче, когда он извиняется перед
стариком, что того не напоили чаем, а в ответ слышит от рас­
троганного старика: «А ты, заботливый какой, ласковый, суда­
рик... в папашеньку». Земная жизнь, по Шмелеву, продолжается
в детях.
«Всегда он во мне живой?! И будет всегда со мной, только я
захочу увидеть». Эти размышления ребенка подхватывает и сам
автор, варьируя их во всех частях книги. «Вот и вспомнил. И
все-то они ушли» (глава «Пасха»). «Думал ли я, что все они ко
мне вернутся, через много лет из далей... совсем живые, до голо­
сов, до вздохов, до слезинок, — и я приникну к ним и погру­
щу!..» (подглавка «Обед «для разных»), «Слышу и вижу быль,
такую покойную, родную, омоленную душою русской, храни­
мую святым Покровом» (глава «Покров»). По сути дела вся кни­
га Шмелева — доказательство единства прошлого, настоящего и
будущего. Будущего — потому, что нет уже давно Шмелева и
описываемой им Руси, но живет она в сердцах читателей, храни­
мая Богом и Ангелами.
Мотив ангелов-заступников столь важен писателю, что он на­
стойчиво подчеркивает, что благословение детей совершено в
именины наследника Сергея Ивановича. Отец как бы поручил
мальчика его Ангелу. Сам он отошел на другой день своего Анге­
ла, который и позаботится о его душе. А день похорон совпал с
именинами его жены — и Ангелу предстоит утешить вдову, по­
мочь ей жить дальше. Именно этот христианский мотив надежды
на Бога и святых, мотив, удачно соединяющийся с русским опти­
мизмом, и завершает книгу. Закончилось детство героя. «Это пос­
леднее прощание, прощание с родным домом, со всем, что б ы л о».
Ничего не видно из-за дождя, но слышно, как поют «Вечную па­
мять, вечную», да слова молитвы:
...Свя-ты-ый... Бес-сме-э-эртный...
По-ми..... и....... луй...
на.... а.... ас...».
В «Богомолье» и особенно «Лете Господнем» в полную меру
проявился талант Шмелева — художника слова. Выше уже приво­
дились замечательные шмелевские описания-перечни лавок, еды,
явлений природы, людей. В них — неповторимый колорит начала
XX века.
113
Не менее красочен писатель при передаче языка своих пер­
сонажей. Люди из народа много и охотно употребляют послови­
цы, поговорки, прибаутки, часто связанные с религиозными поня­
тиями, обрядами и приметами: «У Бога всего много»; «Пришел
пост — отгрыз у волка хвост»; «Перелом поста — щука ходит без
хвоста»; «Подошли Спасы — готовь запасы». «Варвара-Савва —
мостит, Никола — гвоздит». И персонажи, и рассказчик умеют
найти яркие, порой грубоватые определения тех или иных дейст­
вий, предметов: яблоко маслится; женщина толстая и сырая;
лошадей тпрукают; на санках рухают с гор; открываемые пробки
попукивают; едоки чавкают, хрупают; место на реке для стирки
белья — портомойня (от слова «портки»).
Шмелев донес до современного читателя подробности калядования, катаний с гор, «в блина игры», состязаний купающихся
в проруби. В «Лете Господнем» множество песен: от озорных драз­
нилок до старинных похоронных, от пастушьих до городских ме­
щанских романсов.
Особый пласт составляет церковная лексика. В обоих книгах
приводятся цитаты из Евангелий, тропарей, псалмов, молитв. С
одной стороны, это придает повествованию возвышенно духов­
ное содержание. Но с другой, Шмелев настолько тесно соединяет
старославянизмы с бытовой лексикой, что избегает какой бы то
ни было велеречивости. Можно сказать, что сакральное у него
обытовлено, а быт одухотворен.
«Лето Господне» завершено писателем в 1944 году. После это­
го Шмелев опубликовал большой роман «Пути небесные», из­
лишне сентиментальный и, по единодушному мнению критики,
уступающий его более ранним книгам.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ш мелев И. Солнце мертвых. — М .: С к и ф ы , 1991.
О тдельное издание опубликованной впервые на родине в журнале «Вол­
га» (1989, № № 11-12) трагической эп о п еи писателя. К н и га заверш ается
послесловием М .С м ирновой «И ван Сергеевич Ш м елев. М олитвы о Рос­
сии» (с. 179-205), подробно характеризующей пребы вание писателя в Крыму
(1918-1922) и его творчество в эм играции. И меются м ногочисленны е ссылки
на труднодоступны е издания.
Ш мелев И .С . Избранное. — М .: П равда, 1989.
П ервое м ассовое издание на роди н е, вк лю чивш ее в себя р о м ан «Лето
Господне». К н и га предваряется статьей О .Н .М и х ай л о ва «И ван Ш м елев»,
п рослеж иваю щ ей творческий путь писателя. И м еется к о м м ен тари й Е Л ю би м о во й к «Лету Господню».
Ш мелев И .С . Сочинения в 2 т. / Вступ. ст., подгот. текста и к ом м ен т.
О .Н .М и х ай л ова. — М.: Худож. л и т., 1989.
114
Том 2 вклю чает в себя главны е к н и ги писателя: «Богомолье» и «Лето
Господне», а такж е р асск азы и др. п роизведения.
Ш мелев К С . Пути небесные. — М., 1991.
Адамович Г. Шмелев / / А дамович Г. О диночество и свобода: л и те р а ­
турн о -кр и ти чески е статьи .- С П б.: Logos, 1993. — С. 37-45.
Автор статьи, и зв е стн ы й к р и ти к русского зарубеж ья, отдавая д ан ь
у в а ж е н и я таланту п и с а т е л я , п о л е м и ч е с к и р ас см ат р и в ае т т в о р ч е ств о
И .Ш м елева как идеал и зац и ю прош лого. К ритически о ц ен ен р ом ан «Пути
небесны е» (1937-1948, не закончен).
Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бу­
нин. Ремизов. Шмелев. — М .: С к и ф ы , 1991. — С. 13 7 - 195.
К н и га вы даю щ егося русского п р авосл авн ого ф и л о со ф а — лучш ее
исследование творчества И .С .Ш м ел ева к ак с идейны х, так и с эстети ч ес­
ких п ози ц и й. В отл и ч и е от Г.А дамовича к р и ти к считает, что п и сатель не
идеализирует старую Р осси ю , а постигает ее нравствен н о е величие.
Есаулов И. Праздники. Радости. Скорби: Литература русского зару­
бежья как завершение традиции / / Н овы й м ир. — 1992. — № 10. — С. 232242.
Статья построена н а сопоставлении худож ественного м и р а И .С .Ш м е лева, рассм атриваем ого автором к ак продолж ателя русской духовной тр а­
ди ц и и в литературе, и В .Н абокова, по м н ен и ю И .Е саулова, р азр у ш аю ­
щ его эту традицию .
Кутырина Ю .А. Иван Сергеевич Шмелев. — П ариж , 1960.
В осп о м и н ан и я р о д ств ен н и ц ы и д у ш еп ри казч иц ы И .С .Ш м ел ева. С о ­
держ ится м ного ф а к то в б и ограф и и писателя, его вы ск азы ван и й . О тр ы ­
вок из кн и ги о к р ы м с к о й ж и зн и писателя «Т рагедия Ш м елева» см.: С л о ­
во. - 1991. - № 2. - С. 63-66.
Сорокина О. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. — М.:
М оек, рабочий — С к и ф ы , 1994.
П еревод за щ и щ е н н о й в 1965 году в С Ш А и и зд ан н о й в 1987 году
диссертац и и засл уж ен н ого п роф ессора К ал и ф о р н и й ск о го ун и вер си тета
(Б еркли) в отставке О льги Н и кол аевн ы С ороки н ой .
У ченая исп ол ьзовала м атериалы архива Ш м елева, н ах о д и вш и еся в
свое врем я у его ро д ств ен н и ц ы Ю .А .К уты риной, а такж е со б р ан и я д о к у ­
м ентов К о лум бийского и М ич и ган ского университетов С Ш А и л и ч н ы х
архивов близких к пи сателю лю дей. И м ен н о это делает к н и гу б е сц е н н о й
дл я изучения б и о гр аф и и писателя. О соб ен н о п одроб но о п и сан э м и гр а н ­
тски й период ж и зн и худож ника.
Зн ачи тельно слабее ан ал и ти ческая часть исследован и я.
Черников А.П. Проза И.С.Шмелева: концепция мира и человека. —
Калуга, 1995.
В своей до к у м ен тал ьн о й части к н и га уступает преды дущ ей, н о со ­
держ ит более глубоки й ан ал и з творчества писателя. О со б ен н о удались
автору главы, п о св я щ ен н ы е анализу «Ч еловека и з ресторана» и «Б о го ­
молья». П одробно п ер еск азан ром ан «П ути небесны е».
Особую ц ен н о сть представляет сп и со к литературы о ж и зн и и тв о р ­
честве И .С .Ш м ел ева, вклю чаю щ и й в себя к ак отечествен н ы е, так и зар у ­
беж ны е и сточн и ки , а такж е н азван и я сб о р н и ко в тези со в и ди ссер тац и й .
115
БОРИС ЗАЙЦЕВ
( 1881 - 1972)
«РУССКИЙ, В ЕРУ Ю Щ И Й , ЛЮ БЯЩ ИЙ»
Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат другу Бориса
Зайцева, разделившему с ним трудные пути послереволюционных
лет, известному русскому писателю Михаилу Осоргину. Отсвет
этой внутренней сущности писателя лег и на его внешность. «Он
был среднего роста, темный шатен с бородкой и небольшими уса­
ми, — вспоминала близко знавшая Бориса Константиновича М.Новикова-Принц. — Продолговатое, несколько иконописное лицо,
зеленовато-серые глаза, темные, как выписанные, брови, изуми­
тельно розовый девичий цвет лица. Лицо сияло добротой, при­
ветливой улыбкой. Порой наплывала задумчивость, шла невиди­
мая работа... В Борисе Контантиновиче было полное отсутствие
приземленное™. Движения неторопливые, во всем облике мяг­
кость, тонкость. Писатель-поэт до мозга костей. Голос тихий.
Порой добрая шутка. В одежде никакой небрежности — всегда
подтянут, аккуратен». Об «иконописном лике» Зайцева, его бла­
гостности, святости говорили все знавшие его люди, от Андрея
Белого до Ирины Одоевцевой.
Борис Константинович Зайцев родился 29 января 1881 года в
день, когда умер Ф.М.Достоевский. Все детство будущего писате­
ля прошло в Центральной России. И эта «серединность», «цен­
тральность», по мнению крупнейшей исследовательницы его твор­
116
чества Е.Воропаевой, определила гармоничность и равновесие его
творчества и личности. Из уважения к отцу-инженеру Зайцев не­
которое время проучился в Московском Императорском техни­
ческом училище и Петербургском Горном институте. Но уже в
1902 году перешел на юридический факультет Московского уни­
верситета, который, правда, тоже не закончил, отдавшись пол­
ностью литературной деятельности. Зато узнал и полюбил Моск­
ву, ставшую героем многих его произведений.
Его первый сборник рассказов вышел в 1906 году в близком к
русским модернистам петербургском издательстве «Шиповник». За­
тем последовали второй (1909), третий (1911), четвертый (1914) —
всего шесть, роман «Дальний край» (1913). В 1916-1919 годы мос­
ковским Книгоиздательством писателей было выпущено семитом­
ное Собрание сочинений Зайцева.
Позднее в биографической статье «О себе» писатель так оха­
рактеризовал свой путь: «Я начал с импрессионизма. ... Могу так
определить раннее свое писание: чисто поэтическая стихия, из­
бравшая формой не стихи, а прозу (поэтому и проза проникнута
духом музыки. В то время меня нередко называли в печати «поэ­
том прозы»). Это основное, «природное», «свое». К лучшим рас­
сказам этого направления относятся «В дороге» и «Священник
Кронид».
В дальнейшем, по словам писателя, он стремился «несколько
расшириться, ввести в круг писания своего не только природу,
стихию, но и человека — первые попытки психологии (но всегда
с перевесом поэзии). Отходит полная бессюжетность. Вместо ран­
него пантеизма начинают проступать мотивы религиозные — до­
вольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») — все же в христиан­
ском духе». В этом признании следует обратить внимание на два
момента. Во-первых, писатель в отличие от многих своих буду­
щих исследователей не исключает импрессионизма как важней­
шей особенности всего своего творчества, а лишь говорит о рас­
ширении арсенала художественных средств. Во-вторых, отмеча­
ет возрастание интереса к христианству. Семья Зайцевых была
если не атеистической, то довольно индифферентной к вопро­
сам религии. Интерес к христианству возник у писателя не сра­
зу, но, возникнув, стал неотъемлемой особенностью его миро­
воззрения.
1917-1922 годы были для Зайцева, по его словам, «годами тра­
гедий». В Февральскую революцию был убит его племянник Юрий
Буйневич (на его смерть писатель создал эпитафию «Призраки»),
Через два года умер отец. Чекистами был арестован и расстрелян
его пасынок Алеша Смирнов. Попал в застенки Лубянки и сам
писатель: власть не могла простить ему, М.Осоргину и ряду дру­
117
гих деятелей культуры, что созданный ими Помгол (организация
помощи голодающим) оказался могущественнее советских орга­
нов. В довершение всего в начале 1922 года Зайцев чуть не умер
от сыпного тифа.
В июле 1922 года писатель с верным другом женой Верой Алек­
сеевной выехал за границу. Жили сначала в Берлине, затем в Ита­
лии, с 1924 года — в Париже. Супруги много путешествовали, в
том числе и по монастырям. Они посетили Афон (1927) и Валаам
(1935), принадлежавший тогда Финляндии, откуда последний раз
в жизни взглянули на родную Россию.
Авторитет Бориса Константиновича в литературных кругах
русского зарубежья был чрезвычайно высок. Его приглашали со­
трудничать практически во все издания русской диаспоры. Он
дружил с писателями и деятелями культуры самых разных на­
правлений, часто выступая арбитром в спорах и склоках, на кото­
рые всегда богата эмигрантская среда. С 1947 года и до смерти
Зайцев был Председателем союза русских писателей.
Безупречность его гражданской позиции проявилась в отка­
зе, с одной стороны, хоть как-то сотрудничать в коллаборацио­
нистских журналах, пусть даже изданием нейтральных, чисто ху­
дожественных произведений; с другой — его непримиримостью
к сталинскому режиму. «Победа СССР в 1945 году, — вспомина­
ет близко знавшая Зайцева Зинаида Шаховская, — была для Зай­
цева не русской победой, т.к. не могла послужить возрождению
России и освобождению его народа, и всякое заигрывание или
кокетничанье с советскими властями было для него неприемле­
мо. На этой почве они разошлись с И.Буниным.» В 1968 году
старый писатель подписал протест против ввода советских войск
в Чехословакию.
Мемуаристы единодушно отмечают высокую духовную атмос­
феру, царившую в семье Зайцевых. Через всю жизнь пронес Бо­
рис Константинович любовь к жене, что не помешало ему, по
воспоминаниям той же 3.Шаховской, на своем 85-летии, выслу­
шав панегирик «о безмятежной брачной жизни и серафимической незлобивости юбиляра» «со вкусом попивая красное вино»,
прошептать: «Ну, положим, всякое бывало, нередко с Верой и
ссорились», а затем: «Еще как приходилось сердиться». Тем не
менее восемь лет он ухаживал за ней, как за ребенком, когда ее
разбил паралич. А после ее смерти писатель увековечил память о
ней, опубликовав «Повесть о Вере» и «Другую Веру» — переписку
двух Вер — Зайцевой и Буниной.
Всю жизнь Зайцевы провели в более чем скромных бытовых
условиях и никогда не стремились к их улучшению. И когда писа­
тель попал в роскошную обстановку дома его дочери Наташи,
118
преданной отцу и стремившейся скрасить его одиночество, он
писал литературоведу О.Н.Михайлову: «После кончины жены живу
у дочери в l’Hotel particicular, огромном особняке. Квартал самый
нарядный в Париже (в двух шагах жили покойные Бунины, Ме­
режковский и Гиппиус). Не совсем еще привык к «буржуазнос­
ти». Вся жизнь эмигрантская шла в условиях скромнейших. Пой­
мал себя на некоем внутреннем раздражении: все эти молчаливые
полудворцы вокруг, это не мой мир... «Залетела ворона в высоки
хоромы».
Он продолжал писать. Радовался, когда приходили письма с
родины. С удовольствием принимал советских писателей: и по­
нятного ему К. Паустовского, и более непонятных, молодых.
Умер он в беспамятстве, что-то напевая, 28 января 1972 года.
«Последний человек, знавший живого Чехова», — сказала о нем в
некрологе диктор французского телевидения. Его отпевали в па­
рижском соборе св. Александра Невского. Собралось много наро­
ду. Гроб утопал в цветах.
В 1943 году он с горечью написал: «Ни одному моему слову
отсюда не дано было дойти до Родины. В этом вижу суровый
жребий, Промыслом мне назначенный. Но приемлю его начисто,
ибо верю, что все происходит не напрасно...». Его книги начали
возвращаться с 1989 года, и сегодня вполне доступны широкому
любознательному читателю.
В уже упоминавшейся статье «О себе» Зайцев утверждал: «Все,
что написано более или менее зрелого, написано в эмиграции...
Странным образом революция, которую я всегда остро ненави­
дел, на писании моем отозвалась неплохо. Страдания и потрясе­
ния, ею вызванные, — настойчиво подчеркивал он, -г - не во мне
одном вызвали религиозный подъем. Удивительного в этом нет.
Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Еванге­
лия, Церкви ... Как же человеку не тянуться к свету?»
Среди литературоведов принято выделять два тематических
направления в эмигрантском творчестве писателя. Одно — о про­
шлом (говоря его собственными словами, «Далекое»), окрашен­
ном типично зайцевскими мягкими и светлыми красками. Сюда
относят повести и рассказы о святых («Преподобный Сергий Ра­
донежский», «Алексей Божий человек» и «Сердце Авраамия»),
три биографии русских писателей («Жизнь Тургенева», «Жуков­
ский», «Чехов»). Другое — о современности («Странное путе­
шествие», «Авдотья-смерть», «Анна»). Эти три произведения часто
называют «повестями смертей»: в них действительно погибают
все заглавные лица. Стиль их во многом отличен от привычного
119
для Зайцева: вместо лирических акварелей преобладает густое пись­
мо, жестко выписаны многие характеры. Нет сомнения, что в рас­
сказе о послереволюционной российской действительности отра­
зилось ее активное неприятие автором, увидевшим, как и И.Шме­
лев, в происходящем наказание за грехи.
Вместе с тем, нельзя не заметить общности обоих указанных
тематических циклов и — более Yoro — их преемственности с
дореволюционным творчеством писателя. Все они о России, о
русском национальном характере, который у персонажей Зайцева
всегда проявляется наиболее ярко в любви.
Уже в лучшей из доэмигрантских своей вещи — повести «Го­
лубая звезда» (1918) — писатель нарисовал ряд типов русского
национального характера, прошедших затем через все его твор­
чество. Это, во-первых, люди спокойные, практичные, с ровны­
ми характерами. При всех достоинствах им не хватает духовнос­
ти, устремленности к горнему свету. Таков жених одной из геро­
инь романа Машеньки студент Антон. Такова ее мать Наталья
Григорьевна Вернадская. Похожа на нее и богатая дама Анна
Дмитриевна, хотя в ней уже проявляются и иные черты. При
всей положительности этого типа персонажей писателю ближе
люди «беззаботные», романтические. К ним относится балерина
Лабунская, ее страстный поклонник Ретизанов, умерший не от
раны, а от неразделенной любви. Правда, их романтизм земной,
плотский. Их тоже не интересуют высшие материи, и потому
поступки их часто легкомысленны. Только Маша (Машуля) об­
наружит к концу повести способность соединять в себе земное и
высшее, и тем самым приблизится к любимому Зайцевым типу
героя — герою искателю, воплощенному в образе Алексея Ива­
новича Христофорова, этого современного князя Мышкина. Имя
роднит его с другим героем Достоевского — Алешей Карамазо­
вым, первые буквы фамилии указывают на близость к Иисусу
Христу. В его портрете писатель настойчиво подчеркивает голу­
бые глаза, в поведении детскую непосредственность. Христофо­
ров соединяет в себе любовь ко всему земному, в том числе и
любовь к женщине, и способность иметь «дружественные отно­
шения» со звездами, «будто правда звезды были его личными
знакомыми». Его мысли очень точно передает Маша, говоря, что
образ голубой звезды Веги «есть образ женщины... в высшем
смысле. И что обратно, в некоторых женщинах есть отголосок ее
света». Вместе с тем — и автор особо это подчеркивает — Хрис­
тофоров не религиозный фанатик. Его душа (и это тоже русская
национальная черта) мечется в нелегких поисках синтеза земно­
го и небесного. Он и праведник и мученик одновременно. Эфир­
ная голубизна, заканчивает повесть писатель, «наполняла собой
120
мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы воздуха. Была
близка и бесконечна, видима и неуловима ... В ее божественном
лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность»
(выделено мной — В.А.). В «Голубой звезде» любимый герой
Б.Зайцева не нашел истины. И потому наряду с ощущением бла­
женства ему присуще и осознание своего одиночества, «тайного
горя», как повторяет он слова Анны Дмитриевны.
Одним из первых произведений Зайцева, созданных в эмигра­
ции, стал рассказ «Странное путешествие» (1925), своего рода эпи­
лог к «Голубой звезде».
Читатель вновь встречается с Алексеем Ивановичем Христо­
форовым, совершающим в компании с крестьянином Панкратом
Ильичом и своим учеником Ваней, «леонардовским юношей из
подмосковных мещан», опасное путешествие в Москву. По-преж­
нему Христофоров разговаривает с небом («Там у вас хозяйство
большое», — иронизирует над ним прагматик Панкрат). По-пре­
жнему видит он в голубой Веге «все прекраснейшее, женствен­
ное, что разлито в мире». И Вега для него «облик небесной Девы,
неутоленной любви, благостной силы, мучавшей и дававшей
счастье». По-прежнему не знает он, был ли счастлив, так и не
изведав до конца земной любви. Не случайно автор заставляет
своего героя вновь признаться в одиночестве, в неутоленном «се­
мейном тяготении» к Ване. Но в решительный момент нападения
на их небольшой обоз бандитов Христофоров без всяких сомне­
ний действует по законам христианской любви: отдает свою жизнь
за другого. Финал рассказа не оставляет сомнений в том, что и
Ваня, знавший до этого только земную любовь, о чем он ночью
рассказал учителю, теперь будет жить и по законам неба.
«В юности освобождение — в любви, в женщине. В зрелости в
религии». Эти слова из «Дневника писателя» («Странник») могли
бы стать эпиграфом как к «Странному путешествию», так и к «жи­
тийным» произведениям Зайцева.
Внутренняя борьба, происходившая в душе Христофорова, и
способ ее разрешения едва ли не с абсолютной точностью пов­
торяются в рассказе «Алексей Божий человек». Положив в осно­
ву рассказа проложное житие св. Алексея, Зайцев ввел отсут­
ствующий в первоисточнике мотив любви Алексея к оставлен­
ной им жене Евлалии, любви, пронесенной через всю праведническую жизнь святого. В Алексее, таким образом, тоже происхо­
дит борьба между земной и христианской любовью и победа пос­
ледней нелегко дается герою. Чрезвычайно интересен и образ
Евлалии, сумевшей подняться над телесной любовью и понять
высшую святость любви мужа. Значительную роль играет в рас­
сказе образ прагматика грека Хариакиса, пытавшегося воспиты­
121
вать Алексея в детстве и призывавшего его, уже взрослого, разру­
шить прогнивший мир, «порастрясти всех, кого следует». Алексей
не одобрил насильственного пути улучшения миропорядка. Пи­
сатель же показал, что путь этот привел только к большой резне.
Сперва бедные грабили и убивали богатых, а став хозяевами горо­
да, дали волю гнусным страстям: развратничали и пьянствовали.
Затем пришли правительственные войска, флот: «кровь полилась
рекой спокойной, и обратной». Истина, найденная Алексеем Божь­
им человеком, вполне совпала с истиной его тезки из «Странного
путешествия», с идеалами самого Зайцева: «Простота, любовь, сми­
рение и бедность».
И все же, думается, образ Алексея не во всем соответствовал
представлениям писателя о русском национальном характере. Есть
в нем некий фанатизм, неоднократно подчеркнутое стремление к
крайностям, презрение к живой жизни. Не случайно о его про­
щальном поцелуе перед уходом в день свадьбы от жены говорит­
ся: «поцеловал, точно вонзил кинжал».
Зайцеву было глубоко чуждо представление о русском как
«гримасе, истерии и юродстве». Он даже готов был вступить в
спор с самим Достоевским, ряд героев которого этими качества­
ми обладали. «Ниспровержениям, разинской разнузданности, мо­
ральному кликушеству и эпилепсии» писатель противопоставил
любимую, по его глубокому убеждению, народом «ясность, свет
прозрачный и ровный». Все эти рассуждения читатель найдет в
повести «Преподобный Сергий Радонежский».
Положив в ее основу «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого и фрагмент «Слова о житие великого князя Дмит­
рия Ивановича» (XV век), Зайцев создал не рассказ о жизни свя­
того, а книгу о русском человеке, воплотившем в себе черты
всего народа. Его Сергий лишен экстаза, юродивости. Писатель
подчеркивает, что, оставаясь самим собой, то есть Божьим чело­
веком, Сергий не разорвал с родителями, чтобы не причинить
им боли. «К нему неприменима судьба бегства и разрыва». «Не
его стихия — крайность». Сравнивая Сергия то с Франциском
Ассизским, то с Феодосием Печерским, то с католическими иерар­
хами, Зайцев настойчиво проводит мысль, что, свободно придя
сам к Богу, Сергий хотел, чтобы его ученики и соратники руко­
водствовались совестью, внутренними убеждениями, а не стра­
хом: «он никого не приневоливал». Именно с этих позиций трак­
тует писатель факт ухода преподобного из созданного им монас­
тыря, когда там проявилось малейшее недовольство настояте­
лем. «Сергий победил — просто и тихо, без насилия ... Действо­
вал он тут не как начальник, как святой. И достиг высшего. Еще
вознес, еще освятил облик свой, еще вознес и само православие,
122
предпочтя внешней дисциплине — свободу и любовь». Прови­
нившиеся сами осознали свою ошибку и вину.
Не менее важной национальной чертой своего героя считает
Зайцев сочетание в нем духовного и созидательного начал. «Сер­
гий, — говорится в авторском предисловии к книге, — был не
только созерцатель, но и делатель». И это было «тихое делание»,
где «наряду с дисциплиной душевной огромную роль играл тот
черный труд, без которого погиб бы он сам и монастырь его».
Весьма скупо цитируя текст Епифания, Зайцев тем не менее не­
сколько раз приводит его слова, что работал святой словно «куп­
ленный раб», был абсолютно чужд всякой рисовки. В повесть вклю­
чены эпизоды, рассказывающие о работе игумена на старца Да­
ниила за куски гнилого хлеба (чтобы подчеркнуть бескорыстие и
непритязательность святого, Зайцев даже отступил здесь от пер­
воисточника: у него Даниил дает Сергию минимальную плату от
жадности, сам он есть такой хлеб не будет; у Епифания все иначе:
монах не имеет ничего, кроме этих кусков), о бедной одежде Сер­
гия, о его решительном отказе стать митрополитом. «Он послуш­
ный сын Церкви, — резюмирует свои размышления писатель, —
но не генерал ее. Очарованье православия — не полководец. Свя­
той, но не хранитель догматов».
Мастерски решил Зайцев и проблему реалистического опи­
сания чудес св.Сергия. Оговорившись, что в рассказе Епифания
о творимых старцем чудесах могут быть некоторые преувеличе­
ния (в текст повести не включено упоминание о том, что еще не
родившийся младенец, оказавшись в церкви, трижды прокричал
из утробы матери), писатель тем не менее считает, что духовная
сосредоточенность («непосредственная связь, живая, с Богом»)
позволяет раскрыть необычайное. «Бог тем более поддерживает,
окрыляет, заступается за человека, чем больше устремлен к нему
человек ..., чем выше его духопроводность ... Чудо есть празд­
ник, зажигающий будни, ответ на любовь... Вхождение чудесно­
го в будни наши не говорит о том, что законы буден ложны. Они
лишь не единственны». Всей своей жизнью, утверждает писа­
тель, «постепенным, ясным, внутренне здоровым движением»
пришел Сергий к способности творить чудеса.
Представлениям Зайцева о русском человеке соответствует и
стилистика книги. Писатель отказался от витиеватого языка Епи­
фания, не пошел по пути стилизации «под древность», как это
сделал А.Ремизов. Тем не менее книга несет в себе сказовую
интонацию. С одной стороны, автор не прячется за объектив­
ным повествованием, а напротив подчеркивает свою зависимость
от древнерусского текста, охотно использует его сюжеты, иногда
цитирует особо яркие слова и фразы. С другой, на глазах у чита­
123
теля древний текст истолковывается применительно к реалиям
и представлениям XX века (особенно в заключительных главах).
Зайцев проявляет глубокий историзм мышления, когда говорит
о «мучительном и трудном процессе собирания земель» («Не
очень чистыми руками «собирали» русскую землицу Юрий и
Иван (Калита) Данилычи ... Все на крови!»), о «печальных стра­
ницах Церкви» («Русские показывают себя здесь не лучше гре­
ков, греки в патриарших канцеляриях продают метрополию»).
Писатель не склонен оправдывать предательство, жестокость,
коварство. Свободолюбивые тверяне ему «при поэтическом под­
ходе» ближе москвичей, политиков и торгашей. Но это не ме­
шает ему сказать, что «тверяне взяли ложную линию движения»,
а москвичи «шли большаком русской государственности». Философски-раздумчивый стиль повести поднимается до пафосного ге­
роического звучания в описаниях Куликовской битвы 8 сентября
1380 года.
Отблеск христианского идеала, воплотившегося в Сергие Радо­
нежском, лежит и на произведениях писателя о современности.
Один из самых мрачных и по колориту и по названию рас­
сказов «Авдотья-смерть»' Главная героиня его — полная проти­
воположность шмелевской крестьянке из «Рассказа об одной ста­
рухе». Если там была совестливая русская женщина, то здесь
настырная въедливая баба («из ноздрей огонь»), вырывающая себе
надел. Если шмелевская праведница страдает молча, то Авдотьясмерть «на слово отвечала десятью», на людей «накатывается»,
бесконечно утверждает, что «рыбкой бьется», хотя, как иронич­
но замечает автор, «на рыбку она мало похожа». Наконец, если
шмелевская старуха живет ради семьи, продления рода, то Ав­
дотья-смерть забивает до смерти свою мать, молит Бога избавить
ее от сына. Если добавить сюда ее страшную внешность, опи­
санную с натуралистическими подробностями («белые губы, кос­
тяной оскал с запахом гнили, могилы, блеском глаз полуголод­
ных»), то портрет получится более чем непривлекательным: не­
кое наглое существо, охотно изгаляющееся над слабыми и поба­
ивающееся сильных (Авдотья робеет перед барыней Варварой
Андреевной, сохранившей гордую позу хозяйки). Именно так
воспринимают Авдотью «трезвые» прагматичные люди, пусть даже
принадлежащие к разным лагерям. Только как лишнюю заботу,
от которой надо избавиться, но которая «как домовой кружить
будет» оценивают Авдотью комиссар Лев Головин и кривенький
мужичонка Кузька. «Противная баба, больше ничего», — гово­
рит о ней старая барыня. Но, как уже говорилось, прагматики и
скептики у Зайцева при всей их внешней правоте не являются
носителями высшей истины, им недоступен христианский иде­
124
ал. Вот почему сам автор и романтичная Лиза, подобно святому
Сергию, благословившему обидевшего его и заслуживающего пре­
зрения земледельца, сумели увидеть за отвратительным обликом
Авдотьи и трагедию невоплощенного высшего предназначения.
Зайцев пишет, что даже когда женщина колотила много «жгавшую» «стерву»-мать, была «некая сила, гнездившаяся в поджа­
ром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки верст по
снегам за аршинчиком ситца, краюшкой хлеба для той же «стер­
вы». Она и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипе­
нии жизнь». И стоит пожалеть, что эта сила приобрела столь
уродливый характер, что голод и мрак жизни не дали развиться
Авдотьиной силе в более благородном направлении.
Мастер пейзажа, Зайцев бесследно «растворяет» Авдотью в
метели, этом извечном символе России. Но он не может смирить­
ся, что она бесследно канет, и никому не будет «никаких забот и
никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей». И потому за
абзац до этой грустной финальной фразы скажет о Лизе, моля­
щейся за умерших мать и сына Авдотьи и вдруг увидевшей почти
воочию смерть самой Авдотьи и ее переход в инобытие: «Ложбин­
ка, вся занесенная снегом, и белые вихри и змеи, фигура высокая,
изможженная, с палкой в руке, котомкою за плечами, отчаянно
борется, месит в овраге снег, и в белом, в таком необычном свете
Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то
идут... Господи, заступи и спаси!»
Еще более сложен образ Анны из одноименной повести. Ее
земная любовь разрушена (любимый человек умер), но в ней
начинает пробуждаться сквозь различные страшные напластова­
ния любовь христианская, вера в то, что ее любимого «и нет, и
он есть». «Грозному миру» реальности противостоит нечто иное,
хотя и далекое, и непонятное. В Анне пробуждается и тяга к
действию: она убивает бандита Трушку, видя в нем воплощение
зла.
От целостного образа идеального героя мысль писателя вновь
возвращается к поискам этой цельности реальным человеком.
Анна с ее метаниями, ее легкомысленный возлюбленный Арка­
дий Иванович, всегда смеющаяся беззаботная Леночка по-преж­
нему дороги писателю. Они, а не рассудительные супруги Гайлис, не холодная докторша Мария Михайловна, будут и впредь
привлекать внимание писателя.
Начиная с 30-х годов круг его персонажей пополнится имена­
ми И.А.Тургенева, В.А. Жуковского, А.П.Чехова, в каждом из
которых воплотится частица русской души, каждый пройдет путь
искания истины. С этого времени и до самой кончины Зайцев
•будет стремиться рассказать и о «собственных исканиях цели жиз­
125
ненной, сомнениях религиозных и пути приближения к Истине»
(«О себе»). Так возникнут три его биографических романа о писа­
телях и тетралогия «Путешествие Глеба».
Историко-биографическая проза привлекала внимание мно­
гих русских писателей 20-30-х годов. Крупными литературными
событиями стали «Разин Степан» А.Чаплыгина, «Петр Первый»
А.Толстого, «Смерть Вазир Мухтара» Ю.Тынянова, «Радищев»
О.Форш и ряд других биографических книг. Однако в отличие
от советских авторов, сосредоточивавших свое внимание на ис­
торических событиях, показывавших с разной степенью талан­
тливости взаимосвязь социальной жизни народа и личности,
Зайцев интересуется только внутренней эволюцией описывае­
мых им персонажей, почти не касаясь исторических событий.
Так в романе о Тургеневе минимально рассказывается о Фран­
цузских революциях, о той идеологической борьбе в России, сви­
детелем и участником которой был автор «Отцов и детей». В
повести «Жуковский» предельно краток рассказ о событиях на­
чала XIX века, во многом определивших судьбы мира, страны и
в значительной мере самого поэта. В отличие от советских лите­
ратуроведов, Зайцева и в Чехове интересовала не его обществен­
но-политическая позиция на рубеже веков, а нравственные ис­
кания Чехова-художника.
«События истории — мимо», «внутренняя жизнь шла своими
особыми путями», «нет в этой жизни событий, но она замечатель­
на», «отдых был более внутренний, чем внешний» — подобные
этим высказывания достаточно часто повторяются во всех трех
повестях.
Да и выбор имен глубоко симптоматичен. Все три писателя,
подобно самому Зайцеву, не вели громкой общественно-поли­
тической деятельности, были склонны к самоуглублению, меди­
тации, интересовались вечными проблемами, пользовались мяг­
кими полутонами, а их личная жизнь была хотя и не богата внеш­
ними событиями, но внутренне складывалась более чем драма­
тично.
Наиболее сложные фигуры — Тургенев и Чехов. Как и в вы­
мышленных героях, писателя привлекает в этих людях их спо­
собность к любви. Перед читателем проходит целая вереница
возлюбленных Ивана Сергеевича Тургенева: от крепостных де­
вушек до графини Ламберт и баронессы Вревской. Особое место
уделено Полине Виардо и Марии Гавриловне Савиной. Доста­
точно подробно рассказано и об отношениях Антона Павловича
Чехова с Ликой Мизиновой, писательницей Лидией Алексеев­
ной Авиловой, актрисой и женой писателя Ольгой Леонардов­
ной Книппер. Но любовь эротическая, как это всегда происхо­
126
дит в книгах Зайцева, порождает нечто высшее как в быту, так и
в творчестве его персонажей-писателей. В Тургеневе подчерки­
вается его доброта, полное отсутствие озлобленности, недобро­
желательности; в Чехове — его человеколюбие (тут и поездка на
Сахалин, чтобы облегчить жизнь каторжников, вину перед кото­
рыми, как подчеркивает Зайцев, Чехов не хочет списывать толь­
ко на общество, а берет и на себя; тут и готовность приходить на
помощь всякому нуждающемуся, от близкого друга Левитана до
молодого автора — самого Зайцева, принесшего Чехову свою ру­
копись). «Он твердо стоял на том, — пишет Зайцев о Тургеневе,
— что в глазах любимой женщины есть нечто сверхчувственное
... Отказаться от предельного взгляда на любовь значило бы для
него отказаться от себя и от своего писания. Он не только счи­
тал, что видит Божество в глазах любимой, но полагал, что лю­
бовь вообще расплавляет человека, как бы изливает его из при­
вычных форм, заставляет забыть о себе — «выводит» из личнос­
ти (соединяя с бесконечным)». Вот почему в тургеневских «За­
писках охотника» Зайцев увидел в первую очередь не «разобла­
чение крепостного права», как до сегодняшнего дня пишут школь­
ные учебники, а гимн русским людям, их таланту, песнь о кра­
соте русской природы. Весьма холодно оценив «Отцов и детей»,
«Новь» и некоторые другие «гремевшие» произведения Тургене­
ва, автор повести говорит о красоте и духовном богатстве турге­
невских женщин. Зайцева привлекают «некрасивые и смирен­
ные» герои чеховской «Степи», «Мужиков», «Дяди Вани», на­
иболее близкие к его собственному представлению о русском
человеке. Напротив, всякого рода революционеры, вторгающие­
ся в жизнь его героев или в их книги, вызывают у писателя ак­
тивную неприязнь. Таковы, например, абзацы, рассказывающие
о мимолетной встрече Тургенева с «чрезвычайным комиссаром»
Французской Республики или о знакомстве Чехова с Горьким.
Не скрывая от читателя нерелигиозности своих персонажей,
Зайцев тем не менее настаивает, что им обоим было присуще не­
осознанное «мистическое прозрение». Им открывалось нечто, о чем
разумными словами сказать не умели. «Это был несознанный свет
высшего мира, Царства Божия, которое «внутрь вас есть». Вот по­
чему в центре его внимания те произведения писателей, которые
затрагивают экзистенциальные темы смерти и жизни, Провидения
и случая. У Тургенева это «Призраки», «Часы», «Сон», «Рассказ
отца Алексея», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич»
(«После смерти»). У Чехова — «Степь», «Студент», «Дуэль», «Му­
жики», «В овраге», «Архиерей», где русские персонажи осознают,
по мнению Зайцева, свою связь с евангельским миром, а действие
как бы переносится в Самарию или Галилею.
127
С другой стороны, ни Тургенев, ни Чехов не сумели, по мне­
нию Зайцева, преодолеть своей раздвоенности, сознательно прий­
ти к пониманию высшего бытия. Наказанием им за это стало оди­
ночество, неудовлетворенная тоска о любви. В большей степе­
ни это относится к Тургеневу, в портрете которого у Зайцева до­
статочно часто сквозит прямое неодобрение. Скромный и мягкий
Чехов ближе к идеалу писателя. Но подлинным жизненным во­
площением этого идеала стал для Зайцева Василий Андреевич
Жуковский, повесть о котором написана в конце 40-х годов (от­
дельное издание — в 1951-м).
Жуковский для Зайцева — «небесная душа», «светлое дитя,
характер мирный и возвышенный». «Зло и трагедии — не его
мир», — говорит писатель о своем персонаже. «Религия сердца»
делает Жуковского «украшением мира», воплощением «нравствен­
ного величия».
Подобно Сергию Радонежскому, Жуковский у Зайцева обла­
дает легким характером, что не мешает ему мягко, но всенепре­
менно «говорить то, что считает истинным». «Мечтательно ти­
хий» Жуковский выступает заступником Пушкина и Гоголя пе­
ред царем; человеком, внушившим будущему императору Алек­
сандру, чьим воспитателем он был поставлен, идею отмены кре­
постного права. С христианским смирением герой Зайцева по­
могает и своим недоброжелателям (Воейкову), людям, разрушив­
шим его счастье (матери Маши Протасовой). Его бескорыстие
раскрывается в раздаче всех своих средств родственникам и про­
сто нуждающимся (повесть содержит краткие, но многочислен­
ные упоминания об этом).
Автор повести подробно рассказывает о драматической любви
Жуковского к Маше Протасовой, всю жизнь любившей его, но
вынужденной выйти замуж за другого. Поэт не только смиренно
принял этот удар судьбы, но и сумел полюбить новую семью Маши
и помогать ей. Более того, он в своем неуемном стремлении к
гармонии пришел к выводу, что в любви правомерно присутствие
не только счастья и восторга, но и горечи. «Примирение, приятие
жизни — со всеми горестями ее, — считает Зайцев, — для Жуков­
ского тема основная, зрелым художником зрело выраженная».
Порой это христианское мировосприятие кажется Зайцеву неве­
роятным, противоречащим нашим привычным представлениям.
Так появляется эпизод, рассказывающий о письме Жуковского
умирающей Александре Протасовой, с легкой руки поэта вошед­
шей в историю под именем Светланы (по названию его поэмы).
Цитируя подлинные слова своего героя «для меня теперь все пре­
красное будет синонимом смерти», Зайцев пишет: «Для повсед­
невности весь строй чувств Жуковского в этом случае жуток». Но
128
тут же поясняет, что в высшем христианском смысле здесь есть
своя правда: Жуковский «приближался к той грани, которая дает
право прямо сказать о смерти и даже благословить на нее: для
этого должно существовать незыблемое и глубокое чувство того
мира, мира духа и света, исход в который не только не горе, но
радость... Жуковский чувствовал, значит, достаточно, где настоя­
щая родина Светланы».
«Внутренняя тема его жизни, — вновь возвращается писатель
к этой мысли уже в самом конце повести о Жуковском, — всегда
была: слава Творцу, жизнь приемлю смиренно, всему покоряюсь,
ибо везде Промысел».
Как одно из проявлений этого Промысла трактует Зайцев и
краткий, но яркий, хотя и очень непростой, любовный союз пя­
тидесятишестилетнего Жуковского и восемнадцатилетней Ели­
заветы Рейтерн.
Даже сама смерть Василия Андреевича в изложении Зайцева
соответствует канонам христианства: «умирание — переход — ус­
пение». Как и для И.Шмелева, для автора «Жуковского» это не
конец, а переход в инобытие. Характерны глаголы, использован­
ные автором для описания этого процесса: «Уходил в том же таин­
ственном благообразии, как Светлана и Маша, — как и сам жил.
Именно он отчаливал» (выделено мной — В.Л.)
Из трех биографических повестей именно в «Жуковском» с
наибольшей полнотой проявилось мастерство Зайцева-художника.
Как и в «Преподобном Сергие Радонежском», писатель сохра­
нил здесь сказовую манеру. Многократно встречающиеся в тек­
сте слова «вероятно», «оказывается», «разумеется», «по-видимому», «надо думать», «во всяком случае», «так что», «это не зна­
чит», «правда», «в это как раз время», «и пожалуй», «можно пред­
ставить» присущи именно живой речи рассказчика. На сказовую
направленность повествования указывает и преобладание в ав­
торской речи просторечия («иной закваски», «писал рьяно», «бок
о бок», «отказала ему начисто», «а сердцу пора уж изливаться»,
«хлопнул рюмку водки», «двойной-двуснастный», «кратковечность»). На фоне такой обыденной повседневной речи особо
выразительно звучат те немногие высокоторжественные выска­
зывания, в которых писатель обобщает свое отношение к герою
(«вечность», «печать бренности», «религия сердца», «аскеза но­
вой жизни, послушание»). В книге много прямых обращений
автора к читателям, вопросов, рассуждений («Да и сам Жуковс­
кий разве мог себя одолеть?»; «Что будет дальше?»; «Есть, может
быть, некий соблазн изобразить брак Жуковского в духе Нова­
лиса, но это только соблазн»). Разговорный, сказовый стиль со­
здается и с помощью неполных предложений, приема, характер5— 1662
729
ного для всех биографических книг Зайцева («На нескольких
строках три раза слово «милый». Это Жуковский. Это нечто и от
того времени. Не от Аракчеева и Бенкендорфа, а от нежных душ,
чувствительных, мечтательно-меланхоличных»). Любит Зайцев и
тире — эти энергичные, тоже характерные для устной речи, по­
яснения («Говорит резкости — только ухудшает дело»; «Все в
них (письмах — В.А.) любовь — и к нему, и к Светлане»; «Испо­
ведался, причастился и совсем успокоился — началось торжес­
твенное»).
Однако самое главное, что отличает «Жуковского» от двух
других повестей писателя, почти полное слияние авторского слова
и мыслей героя. Объяснение этому, видимо, следует искать в
общности философско-нравственных позиций обоих художни­
ков. Зайцев мастерски переводит свою речь в несобственно-пря­
мую речь Жуковского, тем самым воссоздавая его внутренний
мир:
«Молодой, «появившийся» поэт Жуковский был еще появляв­
шимся человеком Жуковским. Он еще только слагался. Многое
было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодат­
ных сил молодости. Напряжение их изливается в областях вы­
сших — вековечные вопросы мучают и жизнь хочется создать до­
стойно. Есть планы поездки за границу с Мерзляковым, в Геттин­
ген для университета. Есть думы и томления о Боге, вере — все
надо выяснить и решить».
Если первые две-две с половиной фразы безусловно принад­
лежат автору, то далее разделить автора и героя становится все
труднее, а уже несовременное в XX веке, но характерное в эпоху
Жуковского «для университета» и конец процитированного куска
явно принадлежат герою повести.
Не менее талантливо соединяет Зайцев авторское слово, не­
собственно прямую речь героя и подлинную цитату из письма
или стихотворения Жуковского. Ограничимся двумя примерами,
хотя в книге их десятки. Первый из области общественных взгля­
дов писателя:
«В уединении этом швейцарском он много читал, созерцал,
думал. История народов и история земли... И там и тут двой­
ственно. То медленное и упорное, созидательное творчество, то
буря и катастрофа. Незаметно и непрестанно произрастает не­
что, а потом взрыв, революция и гибель. Вот видит он развали­
ны горы — рухнув, она раздавила несколько деревень. Так слу­
чилось и в плане космическом, и потом по развалинам опять
порастет травка, жизнь снова начинается. Но в человеческом об­
ществе да не будет обвалов. «Работая беспрестанно, неутомимо
... ты безопасно, без всякого гибельного потрясения произве­
130
дешь или новое необходимое, или уничтожишь старое, уже бес­
плодное или вредное. ... Одним словом, живи и давай жить; а
паче всего блюди Божию правду». Эти свои настроения он назвал
«горною философией».
Второй пример передает чувства Жуковского, узнавшего, что
Елизавета Рейтерн любит его:
«Заснуть трудно! Пароход не торопясь выгребает вверх по те­
чению ... Какой перелом в судьбе! Еще там в Дюссельдорфе, пока
пароход не тронулся, был он одиноким путником, пассажиром
парохода без определенной цели. «И вдруг в одно мгновение из
чаши судьбы Провидение вынуло мне жребий, с которым все, как
давно желанное, разом далось мне».
К духовным исканиям писателей прошлого примыкает рас­
сказ о пути к Богу человека XX века. Речь идет об автобиографи­
ческой тетралогии Зайцева «Путешествие Глеба» (1934-1953), со­
стоящей из романов «Заря», «Тишина», «Юность» и «Древо жиз­
ни». Характеризуя замысел своей книги, не уступающей, по еди­
нодушному мнению критики, бунинской «Жизни Арсеньева»,
Зайцев писал: «Путешествие Глеба» обращено к давнему време­
ни России, о нем повествуется как об истории, с желанием, что
можно, удержать, зарисовать, ничего не пропуская из того, что
было мило сердцу». В этом смысле есть очевидная общность между
«Путешествием Глеба» и шмелевским «Летом Господнем». Объ­
единяет их и интерес к «исканиям цели жизненной, томлениям,
сомнениям религиозным и путям приближения к Истине» («О
себе»). Однако в отличие от Шмелева Зайцев остается и здесь
лириком, мастером акварели. У него нет столь ярких красок, как
у создателя «Лета Господня». Более критично, чем Ваня у Шме­
лева, описан главный герой Глеб. «Хоть автор и любит своего
подданного, — писал Зайцев о Глебе, — все же покаянный мо­
тив в известной степени проходит через все. Судьба Глеба пов­
торяет судьбу многих юношей рубежа веков и, думается, юно­
шества вообще».
Особый раздел творчества писателя составляют его мемуары,
писавшиеся на протяжении всей жизни и объединенные авто­
ром в две книги. В 1939 году вышла книга «Москва» (переизда­
валась в 1960 и 1973-м). По словам автора, это повествование «о
людях, делах, пейзаже Москвы» от кануна Первой мировой вой­
ны до 1922 года, когда Зайцевы покинули столицу России. В
1965 году Зайцев издает книгу очерков о деятелях культуры «Да­
лекое», где выступает не только как очевидец событий, совре­
менник А.Блока, К.Бальмонта, Вяч.Иванова, Н.Бердяева, архи­
мандрита Киприана, А.Бенуа, Б.Пастернака, М.Цветаевой, И.Бу­
нина (каждому из них посвящен очерк) и многих других, но и
5*
131
как историк, чьи суждения, быть может, не бесспорны, но всегда
интересны и концептуальны.
К таланту Зайцева-художника можно применить слово, най­
денное им для Жуковского: «легкозвонкий». Его краски пастель­
ны, акварельны (любимый цвет — серебряный, точнее серебрис­
то-зеркальный, он вообще любит полутона и двусложные цвета:
золотисто-розовый, серебряно-голубой, светло-зеленый и т.п.;
любимые времена дня — утро, закат). Любимое состояние пого­
ды — туман. Почти в каждом его произведении присутствует (и
не раз) небо, звезды. Ему менее удаются сложные фигуры, мас­
тером создания которых был Бунин. Герои Зайцева лишены внеш­
него блеска, сильных страстей. При всем уважении к Достоев­
скому, не раз названному в статьях писателя «великим», автор
«Идиота» и «Братьев Карамазовых» не близок Зайцеву. Его пи­
сательский стиль лишен яркости красок И.Шмелева, игры сло­
вом А.Ремизова, изысканности В.Набокова. Но без Зайцева, че­
ловека и писателя, литература русского зарубежья, да и вся рус­
ская литература, была бы не полна. Ибо он и его книги воплоти­
ли один из существенных типов русского национального харак­
тера, характера любящего и честного. По-прежнему актуальны­
ми остаются слова старого писателя, обращенные к юношам и
девушкам России:
«Несите в себе человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы
Человек, живой, свободный, то, что называется личностью, не уми­
рал. Пусть думает он и говорит своими думами и чувствами, со­
бственным языком, не заучивая прописей, добиваясь освободиться
от них. Это не гордыня сверхчеловека. Это только свобода, отсут­
ствие рабства. Достоинство Человека есть вольное следование пути
Божию — пути любви, человечности и сострадания ... Вы, моло­
дые, берегите личность, берегите себя, боритесь за это, уважайте
образ Божий в себе и других, и благо вам будет ...
Вот мои слова к вам, неведомые сотоварищи, неведомое юно­
шество России. Никаких открытий, ничего необычного. Но есть
правда, хоть и известная, а повторять ее следует.
Посылаю эти слова в чувстве благоволения, не как поучение
какое-то, а как братское обращение старшего».
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Зайцев Б .К . Сочинения: В 3 т . / С ост. и подгот. текста Е. В оропаевой и
А .Тархова. — М.: Худож.лит. — Т ерра, 1993.
Н аи б о л ее полное издание н а родине. В том 1 входит 5 созданны х в
э м и гр а ц и и рассказов, том 2 вклю чает «С лово о Р одине», «ж итийны е»
п о вести , заверш аю щ ую часть д о р евол ю ц и он н ого р о м ан а «Голубая звез­
да» — «С транное путеш ествие», рассказы «А вдотья-смерть» и «Анна»,
132
путевы е о черк и «Афон» и «Валаам», а такж е к н и гу в о с п о м и н а н и й -э с с е
«М осква» (о А .Ч ехове, Л .А ндрееве, С .Г л агол е, И. и Ю .Б у н и н ы х , Х удо­
ж ествен н о м театре, М оскве 1921 года и др.). Т ом 3 закл ю ч ает в себе
вторую часть тетралогии «П утеш ествие Глеба» — «Т иш ина», р о м ан «Ж у­
к овски й », к н и гу в о с п о м и н а н и й «Далекое» (о А .Б л оке, А .Б ел о м , К .Б ал ь м о н те, В я ч .И в ан о ве, Б ерд яеве, А .Б енуа, Б .П ас те р н ак е, М .Ц в етаев о й и
д р .), а такж е п о зд н и е вещ и п и сателя «Р азговор с Зи н аи д о й » и «Р ека
врем ен».
В п редисловии Е. В оропаевой «Ж изнь и творчество Б о р и са Зайцева»
(т. 1, с. 5-47) прослеж иваю тся основны е тем ы эм и гран тск о го творчества
пи сателя, содерж ится ан ал и з ряд а прои зведен и й .
Зайцев Б.К . Далекое. — М .: С ов.писатель, 1991.
Входят все три биограф ических ром ана Зайцева: «Ж уковский», «Ж изнь
Тургенева» и «Чехов»; главы и з к н и ги «М осква» и «Далекое».
Зайцев Б. Путешествие Глеба — Волга, Саратов. — 1990. — № № 8 — 9.
П ервая часть автоб иограф и ческой тетралогии.
Зайцев Б. Странное путешествие: Рассказы, очерки, письма. /В сту п .
ст., публ. и ком м . М .М и р о н о во й / / Н аш е наследие. — 1990. — № 3. — С.
84-95.
П убли куется о черк «Б унин» (1933), отзы в н а к н и гу Д .М е р е ж к о в ского «И исус Н еи зв естн ы й » , р асск азы «Д иана» и «Т ри святи тел я» , а
такж е п и сьм а И .Б у н и н у , Л .А ндрееву и Ю А йхен вальд у — б л и зк и м д р у зь­
ям Б .Зай ц ева.
Зайцев Б.К. — Михайлову О.Н. / / В опросы литературы .— 1987. —
№ 12. - С. т - 2 1 1 / / П одъем, Воронеж. - 1989. - № 6. - С. 151-167.
Д октор ф илологических наук О .Н .М ихайлов состоял в длительной п е ­
реписке с писателем, является автором ряда статей о нем . В письм ах Б .З а й ­
цева О .М ихайлову содержатся характеристики И .Б унина, И .Ш м елева, В .Н абокова, оценки литературного процесса XX века.
Крыжицкий С. Разговоры с Б.Зайцевым / / Н овы й ж урнал. — 1983. —
№ 150. - С. 191-200.
Ч р езвы ч ай н о ц е н н ы й м атери ал об эстети ч ески х взгляд ах З ай ц ева.
П р и во д ятся отзы вы п и сател я о Д . М ер еж ко вско м , А .А лдан ове, А .Р ем и зове, Б .П ас те р н ак е, А .С о л ж ен и ц ы н е. Г ов ори тся, что л ю б и м ы м со зд а ­
н и ем Зай ц ева бы л о «П утеш ествие Глеба», к н и ги б и о гр а ф и ч е ск и е и а г и ­
о гр аф и ч ески е он н азы вал « второстеп ен н ы м и вещ ам и», об «А нне», в о с ­
то р ж ен н о п р и н я то й к р и т и к а м и зарубеж ья, говори л, что о н а «удачна»,
н о им не л ю бим а.
Завалишин Вяч. Борис Зайцев (К восьмидесятилетию) / / Н о вы й ж у р ­
нал. - 1961. - № 63. - С. 137-145.
Творчество Зай ц ева рассм атривается к ак единая тем а «отры ва вер ­
хнего слоя от народа», герои его к н и г — «обреченны е», н о «сохраняю т в
себе внутренню ю сопротивляем ость духовны м о п устош ен и ям и п о тр яс е­
ниям ». Р ассм атривается такж е реш ение тем ы лю бви.
М.А.ОСОРГИН
( 1878 - 1942)
ВОЛЬНЫ Й КАМ ЕНЩ ИК
У него был вид типичного интеллигента и натура бунтаря. В
детстве он вызвал на дуэль наказавшего его учителя гимназии. В
900-е годы бунтовал против деспотии самодержавия. После Ок­
тября 17-го года — против большевиков. В 40-е — против немец­
ких фашистов, оккупировавших Францию. Трижды (в 1905, 1919
и 1921 годы) он чудом избежал смертного приговора. Четвертый
раз, в 1942-м, его спасла от фашистского концлагеря смерть.
И тем не менее он до конца своих дней был убежден, что «сво­
бодный человеческий дух не мирится ни с постоянными, ни с вре­
менными узами, ни с вредным, ни с «полезным» насилием ... В идее
святости, то есть независимости, достоинства, неприкосновенности
человеческой личности, никаких оговорок быть не должно». И даже
если человек понимает, что ему не победить зло, он должен остаться
«умирать на баррикаде «свободы без оговорок», «права личности без
ограничений», уважения к человеку не в будущем, а в настоящем».
Свобода, по Осоргину, «в триллион раз ценнее жизни».
Михаил Андреевич Ильин (Осоргин — псевдоним, взятый
по девичьей фамилии бабушки в 1907 году) родился 7 октября
1878 года в небогатой дворянской семье, чьи корни уходили в
134
глубь веков (к этому же генетическому дереву относилось семей­
ство Аксаковых). Впрочем, исключительная знатность родослов­
ной не очень волновала писателя. Даже наоборот. С присущей
ему иронией он писал: «Всю свою жизнь я прожил простым чело­
веком, без всякой особенной биографии: родился от папы с ма­
мой и т.д.». Гораздо больше он гордился тем, что вырос на берегах
Камы, где навсегда полюбил русские леса: «Я был и остался сы­
ном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не
смогу и не хочу». Лесной пейзаж и Кама присутствуют во многих
его произведениях. Он даже утверждал, что Волга впадает в Каму,
а не наоборот.
Первый рассказ писателя («Отец»), подписанный псевдони­
мом М.Пермяк, был напечатан петербургским «Журналом для
всех», когда автору едва исполнилось 17 лет и он еще учился в
гимназии.
Учебу в Московском университете юноша сочетал с работой
репортером в либеральных «Московских новостях»: нужны были
деньги, да и страсть к литературной деятельности не давала по­
коя. Окончив юридический факультет, молодой адвокат не поры­
вает с литературой. Он оказывает помощь писателям-самоучкам
И.Белоусову, С.Дрожжину, М.Леонову (отцу автора «Русского
леса»), издает народные листы — дешевые книжечки. Состоялось
знакомство и с идейными вождями русского народничества —
писателями В.Короленко и Н.Златовратским.
За сотрудничество с эсерами (террористами и максималиста­
ми) М.Осоргин во время первой русской революции попал в тюрь­
му, и, как уже говорилось, едва не был приговорен к смертной
казни. Выпущенный под залог, уехал в Италию, откуда все 10 лет
добровольной ссылки (1906-1916) присылал в «Русские ведомос­
ти», «Вестник Европы» и другие издания статьи и обзоры. В пере­
работанном виде они составили книгу «Очерков современной
Италии», книгу, и сегодня не утратившую своей научной ценнос­
ти и изучаемую в итальянских университетах.
Вернувшись полулегально в Россию в 1916 году, писатель с
головой окунулся в литературную и общественную жизнь. Он
создает Московский Союз писателей (где становится товарищем
председателя) и Союз журналистов (здесь его избирают предсе­
дателем), печатается в оппозиционных газетах, где говорит как о
сильных сторонах революции, так и о ее ошибках, рьяно крити­
кует большевиков за подавление свободы, в том числе свободы
печати. Созданная по его инициативе Книжная Лавка писателей
не только давала московским интеллигентам возможность не уме­
реть с голоду, но и стала своего рода духовным центром Москвы.
Позднее он напишет о ней воспоминания. Спокойные; как всег­
135
да, слегка ироничные. Драматизм существования этого писатель­
ского объединения раскрыт В.Ходасевичем (см. соответствую­
щую главу).
Закрытие оппозиционных газет, арест и пребывание в чекис­
тском застенке, известном всей Москве как «Корабль смерти»
(его выпустили по ходатайству Союза писателей), не «образуми­
ли» Осоргина. Вместе с Б.Зайцевым, Н.Бердяевым, Е.Кусковой,
С.Прокоповичем, Н.Кишкиным и другими деятелями культуры
он входит в созданный по инициативе Горького внегосударственный Всероссийский комитет помощи голодающим. «Он мог спас­
ти, — писал позднее Осоргин, — и спас миллион обреченных на
ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей
России, подорвав их престиж, о нем уже заговорили, как о но­
вой власти, которая спасет Россию. Ему уже приносили собран­
ные пожертвования ... Октябрьская власть должна была убить
комитет прежде, чем он разовьет работу». По требованию ВЛенина комитет был разогнан, а его члены арестованы. Лишь вме­
шательство Фритьофа Нансена, возглавлявшего на Западе акции
помощи России, помогло заменить расстрел членов комитета
ссылкой.
В 1922 г. Осоргин вместе с семьюдесятью другими известными
писателями, философами, общественными деятелями был выслан
в Германию, откуда он ненадолго съездил в Италию, а с 1923 года
стал жить в Париже.
Бунтарский характер писателя поставил его в особые отноше­
ния с русской эмиграцией.
С одной стороны, все признавали, что Осоргин ведет себя как
«заведомый джентльмен» (определение писателя В.Яновского,
автора книги «Поля Елисейские»). Он был одним из немногих,
кто и в эмиграции сохранял полную независимость: решительно
отказывался от всякого рода субсидий и вспомоществований от
общественных ли организаций, от частных ли жертвователей. Как
и на родине, писатель не был равнодушен к судьбам коллег. Он
раздал почти весь нешуточный гонорар за свой нашумевший ро­
ман «Сивцев Вражек» нуждающимся писателям с единственным
условием, чтобы и они при возможности кому-нибудь помогли.
Он основал серию «Новые писатели» и издал в ней под своей
редакцией роман Ивана Болдырева (Шкотта) «Мальчики и девоч­
ки» и повесть Василия Яновского «Колесо». Он «пробивал» в раз­
личные издания произведения Гайто Газданова, Вадима Андреева
(сына Леонида Андреева), Б.Темирязева (Юрия Анненкова), Вла­
димира (Бронислава) Сосинского.
С другой стороны, он был язвителен, ироничен. Не раз печатно высмеивал собратьев за плохое знание русского языка. Но —
136
самое главное — он настойчиво подчеркивал, что остается верен
революционным идеалам, что Февраль и Октябрь были едины и
необходимы: «Был неизбежен и был нужен полный социальный
переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых
формах. Я это знаю, и я принимаю это фатально, как принимают
судьбу». «Страдая от новой власти, — писал Осоргин в итоговой
книге «Времена», — мы и в мыслях не имели проклинать револю­
цию, и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы
величайшим несчастьем для России». С этих позиций он осуждал
добровольческое белое движение, считал оскорбительной интер­
венцию, говорил о своей вере в русский народ. В 1925 году на
страницах газеты «День» он вступил в полемику с ее редактором
А.Керенским и заявил, что если бы Временное правительство со­
хранилось подольше, то оно стало бы столь же враждебным сво­
боде, как и большевистское. Государство, по Осоргину, почти всегда
творит насилие над личностью, прикрываясь громкими и краси­
выми лозунгами. Излишне говорить, что после такого заявления
Керенский два года не печатал Осоргина. От «анархических» и
ироничных статей писателя хватался за голову и редактор другой
крупной эмигрантской газеты «Последние новости» П.Милюков,
хотя и печатал литературные заметки писателя, весьма популяр­
ные у читателей. «Если бы М.А. хотел сотрудничать лишь в изда­
ниях, его взгляды разделявших, — писал М.Алданов, — то ему
писать было бы негде».
Высланный насильно, Осоргин постоянно подчеркивал, что
никогда бы не уехал добровольно. До 1937 года он продлял свой
советский паспорт; писал М.Горькому, что мечтает издаваться на
родине. Вопреки многочисленным эмигрантским критикам, ви­
девшим только в зарубежной ветви продолжение великой русской
литературы, Осоргин говорил (по крайней мере до 1935 года) о
едином литературном процессе диаспоры и метрополии. Его в
равной мере привлекали книги М.Горького и И.Бунина, В.Маяковского и М.Цветаевой, Ю.Олеши и Е.Замятина, К.Чуковского,
Л.Леонова и А.Ремизова. Он высоко оценил талант авторов от­
кровенно коммунистических произведений В.Кина («По ту сто­
рону») и Н.Огнева («Дневник Кости Рябова»), «Искра Божия, —
писал Осоргин, — может оказаться и в председателе комсомольс­
кой ячейки».
Он с огромным интересом читал советские газеты, правда,
не забывая упрекнуть их в односторонности. «Я радуюсь, —
писал он, — когда вижу, что жизнь нашего Союза идет к рас­
цвету, к материальному и духовному богатству. Во всем мире
нет другой такой страны, в этом не может быть сомнения ...
СССР — единственная страна великих возможностей». За по­
137
добные высказывания белая эмиграция прозвала его «большевизаном», обвиняла в «умничаньи» и оригинальничании ради ори­
гинальности.
Но не жаловала его и советская власть. Ведь еще в 1936 году
он писал «Старому другу в Москве»: «Над Европой реет знамя так
называемого «государственного социализма», который в переводе
означает тоталитарное государство: власть — все, личность — ни­
что, народ — стадо, которому нужен пастух и погонщик. Слово
«социализм» — для красоты и для услады слуха дураков». Вы на­
шли истину, иронизировал писатель, «вы ее нашли, записали,
выучили наизусть, возвели в догму и воспретили кому-либо в ней
сомневаться. Она удобная, тепленькая, годная для мещанского
благополучия ... Рай с оговорочками, вход по билетам, на воротах
икона чудотворца с усами». «Тем же словом «революция», — пи­
сал он во «Встречах», — стали прикрывать наихудший деспотизм
и величайшее насилие над личностью человека. Какой диктатор
не использовал этого краденого слова? Какие гражданские цепи
не выкованы из понятия «свобода»? Мы были последним поколе­
нием чистых и цельных иллюзий, могиканами наивных верова­
ний. И это наша вина: нужно было внимательнее вглядываться в
глубь истории».
Пересмотрев многое, он продолжал верить в Россию (она
«шире, моложе, свежее, сочнее и богаче» Европы), утверждать,
что революция — это «вечный протест, вечная борьба с насилием
над личностью, во всякий момент, во всяком строе» («Времена»).
Свобода осталась для него высшим смыслом бытия, а клетка сим­
волом насилия. Из парижской газеты он вырезал фотографию
слона, убившего сторожа зверинца, и хранил ее с любовью. «И
если бы моего палача, — полемически писал Осоргин, — посади­
ли под замок, я сорвал бы замок и с его двери».
Именно это чувство свободы заставило его, уже тяжело боль­
ного, с риском для жизни переправлять в Америку и нейтральные
страны Европы статьи, разоблачающие немецких оккупантов и
собранные после его смерти его третьей женой Татьяной Алексе­
евной (урожденной Бакуниной, дальней родственницей известного
анархиста) в книгу «Письма о незначительном» (1952). Ею же
подготовлены и изданы уже упоминавшиеся воспоминания писа­
теля «Времена» (1955) — лирико-публицистическая биография
писателя (описываемые в ней события доведены до 1922 года);
книга «В тихом местечке Франции», описывающая жизнь в Шаб­
ри, куда Осоргины уехали из оккупированного немцами Пари­
жа. Здесь, в так называемой свободной зоне Франции (слово
«свобода» тесно связано с судьбой Осоргина), писатель скончался
27 ноября 1942 г. Здесь он и похоронен. «Последним могиканом
138
бунтующей русской интеллигенции» назвал писателя в некрологе
его друг философ Георгий Гурвич.
Творческое наследие Осоргина достаточно велико: с 1922 г.
им было издано 11 книг: роман «Сивцев Вражек»(1928, 1929);
«Повесть о сестре» (1931); дилогия о революционерах-террористах «Свидетель истории» и «Книга о концах» (1935); повесть «Воль­
ный каменщик» (1937), шесть сборников рассказов, в том числе
прелестные рассказы о старине (1938). Кроме уже упомянутых
посмертных изданий следует назвать «Заметки старого книгоеда».
Это — публиковавшиеся в «Последних новостях» и собранные
воедино эссе писателя о старинных русских книгах. Заниматель­
ные, порой весьма едкие по адресу современных авторов, стили­
зованные под бесхитростную речь простака (этакого пушкинско­
го Белкина или гоголевского Рудого Панька XX века), они вместе
с тем представляют и научную ценность для изучения книжного
дела на Руси. «Заметки» изданы на прекрасной бумаге, с замеча­
тельными иллюстрациями московским издательством «Книга»,
именно так, как о том мечтал автор. Это единственная книга Осор­
гина, которая не издавалась за рубежом.
«Почти все мои книги, — говорил Осоргин, — написаны в
эмиграции и заграничной ссылке ..., но жизненный материал для
этих книг давала только русская жизнь — и он казался мне неис­
тощимым ... Вне России никогда не ощущал себя дома».
Самым известным произведением Осоргина, изданным неви­
данным для эмиграции тиражом в 40 тысяч экземпляров, переве­
денным на ряд европейских языков, является роман «Сивцев Вра­
жек» (для большинства читателей именно с этой книгой связыва­
ется имя писателя).
Нельзя с полной уверенностью утверждать, что Осоргин был зна­
ком с булгаковской «Белой гвардией», хотя теоретически это вполне
возможно: роман о Турбиных был опубликован в 1925 году в журнале
«Россия», доходившем до Франции. Более того, уже после заверше­
ния своего романа Осоргин опубликовал рецензию на булгаковскую
пьесу «Дни Турбиных», где высоко оценил эту вещь. Но даже если к
1928 году писатель не был знаком с «Белой гвардией», типологичес­
кая общность обеих книг налицо. Есть нечто общее у «Сивцева Враж­
ка» и с «Солнцем мертвых» И.Шмелева.
Все три произведения не повседневное описание жизни, не
привычные романы, а философско-эпические повествования, где
автор является демиургом, играет не меньшую (если не большую)
роль, чем объективизированные персонажи. Соответственно воз­
растает значение экспрессивных средств, метафор, символов, сю­
жетных антиномий — вплоть до прямого публицистически-лирического слова.
139
С первых страниц романа М.Осоргин использует символизи­
рованные образы, воссоздающие космологическую катастрофу:
«Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаива­
ются, ... иссякает энергия мира». Подобно автору Апокалипсиса,
писатель прозревает в текущей реальности столкновение Добра
и Зла, ангела жизни с ангелом смерти, вечного солнца и самона­
деянного человеко-бога, возомнившего себя вершителем судеб
мира. Мировая война, по Осоргину, первое свидетельство того,
что «мир сошел с ума», в нем «пахнет серой и смолой» ада. «По­
шатнулось мироздание», проснулся железный Молох: «чугунки
сталь жаждут безымянного мяса», а «земля дышит злостью и со­
чит кровь». Стремясь сгустить краски, Осоргин олицетворяет или
овеществляет абстрактные понятия («серым комочком пробежал
вечный страх»; «из домов выбегало довольство и в ужасе шараха­
лась нужда»; «время — зеленое пятно плесени на стене»), гово­
рит о живых людях как о вещах («вещь приоткрыла дверь») и о
вещах как о живых людях (у паровоза «холеное тело убийцы»;
«ржавчина глотает железо крыши»). Птицы с недоумением смот­
рят как из-под воды поднялась огромная рыба (подводная лод­
ка) и потопила корабль с мирными жителями. «Багровые зака­
ты», «красные маки войны», натуралистические сцены убийств
и описания калек — жертв войны — все эти экспрессивные сред­
ства призваны обосновать пацифистскую позицию автора, пока­
зать восстание людей против гармоничных законов природы.
Дальше — больше. Начало революции ознаменовано тем, что
вместо натурального снега по московским улицам летают «свин­
цовые шмели» и сеют смерть, принося власть тем, «кто привык не
думать, не взвешивать, не ценить (человеческую жизнь — В.А.) и
кому нечего терять». «Мир был, — пишет Осоргин. — Но мир был
пуст, мертв и бессмысленен». Символом омертвления становится
и сердце России Кремль с Иваном Великим. «Травой забвения»
порастает земля. «Женщины перестали рожать, дети-пятилетки
считались и были взрослыми. В тот год ушла красота». Апокалип­
тическая картина завершается символическим образом взбесив­
шихся часов с кукушкой, из которых выпал винтик, и рассказом о
всеразрушенности и проклявших людей волках.
Мировая трагедия становится у Осоргина всеобщей, распрос­
траняется и на природу, частью которой является человек. Пи­
сатель вводит символическую главу о войне агрессивных темных
и обыкновенных муравьев. Война эта закончилась гибелью тех и
других под сапогами людей и колесами их пушек, выполнивших
роль жестоких муравьиных богов. Осоргин стремится «дерзить
Богу», с неудовольствием отмечал рецензировавший «Сивцев Вра­
жек» Б.Зайцев, в целом положительно оценивший роман.
140
Более сложную функцию, притчевую, выполняет главка об
обезьяньем городке. Она не только продолжает мысль о всеобщем
характере войны (сильные рыжие обезьяны захватывают террито­
рию и блага серых, садистски издеваются над побежденными), но
и ставит столь важный для писателя вопрос о цене жизни. Чтобы
сохраниться, серые обезьяны переселились из городка в клетку,
смирились с несвободой. Образ обезьяны вновь появится во вто­
рой части книги — во сне философа Астафьева, не желающего
уподобляться обезьянам, не способного отказаться от своей ин­
дивидуальности и свободы.
Обобщающим символом унижения человека становится тур­
никет войны, тупо отсчитывающий погибших людей, и подвал
Завалишина, где он почти механически совершает работу (это
слово многократно подчеркнуто писателем): расстреливает людей,
превращая индивидуумы в трупы.
В этой картине конца света, казалось бы, нет места личности,
человеку. Но это не так.
Мертвому Кремлю Осоргин противопоставляет живой Арбат.
«Центром вселенной, — пишет он, — был особнячок» профессо­
ра-орнитолога и его внучки Тани, где звучала музыка компози­
тора Эдуарда Львовича и где хорошие люди заботились друг о
друге.
Эта антитеза сохраняется и проходит через все многочислен­
ные сплетающиеся сюжетные линии, связанные с судьбой основ­
ных и второстепенных персонажей.
Философские рассуждения автор поручает приват-доценту
Алексею Дмитриевичу Астафьеву, восставшему против догматиз­
ма, ибо любой догматизм во имя идеи жертвует человеком. Не
верующий ни в Бога, ни в народ, он становится гаером, шутом
Смехачевым, презирающим жизнь. При всей справедливости мно­
гих его высказываний автор вкладывает в уста любимой героини
Тани фразу о «недоброй правде» философа, заставляет его со­
мневаться по ходу сюжета во многих сделанных им заявлениях.
Цинизм Астафьева преодолевается любовью к Тане. И тогда ро­
ждается фраза «Люблю людей, не люблю толпу». «Слякотность»
и равнодушие к жизни сменяются неожиданно для него самого
желанием бороться, драться со злом, обрести свободу. Астафьев
прямо апеллирует к книге Экклезиаста, главный смысл которой
не в тщетности всего земного, как приписывает ей бытовое со­
знание, а в утверждении идеи стоицизма, высокой ответствен­
ности человека в трагическом мире.
Астафьеву противостоит чекистский следователь Брикман.
Писатель рисует его, как и руководителя одного из отделов ЧК,
человеком идеи, фанатиком, принесшим здоровье на алтарь рево­
747
люции. Но именно в этой жертвенности собой, а затем и людьми
во имя идеи кроется опасность утратить гуманистические цели
революции. И постепенно свободный и когда-то честный человек
становится «приказчиком власти», убийцей и подлецом. Анало­
гичная судьба у бывшего рабочего, ставшего чекистским палачом,
Завалишина. Выбранный им путь преодоления «слякотности» (этим
словом Астафьев объединил при их первой встрече себя и Завали­
шина) ведет к деградации личности. С этой точки зрения харак­
терно отношение всех троих к смерти. Астафьев принимает ее
стоически: внутренняя свобода ему дороже физического бытия;
Брикман и Завалишин находятся в состоянии страха, раздвоен­
ности, постоянно ощущают в себе трещину. В них «загнила кровь»
(символический диагноз болезни Завалишина).
Антитеза жизнь-свобода, гуманизм, духовность — жизнь клет­
ка, эгоизм, бездуховность находит блестящее воплощение в двух
эпизодических фигурах так называемых простых людей. Солдат
Григорий, ставший нянькой и защитником своего бывшего ко­
мандира, а нынче безногого и безрукого инвалида Стольникова
(Обрубка), бескорыстно, а то и с риском для жизни, свободно и
осознанно выполняет взятый на себя обет. А после гибели Об­
рубка уходит «старым путем богомолов и странников, носителей
простой житейской правды, искателей истины вековечной» и рас­
творяется на просторах России. (Значимость этой сцены столь
велика для Осоргина, что он почти аналогично завершит дило­
гию «Свидетель истории» и «Книга о концах».) Полной проти­
воположностью Григорию нарисована жена Завалишина Анна
Климовна в главке с характерным названием «Свинушка». По­
добно этому животному, Анна Климовна ест, пьет, расширяет
свои наделы и равнодушно воспринимает жизнь. Даже смерть
мужа волнует ее только с точки зрения потери материального
благополучия.
Если Астафьев ведет интеллектуальную линию романа, то эмо­
циональная поручена простым людям, отдающимся радостям жиз­
ни, заботам о ближних, земной любви. Это и эпизодические пер­
сонажи (Вася Болтановский и полюбившая его Аленушка, инже­
нер Петр Павлович Протасов), и один из главных — Таня.
Таня с любовью и трепетом относится к любым проявлениям
жизни: будь то грубые, но открытые для музыки и добра рабо­
чие, солдаты; будь то дедушка с бабушкой, любимый человек
или ласточка под крышей их дома. Другое дело, что ей не под
силу осмыслить движущие силы истории.
Эту роль выполняют композитор Эдуард Львович и профес­
сор-орнитолог, глава дома в Сивцевом Вражке. Не случайно они
оба введены в финал романа.
142
После долгих творческих мук Эдуард Львович сочинил «Опус
37», который и исполняет в доме профессора. И хотя Танюше он
представляется отказом композитора от исповедуемой им ранее
музыкальной идеи абсолютной гармонии, «криком боли, заглушен­
ным чужими голосами, ему враждебными и незнакомыми», самоо­
ценка композитора да и, как можно понять, оценка автора — иная:
«Режущие ухо диссонансы были лишь вблизи, а с высоты, в отдале­
нии, все звучало великой гармонией, изумительным хором и со­
вершенной музыкой». Такое восприятие эпохи идет от Ф.Тютчева
и характерно для И.Анненского и А.Блока, О.Мандельштама и
A. Ахматовой, для музыки Д.Шостаковича. У этих же художников,
думается, следует искать истоки осоргинского образа ласточки,
образа, которым открывается и заканчивается роман. В мифоло­
гии образ ласточки полисемантичен, чем охотно пользовались
поэты рубежа веков. Ласточка — посредница между жизнью и
смертью, символ духовной пищи и одновременно опасности не­
постижимой жизни. Наконец, она вестник добра и счастья, воз­
рождения, домашнего уюта. Все эти значения подразумеваются у
Осоргина. И обещание Танюши в случае, если дедушка не дожи­
вет до прилета ласточек, отметить их возвращение в календаре —
знак продолжения жизни и победы звезд, «горящих миллионно­
летним светом». «Ласточки непременно прилетят, — обобщает ста­
рый ученый свои слова о неизбежности победы великих сил При­
роды. — Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с кем воюет,
кто кого одолел.... У ласточки свои законы, вечные. И законы эти
важнее наших».
Несмотря на огромный успех «Сивцева Вражка» Осоргин счи­
тал своей главной и любимой вещью повесть (хотя по сути это
роман) «Вольный каменщик».
Вольными каменщиками называли себя масоны. Сегодняш­
ний читатель в лучшем случае знает о масонах из романа Л.Толстого «Война и мир», в худшем — судит по примитивным из­
мышлениям «борцов с всемирным масонским заговором». Одни
из них повторяют бредни о жидо-масонстве во главе с Лениным
и Троцким; другие лгут, что масоны — это нацисты, задача кото­
рых заключалась в уничтожении «российского пролетариата».
Между тем масонство в России возникло еще в VIII веке. Масо­
нами были писатели Н.Новиков, А.Сумароков, И.Лопухин, Н.Ка­
рамзин, А.Грибоедов, А.Пушкин, И.Тургенев, П.Нилус; декаб­
ристы П.Пестель, К.Рылеев, С.Муравьев-Апостол; историк
B. Ключевский; художник И.Билибин; изобретатель П.Яблочков;
полководцы А.Суворов и М.Кутузов. Входили в масонские ложи
и члены царской фамилии: Павел I, одно время Николай И, ве­
ликие князья Николай и Петр Николаевич (дяди Николая II),
143
великий князь Георгий Михайлович, целая плеяда русских арис­
тократов (граф Мусин-Пушкин, граф А.А.Игнатов и др.), члены
Государственной Думы, министры Временного Правительства.
Словом, люди самых разных политических взглядов, объединен­
ные лишь идеей самоусовершенствования, или, как они говори­
ли, строительства Духовного Храма.
Осоргин был посвящен в масонство в 1914 году в Италии. В
20-е годы он, по воспоминаниям Н.Берберовой (будущего авто­
ра исследования «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия», а
тогда молодой писательницы), признался ей, «что в Париже не­
давно восстановлена Московская масонская ложа и он не пом­
нит себя от радости... Почему? Да потому, что он — неверующий
человек — ужасно любит всякие ритуалы и считает, что каждому
человеку они необходимы: они дают чувствовать общность, со­
борность (подчеркнуто мной — В.А.), в них играют роль всякие
священные предметы, в них красота и иерархия». Братство, лю­
бовь к каждому человеку — вот то, что привлекало писателя в
масонском движении и когда он был рядовым масоном, и когда
в 1938 году стал досточтимым мастером ложи Северной Звезды —
главного и наиболее многочисленного объединения русских ма­
сонов в изгнании.
Вольными каменщиками, считал Осоргин, должны быть «люди
общительные, умственно развитые, нравственно незапятнанные,
способные к высоким духовным устремлениям».
Тем более неожиданен выбор в качестве главного героя по­
вести незаметного конторского служащего — русского эмигран­
та Егора Егоровича Тетёхина. В дореволюционной Казани, на­
чинает свое повествование писатель, Тетёхин был почтовым чи­
новником. Это — «почти ничто». В революцию «почти ничто»
пускается в путешествие вместе с отступающими чехословаками,
«обходит с молодой женой и сыном вокруг земного шара и посе­
ляется в Париже», где ведет такую же неприметную обыватель­
скую жизнь. Чисто случайно он попадает на заседание масонской
ложи. И это становится началом новой жизни. Тетёхин осозна­
ет, что «от рождения до совсем недавнего времени спал или дре­
мал. ... Его разбудил тройной стук молотка» — этот обряд начала
масонской жизни.
Автор подсмеивается над наивным русским максимализмом
новоиспеченного брата-масона, рассказывая, как Егор Егорович
буквально понимает требование масонов углублять свои знания
и читает все подряд: от биологических изысканий Брэма до гео­
метрии и философских книг. С легкой иронией описаны и тво­
римые им в мечтах добрые дела (вроде спасения кошки), и его
наивные попытки помочь подлецу-сослуживцу. С юмором рас­
744
сказывается, как «обмирщает» высокие масонские символы обык­
новенный Егор Егорович. Библейский строитель Храма Хирам
представляется ему «молодым человеком заграничного образо­
вания», «запыленным, усталым, в измятой одежде». Егор Егоро­
вич даже в чем-то сопоставляет себя с Хирамом, когда ходит по
дачному участку со складным метром. Автор не боится сказать о
своем главном персонаже, что тот «врал соловьем и суетился фок­
стерьером», провожая тяжелобольного брата-масона на пятый
этаж. Но в этой «разновидности святого дурака», как назвал Его­
ра Егоровича один из сотрудников его конторы, присутствуют
черты князя Мышкина из бессмертного романа Ф.М.Достоев­
ского. В наивных речах смешного Тетёхина звучит стремление
отесывать себя как камень (камнем масоны называли новичка),
строить храм единого человеческого общества. Более того, как
всякий русский, Егор Егорович не удовлетворяется ритуалом,
формой. Его предложения и поступки всегда направлены на кон­
кретную помощь людям.
Именно эти его качества позволяют писателю в сцене заседа­
ния некоего небесного ареопага, решающего, умереть ли Тетёхину или еще побыть на земле, вложить в уста его неведомого
адвоката слова: «Этот нескладный и добрый чудак духовно выше
ваших прославленных героев ... Кто сказал вам, что истина опи­
рается на плечи гигантов и макушки гениальных голов? Неправ­
да! Ее куют срединные люди, пасынки разума, дети чистого сер­
дца». «Мы выставляли его смешным и наивным добряком, —
уже от себя обращается автор к читателям (таких обращений в
повести много. Как и в «Сивцевом Вражке», роль автора в «Во­
льном каменщике» весьма велика), — просили любить его почти
в шутовском наряде. Мы и в дальнейшем не беремся быть к
нему справедливее и великодушнее». Но и такой человек спосо­
бен помышлять о несовершенстве мира. Микрокосм и макро­
косм — и это важнейшая идея Осоргина — взаимообусловлены.
«Ущемленная и обиженная маленькая букашка» имеет право и
на внимание, и на раздумья, и на действия по усовершенствова­
нию мира.
Осоргин проводит своего героя (а вместе с ним и свою из­
любленную идею о братстве, любви, соборности) через испыта­
ния жизнью, логикой. В одном из авторских обращений к чита­
телю он прямо объясняет, что для этого ввел в повесть ряд дру­
гих персонажей. «Слегка потрепанный образ профессора Пан­
кратова, присяжного резонера повести», чем-то напоминающий
Астафьева из «Сивцева Вражка», призван логически опровергать
тетёхинскую практику «малых дел». Это, поясняет автор читате­
лю, «тип рационалиста», в то время как «живописная фигура
145
старого масона Эдмонда Жакмена» выражает «иррациональное в
познании». Практическую победу зла в реальном мире символи­
зирует Анри Ришар. И тем не менее именно за алогичным, прак­
тически неприспособленным к жизни, добрым Егором Тетёхиным истина.
Как бы ни была мала практическая польза основанного им,
аптекарем Жан Батистом Руселем и торговцем обоями Себасть­
яном Дюверже благотворительного фонда, главное здесь в дру­
гом: «В мире прибавилось трое счастливых людей ... Это очень
много, когда в одном и том же городе есть три счастливых челове­
ка, три ребенка одной матери-ложи, три истинных сына вдовы из
колена Неффалимова». Все трое свободно (что очень важно для
Осоргина) поделились своим относительным богатством с други­
ми людьми, осознали свое единство.
Пройдя все стадии поисков и разочарований вплоть до про­
клятий Великому Архитектору Вселенной, к концу повести скром­
ный Егор Егорович уже не в мечтах и снах, а в жизни дал бой
злу: поколотил Анри Ришара. Характерно, что именно в этой
главке уже без всякой иронии автор ассоциирует Егора с Георги­
ем Победоносцем. Окончательная же его победа — в слиянии с
природой. Подобно вольтеровскому Кандиду, герой Осоргина
«возделывает свой сад» и восхищается мудростью Природы, «еди­
ной царицы и повелительницы. Ни перед кем рабы — только
перед Нею! И только Ей молитва — страстным шепотом немею­
щих губ! Побеждать Ее — никогда! Изумленно смотреть, учиться
и вечно сливаться с Нею!».
Так идея насильственной революции, исповедуемая Осорги­
ным в молодости, видоизменилась в революцию внутреннюю. Под­
линный Храм строится «не из дерева, камня и золота, а из челове­
ческих душ, постепенно освобождающихся от духовного рабства
и возносящихся на высоты духовного познания».
«Вольный каменщик» — типично осоргинская книга. Автор
участвует в повествовании наряду с героями. Он комментирует
их мысли и поступки, разговаривает и спорит с ними и с читате­
лем. Обосновывая свое право на такое повествование, Осоргин
отвергал обвинения в публицистичности. «Срыв беллетриста в
публицистику, — писал он М.Вишняку, — поистине нетерпим!
Но «публицистический» прием (хотите — трюк), намеренный и
нарочный, так же законен, как всякий иной прием, как геогра­
фическая карта в «Войне и мире», как объявление в тексте ....
Для беллетриста нет «воспрещенного материала», он имеет пра­
во писать хоть цифрами и таблицами, лишь бы его логарифмы
были поэзией».
Установка на интеллектуальную игру с читателем, идущая от
146
Дидро и Стерна и характерная для литературы XX века, позволяет
автору вводить в повествование рассказ о своей творческой лабо­
ратории, подчеркнуто давать конспективное изложение малосу­
щественного материала.
Среди излюбленных поэтических приемов писателя — анти­
теза. Богатому внутреннему миру своего героя Осоргин противо­
поставляет обывательское существование его жены, сына Жор­
жа. В одних случаях это противопоставление передано через пос­
тупки персонажей. Так, в главке «Цинциннат» сначала расска­
зывается о переживании Егором Егоровичем чуда цветения его
сада (роза, тюльпан, анютины глазки), затем об уничтожении
этого богатства приехавшими «на природу» гостями героя, даже
не заметившими произведенного ими погрома. В другом случае
антитеза проводится чисто языковыми средствами: в главке «За­
бавы Марианны» чуждый Егору Егоровичу мир его «офранцу­
зившейся» жены передан обилием варваризмов (рашель, птитроб, фишю, кюлотин, каш-сакс и т.п.).
Рисуя своих героев, Осоргин не пользуется потоком созна­
ния, внутренними монологами, но материализует сны, видения,
мечты. При этом герои, способные к внутренней жизни, облада­
ют фантазией, соединяют реальность и миф, символику, одухот­
воряют обычные вещи, а не способные —даже в мечтах предель­
но приземлены и конкретны.
В повесть введены атрибуты масонской жизни, ритуалов. Зем­
ное бытие осоргинских персонажей все время соприкасается с
сакральным. Особую роль играет переосмысление библейского
предания о Храме царя Соломона и строителе Хираме (3-я Кни­
га Царств). «Веселый безбожник» Осоргин более чем иронично
описывает Соломона. Для писателя царь, даже если он легендар­
ный, — всегда тиран. Иное дело труженик и моралист Хирам. Не
менее свободно использовал Осоргин вавилоно-ассирийский миф
о богине Иштар. Все имена мифологических персонажей, кроме
Иштар, как и описываемые события, — плод авторского мифо­
творчества.
Мысль о духовной жизни, как высшем смысле существования
человека, проходит и через поздние рассказы писателя (книга «По
поводу белой коробочки»).
Осоргина привлекают люди, умеющие одухотворить мир. Это
может быть слепой, удивительно тонко воспринимающий звуки
и запахи, с нетерпением ожидающий прозрения (ему сделали
удачную операцию) и вдруг осознавший, что его мир богаче мира
окружающих его зрячих мещан («Слепорожденный»). Плохой
уличный певец («Люсьен») и крикливый продавец газет, ежед­
невно выкрикивающий пошлые мировые новости («Газетчик
147
Франсуа»), в противовес своей внешней жизни создают иную:
Люсьен большую часть своего заработка тратит на дорогие розы,
возлагаемые на могилу никогда не существовавшей возлюблен­
ной; Франсуа упоенно кормит птиц в городском саду. Мальчик
Жак долго, слишком долго, возвращается домой из школы, пото­
му что по дороге создает свой совершенно замечательный мир
(«Мечтатель»). Сорока- или пятидесятилетний джентльмен, по­
любив, оказывается в совершенно ином мире («О любви»).
В предваряющем книгу рассказе «По поводу белой коробоч­
ки» писатель показал, что самые обыкновенные вещи и явления
срастаются с человеком и либо одухотворяются им, либо стано­
вятся балластом, тянущим владельца в обывательскую жизнь.
Герои названных рассказов относятся к первой категории. Мир
слепорожденного «состоял из звуков, запахов и намеков на очер­
тания ... Почти безошибочно он отличал белую материю от чер­
ной на ощупь: белая холоднее. Выйдя в сад, он мог знать, что
сегодня небо голубое — по особой ласковости и струящейся теп­
лоте воздуха, по более веселому звуку голосов. Солнце он знал и
любил, ловил его лицом, перекатывал по коже. Воздух при солн­
це настаивался и густел». Еще более тонко Осоргин передает вос­
приятие слепым музыки: «Перед ним вырастала могучая, тыся­
чецветная радуга звуков, каскад неповторимых ощущений ... По­
рой ему казалось, что у каждого звука свой особый запах, тупой,
пряный, домашний, летучий, как дым, или неотвязный, или не­
истребимый. В ином сочетании звуков он улавливал то же ощу­
щение, какое испытывал, выйдя в сад в солнечный день; значит,
это и есть «голубое небо», «зеленая трава» или «красное знамя».
Охваченного любовью немолодого человека Осоргин заставляет
вспомнить предметы его детства и молодости: «Любовь — это свежевыструганная палочка, стопа чистой бумаги, свистулька из вишне­
вой ветки, сотовый мед, венецианская стекляшка ..., свет через
прорезанное в ставне сердечко, вскрывшийся в апреле лед на
рыбной реке, корректура первой книги, шкурка черно-бурой
лисицы, отчаянный «морской житель» на былом московском вер­
бном рынке, в потолок хлопнувшая пробка, звон бубенчика или
детский барабан». Писатель использует преувеличенно востор­
женные романтизированные краски, чтобы показать, что делает
любовь с человеком: «Мир, в котором раньше было только не­
сколько знакомых улочек с рестораном, мясной, зеленной ла­
вочкой, со службой, театром и газетным киоском, а люди ходили
знакомые, достоинством на три с плюсом, — вдруг этот мир осве­
тился и наполнился висячими садами и приветливыми рожами,
поющими осанну той, которая в центре и от которой многоцвет­
ным бисером во все стороны идет неистовое сияние».
148
Другое дело, что судьба их драматична, а финалы рассказов
грустны, как грустна и сама жизнь: слепорожденный, не успев
обрести зрение, уже разочарован в открывающемся ему мире;
Люсьен прогнан с могилы, на которую он много лет клал цветы,
родственником похороненной там женщины; Жак попал под ма­
шину; а почтенный джентльмен, узнав о развратной жизни жены,
умер с горя.
И все же именно они, а не процветающие среди царствующих
над людьми вещей («Судьба», «Аноним»), не рабы догм и пред­
рассудков («Юбилей», «Пустой, но тяжелый случай»), не пбданты
и зануды («Убийство из ненависти») оказываются, по убеждению
Осоргина, вопреки «житейской» логике подлинными победите­
лями в этом суровом и несправедливом мире.
«Прекрасное и неповторимое останется святыней. Листы бу­
маги желтеют, как желтеют лепестки розы, засушенной и спря­
танной на память. Но аромат слов остается», — писал Осоргин в
«Вещах человека». Утверждение это вполне может быть отнесено
и к его собственному творчеству.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Осоргин М . Сивцев В раж ек: Роман. П овесть. Р ассказы /С о с т ., п р едисл. и ком м ент. О .Ю .А вдеевой. — М.: М осковский р аб о чи й , 1990.
К ром е загл авн ого р о м ан а, в к н и гу вош ла «П овесть о сестре», р а с ­
ск азы о со в р ем ен н о сти и «С тари н н ы е р ас ск азы » -м и н и атю р ы . О б с то я ­
тельн ое п ред и сл ови е О .Ю .А вдеевой «Л асточки н е п р е м е н н о п р и л етят...»
содерж и т м н о го ч и сл ен н ы е отсы л ки к и зд ан и ям п и сателя и раб о там о
нем .
Осоргин М . Вольный каменщ ик: П овесть, рассказы . — М .: М оек, р аб о ­
чий, 1992.
К ром е заглавного п р о и звед ен и я, кн и га вклю чает в себя п о зд н и е р а с ­
ск азы п и сателя. П р ед и сл ови е О .Ю .А вдеевой и А .И .С ер к о в а « В о сп и та­
н и е душ и» во м ногом п о вто р яет преды дущ ее. О соб ы й и н тер ес п р ед ­
ставляю т к о м м ен та р и и , сод ерж ащ и е свед ен и я о первы х п у б л и к ац и ях
р ассказов.
Осоргин М . Заметки старого книгоеда /С о ст., вступ. ст. и прим еч. О .Л асунского. — М .: К н и га, 1989.
Х удож ественно и зд ан н ы е статьи писателя о к н и гах , п еч атав ш и е ся в
эм и гр ан тск и х газетах. О тд ел ьн ы м и зд ан и ем за рубеж ом не вы ходи ли .
Зайцев Б. М их.О соргин «Сивцев Вражек» //С о в р е м е н н ы е за п и ск и .
П ариж . - 1928. - № 36. - С. 531-532.
С татья д алеко вы ходит за рам к и рецензии. К ри ти к п рослеж и вает т р а­
ди ц и и А .Белого в ром ане М .О соргина, отм ечает ряд худож ественны х о со ­
бен н остей к ниги. Вместе с тем Б.Зайцеву, к ак и М .Г орьком у, н е н р ав и т­
149
ся, что писатель, к ак ему каж ется, р ав н яет лю дей «с м уравьям и ... , м ы ­
ш ам и , в лучш ем случае л асточкам и, забы вая, что у нас с автором есть н е
только п одвальны е родственники» (с. 532).
Геллер М . М ихаил Осоргин — писатель на все времена //Н о в ы й ж урнал. Н ью -Й о р к. - 1988. - № 171. - С. 127-143.
С татья содерж ит подробны й ан ал и з всего творчества М .О сорги н а, в
том числе его автобиограф ических кн и г. П риводится м ного вы сказы ва­
н и й пи сателя, пом огаю щ их п о н ять его худож ественны й мир.
Марченко Т.В. Осоргин //Л и тер ату р а русского зарубежья 1920-1940. —
М.: Н аследие-Н аука, 1993. — С. 286-320.
К ром е ан ал и за ш ироко известны х работ писателя, статья содерж ит
п одробны й разбор «П овести о сестре» и рассказов писателя.
АЛЕКСЕИ РЕМИЗОВ
( 1877- 1957)
«СКВОЗЬ ОГНЬ СКОРБЕЙ»
Все писавшие о Ремизове неизменно отмечали его необыч­
ную внешность. «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче
выглядывающий из-за очков, в пальтецо и шапочке — Куковников, именно Куковников — человек с этой фамилией причужинкой, надетой на себя Алексеем Михайловичем Ремизовым много
лет позже, в Париже, в числе прочих псевдоимен и обличий ...
Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник,
а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос
его чувствительно движет кончиком, вероятно — принюхиваясь
к тому, что излетает из выпяченных уст». Таким,запомнил Реми­
зова 1918 года писатель К.Федин. Через много лет почти такой
же портрет Ремизова в Париже создал В.Яновский: «Горбатый
гном, закутанный в женский платок или кацавейку, с тихим внят­
ным голосом и острым, умным взглядом... Передвигалось это
существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной
самодельными монстрами и романтическими чучелами». Реми­
зов тщательно поддерживал такой образ чудака, хранителя ста­
рины, всеми гонимого юродивого XX века. Но за этой внеш­
ностью скрывался острый ум, любовь к игре, в которую он ухо­
дил от «века-волкодава». Оборванное нами описание Федина
151
заканчивается словами: «Уста (Ремизова — В.А.) глаголят нечто
скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или струят яз­
вительное, или изливают сердечное, и все это в изысканном, но в
таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, про­
тиралось расшитыми полотенцами, хоронилось на божницах либо
доходило к нам в кованых родительских рундуках». «А.М., — вспо­
минает узнавшая его только в эмиграции и ставшая его добро­
вольным литературным секретарем Наталья Резникова, — очаро­
вывал людей, попадавших у него в обстановку искусства, веселых
шуток, необычного оживления».
Алексей Михайлович Ремизов родился в купеческой семье в
Москве. Москва с ее сорока сороками церквей, легендами и рус­
скостью и строго-религиозное образование выработали у него
неискоренимый интерес к старине, к фольклору, к русской ми­
фологии. Несмотря на то, что семья была богатой, он с детства
познал нужду (мать ушла от отца к братьям, не одобрявшим это­
го шага и ограничившим непокорную сестру и ее шаловливого
сына в средствах). Нужда преследовала его во время учебы в Мос­
ковском университете. Сочувствие к бедным и угнетенным при­
вело его на время в стан революционеров-народников. Случай­
ный арест весной 1896 года (Ремизов заступился за избиваемых
полицией студенток на демонстрации) имел серьезные послед­
ствия: он был исключен из университета и сослан сначала в Пензу,
потом в Усть-Сысольск и наконец в Вологду, где познакомился
с Н.Бердяевым, Б.Савинковым, П.Щеголевым, А.Луначарским.
Здесь он встретился с Серафимой Павловной Довгелло (18761943), ставшей его женой и другом. Здесь же были созданы пер­
вые литературные произведения, отвергнутые реалистами А.Чеховым, В.Короленко, М.Горьким, но понравившиеся постреа­
листу Л.Андрееву. Так с 1902 года началась творческая жизнь
писателя.
К 1917 году Ремизов был уже автором нескольких книг («По­
солонь», «Лимонарь», «За святую Русь. Думы о родной земле»),
двух романов («Пруд» и «Часы»), повестей «Неуемный бубен» и
«Крестовые сестры» и других, в издательстве «Сирин» вышло его
восьмитомное собрание сочинений. Он был признан теперь и
М.Горьким. А.Блок посвятил ему стихотворение «Болотные чер­
тенята». Среди друзей и ценителей его таланта А.Белый, В.Розанов, А.Ахматова, М.Кузмин, Н.Бердяев.
Ремизов остро ощущал надвигающуюся катастрофу. 5-7 ок­
тября 1917 года, за несколько дней до Октябрьских событий, он
написал «Слово о погибели Русской Земли» (опубликовано 29 ок­
тября), в январе 1918 года — «Заповедное слово русскому народу».
Оба они перекликаются с апокалиптическими предвидениями его
152
друга В.Розанова. Ремизов обращается с призывом: «Останови­
тесь же, вымойте руки — они в крови, и лицо — оно в дыму
пороха. Земля ушла, отодвинулась... Русский народ, что ты сде­
лал? Искал свое счастье и все потерял». Писатель не приемлет
«бунтующую Россию», вслед за А.Пушкиным и Ф.Достоевским
считая, что не приведи Господь увидеть «русский бунт, бессмыс­
ленный и беспощадный». «Бунтом жить невозможно», — говорил
он в 1921 году в «Слове», посвященном 40-й годовщине смерти
Ф.Достоевского. Болью и страстью пронизаны слова писателя об
ушедшей России: «Ни песен, ни звезд. Все закрыто, зачернено,
приглушено. И куда ни глянь, одна костлявая неразлучная горь­
кая разлучница мать-беда ... Россия нищая, холодная, голодная
горит огненным словом». И тут же несмотря ни на что утверждал,
что рано или поздно «из-го-рим», «и над просторной изжаждавшей Россией, над выжженной степью и грозящим лесом зажгутся
ясные верные звезды».
В 1921 году Ремизовы решились на отъезд. «В суровое авгус­
товское утро, — писал Ремизов, — покорные судьбе, в скотском
вагоне, как скот убойный, мы подъезжали к границе, оставляя
русскую землю». Горсть этой земли Алексей Михайлович зашил в
ладанку, с которой не расставался до смерти.
Из Ревеля супруги переехали в Берлин, а в 1923 году в Па­
риж, где на улице Буало в доме номер 7 на втором этаже в двух­
комнатной квартире прошла почти безвыездно жизнь писателя.
Он оставался верен себе: в его кабинете куковала кукушка (что и
дало название комнате — «кукушкина»). Возле нее на фоне зо­
лотой бумаги сухая веточка, напоминающая фигурку человека с
привязанной на шнурке гладкой шишкой — Эспри. На протяну­
тых по комнате бечевках разные звери, пестрые человечки, крас­
ное сердце, клешня, носатая птица, рыбьи скелеты, косточки —
колдовские символы. Тут же тибетское ожерелье — подарок Ре­
рихов, его собственные картинки. Еще в 1908 году он создал
«Обезьянью Великую и Вольную палату» (сокращенно «Обезвелволпал») — символ противостояния лживому миру реальности,
присвоил себе титул «старшего канцеляриуса» и выписывал им
же избранным членам Палаты написанные каллиграфическим
почерком «обезьяньи лавровые грамоты». Он продолжал выда­
вать их и в Париже. Князьями и кавалерами ремизовского «Обезвелволпала» были Б.Зайцев (имел ряд «званий»: музыкант и ку­
афер обезьяний, Стрекоза, Князь-Епископ), И.Бунин (Полпред
Баскский, Великий Муфтий), Е.Замятин (Замутий), востоковед
Никитин (Эмир обезьяний). В этой игре было и нечто серьез­
ное: она помогала романтизировать жизнь, уходить от скучной,
как говорил писатель, «необходимости земной». Это была одна
153
сторона жизни Ремизова. Её отразила в своих уже упоминавших­
ся воспоминаниях Н.Резникова.
Характерно однако, что сам писатель хотел оставить потомкам
другой портрет, о чем настойчиво просил другую мемуаристку —
Н.Кодрянскую. Это облик страдальца, искупающего своими стра­
даниями печальную участь своей родины.
Жизнь Ремизовых в эмиграции действительно не была легкой.
Несмотря на высокую оценку его творчества среди эмигрантской
элиты, Ремизов не был понятен широкой читательской аудито­
рии. С 1932 года до начала 50-х годов ему не удалось издать ни
одной книги: он переписывал их от руки и дарил (иногда прода­
вал). Приходилось прилагать немалые усилия, чтобы печататься в
журналах и зарабатывать себе на хлеб. Особенно тяжело жилось
Ремизовым в годы оккупации Парижа немцами. Но и тогда и
впоследствии им помогали многочисленные друзья (Л.Шестов,
С.Прегель, Н.Бердяев, С.Маковский и многие другие). Их стара­
ниями было создано специально для Ремизова издательство «Оплешник», выпустившее несколько его книг, хотя и небольшими
тиражами.
Диалектика этих двух состояний (романтически светлой внут­
ренней жизни и страдания) раскрывает существо натуры Ремизо­
ва, сущность его произведений, выраженную им в одном из част­
ных писем: «Моя тема — задавленная жизнь для создания на зем­
ле “святого места”». Она проходит через все его творчество, со­
здавая причудливый синтез хаоса бытия и сказочного мира, боли,
гнева и насмешки. «Скорбь, лукавство и гнев, — писал Г.Адамович, — вот что отчетливее всего другого входит в ту причудливую
тональность, в которой держится творчество Ремизова, и вот от­
чего трудно дать ему ясную характеристику: черты меж собой слиш­
ком несходны, а переплетены они в книгах слишком тесно. Быва­
ет, что пишет он о России, или о любви, или об одиночестве, — и
пишет так, с такой страстью и огнем, с такой неистовой силой,
что, кажется, вот-вот раскроются какие-то тайны его мысли и
чувства. Но нет, тут же рядом и смешок, да настолько язвитель­
ный, что само собой возникает сомнение: не иронизировал ли он
и тогда, когда взывал к небесам?»
В 1948 году Ремизов принял советское гражданство, но воз­
вращаться на родину не стал. 27 ноября 1957 года он умер.
Творчество Ремизова в эмиграции развивалось по двум на­
правлениям.
Первое — создание автобиографических повествований. На­
писанные в разное время (первое — в 1927 году, последние — на
склоне лет, в 40-50-е годы), они составляют своего рода хронику
жизни писателя: «Подстриженными глазами» (1877 — 1897); «Иве-
754
рень» (1897 — 1905); «Петербургский буерак» (1905 — 1917); «Взвих­
ренная Русь» (1917 — 1921); «Учитель музыки» (1923 —1939);
«Сквозь огнь скорбей» (1940 — 1943). При этом ни одну из выше­
перечисленных книг невозможно воспринимать как сугубо мему­
арную прозу. В каждой из них реальные события совмещены с
вымышленными, перемежаются снами.
Второе направление творчества Ремизова — создание на ос­
нове духовных преданий, житий, древнерусских повестей особо­
го жанра мифологизированной и стилизованной под старину
прозы.
Этапной книгой первого направления, открывающей новую
стилевую манеру в творчестве писателя, становится роман-хро­
ника «Взвихренная Русь». Еще живя на родине, Ремизов создал
зарисовки Петрограда 1917-1918 годов на манер «Временника»
дьяка Ивана Тимофеева XVII века и печатал их в еженедельном
журнале «Народоправие». Именно эти материалы впоследствии
оказались первыми девятью главами романа-хроники «Взвих­
ренная Русь», вышедшего отдельным изданием в 1927 году в
Париже.
Перед читателем проходит «мозаичная летопись частного бы­
тия» (ВАЧалмаев). Писатель нарочито избегает описания исто­
рически значимых событий, о политических деятелях (А.Керен­
ском, М.Родзянко, М.Терещенко, В.Ленине, Л.Троцком) если и
упоминается, то в самом будничном контексте: в разговорах тол­
пы, в снах автора, в слухах. Зато на страницах книги звучат голо­
са десятков простых людей (дворников, кухарок, крестьян, го­
родских обывателей, матросов), сплетающиеся с голосами писа­
телей (А.Блока, АБелого, Д.Мережковского, М.Пришвина, В.Розанова, В.Шишкова), художников (К.Петрова-Водкина, Б.Кустодиева), ученых. Все это создает хор, фреску из множества ос­
колков.
Однако это только одна сторона ремизовского текста. Свое­
образие «Взвихренной Руси» заключается в предоставляемой чи­
тателю двоякой возможности прочтения текста: линейного и не­
линейного. Эти возможности обуславливают двоякую жанровую
природу «Взвихренной Руси»: при линейном прочтении текста
создается иллюзия летописной хроникальности, беспорядка и
спонтанности отбора материала в угоду точной фиксации фак­
тов революционной действительности, независимо от их мас­
штаба, значимости и места свершения. При этом своеобразными
«летописными зачинами», фиксирующими событийный ритм,
становятся как многочисленные упоминания религиозных праз­
дников, так и косвенные намеки на события революционные. В
то же время литературные реминисценции (из собственного твор­
755
чества и из классики), воспоминания, сны, которыми перенасы­
щен текст, объединяются в некую «вертикальную ось», противос­
тоящую мнимой хроникальности текста, создается неомифологический текст.
В книгу вводятся образы, известные читателю по другим ремизовским произведениям, и даже целые фрагменты текстов, со­
зданных писателем до революции. Так, полноправным персона­
жем романа-хроники становится Акумовна «Крестовых сестер»,
живущая все в том же Бурковом дворе (глава «Великая нищета»).
Прямое упоминание о «Крестовых сестрах», как непосредственно,
принадлежащем перу Ремизова реальном литературном тексте
возникает в главке «Лошадь из пчелы». Апофеозом использова­
ния автором этого литературного приема становится упоминание
во «Взвихренной Руси» некоего «Временника», над которым ра­
ботает лирический герой романа-хроники. Таким образом, писа­
тель достигает восприятия событий «Взвихренной Руси» как дей­
ствительности, реальности, не упорядоченной ничьей рациональ­
ной волей, хаотичной и полномасштабной в своем Хаосе на фоне
ее подчеркнуто литературных интерпретаций. Подобный прием
характерен для классической русской литературы, в частности, он
берет свое начало в пушкинском «Евгении Онегине», и Ремизов
играет этой традиционной аурой.
Несмотря на то, что многие текстовые вкрапления из доре­
волюционных произведений вводятся Ремизовым без какой бы
то ни было редакции, их новое контекстное окружение опреде­
ляет происходящее приращение смысла, и прежние рассказы,
подобно лирическим стихотворениям, подвергающимся перециклизации, вступают в новые внутритекстовые связи, а пронизы­
вающая их емкая символика позволяет углубить семантику от­
дельных мотивов.
О той же самой Акумовне говорится: «Прежнее время наря­
жал я Акумовну в елочное серебро, так в серебре старуха и чай
пила, а тут не до чаю, не до серебра. Ой, что-то будет, Господи!
А непременно будет, весь Бурков дом знает — весь Петербург».
Определяющая роль контекста, придающего повествованию
принципиально новую окраску, сказывается и в названиях глав
романа-хроники. Объединяя некоторые главки романа под за­
главием «Весна-Красна» Ремизов отсылает читателя к одноимен­
ному разделу сказочной книги «Посолонь», обращая внимание
на контрастность материала двух книг. В художественном мире
«Взвихренной Руси» фольклорный постоянный эпитет «красна»
становится натуралистичным, а красный — цветом крови. «По­
соленный» мир разрушается, как разрушается и ранняя стилевая
манера писателя, что заставляет исследователей говорить о стиле­
756
вом сломе, происходящем в пореволюционном творчестве Реми­
зова. Персонажи «Посолони» становятся игрушками, мало спо­
собными заинтересовать отчужденное сознание натыкающихся на
них жильцов и красноармейцев.
Творимый абсурд приобретает во многом и фольклорные кор­
ни: тонкая ирония в названии главки «Лошадь из пчелы» содер­
жит мифологическую подоплеку: согласно поверью, воспроизве­
денному Ремизовым ранее в сказке «Божья пчелка» («К МорюОкеану»), пчела уродилась на свет от Фроловского коня. Таким
образом, становится понятным название главки: «Лошадь из пче­
лы» — то есть аномальный, вывернутый ход революционных со­
бытий, составляющий основное содержание главы.
Новый смысл приобретает и главка «Обезьяны», ранее извес­
тная читателям в составе цикла 1910 года «Бедовая доля», а ныне
включенная в одну из главок «Обезвелволпала». Впрочем и сама
великая и вольная палата утратила свой игровой характер. Вся
глава рассказывает об аресте автора и его коллег. Сакральный
царь Асыка низвергнут, старая иерархия утрачена навсегда, иерар­
хия же новая, пореволюционная, оказывается более шутовской,
чем противопоставленная ей альтернатива. Фарс превращается в
трагедию на Сенатской площади. Петушиный крик помешанно­
го надзирателя становится гласом истины, воплем человека,
превращенного революцией в орудие слепой судьбы, юродивого
поневоле: «— И есть тут, сказывали, — шепчет баба с поросен­
ком, — находится надзиратель, петухом кричит: расстреливал и
помешался — петухом кричит».
Параллельно меняются местами «зверский» и «человеческий»
лейтмотивы. Писатель упорно нагнетает как картины зверств че­
ловека, так и противостоящие им картины мук животных, перед
лицом гибели ведущих себя по-человечески. В этом ряду оказы­
ваются и реальная собака, умирающая под забором с кровавой
щепкой в зубах, и «обезьян» из фантастического бурлеска, каз­
нимый солдатами Медного всадника, — трагедии, в которую пре­
вращается карнавальная игра.
Для создания неомифологического текста Ремизов пользует­
ся знакомым читателю по его дореволюционным романам при­
емом превращения сюжетов литературных в архетипические.
Возникая в романе, эти неоархетипы зачастую демонстрируют
незыблемость мировых основ, которые не в состоянии поколе­
бать никакие революции. Так в революционную эпоху повторя­
ется сюжет пушкинского «Домика в Коломне» с приходом в дом
лирического героя мнимой домработницы — Кати (глава «Катя»).
В знаменитом эпизоде с казнью обезьяньего царя на Сенатской
площади (глава «Асыка») отчетливо просматриваются в лири­
157
ческом герое черты пушкинского Евгения — перед нами тот же
знакомый конфликт «маленького человека» с тотальной государ­
ственностью. В рассказе Турки о «водяной голове» нового градо­
начальника Григория Сильвестровича Киреева (глава «Медовый
месяц») просвечивает гротеск «Истории одного города» М.Салтыкова-Щедрина, характеризуя прежний бездумный автоматизм форм
правления соборным городом — страной.
Гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина «в тюрьму под­
вальную посадили: изморозят, изморят — забоится! А ему хоть бы
что — хуже не будет» (глава «Саботаж»). В главе «Четвертый круг»
Ремизов вступает в полемику с Гоголем:
«Гоголь: «поэты берутся не откуда же нибудь из-за
моря, но исходят из своего народа. Это огни, из не­
го же излетевшие, передовые вестники сил его».
— Николай Васильевич! — какие огни? Или не слышите? Один
пепел остался: пепел, зола, годная только, чтобы вынести ее на
совке, да посыпать тротуары. А потом растопчет чья-нибудь аме­
риканская калоша».
Привычные курсивные лейтмотивы из классической литера­
туры («уста к устам и сердце к сердцу», «и звезда с звездою говог
рит», «кремнистый путь блестит», «желанность души») соседству­
ют с курсивными вкраплениями плакатного стиля типа:
«воспрещается лущить семечки садиться на при­
лавок если много людей без дела не надо вхо­
дить в лавку за непослушание будут подвер­
гаться административному
взысканию».
Лозунги встают даже в сильную позицию — эпиграфа:
«Горы мусору у нас —
Надо вывезти сейчас:
Мусор в кухне не копи,
А сжигай его в печи!»
{Глава «На даровых хлебах»).
Ремизов то и дело прибегает к материализации сленга, фра­
зеологизма и т.п. Так, лейтмотив озверения человека в романе
строится изначально на игре со словом «хвост» — очередь за
пайком.
Мифологическая действительность собирается по крупицам из
бытовых деталей и структурирует разрозненные подробности.
Конкретикой измеряются абстракции — «полфунта революцион­
ности» — революционная эпоха, превращаясь в мифологическое
время первотворения, приносит свой язык, свои способы преодо­
ления вселенского хаоса.
Ремизов играет с пространствами, накладывая на современ­
158
ную революционную действительность пространство дантевской
«Божественной комедии» («Четвертый круг»).
Так в бытовое повествование входит ориентированное в пер­
вую очередь на стилистику древнерусской литературы высокое
слово. Тем самым сегодняшний день вписывается в историческую
систему, в результате чего создается «вечное» мифологическое
время.
При этом важна композиционная последовательность «высо­
ких» текстов. Первым является плач-молитва «Красный звон» (глава
«Весна-красна»). Далее в текст книги частично входит «Слово о
погибели русской земли» (глава «Москва»). Оба текста говорят, с
одной стороны, о «горе-зле-кручинном», о «смутном часе», о «по­
верженной России»; с другой — полны надежды на то, что Русь
воспрянет из пепла:
Ты одна неколебимая!
Из гари и смуты выведи
на вольный-белый свет.
И одно утешение, одна у меня надежда: буду терпеливо не­
сти бремя дней, очищу сердце и ум и, если суждено, восста­
ну в светлый день.
Русский народ, настанет Светлый день!
Слышу трепет крыльев над головой.
Это новая Русь —
Русский народ! настанет Светлый день!
Следующий стилистически высокий фрагмент — включенная
во «Взвихренную Русь» первая часть книги стихов Ремизова «Элек­
трон» (Пг., 1919), представляющая из себя ритмизированное пе­
реложение нескольких фрагментов из Гераклита Эфесского. При
этом писатель снимает ту часть раннего текста, которая говорит о
возможности избежать роковой предопределенности (орфику), но
оставляет нетронутым Гераклитов «Гимн всемогущей судьбе»:
Судьба всемогущая!
Великое единство пути!
вверх и вниз,
спасения и гибели!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?
Тем самым гераклитова философия вписывается в структуру
близкого общему пафосу книги библейского текста (Экклезиаст,
Бытие, Апокалипсис). Ремизов утверждает неизбежность страда­
ния как начала искупления и залог будущего воскресения. Эти
мотивы усиливаются в главах «Огненная Россия» и «К звездам»,
чтобы завершиться поэтической лирической главкой-воспоминаниями о церковной службе, ликах святых и простых людях —
159
зодчих и строителях России, ослепленных, но идущих сквозь ту­
ман и верящих:
«Неугасимые огни горят над Россией!»
Заканчивая этой фразой книгу, Ремизов замыкает кольцо, на­
чатое первой главой «Бабушка», также являющейся ранним рас­
сказом писателя (1900). Однако в контексте «Взвихренной Руси»
бытовой эпизод с едущей на поезде измученной старушкой ста­
новится символом возрождения измученной страны: «бабушка,
костромская наша, мать наша, Россия». Образ этот столь важен
писателю, что он появится в середине книги после рассказа о
крушении всех святынь, когда, казалось бы, нет никакой надеж­
ды на обезумевший народ. В подглавке «Белое сердце» (глава «Со­
временные легенды») бабушка своим видом растопила сердца ре­
волюционных матросов и всех пассажиров трамвая (напомним,
что образ трамвая как синонима жизни широко вошел в русскую
литературу XX века. Достаточно назвать А.Блока, В.Маяковского,
О.Мандельштама, Н.Гумилева). По-христиански простившая оби­
жавших ее людей («свои робята»), она, пишет Ремизов, «своим
сердцем с потерей и утратой, белым сердцем приняла всю свою
горючую судьбу», смиренно несет «всю свинцовую тяжесть, весь
крест наш» и еще убеждает спутника в хорошем исходе: «Ты не
беспокойся». «И пошел я в нашу петербургскую темень, понес
сквозь темь белое — тихий свет уверенной веры».
Среди разврата, разрухи, разложения писатель видит бытовые,
но одновременно и глубоко символические проявления человеч­
ности («Мы еще существуем», «Именины», «Анна Каренина»).
«Коли нет ничего, хоть ласковым словом поделиться», — слышит
лирический герой книги слова простой женщины:
«И я точно проснулся —
Вижу небо синее такое, не наше — вся душа потянулась —
не робкая, не забитая —
многорукая — многокрылая —
И я как вырос.
У меня тоже нет ничего, и мне нечем делиться —
я уличный, побиралыцик! — но у меня есть — и оно больше всяких
богатств и запасов — у меня есть слово! И этим словом я хочу по­
делиться: сказать всему разрозненному, избедовавшемуся миру —
человеку, потерянному от отчаяния беспросветно, —
человеку, с завистью мечтающему о зверях, —
человеку, падающему от непосильного труда в жесточайшей
борьбе — быть на земле человеком, —
уст а к уст ам
и сердце к сердцу!»
160
Созданию единого «вертикального» текста, соединению реаль­
ности и мифа способствуют, как уже было отмечено, и сны. Если
в русской классической литературе сон зачастую становится сред­
ством создания характера персонажа, выявляет истинные мотивы
составляющих сюжет событий, то XX столетие существенно рас­
ширяет функции сна в литературе. Для Ремизова становится важ­
ным воспроизведение самой логики-алогии сна в-ее первоздан­
ном, несочиненном виде. Поэтому многие из снов не подлежат
расшифровке, воссоздают лишь общую атмосферу взвинченнос­
ти, тревожности, а порой и успокоения. «Взвихренная Русь» —
одно из первых произведений, в которых появляется специфи­
ческий ремизовский пунктуационный знак — удвоенное тире —
знак, маркирующий границу между явью и сном, бытием и бы­
том. Сны выделяются и графически: отступами от левого поля
«реального» текста. Сон может усиливать абсурдность мира:
«— иду по дорожке в саду. Вижу череп лежит. Нагнулся:
череп. Взял его в руки. Иду и разбираю — и в траву отки­
дываю кости. И когда разобрал весь, говорят мне:
«Это ваш череп».
«Как же так, ведь я жив!»
«Череп ваш».
И я подумал:
«Мой череп —удивительное дело, при жизни! Надо сберечь».
И опять я иду, сбираю кости, чтобы череп составить —
свой.»
Но сон может и давать надежду, сигнализировать о существо­
вании иного вечного бытия, как это происходит в рассказе о за­
топленном водой Невском, где все попутчики рассказчика раз­
брелись:
«Я дальше пошел. А там снег, тихо падает снег и ложится
на землю чистый, как в крещенский сочельник.
И я чую: тишина, как этот крещенский снег, ложится мне
на душу.»
Благодаря появляющимся на страницах «Взвихренной Руси»
снам реальность и фантастика, абсурд и здравый смысл вступают
в поэтическом мире романа-хроники в сложную, причудливую
игру.
Две темы — тема судьбы и тема свободы творчества — про­
низывают в конечном итоге художественную ткань романа-хро­
ники. Революция убивает не только человека, она убивает па­
мять, лишая творца главного творческого импульса. Свобода
творчества убивается не введением цензуры, а сломом быта, без
которого оказывается невозможным никакое бытие: «Есть осо­
бенная «художественная казнь»' — для писателей — это отрывать
6—1662
161
и рассеивать, ни на минуту не оставляя в покое, ни на минуту не
давая человеку сосредоточить мысли». Хроникальность превра­
щается в силу, довлеющую над человеком: именно ее действием
мотивирует Ремизов смерть А.Блока: «Взвихриться над землей,
слышать музыку, и вот будни...», отсутствие сновидений, из ко­
торых вырастает поэзия.
Тема творчества представляет собой композиционный стер­
жень романа-хроники, ибо в ней объединяются сон и реаль­
ность, миф и действительность, личность и революция. Свобо­
да творчества, право на творчество оказываются напрямую свя­
заны с разрешением вопроса об отношении творца к действи­
тельности.
На звучащий в начале романа «достоевский вопрос» «Револю­
ция или чай пить» Ремизов склонен ответить: «Революция». Речь
идет не о приятии Октября, а о приятии судьбы, о чувстве состра­
дания и искупления, которые зародились в душе художника в тя­
желую годину. В момент прозрения у героя рождается: «Да, я тоже
потерял. А ведь мне и в голову не приходило! Конечно ж потерял.
Ну, а мои чувства — жарчайшие чувства и слова, вышедшие из
этих моих чувств, и мои сны — это я получил в жесточайшие
дни». Автор преодолевает хаос жизни, взвихренность Руси своим
словом, воспоминанием: «Какое это счастье унести в жизнь сия­
ющие воспоминания: событие неповторяемое, но живое, живее,
чем было в жизни, потому что, как воспоминание, продуманно и
выражено, и еще потому, что в глубине его горит напоенное све­
том чувство». Трудность сохранения самобытности в мире, где
действуют фатальные силы, оказывается мнимой. И тогда-то и
возникает уверенность в воскресении России.
В годы эмиграции в творчестве Ремизова со всей полнотой
проявляется и вторая тенденция: наряду с оригинальными произ­
ведениями писатель создает знаменитые пересказы-переложения
известных литературных произведений. Среди них «Брунцвик»
(1949-1950), «Бова-королевич» (1952), «Мелюзина» (1950), «Трис­
тан и Изольда» (1953), фабульную основу которых составляют пе­
реводные рыцарские романы, широкую известность получившие
в России в XVI — XVII веках, и обработки собственно древнерус­
ских «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1951) и «Соломонии» (1929), а также фрагмента византийского басенного цик­
ла «Повесть о двух зверях. Ихнелат» (1950). Все эти переложения
тяготеют к объединению их в цикл, причем предпосылкой этого
объединения становится общность проблематики и поэтики ремизовских повестей.
Так, следуя своей убежденности в необходимости возвраще­
ния искаженного годами бытования текста к исконному ориги­
162
налу, Ремизов делает сюжетным стержнем повестей второсте­
пенный эпизод, вводит в текст — в русле полемики с общеизвес­
тным текстом — тему грядущих «слухов», искажающих истин­
ный смысл «увиденного воочию», расширяется круг функций вто­
ростепенных персонажей, возникает фигура рассказчика, окру­
женного деталями ремизовского быта, особым планом повество­
вания становится «книжная среда»: жизнью героев то и дело пра­
вят знакомые им книги, что становится дополнительным источ­
ником анахронизмов, но, с другой стороны, создает иллюзию
действительности и противопоставляет понятию индивидуаль­
ного авторства, ключевому для литературы нового времени, по­
нятие коллективного и анонимного авторства, изначально при­
сутствующее в фольклоре и древней литературе, когда автор не
предполагает собственности в литературном произведении и от­
водит себе роль сказителя, переписчика.
Две из ремизовских повестей-пересказов объединены в мини­
цикл авторской волей: «Соломония» и «Савва Грудцын». Реми­
зов называет цикл «Бесноватые», при этом подчеркивая тот факт,
что образы одержимых бесами интересны для него в первую оче­
редь как образы людей, сильнее других ощущающих на себе дей­
ствие фатальных разрушительных сил, допускаемое равноправ­
ным с ними божественным началом: «Все наполнено жизнью и
нет в мире пустот! И то, что «умирает», живет, только в других,
не «живых» формах», «Бесноватый то же, что раскованный, —
усиленный ритм речи и движения в подхлестывающем танце под
потусторонний или, точнее, изсторонний свист» («Савва Груд­
цын»). Здесь вновь проявляется тяготение писателя к представ­
лению картины мира в духе еретических воззрений манихеев и
богомилов, вполне объяснимое общим направлением творчества
писателя — возрождением мифа, ремифологизацией традицион­
ных жанров и даже литературных текстов. Необходимые для вы­
полнения подобной задачи два полюса — космический и хаоти­
ческий — писатель и находит в уравнивании сил Добра и Зла,
двух мировых начал.
Авторское примечание к повести становится не просто ком­
ментарием, а полноправным эстетическим компонентом, содер­
жащим в себе одновременно фрейдистско-юнгианский анализ
текста древнерусской повести и мотивировку многочисленных
отступлений от общеизвестного текста. В свете такого анализа
ортодоксально-дидактическая «Повесть о Соломонии», в своей
полной («житийной») редакции вошедшая в состав «Жития Про­
копия Устюжского» XVII века, становится повестью о господст­
ве над человеком роковых сил фатума, о невозможности «иссудьбиться» в духе прозы экзистенциализма с эротической подо­
б*
763
сновой: «Бес — фалл — в образе Змия вошел в нее, сжег ее и в ее
крови расчленился — раздробленные живчики «головастики» вце­
пились в нее безотступно». Полемизируя с древнерусским ис­
точником, Ремизов отрицает не только «книжный» язык созда­
теля жития, но и бытовую мотивировку одержимости бесами ге­
роини («поп пьян крестил»), и темный, по-иконному невнят­
ный облик самих бесов: «Поп Иаков держался «древнего благо­
честия», но дара любви протопопа Аввакума к «природному рус­
скому языку» не имел и повесть о чуде исцеления бесноватой ...
написал книжно и довольно-таки путанно. Да и как было не
спутаться? Много ли понимала бесноватая из того, что с ней
происходило? Не больше понимал и духовник. Откровенная ис­
поведь. И все, конечно, «просторечием», бредовая и притом сек­
суальная... Ведь это же редчайший случай — повесть о явлении
фалла, принимающего разные образы, чтобы мучить свою жерт­
ву. А Соломония — жертва, принесенная фаллу». Вписывая древ­
ний сюжет в авторскую систему координат, Ремизов все — вплоть
до рода занятий мужа Соломонии — пастуха — «языческого пас­
тыря» подвергает символическому истолкованию. Из деталей,
согласно жанровым канонам древнерусской житийной повести
XVI века, концентрируемых в источнике вокруг центральной темы
греха и его искупления, нарушения предания, канона и кары за
него, писатель строит новый подтекст хрестоматийной фабулы:
избравшая Бога и избранная Духом не может без страданий спус­
титься в мир плотского, земного, телесного. И христианский обет
безбрачия превращается в отречение от материального мира —
единственное условие исцеления. Предметом изображения в ремйзовской «Соломонии» становится, в первую очередь, извеч­
ный спор двух мировых начал: Добра и Зла, Света и Тьмы, Бо­
жественного и дьявольского. И начала эти оказываются равны­
ми не только в силе своей, но и в правоте. В этом отношении
наиболее интересен возникающий в повести собственно ремизовский персонаж — Ярославка, целиком и полностью принад­
лежащий к миру бесовскому: «и, конечно, не по городу Ярослав­
лю имя той «Ярославки», которую встречает Соломония в своем
видении поддонного царства ... и которой «это можно»... . Ха­
рактерна как сочувственная прорисовка автором образа Ярос­
лавки, так и то, что писатель не обходит его сквозным лейтмоти­
вом света в ключевой сцене поклонения Сатане. Образу Ярос­
лавки соответствует в симметричной композиции повести образ
блаженной Феодоры, этим и объясняется приобретение герои­
ней имени-антипода, отсутствовавшего в древнерусском житии:
если Ярославка поклоняется Яри, земляным силам, то поклоня­
ющаяся силам Света Феодора зовется Богуславкой.
164
Вторая повесть цикла «Савва Грудцын» затрагивает все ту же
проблему подвластности человеческого бытия стихийным силам.
Указанные в примечаниях к повести источники вновь обнажают
объект скрытой полемики — распространенную редакцию отно­
сящейся к XVII веку «Повести о Савве Грудцыне».
Нетрудно заметить, что ремизовская повесть отличается от
своего древнерусского прототипа даже сюжетно: убийство в Козьмодемьянске удваивается убийством Степаниды Саввой, в повес­
твование автор вводит два сна вместо одного, который видит ге­
рой древнерусской повести, да и финал пересказа по-ремизовски
типичен: Савва не принимает монашеский чин, а уходит в неиз­
вестном направлении.
В изображении персонажей древнерусской повести Ремизов
использует весь арсенал средств психологизации и индивидуа­
лизации, известный писателю XX века: герои, вплоть до беса
Виктора Тайных, наделяются полными именами, имена получа­
ют и все второстепенные персонажи, каждый из героев приобре­
тает самобытную речевую характеристику, исповедь Саввы пред­
ставляет собой широко известный к моменту создания повести в
западной литературе «поток сознания»: «...возможно ли меня про­
стить изгладить из вечной памяти непрощаемое моей совестью
между нами была тайна пути этой тайны привели нас к нашему
концу и концы в воду сколько раз в отчаянии я говорил себе
если бы мне разлюбить тебя таких слов ты не произносила и не
могла...»
Бесноватость Саввы Грудцына, подвергающаяся детальному
психологическому анализу на страницах повести, превращается в
попытку разрешить своеобразный парадокс: святая любовь Саввы
к Степаниде, чистота которой подчеркивается во внутренних мо­
нологах героя, противостоит абстрактной концепции христианс­
кой праведности и покаяния, позволяющего откреститься от со­
вместного греха — святой любви. Рядовой грех, привычная для
древнерусского книжника «ступенька в ад» становится у Ремизова
сюжетным стержнем произведения, определяющим его философ­
скую проблематику.
Разрешает сюжетную коллизию Ремизов вновь не в пользу
ортодоксального христианства (как раз его ревнителем стано­
вится в повести бес!). Двоится образ вершащей чудо освобожде­
ния Саввиной души: Богородица остается на иконе, перед кото­
рой Савва получает исцеление, иконописными же чертами на­
деляется сходящая к герою с прощением Степанида: «И тут ба­
гор на ней вспыхнул изумрудом и, разгораясь, переплавился в
лазурь. И я услышал голос, этот голос я с детства помню, какое
участие и какая нежность: «Савва, на праздник в Казанскую ты
165
придешь в мой дом — что на площади у Ветошного ряда. За
твою страдную любовь перед всем народом я чудо явлю над то­
бой». Любовь Саввы, а не покаяние, не отрицание правомернос­
ти им своей любви к Степаниде, становится главным поводом к
искуплению греха, причиной же столь неортодоксальной раз­
вязки служит, по убеждению автора, сама природа мира «этого»,
куда является человек с единственной целью — «страдной». Стра­
данием, уготованным Савве, становится его любовь к Степаниде
— чувство изматывающее и святое, ибо с ведома Высших сил
отдается герой на поругание бесовскому стаду. Выше норм хрис­
тианской нравственности оказывается страдание: страдающий ге­
рой заведомо оправдан, и единственный выход уготован ему после
свершения им своей доли земной — выход из мира, Божьей во­
лей открытого для бесовских сил, поруганного демонами мира.
Совершающаяся в финале ремизовской повести обедня-ли­
тургия из высшего христианского таинства превращается в свое­
образное «окно», сквозь которое постигается истинная сущность
мира: «В Херувимской, в «иже херувимы» есть что-то напевноколдующее. Мне видится саморазмыкающийся замок и вот дверь
настежь, смотри, какое заманчивое поле, синие незабудки, уве­
дет, затянет — по пояс, по горло и оставит одни глаза, гляди:
какой это страшный этот Божий мир, «иже херувимы тайно образующе». Традиционные литургические формулы в контексте
повести наполняются новым смыслом, разрушается ортодоксаль­
ная картина мира и лишь образ юродивого Семена-Летопроводца, уводящего Савву не в рай и не в ад, а из «этого мира», связы­
вает финал ремизовской повести с его христианской подосно­
вой: модель поведения юродивого стереотипна даже для кано­
нического жития — в его непотребстве открывается истинная
вера и правда Божия. Тем не менее возглашаемая в «куковании»
Семена истина превращается в невысказанный протест против
законов мира Божьего: «В дверях юродивый приостановился и,
обернувшись лицом к образам, закуковал. И это его прощальное
с миром какою горечью пронзило заоблачное ангельское “Святсвят”...»
В высшей степени характерен комментарий Ремизова к по­
вести: «Два образа Смутного времени запечатлелись в дуцге рус­
ского народа — Скопин-Шуйский и царевна Ксения, дочь царя
Бориса: Скопин-Шуйский в песне, царевна в повести. И нево­
льно видишь их при имени: Савва и Степанида». Отождествляя
героев повести с историческими лицами, Ремизов переносит от­
крытые им в пересказе древнерусской повести законы мирозда­
ния в мир реальный, исторический. Выявление этих, зачастую
безжалостных и губительных законов, управляющих миром,
166
становится главным итогом творимого автором мифа, в кото­
ром сливаются и история, и древнерусские повести, и русская
сказка.
Общую тенденцию в переработке Ремизовым известных ли­
тературных текстов нагляднее всего отражает и переложение пи­
сателем хрестоматийной «Повести о Петре и Февронии». Сюжетно ремизовская повесть наиболее отличается от древнерус­
ского источника в своем зачине: ее открывает детально психоло­
гизированная история любовных отношений княгини Ольги и
одолевающего ее Змея. При этом писатель своеобразно расстав­
ляет акценты в повести: страдательным персонажем оказывается
княгиня, а ее отношения со Змеем больше напоминают истин­
ную любовь, чем отношения с эгоистичным князем, бросающим
Ольгу на произвол судьбы. Не удивительно, что княгиня, в отли­
чие от древнерусской повести, гибнет вместе со Змеем: одержи­
мый силами судьбы человек в поэтическом мире Ремизова не
способен увернуться от своей Недоли, обречен на гибель. Харак­
терны и поправки, которые вносит писатель в древнерусское
изображение Змея: «В «Февронии» спутали змия (огненный с
белыми крыльями) со змеем-драконом (зеленые крылья, не ог­
ненный, а упругий).»
Если древнерусский книжник-создатель «Повести о Петре и
Февронии» отталкивается от сказочного потенциала, заложен­
ного в сюжете, и приближает повесть к житийной, то Ремизов,
напротив, актуализирует сказочные элементы, а таковым стано­
вится, в первую очередь, вышеупомянутый сюжет с княгиней и
посещающим ее Змеем. Из сказки заимствует писатель и тради­
ционный мотив превращения героиней крошек со стола в драго­
ценности и ладан на зависть недоброжелателям.
Наконец, финал повести совсем удаляется от покойного жи­
тийного «преставления» и превращается в демонический вылет
«ведьмы» из гроба: «С вечера в день похорон поднялась над Му­
ромом гроза. И к полночи загремело. Дорога до города из Воз­
движенья вшибь и выворачивало — неуспокоенная, выбила Феврония крышку гроба, поднялась грозой и летела в Собор к Пет­
ру. Полыхавшая молнья освещала ей путь, белый огонь выби­
вался из-под туго сжатых век, и губы ее дрожали от немевших
слов проклятия». О том, насколько сознательно Ремизов стре­
мился именно к такому превращению героини первоисточника,
свидетельствуют замечания самого писателя в ходе работы над
циклом «Бесноватые»: «Мне не нравится моя Феврония, в ней я
не слышу визга боли, она «мудрая», а значит, спокойная, а ведь
мне надо, чтобы человек от тоски загрыз землю, это мое. У Фев­
ронии есть гнев и магия, но какая же во мне магия, и поэтому
167
выходит формально, словесно». Поводов к трансформации хрес­
томатийного образа писатель находит, таким образом, сразу не­
сколько: это и мельком упомянутое в повести колдовство Февронии, доведенное до предела согласно логике; и волнующая
писателя проблема фатального несчастья, которое несет челове­
ку бытие в мире, — именно так воспринимается эпизод повести,
в котором Петр и Феврония изгоняются из города; и необходи­
мость рассказать повесть в сказовой манере, т.е. с эффектом не
просто присутствия рассказчика, но его вживания в каждый из
образов, залогом успешности которого становится родственность
душевного склада автора и героя.
В текст древнерусской повести вводится и отсутствующий в
первоисточнике чисто ремизовский персонаж — мальчик Ласка:
«В Муроме ходил беспризорный, звали его Ласка — Алексеем.
Таким представится Нестерову Радонежский отрок в березовом
лесу под свежей веткой, руки крепко сжаты, в глазах лазурь, по­
дымется с земли и улетит». Персонаж этот, наделенный автоби­
ографическим именем, существо в одинаковой степени всеведу­
щее и бессильное, страдательное, беспричинно гибнущее в не­
умолимой жестокости мира.
Вновь Ремизов вводит в текст не только детали из разных ре­
дакций древнерусского памятника, но и характерные реконструк­
ции отдельных его моментов, содержащиеся в известных писате­
лю научных статьях: так история происхождения Агрикова меча,
возникающая на страницах ремизовской повести, повторяет ги­
потезу М.О.Скрипиль (Скрипиль М.О. Повесть о Петре и Февронии Муромских в ее отношении к русской сказке. / / Труды отде­
ла древнерусской литературы Пушкинского дома. T.VII. — М.-Л.,
1949).
Автор возводит героев в архетипы, формулируя извечную
проблему «неразлучной любви, человеческой волей нерастор­
жимой»: «Повесть кончена. Остается загадка жизни: неразлуч­
ная любовь — Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Петр и
Феврония».
Пафос противоречия общеизвестной истине канонической
веры позволяет рассматривать ремизовскую повесть о Петре и
Февронии в ряду упоминаемых выше повестей из цикла «Бесно­
ватые». Как и в «Савве Грудцыне», на страницах повести возни­
кает специфическое разрешение проблемы греха и его искупле­
ния. Грех искупается не покаянием, а волей страдающего в зем­
ном своем бытии человека к жизни в этом мире: «Согрешишь,
покаешься и спасешься!» — какой это хитрец, льстя злодеям,
ляпнул? Грех неискупаем. И только воля пострадавшего власт­
на». В результате такой трактовки темы покаяния — краеуголь­
168
ного камня, на котором строится христианская мораль, христи­
анство в поэтической системе ремизовских обработок древне­
русских повестей превращается в эстетическую категорию, что
материально выражается в тексте рядом характерных тропов, ком­
прометирующих высшую правду ортодоксальной церковности:
«Последние монашки черными змеями расползлись из церкви».
Наряду с данной, еще две проблемы формируют единую про­
блематику всех ремизовских повестей-пересказов — проблема
любви и проблема судьбы, неизбежно горькой, которую «конем
не объедешь». Подобно древнерусскому книжнику, манеру ра­
боты которого с литературным текстом с точностью до мелочей
имитирует писатель, Ремизов создает в каждой из своих повес­
тей одну из редакций распространенных текстов, причем редак­
цию «выправленную», достоверную, отображающую, в отличие
от древних редакций, истинную, с точки зрения писателя XX сто­
летия, картину мира и роль в этом мире персонажей.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ремизов А. В зви хрен н ая Русь. /В сту п . ст. и л и т -и с т о р . к о м м ен т.
В.А .Чалмаева. — М .: Сов. Россия, 1990.
П ервое и зд ан и е р о м ан а н а родине. П редисловие дает ш и рокую к ар ­
ти н у эпохи, в которую создавался ром ан. И м ею тся ссы лки н а зарубеж ­
ны е и здания, п ред ставл яю щ и е интерес для исследователей.
Ремизов А. С очинения: В 2 кн. /С о ст., предисл. и к ом м ен т. А .Н .У ж ан кова. — М.: Т ерра, 1993.
Д вухтомник вк л ю ч ает в себя п роизведения, н ап и сан н ы е Р ем и зо вы м
на основе ф ол ькл орн ы х, древнерусских, духовны х сю ж етов. Т ом 1 вк л ю ­
чает наряду с д о р е в о л ю ц и о н н ы м и прои зведен и ям и п и сателя и здан н ую в
1924 г. книгу « З вен и город ок ли к ан н ы й . Н и ко л и н ы притчи». Т ом 2 в о с­
н овн ом состоит и з п ро и звед ен и й , созданны х в эм и грац и и : «П овесть о
двух зверях», «Б есноваты е. С авва Грудцын и С олом он и я», «М елю зина»,
«Брунцвик», «Т ристан и И зольда», «Бова-королевич», «П етр и Ф е в р о н и я
М уромские», «К руг счастья. Л егенды о царе С олом оне».
И здание п р ед варяется небольш ой, н о весьма и н ф о р м ати в н о й статьей
А .Н .У ж анкова « О си ян н о е слово (А .М .Ремизов)».
Ремизов А. Н еуемны й бубен /С о ст., вступ. ст. и к ом м ен т. В .А .Ч алм ае­
ва. — К и ш инев, 1988.
Издание интересно вклю чением в него 14 глав и з кни ги «П одстриж ен­
ны м и глазами», 9 глав из к ниги «Огонь вещей» и 4 — и з книги «Встречи»
(о Горьком, Ш аляпине, Д ворецком и Дягилевских вечерах в П ариже).
В п ри лож ен и и д а н ы главы из к ниги Н .В .Р езн и к о во й «О гн ен н ая п а ­
мять», отн осящ и еся к Рем изову.
Ильин Н А . О тьм е и просветлении. Книга художественной критики:
Бунин. Ремизов. Ш м елев. — М.: С киф ы , 1991. — С. 79-134.
О дно из лучш их и сследований творчества п исателя, н есм отря н а н е ­
которую те н д ен ц и о зн о сть и стрем ление сблизить отн о ш ен и е Р ем и зова к
169
ортодоксальном у христианству с толстовством . Ф и л осо ф вы двигает сл е­
дую щ ую к о н ц еп ц и ю творчества писателя: «Д ля Рем изова ж ить — зн ачи т
м учаться сердцем; страдая — мечтать; м ечтая улы баться; улы баясь — п и ­
сать». В ы сказан ряд интересны х зам ечан и й об особенностях р ем и зо вско го словотворчества и м иф отворчества.
Кодрянская Н. Алексей Ремизов. — П ар и ж , 1959.
К н и га является в первую очередь у н и к ал ьн ы м собранием зам ето к
сам ого пи сателя о природе своего творчества, н овы х замы слах, вере, п о ­
лучен н ы х автором от самого писателя. О дин и з разделов кн и ги состав­
л яю т н ад п и си Р ем изова на собственны х к н и га х , иллю стрирую щ ие судь­
бы п р о и зведен и й и отнош ение к н и м п и сателя. С одерж атся и со б ствен ­
ны е во сп о м и н ан и я Н .А .К одрянской.
Адамович Г. Одиночество и свобода: Л и тер ату р н о -к р и ти ч ески е статьи.
- С П б .: Logos, 1993. - С. 92-102.
В сб орн и ке известного поэта и к р и ти к а русского зарубеж ья содер­
ж и тся статья «Ремизов», рассм атриваю щ ая во п р о с о взаи м о о тн о ш ен и и
творчества Р ем изова с наследием Д остоевского и других п р ед ш ествен н и ­
ков и ан али зи рую щ ая язы к писателя.
Чалмаев В.А. Ремизов //Л и тер а ту р а р усск ого зарубежья. 1920-1940. —
М .: Н асл еди е-Н аука, 1993. — С. 144-177.
П убликатор и зн аток творчества Р ем и зова, В .А Л ал м аев п р о сл еж и ва­
ет творческий путь писателя в контексте и дейно-худож ествен н ы х и ск а­
н и й X X века. К ром е ан ал и за «В звихренной Р уси», статья содерж ит о б ­
сто ятел ьн ы й разбор ром ана «Учитель м узы ки» (1949).
Грачева А.М . Древнерусские повести в пересказах А .М .Рем изова // Р у с ­
ская литература. — 1989. — № 2. — С. 110-117.
О дна и з ведущ их рем изоведов Р оссии А .М .Г рачева обобщ ила м ате­
ри алы ряда своих предыдущ их статей, соп оставл яю щ и х прозу Р ем и зо ва с
п ервои сточ н и кам и . В работе вы явлены ти п ол оги ческ и е о со б ен н о сти рем и зо вски х вольны х п ер еск азов-п ерел ож ен и й древнерусски х текстов.
Алексей Ремизов. Исследования и материалы. /О тв . ред. А .М .Грачева. —
С П б.: Д м и трий Буланин, 1994.
К н и га явл яется п о сл едн и м словом со в р е м е н н о го р ем и зо вед ен и я.
В клю чает в себя статьи русских и зарубеж ны х исследователей. О б эм и г­
р ан тск о м периоде ж и зн и А. Р ем и зова статьи О . Р аевской -Х ью з «О браз
С .П .Р ем и зовой -Д овгел л о в творчестве А .М .Р ем изова», С .Н .Д о ц ен ко «Ав­
тоби о гр аф и ч еское» и «ап окриф ическое» в творчестве А .М .Р ем и зо ва» ,
А н тон еллы д'А м ел и и «П оздние повести Р ем и зова: в пои сках ж ан ра»,
Н .Ю .Г р якал овой «А .Ремизов в работе над к н и го й «П авлиньим пером »,
Ю .М о л о ка «О граф ических текстах А лексея Рем изова», а такж е р яд во с­
п о м и н ан и й о писателе. И меется указатель и м ен .
Синани Э. Структурная композиция «Взвихренной Руси» //A R e m iz o v —
approaches to a protean w riter — C olum bus (O hio), 1987. (U C LA Slavic studes;
vol. 16). - P. 237-244.
С татья обосновы вает тезис о н еп р а в о м ер н о с ти отн есен и я к н и ги к
м ем уарн ы м произведениям . А втор п о к азы в ает, что «Взвихренная Русь»
н ап и с ан а по кан он ам худож ественной прозы .
ПО
МАРК АЛДАНОВ (ЛАНДАУ)
( 1886 - 1957)
«УМ РЕЗКИЙ, СИЛЬНЫЙ И НАСМЕШЛИВЫЙ»*
«В молодости он был внешне элегантен, от него веяло ка­
ким-то подлинным благородством и аристократизмом. В Пари­
же в начале 30-х годов М.А.Алданов был такой: выше среднего
роста, правильные, приятные черты лица, черные волосы с про­
бором набок, «европейские», коротко подстриженные щеточкой
усы. Внимательные, немного грустные глаза прямо, как-то даже
упорно глядели на собеседника... С годами внешнее изящество
стало исчезать. Волосы побелели и как-то спутались, появилась
полнота, одышка, мелкие недомогания. Но внутренний духов­
ный аристократизм Алданова остался, ум работал строго, с бес­
пощадной логикой». Таким запомнил Марка Алданова писатель
Андрей Седых. Дополнением к этому портрету служит вырази­
тельная характеристика Алданова И.Буниным, неоднократно
выдвигавшим коллегу на Нобелевскую премию: «Последний
джентльмен русской эмиграции». «Алданов, — развивал эту ха­
рактеристику Г.Адамович, — был человеком, в котором ни разу
не пришлось ощутить ничего, что искажало бы представление о
человеке ... Ни разу за все мои встречи с ним он не сказал ниче­
го злобного, ничего мелкого или мелочного, не проявил ни к
* Глава н ап и с ан а совм естно с канд. ф илол. н ау к Н .С .В ы го н .
171
кому зависти, никого не высмеял, ничем не похвастался — ни­
чем, ни о ком, никогда ... Алданов с досадой и недоумением
смотрел на «человеческую комедию» во всех ее проявлениях.
Интриги, ссоры, соперничество, самолюбование, счеты, игра лок­
тями — все это в его поведении и его словах полностью отсут­
ствовало ... Меня подкупала в Алданове его трезвость — и грусть,
как вывод из трезвости или результат ее».
Таким же он оставался и в своих произведениях: «гуманистом,
не верящим в прогресс» (М.Карпович), снисходительно взираю­
щим на людские слабости, добродушно иронизирующим над че­
ловеческой погруженностью в суету сует, но не прощающим, ког­
да эти потуги приводили к крови и человеческим жертвам.
Марк Александрович Ландау (Алданов — псевдоним, анограмма
его фамилии) родился в Киеве в богатой и интеллигентной семье.
Получил прекрасное образование, владел несколькими языками.
В 1910 году закончил два факультета Киевского университета, став
одновременно юристом и химиком. Ему принадлежит ряд серьез­
ных работ в области химии. Во время Первой мировой войны
разрабатывал способы защиты населения Петрограда от химичес­
кого оружия. Позднее, уже в эмиграции, им написаны и опубли­
кованы на французском языке книги «Актинохимия» (1936) и
«К возможности новых концепций в химии» (1950).
В литературе дебютировал в 1915 году как литературовед-эс­
сеист книгой «Толстой и Роллан», где доказывал силу реалисти­
ческого метода. С тех пор Толстой всегда оставался для Алданова недосягаемой вершиной и образцом писательского совершен­
ства. «Он произносил два слова «Лев Николаевич» почти так,
как люди верующие говорят «Господь Бог», — вспоминал Г.Ада­
мович.
Свое отношение к Октябрьским событиям 17-го года Алда­
нов выразил, сравнив их с Армагеддоном, местом, куда, по «От­
кровению Иоанна Богослова (Апокалипсису)», «бесовские духи
выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на
брань». Книга Алданова «Армагеддон» (1919) была конфискова­
на большевиками немедленно после ее выхода.
После неудачной заграничной поездки 1918 года по европей­
ским столицам с делегацией Союза возрождения России, объ­
единившего все оппозиционные большевикам партии, — ни
денег, ни оружия делегация не получила — Алданов в марте
1919 года покидает Одессу и через Константинополь уезжает в
Париж. 1922-1924 годы он проводит в Берлине. Здесь он встре­
тился с Татьяной Марковной Зайцевой, ставшей его женой и
верным другом на всю жизнь. До Второй мировой войны супру­
ги жили в Париже.
172
Первая же написанная им повесть «Святая Елена, маленький
остров» (1921) открывает Алданову дорогу в лучший журнал рус­
ской эмиграции «Современные записки». Никому неизвестный
начинающий писатель быстро завоевывает признание как в ли­
тературном мире, так и среди читателей. Все (!) его основные
произведения печатаются именно в «Современных записках».
Почти в каждом номере журнала — его рецензии, аннотации.
Алданова наперебой приглашают «Последние новости», «Дни»,
«Русские записки», «Иллюстрированная Россия».
Свою деятельность романиста (до войны им написано 8 рома­
нов и несколько повестей) Алданов сочетает с публицистикой. В
его книги «Современники» (1928, 1932), «Портреты» (1931, 1936),
«Земли и люди» (1932) входят очерки-портреты Сталина и Гитле­
ра, Пилсудского и Муссолини, Брегана и Клемансо, Черчилля и
Ганди, Азефа и Махно.
В начале Второй мировой войны писатель уехал в США, где
стал одним из организаторов «Нового журнала» — преемника
«Современных записок». В 1947 году Алдановы вернулись во
Францию и до конца своих дней жили в Ницце. Здесь написаны
еще 7 романов, несколько остросюжетных рассказов («Микро­
фон», «Номер 14», «Фельдмаршал», «Грета») и книга философс­
ких диалогов «Ульмская ночь» (1953), посвященная проблеме слу­
чая в истории и помогающая понять историософскую мысль ро­
манов писателя.
В ноябре 1956 года общественность Запада и русской диаспо­
ры отметила его 70-летие. Сам писатель со свойственной ему иро­
нией назвал это «репетицией панихиды» и весьма интересовался,
что добавят к ней некрологи. Ждать оставалось недолго. Через
три месяца Алданов умер. Легкой смертью: во сне.
Его литературное наследство, по подсчетам литературоведов,
составит около 40 томов. Книги его переведены на 24 языка. С
1988 года произведения писателя стали возвращаться на родину.
Немалая заслуга в этом принадлежит литературоведу и критику
А.А.Чернышеву, стараниями которого вышли два 6-томных Со­
брания сочинений Алданова, дополняющих друг друга.
Всю свою жизнь М.Апданов писал по-существу одну гранди­
озную книгу о месте России в европейской истории. Как вспоми­
нает Г.Кузнецова в «Грасском дневнике», он категорически не
принимал распространенное среди значительной части эмигра­
ции мнение, что «на Западе все было по-светлому, а у нас было
рабство, дикость». «Что вы роете этот ров между Западом и нами —
«Азией»... Мы не Азия, а только запоздавшая Европа», — утверж­
дал Алданов, неизменно находя в этом вопросе поддержку И.Бу­
нина.
173
Выстроенные в один ряд, его книги на исторические темы ох­
ватывают период с 1762 по 1952 годы. От царствования Петра III
до Сталина. Среди персонажей его произведений Екатерина II,
Павел I, Александр I, Наполеон, Робеспьер, Ленин, Ломоносов,
Суворов, Миних, Нельсон, Гамильтон, Байрон, Бальзак — всех не
перечислить.
При достаточной самостоятельности каждого романа или по­
вести они объединяются в трилогии и тетралогии, проникнутые
той или иной единой мыслью.
Первую такую тетралогию составляют романы, объединен­
ные под общим заголовком «Мыслитель»: «Девятое термидора»
(1921-1922), «Чертов мост» (1924-1925), «Заговор» (1926-1927),
«Святая Елена, маленький остров» (1921). Происхождение на­
звания тетралогии объяснено М.Алдановым в предисловии к
первому изданию «Девятого термидора»: «Мыслитель», или
«Дьявол-мыслитель» — химера, находящаяся на вершине собора
Парижской Богоматери. В фигурке «дьявола с горбатым носом,
с хилыми руками, с высунутым над звериной губой языком»,
описанной в видении Наполеона из последней части тетрало­
гии, скрывается символ истории, всегда насмешливой и разви­
вающейся без всяких законов, волей дьявола-случая.
Эта мысль отчетливо прослеживается уже в «Святой Елене,
маленьком острове», посвященном последним дням жизни На­
полеона Бонапарта.
Однако в центре повествования не фигура поверженного им­
ператора, а история Сузи Джонсон, падчерицы английского гу­
бернатора острова Св. Елены, и Александра де Бальмена, преус­
певающего русского дипломата, комиссара императора Алексан­
дра при плененном Наполеоне.
Так уже с первого своего произведения, уравновесив «обык­
новенных» людей и «великого», Алданов утвердит свой интерес
к человеку, а не его месту в исторической иерархии. Выбор в
качестве повествователя обычного человека восходит к пушкин­
ской традиции изображения истории «домашним образом» (гла­
зами дворянского недоросля Петра Гринева), к толстовскому
взгляду на историю через призму судеб множества весьма дале­
ких от принятия исторических решений людей. У Алданова, как
и у Л.Толстого и А.Франса, справедливо писал М.Карпович, «ис­
тория подается не в ее «парадном» аспекте, а в ее «человеческом,
слишком человеческом» обличье. Алданова-романиста интере­
суют кулисы, а не фасад истории. История важна для него не
сама по себе, а лишь поскольку она отражается на судьбе людей,
и в первую очередь людей «неисторических».
В судьбу английской девочки из родовитой, но не слишком
174
знатной семьи император Наполеон, покоритель мира и кумир
романтической молодежи, вошел как «злой Бони», лишивший
ее и других английских девочек традиционного обеденного де­
серта — сладкого пудинга, потому что злой Бони устроил доброй
старой Англии континентальную блокаду. Он и предводитель­
ствуемые им страшные французы хотели погубить дорогую ста­
рую страну, но дорогой герцог Веллингтон и кузен Эдди победи­
ли злодея; им немножко помогли русские, хороший народ, ко­
торый живет в снегу с медведями, питается сальными свечками,
но любит дорогую старую страну до такой степени, что его ко­
роль Александр и русский граф, фамилию которого невозможно
выговорить, чтобы сделать приятное королю Георгу, даже сожг­
ли свою столицу Москву, куда забрался «злой Бони».
С великолепным чувством меры создаваемая ироническая то­
нальность к ограниченному английским снобизмом и обыватель­
скими рамками восприятию истории, не мешают писателю в це­
лом весьма доброжелательно показать саму девушку.
Такое же отношение у Алданова и к де Бальмену. С одной
стороны, автор по достоинству оценивает ум этого человека, при­
сущую ему русскую совестливость. С другой — любовные дела
дипломата, его интерес к деланию карьеры вызывает столь же
ироничное отношение Алданова, как и поведение людей из ок­
ружения опального Наполеона. Каждый из «верных до гроба»
императору преследует личные мотивы: стать биографом вели­
кого человека, поймать луч отраженного света его славы или
попросту унаследовать часть его богатства. Характерно, что алдановский Наполеон, подобно самому писателю, снисходитель­
но относится к этому: таков род людской. Только в очень пло­
хом настроении Бонапарт бросает генералу Гурго, в сотый раз
повествующему, как он во время битвы спас императора от пики
казака, что не видел в этот день рядом с собой ни казака, ни
самого генерала.
В еще меньшей степени ирония Алданова относится к На­
полеону.
Созданная Алдановым фигура ссыльного императора резко
отличается и от трагического Наполеона, вошедшего в русскую и
европейскую романтическую поэзию; и от эгоиста, лицемера и
ничтожества, каким увидел и запечатлел Бонапарта Л.Толстой.
Развенчанному герою не изменили ни его феноменальная память,
ни колоссальная работоспособность. Более того, преумножился
его человеческий и политический опыт. Но мир устал от его дел,
а он утомился от того, что не было больше дела.
Наполеон появляется на страницах повести бросающим ка­
мешки в речку и смеющимся оттого, что рыбешки, вспугиваемые
175
падением, разлетались в стороны. Это зрелище Вызывает смер­
тельный ужас у блестящего дипломата де Бальмена: способный с
одинаковой обстоятельностью завязывать новомодным узлом гал­
стук и примерять к своей судьбе роль заговорщика в некоем Со­
юзе Благоденствия, Бальмен внезапно осознает: «Какой вздор!..
Какой жалкий вздор были эти мечты: карьера, заговор, Пестель,
Нессельроде!.. Этот человек, кидающий камешки в воду, был вла­
дыкой мира... Все пусто, все ложь, все обман...»
Относительность славы, тщетность суеты сует подчеркивает
в конце романа анекдотичная и вместе с тем глубоко философс­
кая фигура садовника-малайца Тоби, никогда не слышавшего о
Наполеоне. В час похорон Наполеона Тоби недоумевает, почему
стреляют пушки, куда отправились все люди и сам «раджа» ос­
трова. И когда ему объясняют, что хоронят великого человека,
покорившего весь мир, Тоби усмехается про себя невежеству
окружающих: ведь владыка мира, малайский раджа Сири-ТриБувана, скончался много лет назад, еще до рождения отца его
отца.
Коллизия внезапной перемены участи, вознесения на верши­
ны славы или крушения еще недавно могущественного человека,
а то и государства, часто использовалась в исторической прозе.
Л.Толстой видел в таких судьбах подтверждение своей концепции
исторического фатализма — предопределенности событий, на ко­
торую не могут повлиять отдельные люди, считающие себя твор­
цами истории: она складывается из множества мельчайших пос­
тупков и желаний «роевой» жизни народа. В конечном счете из
божественного промысла. Д. Мережковский считал исторический
процесс земным воплощением вечной битвы божественного и
дьвольского начал.
Таким образом, ирония Алданова направлена не столько на
отдельных персонажей (несовершенства рода людского заслужи­
вают лишь снисходительной улыбки), сколько на сам .историчес­
кий процесс.
Умирающий Наполеон недоумевает: «Но если Господь Бог
специально занимался моей жизнью, ...то что же Ему угодно было
сказать? Непонятно...» Также загадочно совпадение оборванной
записи в его школьной тетради по географии «Святая Елена,
маленький остров...» со смертью именно на этом острове. «Что
остановило мою руку? Да, что остановило мою руку?» — с вне­
запным ужасом спрашивает себя, приближенных или еще когото умирающий Наполеон.
Недавний любимец Фортуны, а теперь печальный и смер­
тельно усталый человек, Наполеон приходит в конце жизни к
выводу, что своими победами и славой он обязан только случаю.
176
Именно поэтому он прекращает диктовать историю своих похо­
дов: «Сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпри­
нятых им делах, в несбывшихся надеждах и нежданных удачах».
«Его Величество Случай» — это и есть главное действующее
лицо истории по Алданову. Эти слова он писал с заглавных букв
и утверждал: нет поступательного движения вперед («Прогресс?
Человечество идет назад, и мы в первых рядах», «Пулемет заме­
нил пищаль, вот и весь прогресс с XVI века»); нет никаких пред­
определенностей — сама жизнь на земле случайность, результат
грандиозных и бессмысленных космических катаклизмов; ни бо­
жественный промысел, ни естественные законы не определяют
развития событий. При этом принцип причинности не отрица­
ется, но вместо единой цепи причин и следствий Алданов видит
в истории бесконечное множество таких цепей. И если в одной
цепи каждое звено действительно связано с предыдущим и пос­
ледующим, то скрещение многих цепей, которое и лежит в ос­
нове события, зависит только от случая. Наиболее полно эти
положения писатель сформулировал в итоговой книге «Ульм­
ская ночь. Философия случая». Но они присутствуют и во всех
его художественных произведениях.
«Основной стихией человеческого существования, — писал ис­
торик А.Кизеветгер, — Алданов считает то, что может быть назва­
но иронией судьбы. Алданов на пространстве каждого своего ро­
мана несколько раз переходит от ничтожных происшествий к гром­
ким историческим событиям и обратно. Все эти переходы, при
самом ярком различии жизненных красок, бьют в одну точку: и
маленькие люди, участвующие в ничтожных происшествиях, и
носители крупных исторических имен, разыгрывающие торжес­
твенные акты мировой истории, — оказываются на поверку в оди­
наковой мере жертвами этой самой иронии судьбы, которая од­
них людей заставляет копошиться в безвестности, в невидимых
закоулках жизни, других возносит на высоты славы — зачем?
Только затем, чтобы и тех и других привести в конце концов к
одному знаменателю — на положение осенних листьев, которые
крутятся, сталкиваются и исчезают, подхватываемые жизненным
вихрем...»
На первый взгляд такое понимание истории пессимистично и
даже антигуманно. Но лишь на первый взгляд. Казалось бы, теле­
ологическая концепция (путь к Царству Божьему) или социоло­
гическая (к коммунизму) более продуктивны. Но не случайно во
имя святой цели инквизиция отправляла на костер тысячи, а дик­
татура пролетариата в ГУЛАГ миллионы людей.
Но если цели исторического развития нет, то и циничное
«цель оправдывает средства» не существует. Напротив, остается
177
только один вопрос: о нравственности или безнравственности
средств. Более того, там, где существуют разные вероятности, су­
ществует и возможность выбора между ними. А следовательно,
повышается степень личной свободы и ответственности. Свобода
для Алданова — непреходящая ценность, она превыше всего, ее
нельзя принести в жертву ничему другому, «никакое народное
волеизъявление ее отменить не вправе: есть вещи, которые народ
у человека отнять не может» («Ульмская ночь»). Наконец, там,
где существует возможность выбора, в центре оказывается тот,
кто выбирает, в случайных обстоятельствах проявляется его лич­
ная мораль, его ответственность, его вина и его свобода.
Именно так следует понимать финал «Святой Елены...» На­
полеон волей случая оказался на острове Св. Елены, стал изгнан­
ником. Но далеко не случайным, а его сущностным проявлением
стал тот факт, что в предсмертный час полководец, увидев во сне
вражеское нашествие на родную Францию, почти в агонии стал
диктовать план отражения этого воображаемого нашествия. Так
проявились в нем лучшие человеческие черты, то великое, что
было в его характере и душе.
Философия случая не мешала проявлению писательского гу­
манизма, а наоборот способствовала ему.
Уже в первом произведении Алданова обозначен и его посто­
янный принцип художественного воплощения исторической эпо­
хи: энциклопедически образованный автор скрупулезно точен в
воссоздании исторических деталей и подробностей (тот же А.Кизеветтер писал: «Здесь под каждой исторической картиной и каж­
дым историческим силуэтом вы можете смело пометить: «С под­
линным верно»). Но в отличие от Д.Мережковского Алданов не
превращает свои романы в перечни предметов, вещей, историчес­
ких реалий. Описание вещного мира у него не самоцель, а та
стихия, которая, меняясь в зависимости от эпохи, тем не менее
является необходимым сопровождением человеческого существо­
вания и сопутствует человеку во все века.
Есть в «Святой Елене...» и подходы к главной теме всего
творчества Алданова — революции. Свидетель революционных ка­
таклизмов XX века, писатель искал прообраз революции в разных
столетиях. Его Наполеон говорит, что революция страшная, но
большая сила, так как ненависть бедняка к богачу не знает предела.
Но еще важнее другой вывод Бонапарта: «Революция всегда ведь
делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше других.
Я и после Ватерлоо мог бы спасти свой престол, если б натравил
бедняков на богачей. Но я не пожелал стать королем жакерии... Я
наблюдал революцию вблизи, и потому ее ненавижу, хотя она меня
родила. Порядок — величайшее благо общества».
178
Стремление исследовать феномен революции, найти паралле­
ли русской и Великой французской революции вызвало на свет
следующий роман Алданова «Девятое термидора». За ним после­
довали романы из русской истории конца XVIII — начала XIX
веков: «Чертов мост» (смерть Екатерины II, итальянский поход
Суворова с его знаменитым переходом через Альпы), «Заговор»
(история убийства Павла I).
Помимо единства исторической концепции и общности исто­
рической эпохи, эти книги объединены присущими Алданову ком­
позиционно-сюжетными решениями: основу сюжета составляют
жизни вымышленных персонажей, волей случая вовлеченных в
исторические события, к которым стягиваются все нити повес­
твования; даются портретные очерки исторических лиц. Во всех
романах тетралогии, кроме последнего («Святой Елены...»), ос­
новным героем выступает заурядный молодой человек из России
по фамилии Штааль, оказывающийся то свидетелем падения Ро­
беспьера («Девятое термидора»), то невольным участником убий­
ства Павла («Заговор»). Критики по-разному оценивают образ этого
персонажа. М.Слоним увидел в нем лишь рупор идей автора, схе­
му. М.Осоргин напротив считал, что это художественная удача
автора: «Штааль, олицетворение среднего, мизерного, мелкий бес
повседневности, оказался именно тем фактором, который пре­
вращает пышную историю в суету сует. Штааль — кривое зеркало
героического».
Тетралогия «Мыслитель» вплотную подводила читателя к вре­
менам, описанным в толстовской «Войне и мире». Алданов весь
этот период опустил. Кроме эстетических причин (ему и в голо­
ву не могло прийти соревноваться с гением Л.Толстого), свою
роль здесь сыграли и разности задач. Алданов не стремился дать
эпический размах событий, его не интересовало и изображение
народных масс. У Л.Толстого писатель учился другому: взгляду
на историю и человека сквозь призму философии и морали. По­
добно своему кумиру, Алданов искал в прошлом созвучное со­
временности и вечное.
«Искусство исторического романиста, — писал он, — сводится
к «освещению внутренностей» действующих лиц и к надлежащему
пространственному их размещению, — к такому размещению, при
котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла их» (выделено
нами — Авт.). В этом и историко-философском, и историко-пси­
хологическом подходе заключается главное сходство прозы Алда­
нова и Л.Толстого и их главное отличие от исторических романов,
где основным элементом является действие (как у А.Толстого), или
от произведений, где история подчинена априорной религиозно­
философской концепции (как у Д. Мережковского).
179
Повесть «Десятая симфония» (1931) стала следующим звеном
в многотомном цикле произведений о событиях европейской и
русской истории, в котором Алданов стремился постичь «волну­
ющую связь времен». Время действия — эпизоды от финала на­
полеоновской эпохи, Венского конгресса 1815 года до начала
Третьей Империи.
Центральные персонажи повести —два баловня судьбы: фран­
цузский художник-миниатюрист Изабе, запечатлевавший в сво­
их талантливых и изящных безделушках и королей, и вельмож, и
революционеров Конвента, и русский вельможа-меценат Анд­
рей Кириллович Разумовский, широкая и тонко чувствующая
прекрасное натура, человек, которому Бетховен посвятил не одно
свое творение. На периферии сюжета появляются австрийский
император Франц, Талейран, императрица Евгения (жена На­
полеона III) и красивый, молодой еще человек, французский
сенатор, который ранее имел неприятную историю в России —
кажется, убил кого-то на дуэли (читатель без труда узнает в нем
Дантеса).
Лишь трижды появится на страницах повести невысокий че­
ловек с мрачным рябым лицом, одетый бедно и небрежно —
великий Бетховен. С искаженным от страдания лицом бежит он
и с торжества по поводу Венского конгресса в императорском
дворце, и из бродячего зверинца, где публике демонстрируют
отвратительное зрелище кормления удава живым кроликом, и из
театральной залы, где только что под овации публики прозвуча­
ла его Девятая симфония.
Сопоставление трагической судьбы гения и удачливой жизни
модного художника подтверждает алдановскую концепцию слу­
чая, возносящего на гребень удачи не тех, кто этого действи­
тельно заслуживает. Но смысл повести не в этом.
Писатель стремится показать величайшие взлеты и падения
человеческого духа, символом чего могут быть приведенные Алдановым слова Священного писания: «И вот лестница стоит на
земле, а верх ее касается неба». Девятая симфония великого ком­
позитора таит в себе великую скорбь. «Так вы говорите, что это
радость? — недоумевает только что прослушавший Девятую сим­
фонию Разумовский. — Не знаю. Ничего страшнее и мрачнее,
чем первые две части этой симфонии, я отроду не слышал... Это
— торжество зла, преступление, злодеяние, что хотите, только
не радость». И в то же время сумрак и скорбь, триумф смерти
завершается одой «К радости», и Разумовский чувствует, что ком­
позитор — «царь того искусства, которое умнее всех мудрецов и
философов в мире... Бетховен загадка».
Сквозь катастрофичность мира, катаклизмы истории Алданов,
180
как и его Бетховен, прозревает возможность рождения новых
творений. Гибель или кончину выдающегося человека писатель
оценивает с позиций историка, понимающего, что все происхо­
дящее сегодня — окончание лишь одного акта исторического
действия, действия, не прекращающегося, пока существует че­
ловеческий род. Человечество же существует, пока рождаются
гении, в нищете, страдании и отчаянии создающие гармонию,
воспевающие радость и даже на пороге смерти вынашивающие
замыслы новых творений. В повести одинокий и глухой Бетхо­
вен одержим темой ненаписанной Десятой симфонии.
Небезынтересно заметить, что параллельно с книгой о высо­
те человеческого духа писатель создал очерк «Азеф» о провока­
торе царской охранки, чья глубина падения столь потрясла Алданова, что он, по его собственному признанию, не смог и не
захотел искать беллетризированных форм для рассказа об этом
злодее.
Постоянный интерес к революции привел Алданова к созда­
нию трилогии «Ключ» (1929), «Бегство» (1930-1931), «Пещера»
(1932-1935) о событиях 1917 года и жизни русской эмиграции.
Как и в тетралогии, каждый роман относительно самостояте­
лен, но через все проходят одни и те же персонажи. Однако в
отличие от тетралогии в трилогии Алданов отказался от изобра­
жения исторических лиц (если не считать фигуры Шаляпина).
Остальные деятели тех лет лишь упоминаются в разговорах вы­
мышленных героев. Объясняя это отступление от привычного
для него построения романов, Алданов указывал, что ему не хо­
телось, чтобы читатель отвлекался от основных идей трилогии
на проблему исторической достоверности. Вымышленные пер­
сонажи, являющиеся типичными фигурами предреволюционной
и послереволюционной эпохи, в какой-то мере могли даже луч­
ше объяснить трагедию истории.
С одной стороны, Алданов по-прежнему уверен, что история
— цепь случайностей. Одному из наиболее умных и привлека­
тельных героев трилогии химику Брауну Алданов вложил в уста
фразу: «Россия погибла от того, что не нашлось пяти-шести ре­
шительных людей, готовых пожертвовать собой в атмосфере об­
щего равнодушия... Разумеется, одной решительности было мало:
надо было иметь еще и голову на плечах».
Однако в этой фразе кроется и противоположная мысль: об
ответственности людей, увлекшихся суетой и забывших о высо­
ких нравственных принципах.
Обе эти стороны историософской позиции Алданова воплоти­
лись в художественно наиболее совершенной части трилогии —
романе «Ключ».
181
Внешним сюжетным ходом романа стало расследование убий­
ства банкира Карла Фишера. Различные версии о мотивах пре­
ступления и личности преступника поддерживают читательский
интерес. Но асе улики оказываются сомнительными и ложными,
все версии ошибочными. Беседы главного сыщика — начальни­
ка политической полиции империи Федосьева — и подозревае­
мого — близкого к революционным кругам химика Брауна — все
дальше уходят от расследования преступления, а противники об­
наруживают все большую идейную общность и духовное родст­
во. Многоплановая композиция вовсе не определяется требова­
ниями детективной линии: рассказы о семьях следователя, адво­
ката, о жизни журналиста не вносят ничего существенного в раз­
витие фабулы следствия. Детективная линия вообще не имеет
завершения: убийца не найден. Более того, как это почти всегда
бывает у Алданова, развитие действия приобретает парадоксаль­
но случайный финал: арестованного по подозрению в убийстве
агента охранки нравственно нечистоплотного Загряцкого во время
событий Февральской революции толпа освобождает из тюрьмы
и как жертву царизма несет на руках. Ироническому переосмыс­
лению подвергаются все аспекты следствия: определение моти­
вов, свидетельские показания, экспертиза и дактилоскопия, дей­
ствия следователя и адвоката. Тем самым, разрушая ядро детек­
тива, автор подводит читателя к признанию правоты слов Брау­
на: «Мы не знаем полной правды ни об одном почти историчес­
ком событии, хотя свидетелями и участниками каждого были
сотни заслуживающих доверия людей, ведь выводы разных исто­
риков часто исключают совершенно друг друга. Но вот в уголов­
ном суде вы убеждены, что постоянно все узнаете до конца».
Еще более определенно эту важную для Алданова мысль Браун
сформулирует в «Пещере»: «История мира есть история зла и
преступлений, — из них одна десятая остается нераскрытыми и
восемь десятых — безнаказанными».
В ироническом переосмыслении жанровых канонов детекти­
ва таится трагическое мироощущение рубежа XIX — XX веков,
связанное с разочарованием в рационализме, в существовании
причинно-следственных связей, пронизывающих весь мир. По­
пытки обнаружить историческую правду, логику развития чело­
веческого общества, по Алданову, так же малопродуктивны, как
уголовное расследование. Своего рода символом может служить
начальная сцена романа, когда крестьянка-швейцариха ощупью,
в потемках, вытянув вперед руку с ключом, входит в квартиру
Фишера.
И представитель высшей охранительной власти, и человек,
подозреваемый в убийстве банкира, для того, чтобы его состоя­
182
ние, унаследованное дочерью социал-демократкой, пошло на ре­
волюционные нужды, сходятся в определении критического со­
стояния дел в России. «Расползается государство», — говорит
Федосьев. «Возможно, — отвечает Браун. — Во всяком случае спо­
рить не буду. Но отчего гибнем, не знаю... Никакого рациональ­
ного объяснения не вижу». Ощущение катастрофичности, объ­
единяющее обоих собеседников, усиливается приметами общес­
твенного быта (спектакль, юбилей Каменецкого и т.п.).
Федосьев, в равной степени скептически относящийся и к стол­
пам власти и к ее разрушителям-революционерам, убежден в том,
что разрушение государства и то, что будет создано на его облом­
ках, принесет еще большее зло, чем нынешнее. Но спасти уже
ничего нельзя. Браун в «Ключе» еще проверяет возможности ак­
тивным действием предотвратить катастрофу. Но после посеще­
ния Государственной Думы убеждается, что и отсюда спасение
«не придет. Поздно. Овладела всеми нами слепая сила ненависти,
и ничто больше не может предотвратить прорыв черного мира...»
Именно поэтому оба философа остаются наблюдателями. А в пос­
ледней части трилогии («Пещере») Федосьев уходит в католичес­
кие монахи, а Браун кончает жизнь самоубийством, произнеся
незадолго перед этим: «Единственный способ не быть обману­
тым: не ждать ровно ничего, — а всего лучше уйти, как только
будут признаки, что пора, — уйти без всякой причины, просто
потому, что гадко, скучно и надоело».
Слово «ключ», вынесенное в заголовок романа, перерастает из
простой улики преступления в философское понятие мира, раз­
виваемое главными героями-идеологами романа Федосьевым и
Брауном. Согласно терминологии Брауна, разделяемой и его со­
беседником, мир делится на видимый, наигранный, обусловлен­
ный доводами разума и правилами морали (мир А), и мир тай­
ный, иррациональный, более подлинный и устойчивый (мир В),
но чаще всего злой. Перенесенное на весь род людской учение о
двух мирах приводит к тому, что злой мир, прорываясь наружу,
несет войны и революции. Вот почему хорошо бы, по мнению
собеседников, запереть дверь между двумя мирами, а ключ выб­
росить. Другое дело, что практически это невозможно.
Впрочем (и в этом многоплановость философской позиции
Алданова) роман может предложить и иное решение. По крайней
мере по отношению к частным лицам: органическое соединение
двух миров, естественная жизнь вместо выдуманной, культивиро­
вание благородного человеческого естества.
Так писатель выходит на свою постоянную тему смысла жиз­
ни интеллигенции. В романе иронически показано стремление
адвоката Каменецкого стать «заметным» общественным деяте­
183
лем, журналиста Певзнера (Дон Педро) занять газетный Олимп,
Горенского произносить высокие и пустые фразы. Их мир А —
мир вымышленный, неестественный, как неестественны пред­
ставления молодого англичанина Клервиля, «налагающего» ро­
манные образы Достоевского на своих русских знакомых. Одна­
ко не все в этих людях плохо. Там, где они искренни (а это
прежде всего семья), два мира сходятся и автор с симпатией и
сочувствием рассказывает о своих персонажах. Не менее добро­
желателен Алданов и говоря о молодежи: Мусе Кременецкой,
Вите Яценко и даже Клервиле. Они еще не успели разочаровать­
ся в жизни, еще могут наслаждаться простыми человеческими
чувствами красоты, любви, музыки. Другое дело, что и в их жиз­
ни намечается резкое расхождение с бытием народа (превосход­
на предфинальная сцена, когда гуляющие молодые люди натал­
киваются на хлебную очередь).
В последующих двух романах трилогии писатель столкнет ге­
роев с реальностью, заставит многих из них, пережив революци­
онные катаклизмы, отказаться от эгоистической основы своей
жизни и войти в контрреволюционный заговор, а после его про­
вала бежать из России. Таким финалом романа «Бегство» и опи­
санием потопления чекистами баржи с заключенными Алданов
вступал в спор с «Восемнадцатым годом» А.Толстого. Полемика
с толстовским «Хождением по мукам» и его же романом «Эмиг­
ранты» содержится и в заключительной части алдановской три­
логии. Оказавшиеся в эмиграции основные персонажи «Ключа»
и «Бегства» написаны с глубокой симпатией. К большинству из
них применимы слова Брауна: они своей повседневной жизнью
«спасают остатки русской духовной культуры». Их задача скром­
на, но почетна: «Быть таким же народом, как французский или
английский, таким же, каким был (выделено М.Алдановым) рус­
ский, — и только».
Если события трилогии «Ключ»-«Бегство»-«Пещера» отделя­
ли от времени ее создания десять лет, то в «Начале конца» (19361940) временного зазора практически нет. Именно в эти годы в
СССР окончательно установился советский тоталитаризм. В Бер­
лине маршировали гитлеровские солдаты, в Италии пришел к
власти дуче. В Мюнхене Англия и Франция предали Чехослова­
кию. В Париже, где жил Алданов, сквозь полусонное благополу­
чие явственно проступали приметы грядущей катастрофы Второй
мировой войны. Исторический романист уступил место совре­
менному исследователю.
Алданов задолго до Оруэлла и Кестлера обнаружил связь меж­
ду тоталитарной идеологией и распадом морали. Он первым не
только задал вопросы: «что же мы сделали? Для чего опоганили
184
жизнь и себя? Для чего отправили на тот свет миллионы людей?
Для чего научили весь мир невиданному по беззастенчивости злу?»,
но и первым словами одного из героев романа — профессиональ­
ного революционера, члена Коминтерна Вислецинуса — объяс­
нил истоки зла. Революция выпустила из бутылки джина классо­
вой ненависти, признала нравственность ненависти. Классовая не­
нависть объявлялась необходимым условием для победы справед­
ливого общественного строя и всеобщего счастья. Всеобщее буду­
щее счастье строилось на сегодняшнем несчастье большой груп­
пы людей. Высокая цель и жестокая практика приходили в пол­
ное противоречие. Теория строилась на вере в человека, в воз­
можность его совершенствования, практика исходила из того, что
человек глуп и подл и нуждается в палке. То, что палка делает его
еще хуже, во внимание не принималось. По мнению Алданова,
теорию эту выработал честнейший фанатик Ленин, превратил в
злодеяние его злобный и небескорыстный ученик Сталин.
Героями романа выступают три трагических персонажа: уже
называвшийся международный революционер Вислецинус, ра­
зочаровавшийся в идеалах революции, но продолжающий слу­
жить коммунистическому режиму; бывший меньшевик, а ныне
советский посол, увлеченный блеском ритуалов дипломатичес­
кой жизни и постоянно терзаемый страхом, что ему припомнят
увлечение юности, и командарм, в прошлом царский генерал,
сначала пошедший в Красную Армию, чтобы перейти к своим, а
затем решивший, что служить России можно при любом строе.
Все они переживают собственное «начало конца»; формально
многого достигнув, чувствуют себя обманутыми. Мечты юности
не сбылись, а то, что свершилось, приняло столь страшный об­
лик, что лучше бы уж оно оставалось в чистых мечтах. Еще один
персонаж романа — переживший свою славу старый французс­
кий писатель, сочувствующий коммунистическим идеям.
Трагический итог революционного эксперимента сформули­
рован в романе так: «Опыт произведен. Оказалось, что человечес­
кая душа не выдерживает того предельного гнета, которому мы ее
подвергли, — под столь безграничным давлением люди превра­
щаются в слизь». Фашистская Германия парадоксально воспри­
нимается и оценивается писателем как ученица большевистского
Союза: из опыта русской революции она восприняла догмат об­
щественной ненависти, сместив только акцент с классового на
национальное.
Военное и послевоенное творчество Алданова включает в себя
шестнадцать романов и повестей, завершающих серию событий
русской истории в контексте мировой на протяжении двух сто­
летий.
185
Наибольший художественный интерес представляют романы
«Истоки» (1943-1945) и «Самоубийство» (1956).
События «Истоков» охватывают 1874-1881 годы, последние семь
лет царствования императора Александра II. Выбор в качестве глав­
ного действующего лица мятущегося в поисках своего места в жиз­
ни художника Николая Сергеевича Мамонтова позволил писате­
лю показать самые разные слои русского общества: профессорс­
кую среду (Мамонтов дружит с либералом Черняковым, встреча­
ется с естествоиспытателем профессором Муравьевым и его рево­
люционно настроенными дочерьми), салон консерватора фон
Дюммлера, посещаемый и самим императором, и министром-либералом Лорис-Меликовым, и революционную молодежь, объ­
единенную в террористическую партию «Народная воля». Увле­
чение Мамонтова журналистикой открывает возможность свободно
перемещать действие романа из России в Европу, где Мамонтов
то встречается в анархистом Бакуниным, то присутствует в качес­
тве журналиста на Берлинском конгрессе 1878 года. В круг дей­
ствующих персонажей, связанных с главным героем или его друзь­
ями и знакомыми, входят Бисмарк, Гладстон, Маркс и Энгельс,
русские революционеры Михайлов, Желябов, Перовская. Почти
в самом конце романа появляется семейство Ульяновых.
Всех их объединяет сквозной образ-метафора цирка и трой­
ного сальто-мортале — смертельного циркового трюка, при со­
вершении которого погиб клоун-акробат Карло. «Много хоро­
шего сделано ими, — размышляет Мамонтов, — и без них сдела­
но быть не могло. Но зато почти все плохое идет именно от них.
У человечества, собственно, два несчастья: то, что люди тройно­
го сальто-мортале существуют, и то, что они талантливее других
людей. ...Все, что они делают, это тот же цирк, только с окро­
вавленными людьми вместо окровавленных чучел».
Алданов не делает ни реакционеров, ни революционеров за­
писными злодеями. Напротив, в их поведении, в силе их натур
есть нечто привлекательное, очаровывающее, даже героическое.
Тем страшнее, что их энергия направлена на «моральное оправ­
дание идеи террора», или, точнее говоря, на отказ от морали, на
разрушение и смерть. Ни правящие круги, ни революционеров
не волнует кровь других людей. Характерна реакция Михайлова
на арест товарища по партии: «Ему жаль было Гольденберга, но
еще больше он досадовал, что пропал столь нужный партии ди­
намит». Решившись на убийство императора, к которому они не
питали личной неприязни (то есть во имя абстрактной идеи),
террористы не задумываются, что во время взрыва во дворце
погибли одиннадцать и ранено пятьдесят шесть тех самых про­
стых людей (солдат, слуг), для счастья которых и должна совер­
186
шаться революция. Особенно страшна предфинальная сцена убий­
ства Александра. Убит четырнадцатилетний подросток, случайно
оказавшийся рядом с царской каретой, гибнут казаки из охраны,
и сидят друг против друга два умирающих искалеченных взрывом
человека: царь и революционер-убийца.
Тема нравственного самоубийства людей, рискнувших взять
на себя груз революции, решается на образах сестер Лизы и Маши
Муравьевых. Трагизмом полны описания «мальчиков»-бомбометателей, из ложных принципов или желания не показаться труса­
ми, губящих свои и чужие жизни.
Устами одного из своих любимых персонажей — ученого Пав­
ла Муравьева Алданов утверждает, что нужно «вести культурную
работу, культурную борьбу за осуществление своих идей». А «при­
зыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо вели­
чайшее преступление. Эти «локомотивы истории» обычно везут
назад, и только в первое время кажется, будто они везут вперед».
Эпоха Александра II, в день своей гибели подписавшего факти­
чески указ о Конституции, отмененный его преемником, настаи­
вает писатель, была «последней возможностью мирного более или
менее безболезненного развития». Оно могло быть «сказочным
благодаря размерам, мощи, богатству (России — Авт.), в особен­
ности же благодаря одаренности русского народа». Но возмож­
ность эта была упущена. И не по «чьей-то злой воле, а просто изза чудовищного легкомыслия обеих сторон: бесящихся с жиру ту­
пых сановников и кучки молодых людей, желающих блага России
и столь же невежественных, как сановники». «Волею судеб это даже
не русская трагедия, а мировая», — настаивает верный своей идее
европейской судьбы России Алданов. Духовный заряд России мог
бы спасти Европу и весь мир от превращения «в сытый зверинец».
Но не спас. Вместо этого Россия превратилась в полигон для испы­
тания революционных доктрин.
В финале романа Николай Сергеевич Мамонтов, женившись
на простой циркачке Кате и переехав в деревню, наслаждается
тем самым счастьем, каким были охвачены любимые Алдановым
герои «Войны и мира». «Я не понимаю поэзии революции, но
поэзию русской интеллигенции всегда чувствовал», — утвержда­
ет герой. Именно поэтому в романе большое место уделено теме
радостного искусства, творчества, музыки. Не только Достоевс­
кий, художник Милле, композиторы Лист, Вагнер, Рубинштейн,
поэт Майстер, но и обыкновенные цирковые артисты, комеди­
анты несут высшую нравственную правду, ведут истинно чело­
веческую жизнь.
Тема революции как трагедии России получает дальнейшее
развитие в романе «Самоубийство», менее многосюжетном, чем
187
«Истоки». Алданов во многом возвратился здесь к романным при­
нципам своей первой трилогии. Судьба вымышленных персона­
жей мужа и жены Ласточкиных (до поры до времени обладающих
всеми земными счастьями: здоровьем, богатством, семейной любо­
вью и дружбой всех окружающих) тесно переплетается с рассказом
о жизни Ленина. В эти две параллельные сюжетные линии входят
очерки-портреты других исторических лиц (Плеханова, Крупской,
Витте, канцлера Вильгельма, императора Франца-Иосифа, Саввы
Морозова). На периферии повествования появляются Сталин,
Муссолини и Эйнштейн. Событием, сопрягающим вымышленных
и исторических персонажей, становится Октябрьская революция:
к ней тянутся все нити повествования, ею объясняется та катастро­
фа, или, говоря словами заголовка романа, «самоубийство», кото­
рое совершает и все человечество в XX веке, и герои романа Лас­
точкины и Савва Морозов. Символическим самоубийством являет­
ся и смерть в финале романа Ленина.
Как и в предыдущих своих вещах, Алданов утверждает, что
сама идея насильственного перехода к справедливому обществу
несет в себе зародыш будущей трагедии. Обоснованное еще в
«Ключе» существование двух миров и возможность неожиданно­
го прорыва ирреальных стихийных злых сил в повседневность
оставляет идеям усовершенствования и переустройства общест­
ва роль игрушек. Даже столь сильная и по-своему честная лич­
ность, какой рисует Алданов Ленина, несмотря на свою веру в
закономерность истории, оказывается лишь проявлением слу­
чайности. Его высокие идеи оборачиваются кровью и насилием,
вера в демократию — издевательством над ней. Оправдываются
сказанные еще в «Пещере» слова: «Палачей всегда приводили за
собой пророки». Все революции страшны и неудачны: путь на­
силия только ухудшает положение; легче чинить государствен­
ное здание, чем воздвигать новое на обломках взорванного.
Есть однако и нечто новое в последнем романе скептика и
вольтерьянца Алданова, на что в свое время обратили внимание
многие критики. Несмотря на то, что революция разрушила и
растоптала жизнь супругов Ласточкиных, несмотря на то, что онитаки покончили жизнь самоубийством, их смерть — своеобразное
торжество над историей, так как любовь их не была сломана. В
«Самоубийстве», утверждал в предисловии к первой публикации
романа Г.Адамович, Алданов следует за гуманистической тради­
цией мировой литературы и «сквозь предсмертный рассеянный лепет
двух московских самоубийц выражает свое согласие с самыми до­
рогими сокровенными человеческими надеждами».
К такому выводу Алданов шел на протяжении всей своей жиз­
ни. В мире, являющемся ареной для игры случая, подверженном
188
порывам стихийных сил из ирреального мира, для него всегда
существовало вечное. Уже в «Заговоре» один из героев утверж­
дал, что как это ни удивительно, но все зло, происходившее за
тысячелетия, не истребило культуры и, может быть, культура и
не нуждается в защите, если пережила века крови и зла. Ирре­
альный мир, настаивали, как уже говорилось, собеседники-фи­
лософы в «Ключе», — источник не только зла, но и величай­
ших сокровищ человеческого духа — искусства и любви. Браун
перед самоубийством говорит, что «самое волнующее из всего
была политика, самое разумное — наука, а самое лучшее, конеч­
но, — иррациональное: музыка и любовь».
Сопоставлению разных сторон иррационального и утвержде­
нию того, что поднимает человеческий дух на небывалую высо­
ту, посвящена и одна из лучших, по мнению столь взыскатель­
ных критиков, как Б.Зайцев и Г.Газданов, философских повес­
тей Алданова «Бельведерский торс». Впрочем, сам писатель от­
носит ее к философским сказкам, подобным вольтеровским и
отличающимся, как и у его французского предшественника, «от­
рывочностью, сухостью психологического рисунка и подчине­
нием всего философской идее».
Таинственный голос посылает Бенедетто Аккольди убить рим­
ского папу, претерпеть муки и затем стать властелином грядуще­
го счастливого мира. Этому злому иррациональному началу про­
тивостоит иное. Необъяснимое чувство любви к римской потас­
кушке и полуколдунье овладевает душой утонченного и образо­
ванного ценителя прекрасного, художника и биографа великих
художников Вазари, разрушает его благополучное существова­
ние, но и доставляет ему минуты счастья. Эти же таинственные
силы вдохновляют великого Микеланджело, помогают ему то
преодолевать превратности судьбы, то мучиться от сознания своей
беспомощности. Ощупывая изваянный древним греком бельве­
дерский торс, полуслепой и дряхлый мастер приходит к осозна­
нию того, что ему так и не удалось сказать самого главного, что
таит в себе мир. «Простота, спокойствие и мудрость» бельведерского торса — вечный факел красоты и человечности, переходя­
щий от предков к потомкам.
Не поддающаяся определениям, но вечно живая культура —
единственная надежда Алданова. Высшая миссия человека — быть
ее хранителем в мире зла.
Главная цель книг писателя — утверждение вечности культу­
ры, несмотря на лишенный смысла и цели исторический про­
цесс. Мысль о бессмертии нравственности и искусства, несмот­
ря на господство случая и иррациональность бытия, пронизыва­
ет всю многотомную серию романов и повестей Алданова.
189
АННОТИРОВАННЫЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алданов М. Собр. соч.: В 6 т./ Сост. и общ . редакц. А .А .Ч ерны ш ева. —
М.: П равда, 1991.
П ервое изданное на родине собр. со ч и н ен и й писателя вклю чает в
себя тетралогию «М ыслитель» (тт. 1-2), трилогию о револю ции (тт. 3-4),
р о м ан ы «И стоки» (тт. 4-5) и «Самоубийство» (т. 6), а такж е «ф и лософ с­
ки е сказки» «Бельведерский торс», «П унш евая водка» и «Астролог» (т.2)
и н еско л ько очерков (т.6).
И здан и е предваряется глубокой статьей А .А .Ч ерны ш ева «Гуманист,
не вери вш ий в прогресс», содерж ащ ей ряд ссы л ок на зарубеж ны е и сточ­
н и ки . Т ворческая история опубликованны х вещ ей и обзоры отзы вов к р и ­
ти к и даю тся в ком м ентариях.
Алданов М. Собр. соч.: В 6 т. /С о ст. и ред. А .А Ч ер н ы ш ева. — М.:
Н овости , 1994-1995.
В торой ш еститом ник не дублирует первы й. В том 1 вош ли очерки
«Азеф», «Сталин», «П илсудский», «Клемансо», «Черчилль», «Ганди» и др.;
во 2-й — очерки; в 3-й — рассказы «Ф ельдмарш ал», «Грета и танк», «Ру­
бин» и др. Том 6 вклю чает в себя «У льмскую ночь».
Адамович Г. Одиночество и свобода: Л и тературн о-к ри ти ч ески е статьи.
- С П б.: Logos, 1993. - С. 71-83.
С татья «Алданов» посвящ ена анал и зу худож ественного м ира р о м а­
н ов А лданова (ком п ози ц и и , скульптурности образов, вы раж ению автор­
ско й п о зи ц и и через героев-стариков, ритм у). К ри ти к утверждает, что
М .А лданов ближ е к нелю бим ом у им Ф .Д остоевском у, неж ели к л ю б и м о ­
му Л .Т олстом у. Д ан а вы сокая оц ен к а р о м ан а «И стоки».
Карпович М .М . Алданов в истории / / Н овы й журнал. — 1956. — № 47.
- С. 255-260.
Автор пересм атривает свое давнее и А .К изеветтера утверж дение, что
А лданова «больш е интересую т лю ди, чем собы тия», и утверждает, что
и сто р и чески е собы тия заним аю т в р о м ан и сти ке писателя не м еньш ее
м есто, чем отдельны е частны е лица. Б ольш ая часть статьи п освящ ен а
м н о го м ер н ом у осм ы слению книги «У льмские ночи», в которой, по м н е­
н и ю М .К арпови ча, соединены апология случая и одн оврем ен н о борьба с
н и м . «Это уже сам о по себе исклю чает возм ож н ость полного и н еп реодо­
л и м о го господства случая... Там , где есть игра случайностей, легко м ож ­
н о и сп ользовать одну случайность п ротив другой... В той м ере, в какой
человек сп особен на это, он перестает бы ть игруш кой в руках случая,
перестает бы ть простой ж ертвой и сто р и и ..., он становится деятелем».
П ри м ером «властного вмеш ательства в ход исторических событий» в п р о ­
и зведен и ях А лданова являю тся его л ю би м ц ы К л ем ан со и Ч ерчилль, сч и ­
тает М. К арпович.
Ульянов Н.И. Памяти М.ААлданова / / Русская литература. — 1991. —
№ 2. - С. 71-72.
В идны й историк второй волны русской эм и гр ац и и проф. Й ельского
у н и верси тета (ш тат К оннектикут) Н .И .У л ьян о в (1904-1985) оспаривает
устоявш ую ся точку, зрен и я о М .А лданове — русском А .Ф рансе. П о м н е­
н и ю к р и ти ка, не и рония и субъективизм , а «любовь ф и лософ а, чуждая
страстны х поры вов, ровная, зато п о сто ян н ая и глубокая» отличает к н и ги
190
писателя. П редставляет и н терес краткое, н о вы разительное со п о ставл е­
ние России А лданова с Россией А. Блока, Д. М ереж ковского, Ф .Д о сто ев­
ского и их эпигонов.
Петрова Т.Г. Человек и история в произведениях М.Адданова: Р еф е р а­
ти вн ы й о б з о р //Р Ж О бщ ественны е науки в России. С ери я 7. Л и тературо­
ведение. — 1992. — № 5/6. — С. 100-112.
О бзор 8 работ о писателе (Г.А дамовича, И .Д едкова, Г.Струве, Н .У ль­
ян о ва и 4 статей А .Ч ерны ш ева).
L ee.C .N . The Novels of M.A.Aldanov. — T he H ague-P aris, 1969.
Grabovska. Y. The Problems of Historical Destiny in the Works of M.Aldanov. — T oronto, 1969.
ИВАН БУНИН
( 1870- 1953)
«И С Ч А С Т Л И В Я П Е Ч А Л Ь Н О Ю С У Д Ь Б О Й »
«Внешне Бунин был крепкий, худощавый, совершенно се­
дой, чуть-чуть чопорно одетый старик. Гордая посадка головы,
седина, суховатость, подтянутость, жесткость и острота движе­
ний, с некоторой даже подчеркнутостью всего этого. Он был
как-то сдержанно-приветлив. И очень сдержан и очень привет­
лив в одно и то же время ... Он казался мне человеком другой
эпохи и другого времени». Так вспоминает о своей встрече с
Иваном Алексеевичем Буниным летом 1946 года в Париже со­
ветский поэт Константин Симонов, до этого никогда не видев­
ший знаменитого писателя. А вот что говорит о позднем Бунине
близко знавший его и до революции Георгий Адамович: «С воз­
растом он стал красивее и как бы породистее. Седина шла ему,
шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике
что-то величавое, римски-сенаторское». Это о внешности. И тут
же — о сущем: «Он был на редкость умен ... Людей видел на­
сквозь, безошибочно догадывался о том, что они предпочли бы
скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю,
что вообще чутье к притворству — а в литературе, значит, ощу­
щение фальши и правды — было одной из основных его черт».
Это не мешало ему, как о том свидетельствуют все мемуаристы,
часто быть капризным и несправедливым, высокомерным, иро­
192
ничным, чрезмерно обидчивым. «Характер у меня тяжелый, —
признавался он Ирине Одоевцевой. — Не только для других, но
и для меня самого. Мне с собой не всегда легко. ... Свирепый
эгоист, эгоцентрик, мнящий себя солью земли? Так ведь? А о
моей душе вы подумали? У меня ведь душевное зрение и слух
так обострены, как физические, и чувствую я все в сто раз силь­
нее, чем обыкновенные люди, и горе, и счастье, и радость, и
тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от
счастья. Да, даже и сейчас, на восьмом десятке».
О Бунине написано много, очень много.
Среди исследователей его творчества известный критик князь
Д.Мирский, писатель Б.Зайцев, выдающийся философ И.Иль­
ин, современные слависты Г.Струве, М.Иофьев, С.Крутицкий.
И это только в русском зарубежье. Первому русскому Нобелев­
скому лауреату посвящена монография Джеймса Б.Вудворда. Да
и на родине, начиная с 50-х годов, о нем заговорили достаточно
уважительно. В 1965 году появилось эссе А.Твардовского, став­
шее затем предисловием к девятитомнику Бунина, а вслед за
ним и до нашего времени — серьезнейшие работы А.Бабореко,
В.Афанасьева, А.Волкова, А.Нинова, В.Гейдеко, О.Михайлова,
Л.Долгополова, А.Архангельского.
Именно это обстоятельство позволяет ограничиться кратким
очерком творчества Бунина, опираясь на названные работы, до­
полненные некоторыми собственными наблюдениями автора этой
книги. Для удобства читателя не всегда цитаты из названных
авторов будут обозначены кавычками. Ученый-литературовед
легко отличит наш текст от цитируемого, обратившись к указан­
ным работам, а для учителя, студента, любителя литературы ва­
жен сам материал, ставший во многом общепринятым.
К моменту своей эмиграции Иван Алексеевич Бунин был ав­
тором двух поэтических книг (за одну из них он получил Пуш­
кинскую премию), выпустил два собрания своих сочинений (в
пяти и в шести томах), печатался в самых крупных изданиях
России. Его переводы «Песни о Гайавате» Г.Лонгфелло и фило­
софских драм Дж.Байрона считались вершинами переводческо­
го искусства. В 1909 году его избрали почетным академиком Им­
ператорской академии наук.
Аристократ духа, гордившийся своим древним родом и проро­
чески предсказавший в своем дореволюционном творчестве кру­
шение милых его сердцу дворянских усадеб, патриархальных от­
ношений и стабильности и наступление бездуховности, делячест­
ва и хаоса, Бунин не мог принять Октябрьский переворот и 26
января 1920 года на французском корабле покинул Одессу. Под­
робности этого путешествия описаны в рассказе «Конец» (1921).
7— 1662
193
Через Константинополь, Софию, Белград писатель и его жена
В.Н.Муромцева с большими трудностями (о них рассказано писа­
телем в эссе 1940 года «Гегель, фрак, метель») добрались до Фран­
ции. Здесь в небольшом городке Грассе и прошла большая часть
жизни писателя. Здесь в ноябре 1933 года застало его известие о
присуждении Нобелевской премии по литературе за, как говори­
лось в решении Шведской академии, «правдивый артистичный
талант, с которым он воссоздал типичный русский характер». Бу­
нин был первым русским писателем, удостоенным этой высшей
мировой награды. Это было событие и в жизни всей русской эмиг­
рации. Именно тогда в Берлине вышло новое двенадцатитомное
собрание сочинений Бунина. Но в жизни самого лауреата особых
изменений не произошло. Деньги довольно быстро разошлись (в
том числе и на помощь нуждающимся писателям), а новых почти
не было: для широкого западного читателя труднопереводимый
Бунин оставался слишком русским и непонятным. Бунины и жи­
вущие в его доме писатели Г.Кузнецова и Л.Зуров если не бед­
ствовали, то вели весьма скромное существование. Попытки не­
мецких властей, оккупировавших Францию, уговорить Нобелев­
ского лауреата опубликовать в профашистской прессе хотя бы
нейтральные рассказы были Буниным с негодованием отвергну­
ты. После Победы писатель даже несколько раз посетил приемы в
советском посольстве в Париже, за что был подвергнут травле со
стороны крайне правой эмиграции. В то же время он решительно
отверг и предложение советских властей вернуться на родину. Не
соблазнили его ни перспектива издания в Москве однотомника
его произведений, ни — тем более — письма бывших друзей о
ждущей его сытой жизни.
До глубокой старости писатель продолжал работать. Талант
его не только не иссяк, но вырос. «Изгнание, — утверждает Б.Зайцев, — даже пошло ему на пользу. Оно обострило чувство России,
невозвратности, сгустило и прежде крепкий сок его поэзии».
Другое дело, что в эмиграции писатель пересмотрел свои кри­
тические оценки русской действительности, присутствовавшие
в его дореволюционном творчестве. Теперь, издали, все ушед­
шее представлялось ему прекрасным и цельным.
Это противостояние отразилось уже в эссе «Далекое» (1922)
и «Несрочная весна» (1924), где даже язык прошлого сталкивает­
ся с «новоязом» послереволюционных дней. В «Несрочной вес­
не» Бунин, процитировав стихи Е.Баратынского, пишет: «Какой
ритм, и какая прелесть, грация, танцующий перелив чувств! Те­
перь, когда от славы и чести Державы Российской остались только
«пупки», пишут иначе: «Солнце, как лужа кобыльей мочи». При­
нцип противопоставления, как отмечает критик и литературовед
194
ААрхангельский, достигает наивысшего предела в публицисти­
ческой книге-дневнике «Окаянные дни» (1928), где в описании
минувшего фраза становится длинной и замедленно-плавной, а
в рассказе о революционных событиях короткой и рваной; где
благородная лексика старого русского языка противопоставля­
ется грубой и стилистически неправильной, косноязычной речи
«нового времени».
Критика уже сравнивала пафос «Окаянных дней» с «Несвоев­
ременными мыслями» М.Горького и публицистическими пись­
мами В. Короленко А.Луначарскому. Для всех троих революция —
разрушение культуры. Но если для М.Горького и В.Короленко
сама революция — слово святое, а происходящее лишь измена
«демократической» революции, призванной возродить массы к
созидательному творчеству, то для Бунина революция всегда была
хаосом, торжеством тупости и идиотизма русской жизни (впер­
вые тип тупого и самодовольного хама-«революционера» поя­
вился еще в «Деревне» в лице Дениски и вырос до страшного
обобщения в рассказе 1924 года «Товарищ Дозорный»; резко кри­
тическое отношение писателя к революции и революционерам
перейдет и в написанную уже после «Окаянных дней» «Жизнь
Арсеньева» — глава XII книги 2 и глава XIII книги 4). Отсюда и
больший трагизм книги Бунина. Не менее интересно сравнить
«Окаянные дни» с «Петербургским дневником» 3.Гиппиус, тем
более, что оба произведения сохраняют форму дневниковых за­
писей. Общность проклятий и эмоциональность не могут засло­
нить по меньшей мере двух существенных отличий. З.Гиппиус
только свидетельствует, гневается, художественно разоблачает.
Книга Бунина, обладая всем этим, еще и содержит размышле­
ния, исторические параллели. В Библии, французской револю­
ции, книгах А.Радищева и АГерцена, в пушкинских строках ищет
автор сходство с сегодняшними событиями и их объяснение.
Бунин использует здесь прием, удачно найденный еще в 1924
году в эссе «Богиня разума». Главное настроение автора «Петер­
бургского дневника» — отчаяние, разочарование в России. «Ту­
пость» и «скука» — ключевые слова З.Гиппиус: все рушится, почти
ничего не сохранено. У Бунина же всегда в качестве противовеса
присутствует светлое прошлое.
«Чрезвычайной силы как бы мифологическое переживание
прошлого (Россия) — вот чем полны «Солнечный удар», «Мити­
на любовь», «Жизнь Арсеньева», — справедливо пишет Б.Зайцев. Сам Бунин выразил это в прекрасной миниатюре «Роза Иери­
хона». «Сухие, колючие стебли, подобные нашему перекати-поле»
(читатель не может не заметить в этих определениях аллегории),
рассказывает Бунин, расцветают, едва их положат в воду. «И бед­
7*
795
ное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире гибели
тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе
жива моя душа, моя Любовь, Память! ...В живую воду сердца, в
чистую влагу погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот
опять, опять дивно прозябает мой заветный злак».
Благодарная память пронизывает самую лирическую книгу
писателя «Жизнь Арсеньева» (1927-1952). Характеризуя этот ше­
девр Бунина, Б.Зайцев писал: «Детские годы в деревне, Россия
Ельца и Орла, Малороссия, юг, порывы души созревающей, пе­
реходящей из отрочества в юность, в любовь, с жаждой вобрать в
себя весь мир, с внезапными скитаниями, бурными, иногда рез­
кими порывами сердца и темперамента — все это взято сквозь
(волшебную) призму поэзии. Все — в некоем мифологическом,
очень тонком и легком тумане. ...Уже по ней одной можно ска­
зать, что все творчество его есть хвала источнику жизни...»
Бунин неоднократно протестовал, когда его книгу восприни­
мали только как автобиографию. «Я о многом, об очень многом, о
самом тяжелом не писал, — признавался он И.Одоевцевой. —
«Жизнь Арсеньева» гораздо праздничнее моей жизни».
Писатель сознательно не хотел говорить о том плохом, что
было в России до революции. И так же сознательно хотел пока­
зать драматическую судьбу русского интеллигента, аристократа духа
на рубеже двух веков.
Уже первые строки романа об ощущении единства человека с
родом, о «соучастии «с отцы и братии наши, други и сродники» «в
служении жизни», о «непрерывности крови и породы» и о благо­
родстве, как гарантии этой непрерывности.
На протяжении всего романа его главный герой Алексей Ар­
сеньев преодолевает свое одиночество (слово это одно из ключе­
вых в книге). Детский мир вопреки писательским стереотипам
представляется Бунину «скудным», а время младенчества «несчас­
тным, жалким». И лишь по мере приобщения к жизни, «обитель»
бытия наполняется смыслом: мальчик ощущает природу, живу­
щих рядом сестер, няньку, родителей. «Младенческое одиночест­
во» минует. Мир расширяется. В него входит мальчишка-подпа­
сок, неизбежная для русского человека дорога, наконец, город,
почти вся Россия. Ни в одном другом произведении Бунина нет
столь широкого географического, пространственного размаха. «Ве­
ликий пролет по всей карте России» совершают герой и читатель.
С удивительной тонкостью рисует писатель русскую природу.
Самые обыденные ее явления наполняются у Бунина лиризмом,
становятся поэтическими видениями: «Стали по вечерам причуд­
ливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие
весенние тучи, стали заводить свои трепетные трели лягушки на
196
пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещаю­
щей ночью благодатный, теплый дождь... И опять, опять ласково
и настойчиво потянула меня в свои материнские объятья вечно
обманывающая нас земля». «Во дворе был старый каменный ко­
лодец, перед флигелем росли две белые акации, возле крыльца
дома, затеняя правую сторону стеклянной аллеи, поднималась
темная вершина каштана. Все это летним утром было часам к
семи уже горячо, ярко, солнечно, однообразно оглушалось вопро­
сительно-растерянными восклицаниями кур из курятника, но в
доме, особенно в задних комнатах, выходивших окнами в сад,
было еще прохладно». Еще И.Ильин отметил пристрастие Бунина
к синтаксическим конструкциям, в которых подлежащее не стоит
на первом месте, а уходит вглубь фразы, тем самым усиливая ее
зрительность. Другая особенность стилистики Бунина — «графичность». Этим он решительно отличается от И.Шмелева, пишуще­
го «маслом». Читатель без труда найдет подтверждение слов Ар­
сеньева, об особенностях его зрения и слуха (глава XV, книга 2).
И не только в пейзажах, но и в портретах персонажей, как развер­
нутых («Гигант-гусар в красном доломане, с прямыми и резкими
чертами лица, с тонкими, энергично и как бы несколько презри­
тельно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбород­
ком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высо­
той, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же
всего гордо и легко откинутой назад головой в коротких и точно
гофрированных ярко-русых волосах и крепко и красиво вьющей­
ся рыжей острой бородкой»), так и лаконично-выразительных
(«Толстая рябая хозяйка с длинной верхней губой»; «адвокат, до­
родный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступ­
нями»; у нищего «жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и
огромный клубничный нос — тройной, состоящий из трех круп­
ных, бугристых и породистых клубник»). Зрение автора фиксиру­
ет и детали интерьера («черные образа в углу, за старинными ок­
нами с цветными верхними стеклами (лиловыми и гранатовыми)
видны деревья и небо»), и схожесть гроба с «фиолетовым ящи­
ком». Он улавливает «густо-ворчливую» интонацию голоса, нечто
«высокое и страшное» в обыкновенном скрипе шагов по снегу,
«раздирающий уши свист» паровоза и вырывающийся из машины
«ослепляющий пар». Не менее тонко переданы запахи: старинные
книги пахнут сыростью и плесенью, «сухим металлическим жа­
ром, березовым и чугунным запахом» веет в купе поезда, холодом
и смрадом несет от покойника, а темнота в избе оказывается «теп­
лой и вонючей».
Алеша Арсеньев испытывает первое чувство влюбленности. В
книгу входят Анхен, Лиза Бибикова, первая женщина — Тонька.
197
Многочисленные смерти (дворового мальчишки Сеньки, Нади,
Писарева, Алферова) возвращают героя к трагическим раздумьям
о смысле жизни, об одиночестве человека в мире и заставляют
вновь и вновь искать решения всех этих вопросов. В самые труд­
ные мгновенья сомнений и нерешительности на помощь Алексею
Арсеньеву приходят Сервантес и Пушкин, Лермонтов и Гоголь,
даже Надсон. Особую роль в преодолении одиночества героя от­
водит Бунин «Слову о полку Игореве» (глава XVI книги 4). Поэ­
тично говорится в романе о Боге, о церкви (глава XVI книги 1;
главы IX и XIV книги 2; глава XIV книги 5). Однако христианство
не играет в жизни бунинского героя той роли, что у И.Шмелева
или Б.Зайцева.
Главными и решающими в жизни Алексея Арсеньева станут
творчество и любовь. Именно эти две темы — в центре пятой
книги романа, известной и как отдельное произведение под на­
званием «Лика». Счастье творчества, неутолимая жажда «бродничества», присущая русскому человеку вообще и художнику осо­
бенно, приходят в противоречие с житейски понятным требова­
нием женщины быть верным только ей. Герой страдает от неспо­
собности возлюбленной всецело отдаться ему, проникнуться его
болями и радостями. Одиночество, столь тяготившее раньше, те­
перь становится необходимым элементом жизни, творчества. И
тогда любовь становится трагедией для обоих. Исследователи так
до сих пор и не пришли к единому мнению о трактовке финала
романа. Она отнюдь не «розовая»: Лика умерла, герой чуть не
кончил жизнь самоубийством. И все же, как справедливо отмеча­
ет О.Михайлов, в этой книге писатель утверждает, что «время бес­
сильно убить подлинное чувство». В пользу этого вывода говорит
и итоговая фраза романа, и несколько более раннее описание чувств
Алексея, выраженное в характернейшем для Бунина соединении
слов «скорбь и молодость».
В сознании Бунина и его художественном мире постоянно
боролись эти два отношения к жизни. Еще в дореволюционном
рассказе «Сны Чанга» говорится о двух постоянно сменяющих
друг друга правдах: «первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а
другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших». С годами
Бунин все более убеждался в наличии этой дихотомии.
Об этом свидетельствует и название его последней книги «Тем­
ные аллеи» (1937-1945). Академик Д.СЛихачев заметил, что ма­
нера садить липовые аллеи так, чтобы деревья стояли одно к дру­
гому и создавали таинственную красоту полумрака, — исключи­
тельно русская, не встречающаяся нигде больше в мире. Тем са­
мым название книги Бунина обращает читателя к родине, про­
никнуто лиризмом. С другой стороны, слово «темные» полисе198
мантично (многозначно). Оно ассоциируется и с «таинственным»,
и с «мрачным», и с подсознательным. Не случайно Бунин однажды
сказал: «Чужая душа потемки. Нет, своя собственная гораздо тем­
нее». В «Жизни Арсеньева» не раз говорится о «пленительно-страш­
ном», что есть в человеке: страсти к убийству (сцены с убийством
грача и охотой на дроздов), к самоистреблению. Постоянно зани­
мала Бунина-человека и Бунина-писателя и тема смерти, обречен­
ности человека, рока (фатума). Не случайно в последние годы он
особенно увлекался М.Лермонтовым, завершившим «Героя наше­
го времени» таинственно-неопределенной главой «Фаталист».
Главная тема «Темных аллей» и прилегающих к ним более ран­
них произведений («Митина любовь», 1924 и «Солнечный удар»,
1925) — любовь — как нельзя лучше сопрягается со всеми назван­
ными темами. Бунин идет здесь вслед за мировой литературной
традицией (Данте, Петрарки, Шекспира) и за субъективно нелю­
бимым им Ф.Достоевским, считавшим, что любовь у русского че­
ловека достигает вершин как в возвышении, так и в падении.
«Наши русские православные души, — говорил Бунин Ирине
Одоевцевой, — лиричны, аскетичны, мрачны и сумасбродны».
Герои Бунина любят страстно, всем сердцем, всей душой. Чув­
ство поражает внезапно, как «солнечный удар», или после непро­
должительного знакомства («В Париже»), или вырастает из нена­
висти («Руся»). Любовь захватывает человека полностью, до го­
товности покончить самоубийством из-за ухода возлюбленной
(«Кавказ»), из чувства разочарования («Митина любовь», «Галя
Ганская»); до готовности убить изменницу («Пароход «Саратов»,
«Дубки»). Характерно, что социальное происхождение героя при
этом не имеет никакого значения: это может быть студент, офи­
цер, артист, крестьянин.
В описаниях любви Бунин не боится плотских подробностей. В
«Русе» дважды сказано о смуглом с родинками теле героини, пере­
дано любовное исступление персонажей. Бунин любит живописать
колени и щиколки женщин, их голые руки, груди, талии, страс­
тность объятий. Полемически звучат слова одной из героинь его
рассказа — писательницы, которую, как и самого Бунина, ханжес­
кая критика упрекала в «бесстыдстве и низких побуждениях»: «Со­
чинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих сло­
весных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена пре­
доставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только под­
лые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».
Даже краткосрочная любовь, по мысли писателя, если в ней
есть хоть миг подлинного порыва, оправдана, так как противосто­
ит серым будням («Антигона», «Визитные карточки», «Кума»).
Иное дело — эрзац любви, то, что произошло у Мити с Аленкой.
199
Натурализм призван здесь показать разрушение страсти, муки,
следующие за псевдолюбовью.
Другое дело — и в этом писатель видит извечный трагизм
бытия, — что глубокое чувство, страсть краткотечны. Это вспышка
в ночи, солнечный луч в серой жизни. Будничные дела, «житей­
ская мудрость» убивают любовь («Галя Ганская»), случайность,
невольная измена надолго разлучают возлюбленных («Натали»),
Даже если ничто не предвещает трагедии, она происходит, ибо
счастье, по Бунину, лишь миг в трагедии жизни: оправдываются
мрачные предчувствия нашедшего верную подругу бывшего пол­
ковника — он умирает в вагоне метро («В Париже»); недолго
длится счастье, но страшны страдания писателя Глебова: его воз­
любленная убита ревнивым мужем («Генрих»), умирает от родов
едва успевшая вновь обрести любимого Натали из одноименно­
го рассказа.
Любовь у Бунина, таким образом, оказывается связанной со
смертью и тем самым приобщена к вечности.
Бунинское понимание судьбы раскрывает рассказ, давший
название всей книге. Два несчастных человека генерал Николай
Алексеевич и его бывшая любовница, ныне содержательница трак­
тира, Надежда встретились. Любовь женщины превратилась в
ненависть («Простить мне вас нельзя»), но тем не менее проне­
сенную через всю жизнь. И, быть может, это уже и не ненависть.
Или не только ненависть, а ненависть-любовь, единственное,
что соединяет эту женщину с полнокровной жизнью. Да и гене­
рал, понимая, что невозможно представить эту женщину его
женой, матерью его детей, тем не менее знает, что мгновения,
проведенные с ней когда-то, — единственные истинно счастли­
вые в его жизни.
Рассказ включает в себя стихи Огарева, придающие поэтичес­
кий оттенок прошлому (с этой же целью введены стихи Фета в
«Холодную осень»).
Противопоставление поэтического прошлого и прозы сегод­
няшней жизни героя имеется и в «Русе». Тончайший лиризм пей­
зажа, соотносящегося с Русей, контрастирует с резким и грубым
тоном разговора героя рассказа с женой.
Этот прием воспоминания о прошлом счастье из несчастливо­
го сегодняшнего времени персонажа характерен и для ряда других
рассказов сборника «Темные аллеи».
В критике нет единого мнения о философско-эстетической
позиции Бунина. И.Ильин, отдавая дань уважения огромному та­
ланту писателя, тем не менее считает его лишь певцом «земной
плоти», «мастером внешнего зрения», холодным «анатомом» жиз­
ни. Человек у Бунина, утверждал философ русского зарубежья,
200
/V . 1 Г-
В Ъ
О Д Н О Й
^*Vr
п
3 Н А X о и o f I".
/^осенней пармысиок нэчвк.
~ n jr i M h p m
/
у ^ и ц ь .
по бульвару
jt f y ? ,
сумрак» от» г у с т о * ,о » iwes эеИнм.под» которое металлически блеет аде
фонари,чувствовал» себя легко,молодо н думал»:
Вь одно* знакомое улица
Я пвмяю старый дом»
С» высокой темно* ластuvlot,
Са зав юанями» окном».. .
—Чудесам» стихи »
V.
как» удиви там а но, что воо это было когда-то ■ у
меня; ” эсква,Прьсня,Тд'ух1:;г~с'гвх1шя улиц*, депо ванный мкщансц* доыквк а --к _ х . студент», какой-то тот» я, в» сущ»ствовам!» кэторагв тапера у*е
вс вврится...
.
_
Там» огокок» , й9* эг>ойОм*11ВМ|Щ
До под но ни с в а т а л » ...
—V. там» сватал». X мела мотела.з ветер» сдувал» с» деревдакот ирье»
ск аг»,д»иоы» развавал» его,в скатило са вверху,в» мезонина,са красней
ситцевой эам ааьсхое.. .
у ц ц у т д ЯГЙ>Г
/2ЯИГ «МО yj o#i>
ц
ц
у
1 *
3
*
W nrrO fla. яагтшФ
ШСчТо эа чудо давувка,
Вв завккаП аасв мочкой^
Мейл ястрв«дда в» дома тома
I
Са распущенной косой.••
Страница рассказа И. Бунина
с авторской правкой писателя
«покинет Темные Аллеи своей земной жизни, чтобы исчезнуть в
темном провале небытия». Таким образом, Бунин трактуется как
писатель экзистенциальный, трагичный. Советские критики стре­
мились доказать противоположную мысль: Бунин, несмотря на
некоторые пессимистические мотивы, утвердил своим творчест­
вом победу жизни.
Видимо, истина лежит посередине. Ирина Одоевцева вспо­
минает, как однажды на ее вопрос, смогли бы он сам покончить
жизнь самоубийством, Бунин после долгого раздумья ответил,
что он слишком любит жизнь. С одной стороны, герои писателя
живут в трагическом мире и бессильны его преодолеть. И прав
Л.Долгополов, когда говорит, что Бунин раньше, чем европейс­
кие и американские писатели, создал образ человека потерянно­
го поколения. А мы бы добавили: экзистенциального героя. Но
тот же ученый подчеркивает, что это «русский вариант» назван­
ного литературного типа. А потому он не только осознает тра­
гизм своего положения, но и пытается преодолеть его духовной
жизнью, памятью, поэтизацией бытия. Не случайно героиня рас­
сказа «Натали» говорит: «Разве самая скорбная музыка в мире не
дает счастья?»
С этой точки зрения небезынтересно обратиться к рассказу
«Чистый понедельник», тем более, что Бунин считал его лучшим
в сборнике. Л.Долгополов высказывает гипотезу, что это ино­
сказание о России. Героиня рассказа соединяет в себе восточное
и европейское, любовь-страсть и заветы русской духовности. По­
дарив рассказчику ночь, сама она уходит в монастырь, чтобы
начать новую жизнь. Другое дело, что и здесь нет ответа, нашла
ли она ее, преодолены ли противоречия.
Таким образом, творчество Бунина эмигрантского периода
можно рассматривать и как завершение реалистической тради­
ции А.Пушкина, М.Лермонтова, Л.Толстого, которых он так
любил, и как продолжение экзистенциальных мотивов нелюби­
мого им Ф.Достоевского, и как перекличку с вызывавшими его
раздражение А.Блоком, А.Белым, Ф.Сологубом. Не случайно,
прочитав рецензию Л.Ржевского на свои «Воспоминания», ре­
цензию, где критик утверждал, что «реалист Бунин не приемлет
символиста Блока», Бунин написал Ржевскому: «Называть меня
«реалистом» — значит или не знать меня как художника, или
ничего не понимать в моих крайне разнообразных писаниях в
прозе и стихах». Вот почему правомерно рассматривать книги
писателя еще и как художественное предварения прозы «незаме­
ченного поколения» русской эмиграции, воплотившейся в кни­
гах Б.Поплавского и Г.Газданова, и таких писателей метропо­
лии, как Ю.Казаков, В.Шукшин, Ю.Трифонов.
202
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бунин И. Собр. соч.: В 6 т. — М.: Худож. л и т., 1987-1988.
В том е 1 пред ставл ен ы стихотворен и я Б у н и н а , в том чи сле и э м и г ­
р ан тск о го пери од а. Т ом а 4-5 вклю чаю т п о зд н ю ю худож ествен н ую п р о ­
зу п и сателя, в то м 6 вош ла к н и га о Л .Т олстом , п у б л и ц и с ти к а, в о с п о м и ­
н ан и я .
С обран ие предваряется статьей А .Т вардовского, авторы ст ате й -п о с­
л ес л о в и й и к о м м е н та р и е в — ви д н ей ш и е б у н и н о в ед ы А .К .Б а б о р е к о ,
О .Н .М и х ай л ов, А .А .С аакянц.
Русские писатели — лауреаты Нобелевской премии. И ван Бунин. — М .:
М ол.гвардия, 1991.
В клю чает в себя Н обелевскую речь Б у н и н а, эссе «П о сл едн яя весна»,
«П оследн яя осень», «Б огиня разума», к н и гу «О каян н ы е дн и », во с п о м и ­
н а н и я «К онец» и «Далекое», м иниатю ры «С вятитель», «Т оварищ Д о зо р ­
ны й», «Роза И ерихона». В п ри л ож ен и я вк л ю чен ы во с п о м и н а н и я п и са те­
л я , а такж е В .Н .М у р о м ц ев о й -Б у н и н о й и Г .Н .К у зн ец о в о й о п ол у чен и и
писателем Н обелевской п рем ии.
К н и га предваряется глубоким и тон к и м очерком к р и ти к а и ли тер ату ­
роведа А .Н .А рхангельского «П оследний классик», п росл еж и ваю щ и м о с­
н о вн ы е тем ы , м отивы творчества писателя и эвол ю ц и ю его худож ествен­
н о го метода.
М уромцева-Бунина В .Н . Ж изнь Бунина. Б еседы с пам ятью . — М .:
С ов.п и сатель, 1989.
П ервая часть к н и ги ж ен ы писателя Веры Н и к о л аевн ы (1881-1961)
охваты вает п ери од с 1870 п о 1906 годы. С о б р ан ы м атери алы б и о гр аф и и
п и сателя, д а н а творческая истори я ряда п рои звед ен и й . В торая часть, б о ­
лее м ем уарная, доведена до 1910 года. О тдельная глава п о св ящ ен а вруче­
н и ю Н обелевской прем ии.
К н и га предваряется статьей А .К .Б аб орек о « П о эзи я и правда Б у н и ­
на». И м еется ал ф ави тн ы й указатель им ен.
Кузнецова Г. Грасский дневник. — Ваш ингтон, 1967. / / Знамя. — 1990. —
№ 4. - С. 168-207.
Галина Н и кол аевн а К узн ец ова (1900-1976), поэт, п р о заи к , п ер ево д ­
чи ц а, ж и ла в дом е Б унины х с 1927 до 1942 года, п ом огала п и сателю в
работе над и зд ан и ям и его к н и г. Уже п о к и н у в сем ью Б у н и н ы х и п ереехав
в С Ш А , состояла с н и м в переписке. К н и га содерж ит за п и си разговоров
с писателем , его вы сказы ван и й .
П убл и кац и я в «Знам ени», подготовленная А .К .Б аб о р ек о , — дал ек о
н е полн ы й текст книги.
Ильин И. О тьме и просветлении: Книга худож ественной критики. Б у ­
нин. Ремизов. Ш м елев. — М.: С ки ф ы , 1991.
К н и га вы д аю щ егося р ел и ги о зн о го ф и л о с о ф а р у сск о го зар у беж ья
И .А .И льи н а (1883-1954) и зд ан а п осм ертно в 1959 году. И л ьи н видел в
Б ун и н е великого худож ника, не сум евш его тем не м ен ее п о дн яться до
вы сот х р и стианского р ел и ги озн ого со зн ан и я. П р и н еп о л н о те и ссл ед о ва­
н и я (в поле зр е н и я автора не попали н и «Т ем ны е аллеи», н и к н и га о
Л .Т олстом ) работа содерж ит глубокие н аб л ю д ен и я, то н к и й ан ал и з худо­
ж ествен н ого м и ра писателя.
203
Долгополов Л . Н а рубеже веков: О русской литературе конца XIX —
начале XX в. — Л.: С ов.писатель, 1977. — С. 274-358.
К н и га вкл ю чает в себя главы о Б унине: «Л итературное д в и ж е н и е
века и И ван Б унин» и «Рассказ «Ч исты й п о н ед ел ьн и к» в творчестве
Б у н и н а э м и гр а н тск о го периода». У чены й вы ск азы в ает м ы сль о том , что
тво р чество Б у н и н а по своей трагед и й н ости вп и сы вал о сь в ф и л о со ф ск о эст ети ч ес к и е п о и ск и не только реал и стов, но и русских си м во л и сто в,
п р ед вар ял о литературу «п отерянного п ок олен и я». О второй статье см. в
тексте главы .
Михайлов О.Н. Бунин. //Л и тер ату р а русского зарубеж ья. 1920-1940.
— М.: Н асл ед и е-Н ау ка, 1993. — С. 81-143.
С татья одного из ведущ их буниноведов, м н ого сделавш его дл я воз­
вр ащ ен и я к н и г писателя к отечественном у читателю , рассм атривает связь
творчества Б ун и н а с русской классической традицией . П одроб н о р ас­
см о тр ен а к н и га о Л .Т олстом . В ы явлены особ ен н ости стиля п озд н его Бу­
н и н а. П р и вод ится ряд редких докум ентов, д н евн и к овы х зап и сей п и сате­
ля. О б ш и р н ы й би б л иограф ический ап п арат п озвол яет читателю п о зн а­
к о м и ться с ред ки м и и до сих пор м алои звестн ы м и к н и гам и о Б ун и н е.
Саакянц А. «Ж изнь Арсеньева». //Б у н и н И.А. С обр. соч.: В 3 т. Т.З. —
М.: Х удож .лит., 1982. — С. 495-504.
Р ассм о трен о худож ественное с в о е о б р а зи е к н и ги , вопрос о со о тн о ­
ш ен и и ф а к та и вы м ы сла. Н ам ечена л и н и я А рсеньева-худож ника.
Мальцев Ю . Бунин. — Ф р а н к ф у р т-н а -М ай н е — М осква: П осев, 1994.
К н и га дает систем атическое исследование ж и зн и писателя, трактует
его творчество к ак неореалистическое и ф ен ом ен ологи ч еское. П р и во ­
д и тся о б ш и р н ей ш ая библиограф ия, в том числе работ зарубеж ны х рус­
ски х и и н о стран н ы х исследователей (с. 409-431).
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ
( 1886 - 1939)
«ГРУБОЙ ЖИЗНЬЮ ОГЛУШЕННЫЙ»
Со всех портретов и фотографий Владислава Ходасевича на
зрителя смотрит усталое лицо эстета-эрудита, быть может педан­
та. Сам Ходасевич в одном из своих лучших стихотворений «Пе­
ред зеркалом» иронически описал себя «желто-серым, полуседым
и всезнающим, как змея»:
...я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх...
...который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить...
Впрочем, таким он стал в эмиграции, хотя некоторые преоб­
ладающие в позднем творчестве писателя мотивы сформирова­
лись у него достаточно рано.
Владислав Фелицианович Ходасевич родился 16(28) мая
1886 года в Москве.
О своем отце, обедневшем польском дворянине (из одной ге­
ральдической ветви с А.Мицкевичем), неудавшемся живописце,
ставшем затем фотографом (купцом), Ходасевич писал в стихот­
ворении «Дактили»:
205
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой — это я.
Шестеро было детей. И вправду: он тяжкой работой
Тех пятерых прокормил — только меня не успел.
Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни словом
Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.
Мать (Софья Яковлевна, урожденная Брафман) учила буду­
щего писателя
Про дальний край скорбей и бедствий
Мечтать, молиться и молчать,
Не зная тайного их смысла,
Я слепо веровал в слова:
«Дитя! Всех рек сильнее — Висла,
Всех стран прекраснее — Литва».
Вспоминая о своем детстве в эссе «Младенчество», Ходасе­
вич счел нужным подчеркнуть: «Я очень рано узнал о смерти,
хотя в нашей семье никто не умирал. Я боялся темноты, покой­
ников и особенно ада...». Физическая хрупкость и болезненность
обострила в мальчике эти ощущения. «Я был необычайно серь­
езен, — вспоминает писатель. — В классе поражал я учителей
прилежанием и добронравием. Тогда же возникло осознание
неправильного жизнеустройства мира. Мне казалось не то ужас­
но, что именно со мной несправедливы, но что вообще как мож­
но жить в мире, где делается такое?». «Приступы сих трагичес­
ких переживаний» сопутствовали Ходасевичу на протяжении всей
его жизни и — более того — с годами усиливались.
Эти ощущения отразились в первой книге стихов Ходасевича
«Молодость» (1908). А начал писать стихи он с шести лет. Еще в
гимназии Ходасевич познакомился с Валерием Брюсовым, млад­
ший брат которого был одноклассником начинающего стихотвор­
ца. Знакомство с мэтром русского символизма, дружба с поэтом и
адептом нового направления Виктором Гофманом, с увлеченным
символизмом Самуилом Кисиным (Муни) не могли не оказать
влияния на поэзию Ходасевича. Современный исследователь его
творчества Н.А.Богомолов отмечает в этой книге идущее от В.Брюсова самообожание, уравнивание добра и зла (релятивизм), во
многом заемное у А.Белого, А.Блока, Ф.Сологуба «восприятие
жизни как торжества отчаяния и безнадежности».
От блоковского приятия мира (цикл «Пузыри земли») зави­
сима и вторая книга Ходасевича «Счастливый домик» (1914). По­
зиция писателя здесь, считает все тот же Н.А.Богомолов, «в не­
сколько схематическом виде может быть представлена так: да,
существует мир тревоги, тоски, мятежных дум и ожидания смер­
206
ти. Но над ним, выше его стоит то, что должно быть истинным
содержанием жизни любого человека: понимание закономернос­
ти бытия, удаленного от «поединка рокового», потребность в мир­
ной жизни, «живом счастье», существующем где-то рядом. Эти
две ипостаси жизни постоянно сосуществуют, и путь от одной к
другой — минимален. Но, стоя на грани двух миров, нельзя поз­
волить себе удалиться от того из них, который кажется «низким»,
слишком погруженным в «заботы каждого дня».
И хотя в ряде стихотворений второго сборника поэта в скры­
том виде звучит тема смерти, трагедия бытия, она явно отодвину­
та на второй план.
Впоследствии Ходасевич сурово оценивал эти две первые книги,
не включил их в Собрание стихов и вел свою поэтическую биог­
рафию от третьего сборника — «Путем зерна» (1920).
Выходу этой и последующих книг писателя сопутствовал ряд
трагических событий, отложившихся в сознании художника. В
1916 году умер самый дорогой для Ходасевича человек — Муни,
а у самого Ходасевича обнаружился туберкулез позвоночника.
«Весной 1918 г., — вспоминал позднее писатель, — началась со­
ветская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и на что
есть умение». Ходасевич то работал в театрально-музыкальных
отделах Моссовета и Наркомпроса, то читал лекции в Пролет­
культе, где ему так и не дали дочитать ни один курс до конца. В
поисках заработка он вместе с известными писателями и учены­
ми Б.Грифцовым, П.Муратовым, А.Яковлевым, М.Осоргиным
организовал Книжную Лавку Писателей, где они сами и торго­
вали. «Кое-как были сыты. Зиму 1919-1920 гг. провели ужасно. В
полуподвальном этаже нетопленного дома, в одной комнате,
нагреваемой при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в
Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (ро­
скошь по тем временам)». Несмотря на фурункулез, Ходасевича
чуть не «забрили» в Красную Армию. Лишь вмешательство
М.Горького и по его просьбе В.Ленина предотвратили трагедию.
Обворованный в довершение ко всем несчастьям в Москве, пи­
сатель ненадолго попал в более-менее хорошие условия, пере­
ехав в Петроград, где подготовил и издал сборник «Тяжелая лира»
(1922), итог раздумий пережитых лет.
Смерть А.Блока и гибель Н.Гумилева тяжело отразились в душе
поэта, хотя он и продолжал надеяться на перемены к лучшему. В
1922 году В.Ходасевич вместе со второй своей женой, поэтессой
Ниной Берберовой выезжает из России с твердой уверенностью,
что скоро вернется. Какое-то время он еще печатается в советских
журналах, издает на родине книгу «Поэтическое хозяйство Пушки­
на», дружит с М.Горьким (полгода гостит у него в Сорренто).
207
Необходимость заработка приводит В.Ходасевича к сотрудничес­
тву в газетах «Дни» (редактор А.Керенский), «Последние новости»
(редактор П.Милюков), «Возрождение» (редактор П.Струве), в жур­
нале «Современные записки». И хотя статьи его носят чисто литера­
турный характер, не содержат прямой критики советской власти (бо­
лее того, в 1926 году Милюков буквально выкинул его из «Последних
новостей»), а стихи аполитичны, сам факт выступления писателя на
страницах эмигрантской печати вызвал гнев советских органов. В
1937 году советское посольство в Париже в ультимативной форме
предлагает писателю вернуться в Москву для объяснений. Отлично
понимая, чем это для него кончится, Ходасевич отказывается от со­
ветского гражданства и становится эмигрантом.
Жизнь в эмиграции не была сладкой. Приходилось занимать­
ся литературной поденщиной: вместе с Н.Берберовой писатель
под псевдонимом Гулливер вел в газете «Возрождение» подвал
«Книги и люди», литературную летопись.
Принимал участие в заседаниях «Зеленой лампы».
С 1927 года писатель перешел на прозу (роман «Державин»,
1931; повесть «Жизнь Василия Травникова», книга «О Пушки­
не», 1937; воспоминания «Некрополь», 1939). Пережив разрыв с
Н.Берберовой, Владислав Фелицианович женился на Ольге Бо­
рисовне Марголиной.
Последние годы его жизни были омрачены тяжелой и вовремя
не определенной врачами болезнью. Писателя мучали исследова­
ниями в дешевых (на дорогостоящие не было денег) больницах.
Н. Берберова, сохранившая дружеские отношения с бывшим му­
жем, так описывает его последние дни: «Он жестоко страдал и
худел (потерял кило 9). Волосы у него отросли — полуседые: он
брился редко, борода была совсем седая. Зубов уже вовсе не на­
девал. Кишечные боли мучали его днем и ночью... После морфия
он бредил — три темы бреда: Андрей Белый (встреча с ним), боль­
шевики (за ним гонятся) и я (беспокойство, что со мной) ... Ему
было уже все равно, что делалось на свете ... Оставалась только
ирония, меткое слово, но вид его был так печален и страшен, что
невозможно было улыбаться его шуткам». После неудачной опе­
рации перед смертью он все протягивал правую руку куда-то, слов­
но воплощая в жизнь строки своего стихотворения 1921 года
«Друзья, друзья, быть может, скоро...»:
Вдруг подниму на воздух руку,
И затрепещет в ней цветок,
И я увижу и открою
Цветочный мир, цветочный путь, —
О, если бы и вы со мною
Могли туда перешагнуть!
208
Похоронен Ходасевич на Биянкурском кладбище в Париже.
Отношение к его поэтическому творчеству, даже позднему, не
было однозначным.
В высокой оценке его стихов сходились ненавидевшие друг
друга М.Горький и 3.Гиппиус. Ходасевич, писал М.Горький в
1922-1924 годы, — «крайне крупная величина, поэт-классик и —
большой строгий талант». И чуть позже: «Лучший поэт совре­
менной России». «О Ваших стихах, — писала Ходасевичу взыска­
тельная 3.Гиппиус 9 июля 1926 года, — скажу без газетных экивок
очень точно: они, прежде всего, отдохновенно-приятны. Вы на­
прасно называете их грубыми: меня пленяет этот Ваш современ­
ный уклон к простоте, искание второй простоты (первая — не­
обходима, да и сохрани Бог к ней возвратиться). Никакая «наро­
читость» не страшна: где нарочитость, где верно ведущая интуи­
ция, — не разделишь». (Впрочем, впоследствии оба критика «поохладели» к Ходасевичу: М.Горький из-за резких оценок писате­
лем советской действительности; З.Гиппиус, как и Д.Мережковский, не могла простить Ходасевичу атеизм).
Прямо противоположную оценку давал Ходасевичу извест­
ный критик Д.Святополк-Мирский: «Маленький Баратынский
из подполья, любимый поэт не любящих поэзию». Эту мысль
подхватил и развил Г. Иванов, чья статья «В защиту Ходасевича»
(«Последние новости») доказывала, что не следует сравнивать,
как это часто делалось в критике тех лет, Ходасевича с А.Пушкиным, Е.Баратынским и А.Блоком. Ибо они — творцы, а Хода­
севич — искусный и холодный версификатор, подражатель, ли­
шенный вдохновения. Статья эта столь глубоко ранила Ходасе­
вича, что именно после нее он окончательно отказался от пуб­
ликации своих стихов.
Сегодня, по прошествии многих лет, очевидно, что столь су­
ровая оценка несправедлива, хотя доля истины в ней и содер­
жится.
Ходасевич действительно часто и охотно прибегал к поэтике
своих предшественников. «Он сам, — вспоминает Н.Берберова, —
вел свою генеалогию от прозаизмов Державина, от некоторых на­
иболее «жестких» стихов Тютчева, через «очень страшные» стихи
Случевского о старухе и балалайке и «стариковскую интонацию
Анненского». В стихотворении с характерным для русской литера­
туры названием (и в этом тоже следование классической традиции)
«Памятник» (1928) Ходасевич писал:
Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
209
В этих словах подчеркнуто и то, другое, что наряду с класси­
ческой традицией присутствует в стихах поэта: он положил нача­
ло подробной разработке проблем, едва намеченных у классиков
и вставших в полный рост лишь в XX веке, во многом по-новому
использовав при этом поэтический арсенал предшественников.
Достаточно сравнить ямб и белый стих поздних произведе­
ний Пушкина («Вновь я посетил...», «Пора, друзья, пора...», «Бро­
жу ли я вдоль улиц шумных...», «Осень») с написанными в той
же поэтической ритмике стихотворениями Ходасевича («Эпи­
зод», «Обезьяна», «Дом»), чтобы увидеть существенную разницу.
Если у Пушкина усложненный для восприятия стих призван
вызвать читателя на философские раздумья о гармонии бытия,
вызвать чувство умиротворенности и благодарности жизни, веру
в ее бесконечное развитие, то у Ходасевича отсутствие рифм и
многостопный ямб передает непоэтичность жизни, воссоздает
трагическое и противоречивое бытие.
Следование классической традиции и ее развитие прослежи­
ваются при анализе сборника «Путем зерна», книги, с которой,
как уже говорилось, автор вел отсчет своей поэтической деятель­
ности.
С одной стороны, само название сборника и его первое сти­
хотворение, базирующееся на евангельском стихе «Если пшенич­
ное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно, а если ум­
рет, то принесет много плода» (Ин. 12:24), не лишает надежды на
разрешение противоречия жизни и смерти. И это дает основания
говорить о развитии поэтом оптимистической ноты, традицион­
ной для русской классики XIX века:
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
(Путем зерна, 1917)
Тема зерна, надежды лейтмотивом проходит через всю книгу
стихов, наиболее полно воплотившись в «Стансах» («Душу полнит
сладкой полнотой Зерна немое прорастанье») и заключающем книгу
стихотворении «Хлебы». Но именно эти, строго следующие тради­
ции русской поэзии, стихи декларативны, умозрительны.
Наибольшее же впечатление оказывают на читателя либо сти­
хи, где тоже теплится луч надежды, но одновременно включены и
размышления о неразрешимой трагедии умирания («Полдень»,
«Встреча», «Обезьяна»), либо стихотворения, воссоздающие толь­
ко драму современного бытия. И тогда в рассказе Ходасевича об
210
осени, что была у Пушкина «прекрасной порой, очей очаровань­
ем», на первое место выходит «негреющее солнце», смотрящее
«на постаревших женщин, на мужчин небритых». А вместо «ветра
шума и свежего дыханья» «горькой желчью пахнет утро» («2-го
ноября»). И даже ребенок, этот извечный символ продолжения
жизни, станет «идолом жизни», живущим только собой и улыба­
ющимся «бессмысленной улыбкой». И, вероятно, чтобы еще бо­
лее подчеркнуть полемику с Пушкиным, Ходасевич завершает
стихотворение словами:
...впервые в жизни
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды.
Прекрасная Венеция («Полдень», «Встреча»), трехмачтовые
кораблики на спичечной коробке («Анюте») остались в прошлом.
В сегодняшней жизни — «Огромное малиновое солнце, Лишен­
ное лучей, В опаловом дыму висело. Изливался Безгромный зной
на чахлую пшеницу» («Обезьяна»). Если учесть, что первые строки
«Обезьяны» о жаре, горевших лесах и кричащем (пусть и на со­
седней даче) петухе, то апокалиптический пейзаж конца света —
налицо. Традиционное для поэтов XIX века море у Ходасевича
«Поет летейскою струей Без утешенья» (Лета, как известно из
мифологии, — река забвения), на героя дышит «айдесская» (от
слова «Аид» — загробный мир) прохлада. Певец любви и красо­
ты соловей у Ходасевича «щелкает и цокает» «о безвыходном
трепете жизни своей» («Милые девушки, верьте или не верь­
те...»). В стихотворении «Слезы Рахили» Ходасевич вступает в
спор с Тютчевым, сказавшим, что «блажен, кто посетил сей мир
в его минуты роковые»:
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
Казалось бы, согласившись с пушкинским «есть упоение в
бою и бездны мрачной на краю» (у Ходасевича: «И человек ду­
шой неутолимой Бросается в желанную пучину»), поэт тут же
утверждает, что все это тщетно, ибо «Грады, царства, Законы
истины — преходят», «Жизнь утекает».
Лирический герой сборника «Путем зерна» любит символи­
ческие сравнения. Он видит себя то акробатом, идущим по канату
на грани жизни и смерти; то матросом на корабле, чья жизнь в
руках Господних; то пауком-крестоносцем, не знающим своей
страшной силы. Порой эти образы носят нарочитый, хотя и не­
ожиданный характер: осенняя яблоня представляется поэту дрях­
леющим телом, тщетно тянущимся к жизни; шажок швеи на ба­
тистовом платке вызывает ассоциацию с человеческим существо­
ванием: «то в жизнь, то в смерть перебегая».
211
Но удачно или неудачно сравнение, мысль поэта неизменно
обращается к «горькому предсмертию» («Утро»). Фантазия худож­
ника позволяет ему взглянуть на тело, покинутое душой, со сто­
роны:
Самого себя
Увидел я в тот миг, как этот берег;
Увидел вдруг со стороны, как если б
Смотреть немного сверху, слева. Я сидел,
Закинув ногу на ногу, глубоко
Уйдя в диван, с потухшей папиросой
Меж пальцами, совсем худой и бледный.
Глаза открыты были, но какое
В них было выраженье, — я не видел.
Того меня, который предо мною
Сидел, — не ощушал я вовсе. Но другому,
Смотревшему как бы бесплотным взором,
Так было хорошо, легко, спокойно.
И человек, сидящий на диване,
Казался мне простым, давнишним другом,
Измученным годами путешествий.
Как будто бы ко мне зашел он в гости,
И, замолчав среди беседы мирной,
Вдруг откачнулся, и вздохнул, и умер.
(Эпизод)
Мысль о своей смерти преследует поэта и в стихотворении
«Вариация»:
Я во второй вступаю круг
И слушаю, уже оттуда,
Моей качалки мерный стук.
И как бы ни говорилось во вводном и заключительном сти­
хотворениях книги о возможности продолжения жизни, этот вто­
рой круг столь же драматичен, как и первый:
Ряды ль колонн торжественных иль дыры
Дверей вчерашних — путника все так же
Из пустоты одной ведут они в другую
Такую же...
(Дом)
Бессмыслица, трагедия (что жизни, что смерти) усилена здесь
многоточием.
Многообразие классических размеров (в книге можно найти
и шестистопники XVIII века, и любимый поэтами XX века четы­
рехстопный ямб и разностопный стих), жанровых форм пред­
шествующих эпох (стансы, послания, притчи, раздумья) порой
мешают увидеть достаточно широкое обращение поэта к откры­
212
тиям XX столетия и его собственный, порой подчеркнуто нова­
торский, вклад в арсенал художественных средств русской поэ­
зии. Ходасевич, по его собственному признанию, каждый стих
гонит «сквозь прозу, вывихивая каждую строку». С этой точки
зрения характерно стихотворение «Брента», предваренное эпиг­
рафом — восторженными словами Пушкина «Андриатические
волны! О, Брента!». С неменьшим восхищением писали о Бренте
Байрон, Вяземский, Ростопчина. Тем неожиданнее и полемич­
нее начало одноименного стихотворения В.Ходасевича: «Брента,
рыжая речонка!». Поэт не преминул заметить мутные струи Брен­
ты и сделать вывод, что она «лживый образ красоты». Тем не­
ожиданнее финал:
С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и в стихах.
Проза жизни вводится Ходасевичем, как потом с еще большей
смелостью она будет вводиться Г. Ивановым, почти в каждое сти­
хотворение. Сентиментальное описание мельницы завершается
отнюдь не карамзинской идиллией, а слегка ироничным расска­
зом о мельниковом счастье:
А теперь у мельника —
Лес да тишина,
Да под вечер трубочка,
Да хмельная чарочка,
Да в окне луна.
(Мельница)
Натуралистические подробности переполняют стихотворение
«Дом». При этом они несут как отрицательный нарочито непоэ­
тический («в духоте и мраке супруги обнимались», «потели в жару
больные»), так и вполне положительный (горбатая старуха рабо­
тает для времени) характер. В одном из самых трагических сти­
хотворений «Эпизод» будут упомянуты такие «сниженные» под­
робности, как куча дров, баня, диван, на котором сидит герой. А
метафоре «Трамвай зашипел и бросил звезду В черное зеркало
оттепели» мог бы позавидовать сам Маяковский, величайший
новатор стиха XX века.
И все же классическая традиция, стремление оптимистично
решить даже тему жизни и смерти преобладает и в следующей
книге писателя — «Тяжелая лира». Несколько позже в статье «О
Тютчеве» Ходасевич скажет, что для разрешения мук двойного
бытия поэту необходимо «начало высшее, примиряющее все,
хотя бы непостижимое для ума». Тютчев, по мысли автора эссе,
искал такое начало в Боге и не нашел его. Сам Ходасевич искал
в поэзии.
213
Обрамляющие книгу первое («Музыка») и последнее («Балла­
да») стихотворения содержат мысль, что среди прозы жизни лишь
поэту дано чувствовать «неслышную симфонию». Никакие быто­
вые неурядицы и мелочи не могут лишить мир внутреннего смыс­
ла, постигаемого, возможно, не умом, а сверхчутьем, интуицией
(«Лида», «Баллада»):
И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытьи.
Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.
И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвиё.
Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытиём,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом.
И в плавный, вращательный танец
Все комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.
И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает — Орфей.
(Баллада)
Тема Орфея, певца, спустившегося в подземное царство Аида
и связавшего тем самым поту- и посюстороннее бытие, звучала и
в дореволюционном творчестве поэта. Уже стихотворение «Воз­
вращение Орфея» (1909) во многом объясняет смысл названия
«Тяжелая лира»:
О, пожалейте бедного Орфея!
Как больно петь на вашем берегу!
Отец, взгляни сюда, взгляни, как сын, слабея,
Еше сжимает лирную дугу!
Тремя годами позже в стихотворении «Века, прошедшие над
миром...» Ходасевич разовьет этот мотив, превратив его в тему
Орфея XX века:
214
Но горе! мы порой дерзаем
Все то в напевы лир влагать,
Чем собственный наш век терзаем,
На чем легла его печать.
И тени слушают недвижно,
Подняв углы высоких плеч,
И мертвым предкам непостижна
Потомков суетная речь.
В «Тяжелой лире» орфическая тема получит продолжение в сти­
хотворении «Порок и смерть», реминисцирующим с «Имману-элем»
В.Соловьева. Вслед за Соловьевым и русскими символистами, ви­
девшими в реальной жизни лишь отсвет инобытия, автор утвер­
ждает, что убежать язвы порока и смерти сможет только тот,
Кто тайное хранит на сердце слово —
Утешный ключ от бытия иного,
то есть поэт-Орфей.
Характерно, что именно в этой книге, как ни в одной другой,
поэт прибегает к литературным реминисценциям.
Так, стихотворение «В заседании» имеет в прообразе пушкин­
ское «Предчувствие», что было отмечено еще при жизни поэта
критиком В.Вейдле. Речь идет не только и не столько о совпаде­
ниях отдельных слов и выражений (у Пушкина: «Бурной жизнью
утомленный»; у Ходасевича: «Грубой жизнью оглушенный») и
ритмики (четырехстопный хорей с пиррихиями), а — главным
образом — о понимании темы поэта и поэзии. У обоих поэтов
разочарования (у автора XX века они сильнее) сменяются надеж­
дой. Аналогом пушкинским воспоминаниям у лирического героя
Ходасевича становятся сны о России. Впрочем, сопоставление
пушкинского «Ночной эфир струит зефир» с ходасевичевским
«Горит звезда, дрожит эфир» позволяет говорить, что автор «Тя­
желой лиры» может не только создавать, но и «разрушать вдруг
шутя» гармонию, подозревать, что мир «нелеп» — мысль, совер­
шенно невозможная для гармоничного Пушкина.
С этой точки зрения Ходасевич наиболее близок к трагичес­
кой музе Е.Баратынского (что и послужило основанием для при­
веденного в начале главы резкого отзыва Д.Святополка-Мирского). Ко всем зрелым книгам Ходасевича можно отнести заголовок
последнего сборника стихов Е.Баратынского — «Сумерки». Ком­
позиционно и «Путем зерна», и — особенно — «Тяжелая лира»
построены по принципу стихотворения Е.Баратынского «Две доли»:
Дало две доли провиденье
Или надежду и волненье,
Иль безнадежность и покой.
215
Ряд стихотворений Ходасевича («Буря», наиболее зависимая
от «Двух доль»; «Жизель», «День», «Из окна», «Ни розового сада...»,
«Смотрю в окно и презираю»,...) говорит только о безнадежности
существования. Сарказм и трагическая интонация достигаются
снижением возвышенных материй бытовыми:
Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.
(П робочка)
Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...
Бог знает, что себе бормочешь,
Ищи пенсне или ключи.
(П ереш агни, перескочи...)
Но в большинстве стихотворений, как бы ни был деэстетизирован мир, наличествует и тема инобытия, души-Психеи:
Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.
(К огда б я долго ж ил на свет е...)
Я много вижу, много знаю,
Моя седеет голова,
И звездный ход я примечаю,
И слышу, как растет трава.
(С т ансы , 1922)
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь.
(Вечер, 1922)
Убедительность этим строкам, в отличие от похожих в «Пу­
тем зерна», придает именно то, что прекрасное видится через
реальное:
Не чудно ли? В затоптанном и низком
Свой горний лик мы нычне обрели,
А там, на небе, близком, слишком близком,
Все только то, что есть и у земли,
(М арт )
что Психея является не часто:
И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умиленно слышу я
216
В нем заключенное биенье
Совсем иного бытия.
(Н и ж ить, ни петь почти не ст оит ...)
Принадлежность души иному миру приводит поэта и к пара­
доксальной мысли о необходимости ускорить переход в инобы­
тие. Вот почему лирический герой стихотворения «Сумерки» уби­
вает любимого человека (возможно, самого себя). А над убитым
И ветерка дыханье снеговое,
И вечера чуть уловимый дым —
Предвестники прекрасного покоя —
Свободно так закружатся над ним.
В том же ключе выдержано стихотворение «Сквозь дикий го­
лос катастроф» (1926-1927), написанное уже после выхода «Тяже­
лой лиры» и не включенное в последующий сборник поэта, как
представляется, именно потому, что по настроению ближе к иде­
ям «Тяжелой лиры», нежели «Европейской ночи»:
Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать, —
Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью — одно.
Тема смерти-спасения и поэзии как тяжелой, но вечной лиры
всего лишь в двух, но едва ли не лучших, стихотворениях послед­
ней вышедшей на родине и (в отредактированном виде) первой за
рубежом книги соединяются с темой России. Поэтическое слово
сохраняет для лирического героя
Детства давние года:
Снег на дворике московском
Иль — в Петрово-Разумовском
Пар над зеркалом пруда.
(В заседании)
С помощью слова поэт восстанавливает давно ушедшее, но
дорогое. В том числе облик своей кормилицы тульской крестьян­
ки Елены Кузиной. А от этих воспоминаний переходит к теме
родины и ее сына-поэта:
И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.
И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
217
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...
(Н е мат ерью , но т ульскою крест ьянкой...)
«Тяжелая лира» — наиболее гармоничная и традиционная по
ритмике, по следованию классическим образцам книга Ходасе­
вича, хотя трагическая нота, характерная для всей поэзии XX
века, в том числе и для поэзии русской эмиграции, неизменно
присутствует в ней.
В эмиграции Ходасевич все более убеждается в несостоятель­
ности надежды стать Орфеем и невозможности связать реаль­
ный мир с запредельным, идеальным. Что и воплотилось в кни­
ге стихов «Европейская ночь».
Метафора мира-ночи находит многочисленные инварианты
в пейзажах, запахах, интерьерах, сравнениях. И тогда небо пред­
ставляется эмалированным тазом, море — умывальником, при­
бой — размыленной пеной («У моря», 1922; 1). Мир сужается до
аквариума, где трамваи «скользят в ночную гнилость» («Бер­
линское»), мутна луна, мутен блеск асфальта («С берлинской
улицы...»). «Тускнеет в лужах электричество», собаки скребут
«обшмыганный гранит», «все высвистано, прособачено» («Нет,
не найду сегодня пищи я...»). «Под землей» «пахнет черною кар­
болкой и провонявшею землей», а «сверху синяя пустыня». «Все
каменное. В каменный пролет Уходит ночь. В подъездах, у во­
рот — Как изваянья — слипшиеся пары. И тяжкий вздох. И
тяжкий дух сигары» в стихотворении «Под землей» соседствует
с чахлой травой из стихотворения «Бедные рифмы». От этих
конкретных деэстетизированных зарисовок поэт идет к обоб­
щениям: «железный скрежет какофонических миров», мир —
«постыдная лужа». Порой обобщения и натуралистические де­
тали соединяются в гиперболизированную метафору:
На глаза все тот же лезет мир,
Нестерпимо скучный, как больница,
Как пиджак, заношенный до дыр.
(Он не спит, он т олько забы вает ...)
Под стать этому кошмарному миру и его обитатели: «уродики, уродища, уроды», «клубки червей», «блудливые невесты с
женихами» («Дачное»), «идиотское количество серощетинистых
собак» («Нет, не найду сегодня пищи я...»), «старик, как тень
Аида» («Под землей»), причитающий в окне несчастный дурак,
курносый актер, еще один старик — потенциальный самоубий­
ца, мертвец-рабочий («Окна во двор»), румяный хахаль, жирная
танцовщица, поющий дурак («Звезды»). Персонажи «Европейс­
кой ночи» задыхаются, дрожат, ковыляют, заламывают руки, хи­
хикают, зевают, их одолевает скука.
218
Столь же беспощаден поэт к себе. В уже упоминавшемся в
начале главы стихотворении «Перед зеркалом» Ходасевич пока­
зывает ту метаморфозу, которая произошла с останкинским маль­
чиком, романтиком и символистом. Начав стихотворение эпигра­
фом из высокой «Божественной комедии» Данте («Земную жизнь
пройдя до половины...»), писатель нарочито снижает рассказ о
своей жизни, завершая его признанием в том, что в отличие от
великого итальянца заблудился, а Вергилий, ставший проводни­
ком Данте, не пришел на помощь русскому поэту:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.
В другом стихотворении («У моря», 1922) самохарактеристика
еще пессимистичней: «Лежу, ленивая амеба». В третьем поэт, пе­
рефразируя пушкинское «и с отвращением читая жизнь мою»,
пишет:
И, проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.
(Берлинское)
Итоговые выводы мрачны и однозначно трагичны:
Бесполезное — бесполезно;
Продолжается бытие.
( У моря, 1922-1923; 4)
Хожу — и в ужасе внимаю
Шум, не внимаемый никем.
Руками уши зажимаю —
Все тот же звук! А между тем...
О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены!
(В ст аю расслабленный с пост ели...)
Всегда в тесноте и всегда в темноте,
В такой темноте и в такой тесноте!
(О кн а во двор)
Символичность, обобщенность последней фразы подчеркнута
следующим за ней многоточием, завершающим все стихотворение.
219
Крупной удачей поэта стала стилизованная под английскую
балладу (с четырехстопным хореем и нерифмованными оконча­
ниями в 1-м и 3-м стихах и трехстопным хореем и рифмами во
2-м и 4-м) поэма «Джон Ботгом». Тема антигуманности войны
уже и раньше звучала в стихах Ходасевича («Слезы Рахили»,
«Обезьяна» и др. более ранние веши). Теперь война рассматри­
вается более широко как одно из проявлений трагедии XX века:
обезличивание человека. Мало того, что портной Джон Боттом
похоронен с чужой рукой (рукой сапожника), он лишился име­
ни, хотя после войны
И вырыт был достойный Джон,
И в Лондон отвезен,
И под салют, под шум знамен
В аббатстве погребен
И много скорбных матерей
И много верных жен
К его могиле каждый день
Ходили на поклон.
Но вдова Джона отказывается идти на могилу неизвестного
солдата:
...«Не хочу!
Я Джону лишь верна!
К чему мне общий и ничей?
Я Джонова жена!»
А апостол Петр не разрешает Джону намекнуть жене, что это
именно он в аббатстве погребен. Поэт доходит до прямого бого­
хульства, когда Джон Боттом в Царстве Небесном, где положено
быть счастливым, «все томится с тех пор, и рай ему невмочь».
В селенье света дух его
Суров и омрачен,
И на торжественный свой гроб
Смотреть не хочет он.
Можно спорить, насколько эмоционально написана разви­
вающая тему «Джона Боттома» «Баллада» — переосмысление еван­
гельской притчи о бедном Лазаре {Лк. 16:19-31). В ней чувству­
ется некая рационалистическая заданность, нравоучительность,
но мысль этого стихотворения важна для понимания мировоз­
зрения поэта: у старика героя «Баллады» утеряно ощущение лич­
ности. Он смят, унижен, «вписан» в суету железного и глупого
XX века.
Разочарование в мире земном и небесном приводит Ходасе­
вича к новому решению темы смерти. Если в двух предшествую­
щих книгах смерть и самоубийство являлись таинственными ак­
220
тами перехода в инобытие (хотя порой автор и испытывал в том
сомнение), то теперь — это лишь способ уйти от скуки мира:
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг — а иной.
(Бы ло на улице полут ем но...)
В этом же ключе выдержано сихотворение «Ап Marichen» («К
Марии»), где писатель утверждает, что для слабой, бледной де­
вушки было бы лучше сразу погибнуть от руки злодея, чем «пе­
регрузить тяжелой ношей» свой «слабый и короткий век». Напи­
санное четырехстопным ямбом с пиррихиями в разных стопах,
что в соответствии с темой стихотворения сбивает четкость ям­
бического каданса (заданного ритма), стихотворение еще более
интересно звуковым исполнением. Настойчивое повторение не­
благозвучных сочетаний в натуралистически сниженных словах
передает какофонию времени:
Уж лучше в несколько мгновений
И стыд узнать, и смерть принять,
И двух истлений, двух растлений
Не разделять, не разлучать.
Соответственно с новым мироощущением Ходасевича в «Ев­
ропейской ночи» меняется взгляд на роль поэта и поэзии. Тема
Орфея исчезает. Стихи, да и искусство в целом, по мысли писа­
теля, уже не спасают красотой мир, не волнуют душу даже лири­
ческого героя:
По залам прохожу лениво.
Претит от истин и красот.
Еще невиданные дива,
Признаться, знаю наперед.
Нет! полно! Тяжелеют веки
Пред вереницею Малой, —
И так отрадно, что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.
(Хранилище)
Характерно, что к такому же пониманию искусства придет
несколько позднее и антагонист Ходасевича Г.Иванов.
Ходасевичу все труднее доказывать красоту Божьего мира.
Автобиографический характер носит признание, вложенное им
несколько позже в уста главного героя повести «Державин»: «Мир
был прекрасен, но история отвратительна». Так появляется за­
вершающее «Европейскую ночь» стихотворение «Звезды»:
Несутся звезды в пляске, в тряске,
Звучит оркестр, поет дурак,
Летят алмазные подвязки
221
Из мрака в свет, из света в мрак.
И заходя в дыру все ту же,
И восходя на небосклон, —
Так вот в какой постыдной луже
Твой День Четвертый отражен!..
Нелегкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.
За пределами последней книги осталось стихотворение «Пока
душа в порыве юном...», рисующее путь автора к итоговому вы­
воду:
А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно,
Привыкши к слову, — замолчать.
«Отказ поэта от поэзии,— писал Ходасевич совсем о другом
поэте в статье «Бесславная слава», — может быть следствием дво­
якого рода причин: или он вытекает из принципиального разу­
верения в поэзии как подвиге — и тогда мы имеем дело с вели­
чайшей внутренней трагедией; или же на такой отказ толкают
поэта иные, более внешние, но все же властные обстоятельства».
Вряд ли в 1918 году, когда возникли эти строки, писатель мог
предполагать, что он пророчески предсказывает свое будущее со­
стояние, объясняет свой собственный отказ от поэзии.
Так или иначе с 1927 года В.Ходасевич почти полностью пре­
кратил писать и печатать стихи. Обновить поэзию — задача, ко­
торую он ставил в статье «Кризис поэзии» (1934), — ему оказа­
лось не по плечу, хотя в стихотворениях «Звезды», «Ап Marichen», «Под землей», «Нет, не найду сегодня...» поэт вплотную
подходил к художественным открытиям, определившим разви­
тие поэзии XX века и воплотившимся в творчестве Б.Пастернака, А.Ахматовой — с одной стороны, Г.Иванова, Б.Поплавского — с другой.
Весь свой талант художника и мыслителя Ходасевич с конца
20-х годов направляет в прозу, самыми значительными явления­
ми которой стали повести о писателях («Державин» и «Жизнь
Василия Травникова») и книга воспоминаний «Некрополь».
Почему именно Гавриил Романович Державин привлек вни­
мание писателя? Современный исследователь прозы Ходасевича
Д.Зорин считает, что обоих поэтов объединяло использование
прозаизмов, символика, тяга к четырехстопному ямбу. Это, без­
условно, так. Вместе с тем почти все названные приемы можно
найти у А.Пушкина, творчество которого Ходасевич считал вер­
22 2
шиной русской поэзии. Более того, можно было бы указать на то
обстоятельство, что, говоря о Державине, Ходасевич неоднократ­
но подчеркивал его тяжеловесность, неуклюжесть синтаксиса —
свойства, абсолютно чуждые самому Ходасевичу.
Видимо, некоторая очевидная общность поэтических при­
емов — не главное, что привлекало писателя XX века к своему
предшественнику из века XVIII. Более важной причиной обра­
щения к державинской теме представляется близость идейно­
философских исканий писателей и их творческой судьбы. Еще
задолго до повести, в статье 1916 года «Державин (К столетию со
дня смерти)», Ходасевич утверждал, что XVIII век не проводил
разницы между исторической деятельностью и поэзией. «Его
стихи суть вовсе не документ эпохи, не отражение ее, а некая
реальная часть ее содержания; не время Державина отразилось в
его стихах, а сами они, в числе иных факторов, создали это вре­
мя». Стоит напомнить, что русские символисты, идеи которых
во многом разделял Ходасевич, в начале XX века мучительно
искали именно такого синтеза: жизнь продолжает поэзию, а по­
эзия творит жизнь.
В «Державине» Ходасевич постоянно подчеркивает, что для
его героя поэзия — часть государственного дела, а государствен­
ное дело — вещь столь же творческая, требующая таланта, тем­
перамента, мастерства, как и стихосложение. Другое дело, что в
1929-1931 годы писатель уже понимал, что практически слить
эти две области человеческой деятельности невозможно. Отсю­
да — трагизм повести. Державин у Ходасевича — человек увле­
ченный, всецело отдающийся делу (будь то царская служба или
творчество), но ни царям, ни вельможам, ни обществу в целом
это не нужно.
Еще более настойчиво эта мысль проводится в повести «Жизнь
Василия Травникова» (1936). Никакого Василия Травникова на
самом деле не было. Ходасевич мистифицирует читателя, утвер­
ждая, что к автору повести попали документы и стихи этого по­
эта. Но если Державину, как и самому Ходасевичу до 30-х годов,
выпало счастье радоваться жизни, бросаться в ее течение, ощу­
щать свою нужность, то Травников в созвучии с поздними на­
строениями автора повести «нес свой крест с сосредоточенным
ожесточением», а после смерти отца «захотел порвать послед­
нюю связь с внешним миром». Более того, узнав, что его стихи
изданы, он потребовал уничтожить весь тираж и не захотел даже
посмотреть на свою книгу.
Чрезвычайно интересна авторская сноска к стихотворению
«Эклога», якобы принадлежащему перу Травникова («На сей зем­
ле, где учрежден один Закон неутолимого страданья»): «Рукопись
223
не совсем разборчива. Может быть, следует читать «неумолимо­
го». Тем самым Ходасевич обращает внимание читателя на воз­
можную близость Травникова нашему времени: при всей похо­
жести слов «неутолимый» относится к поэтике XIX века, а «не­
умолимый» — к экзистенциальной проблематике XX века.
В обоих повестях о поэтах поднимается проблема смерти. Ав­
тор обстоятельно говорит о развитии этой темы в одах Держави­
на. Завершая книгу анализом «Реки времен», предсмертного сти­
хотворения героя повести, Ходасевич вполне в духе своих взгля­
дов 30-х годов формулирует весьма неутешительный вывод: «Ис­
тория и поэзия способны побеждать время — но лишь во време­
ни. Жерлом вечности пожрутся и они сами. Тут отказывался Дер­
жавин от мечты, утешавшей его всю жизнь. Отсюда и обнаженная
простота его предсмертной строфы: все прикрасы как бы совлече­
ны с нее вместе с надеждой».
Еще более знаменателен финал рассказа о Травникове: «Несо­
мненно, он ждал и хотел смерти. В его черновиках я нашел на­
броски стихотворения, кончавшегося такими словами:
О, сердце, колос пыльный!
К земле, костьми обильной,
Ты клонишься, дремля.
Но приблизить конец искусственно было бы все же противно
всей его жизненной и поэтической философии, основанной на
том, что, не закрывая глаз на обиды, чинимые свыше, человек из
единой гордости должен вынести все до конца.
Я в том себе ищу и гордости, и чести,
Что утешения отверг с надеждой вместе, —
говорит он. Отвергая надежду и утешение в жизни, в поэзии он
стремился к отказу от всякой украшенности».
В этих словах философское и поэтическое кредо самого Хо­
дасевича. Выдумав несушествовавшего поэта Василия Травни­
кова и сделав его первым в русской поэзии стоиком, писатель
получил возможность обозначить свою собственную поэтичес­
кую гениалогию: Травников — Баратынский (он прямо назван в
книге учеником Травникова) — Ходасевич.
Две названные повести интересны не только тем, что их ге­
рои воплощают то мировосприятие, которое было присуще Хо­
дасевичу в последние годы его жизни. Каждая из них сыграла
свою роль в становлении русской исторической прозы.
Перед Ходасевичем-автором «Державина» стояла задача впи­
сать своего героя в контекст эпохи, создать портреты русских
царей, вельмож, людей, окружавши* Державина, во всей слож­
ности и противоречивости их характеров. Нужно было найти и
224
способ повествования, язык, позволяющий сохранить неповто­
римый колорит XVIII века и вместе с тем понятный читателю
нашего времени. Задача эта осложнялась тем, что Державин сам
написал два тома «Записок из известных всем происшествий и
подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гавриила Романови­
ча Державина». «Иные места «Записок», — характеризует их Хо­
дасевич, приведя полное название труда своего персонажа, —
силой и меткостью удивительны, в иных не сразу добьешься тол­
ку». Бережно сохраняя неповторимый стиль эпохи XVIII века
(вводя в книгу кусочки «Записок» своего героя, исторические
документы, велеречивые письма, стихи), Ходасевич основное
повествование ведет с лаконизмом пушкинской прозы, совре­
менным читателю языком. Вместе с тем в книге достаточно мно­
го непосредственно авторских раздумий и оценок, характерных
Для исторической эссеистики XX века. Характерно, что в этих
же направлениях шли поиски и других авторов русской истори­
ческой прозы 20-30-х годов: А.Толстого, М.Алданова, Ю.Тынянова. Роднят Ходасевича с названными авторами и попытки по­
рой психологической, порой исторической детализации фактов
биографии его исторических персонажей. Биографии как общес­
твенной, так и личной. Особенно интересны главы, рассказыва­
ющие о создании оды «Бог», об отношениях Державина-чиновника и стихотворца с Екатериной и Павлом, о последних годах
жизни писателя в Званке.
В более традиционной стилистике выдержана «Жизнь Васи­
лия Травникова». Стремясь убедить читателя в достоверности
описываемого, Ходасевич в большей степени, чем в «Держави­
не», листанииируется от описываемого. Он то и дело говорит то
об отсутствии дат в полученных им документах, то о потери час­
ти самих документов. Стихи вымышленного поэта обрываются,
как якобы утраченные. Словом, псевдодокументы играют боль­
шую роль, чем в книге о подлинно исторических событиях. Вместе
с тем и здесь сохраняются авторские объяснения побудительных
действий персонажа, его психологии. Бесспорно, что в этой по­
вести автор испытал большое влияние «исторических» стилиза­
ций А.Пушкина («Повести Белкина», частично «История села
Горюхина»), прозы М.Лермонтова («Герой нашего времени»).
Блестящее мастерство Ходасевича-мемуариста проявилось в
его воспоминаниях о Муни, А.Белом, В.Брюсове, А.Блоке, Н.Гу­
милеве, М.Горьком и целом ряде других, частично уже забытых
ныне писателях. Общие принципы подхода к этому виду своего
творчества писатель сформулировал в эссе об А.Белом: «Быть
сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю — исклю­
чить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно
8—1662
225
ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Та­
кие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и без­
нравственны, потому что только правдивое и целостное изобра­
жение замечательного человека способно открыть то лучшее, что
в нем было. Истина не может <быть> низкой, потому что нет
ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману»
хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учить­
ся чтить и любить замечательного человека со всеми его слабос­
тями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не
нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудно­
го: полноты понимания».
Написанные в 1937-1938 годы строки эти перекликаются со
вступительными статьями В.Вересаева к его знаменитым книгам
«Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина», не переиздававшимся
с 30-х годов до недавнего времени именно потому, что в них
создавался нехрестоматийный облик великого поэта и его дру­
зей. Если вспомнить, что именно в эти годы в советской литера­
туре активно создавались «оболганные хрестоматийным глянцем»
портреты деятелей русской истории и культуры, в том числе и
недавно ушедших из жизни далеко неоднозначных художников
(М.Горький, В.Маяковский, А.Блок), мифологизировались одни
партийные деятели и беспощадно вычеркивались из истории
другие, искажался сам путь русской литературы, а подлинный
реализм у очень многих даже талантливых художников заменял­
ся «социалистическим», то станет ясно, что «Некрополь» Хода­
севича внес свой вклад в сохранение жанра русской мемуаристи­
ки, начавшего воскресать на родине лишь в 50-е годы.
Собранные вместй статьи Ходасевича о русской классике, его
рецензии на произведения З.Гиппиус и И.Бунина, Г.Адамовича
и Г.Иванова, В.Набокова и О.Мандельштама, работы о театре,
раздумья о современной литературе, несмотря на то, что они
порой слишком субъективны, чтобы быть научными трудами (ка­
ковыми являются книга «О Пушкине», статьи об А.Грибоедове,
П.Вяземском, А.Дельвиге, Ф.Тютчеве), представляют интерес как
для истории литературы, так и для выявления эстетических по­
зиций самого Ходасевича.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. / С ост. И .П .А н д реева, С .Г .Б о ч ар о в ,
И .А .Бочарова, И .П .Х абарова. К ом м ент. И .А .А ндреевой, Н .А .Богом олова,
И . А. Б о чар овой .
Н аиболее полное издание произведений писателя вклю чило в себя его
поэзию , прозу, статьи, рецензии (в том числе опубликованны е только од­
нажды в периодической печати или вообщ е неопубликованны е), письм а.
226
Ходасевич В. Колеблем ы й треножник: И зб р а н н о е./С о с т. и подгот. те к ­
ста В .Г .П ерел ьм утера — М .: С ов .п и сател ь, 1991.
Н аи б о л ее р еп р е зе н т а т и в н ы й о д н отом н и к : вк л ю чает в се б я л у ч ш и е
стихи п о эта, л и тер ату р о в ед ч еск и е статьи «От Д ер ж ав и н а д о Ч ехова»,
во с п о м и н а н и я «С реди со в р ем ен н и к о в» , воб равш и е в се б я и о ч е р к и и з
к н и ги «Н екрополь», а такж е «О тзывы» — статьи и р е ц е н зи и Х о д асеви ­
ча.
И м е ет ся у к азател ь и м ен .
О со б ы й и н тер ес п р ед ставл яю т б и о гр аф и ч еск и е м атер и ал ы : ав т о б и ­
о гр аф и я п оэта и х р о н и к а его ж и з н и и творчества.
К н и г а богато и л л ю стр и р о в ан а .
Х одасевич В. Д ерж ави н /В с т у п ст., сост. п р и л о ж е н и я , к о м м е н т а р и и
A . В .З о р и н а. — М .: К н и г а , 1988.
К р о м е ром ана «Д ерж ави н », в к н и гу входят п о д го то в и тел ьн ы е м а те ­
ри алы к к н и ге о П а в л е I, статья к 100-летию со д н я см ер ти Д е р ж а в и н а
и п о в е сть «Ж изнь В а си л и я Т равн и кова».
В п р и л о ж ен и и « Д ер ж ав и н в русск ой к р и ти к е н ач ал а X X века» д а н ы
статьи Б .А .С ад овск ого, Б .А Т р и ф ц о в а , Ю .И .А й хен вал ьда, Б .М .Э й х е н ­
баум а, П .М .Б и ц и л л и , что п о зв о л яе т п о н я ть вклад Х одасеви ча в р а з в и ­
тие д е р ж ави н ско й те м ы .
В ступ и тельная стать я «Н ачало» сод ерж ит гл у б о к и й а н а л и з м а с т е р ­
ства Х одасевича — а в то р а и сто р и ч е ск о й п ро зы .
Богом олов Н .А. Ж и зн ь и поэзия В ладислава Х одасевича / / Х о дасеви ч
B. С ти х о творен и я. — Л .: С о в .п и сател ь, 1989. (Б и б л и о тек а п о э та ). —
C. 5-48.
С т ать я сод ерж и т гл у б о к и й и п о д р о б н ы й ан а л и з х у до ж ествен н о го
м и ра Х о дасеви ча-п оэта. В сн о сках н азы ваю тся м ал о и звестн ы е и л и труд­
н о до сту п н ы е м атер и ал ы о ж и з н и п и сателя.
Бочаров С.Г. Ходасевич / / Л итература русского зарубеж ья 1920-1940. —
М.: Н ас л ед и е -Н а у к а , 1993. — С. 178-219.
В ы явлены эта п ы ф о р м и р о в а н и я п и сател я , о сн о в н ы е те м ы его тв о р ­
чества.
С ам о сто ятел ьн ы й и н тер ес представляет б и б л и о гр аф и ч еск и й сп и с о к ,
завер ш аю щ и й статью .
я*
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
( 1894 - 1958)
«МНЕ ИСКОВЕРКАЛ ЖИЗНЬ
ТАЛАНТ ДВОЙНОГО ЗРЕНЬЯ...»
Сохранилось много портретов Георгия Иванова. Лучший из
них, по мнению современников, принадлежит Юрию Анненко­
ву. Искривленные в иронической усмешке губы, дымящаяся в
мундштуке длинная сигарета, вытянутое, точно вырезанное рез­
цом, лицо, блестящие напомаженные волосы. Почти точное во­
площение характеристики, данной ему И.Северяниным: «Вы
нежный и простой, И вы эстет с презрительным лорнетом». Лор­
нета на рисунке нет. Как нет и тонких пальцев музыканта, неиз­
бежно присутствующих на других портретах Иванова. Зато есть
мешки под глазами. В 1921 году, когда Анненков создавал порт­
рет писателя, их не было. Но художник провидчески добавил их,
придав портретируемому экзистенциальный трагизм, который
проявится только в эмигрантском творчестве Иванова.
Георгий Владимирович Иванов — младший и любимый сын
не очень знатного, но волей судьбы ставшего на некоторое вре­
мя очень богатым отставного военного. Детство писателя про­
шло в имении Студенки (на границе Польши), где юношу окру­
жала живописная природа и произведения искусства (в доме на­
ходились подлинные картины Ватто, Гогена и других художни­
ков). «Имею ласковую мать, отца нестрогого. И все мне делает
228
семья, чего хочу», — писал Г.Иванов в одном из своих стихотво­
рений. Предоставленный сам себе, мальчик увлекался античной
мифологией и даже назвал подаренный ему отцом остров на од­
ном из прудов имения Цитерой (слово это позднее войдет в за­
головок двух его поэтических книг). Устраиваемые матерью му­
зыкальные вечера, домашние концерты певцов и музыкантов вос­
питали. в будущем поэте гармонию и тонкое чувство мелодики —
признаки его ранней поэзии. После разорения и смерти отца
Иванов учился в кадетском корпусе в Петербурге, но не окончил
его и увлекся поэтическим творчеством.
Первые поэтические опыты Иванова выдержаны в традици­
ях эгофутуризма И.Северянина, чрезвычайно высоко ценившего
юного поэта и даже сделавшего его одним из трех директоров
Директората эгофутуризма. Свой первый сборник стихов «От­
плытие на о.Цитеру» (1912) Иванов снабдил подзаголовком в
духе И.Северянина: «Поэзы».
Однако достаточно скоро Иванов перешел от вычурной поэ­
зии эгофутуризма к более сдержанной, хотя тоже не лишенной
эстетизма, поэзии акмеистов. Молодой поэт был приглашен са­
мим Н.Гумилевым, «синдиком»(главным мастером) «Цеха поэ­
тов» в члены этого объединения. Интерес акмеистов к реальным
приметам жизни в сочетании с установкой на поэтичность, от­
точенность мастерства характерен для последующих петербургс­
ких книг поэта «Горница» (1914), «Вереск» (1916) и «Сады» (1921).
Прц всем различии четырех первых книг поэта (была еще
одна, написанная в годы войны и названная не без претенциоз­
ности «Памятник славы», но сам автор не считал ее, как, впро­
чем, и «Горницу», удачей и второй своей книгой называл «Ве­
реск») их объединяет подчеркнутый эстетизм: уход от реальной
жизни к жизни искусства, некая вторичность изображаемого.
«Отплытие на о.Цитеру», например, открывается прологом
стихотворением-идиллией «Мечтательный пастух», герой кото­
рого, завернутый в тигровую шкуру, «гимны томные наигрывая,
пасет мечтательно стада». Заканчивается же книга стихотворе­
нием-эпилогом, где лирический герой говорит о себе:
Я грежу сказками старинными,
Которым учит тишина.
И снова я пастух мечтательный.
Как и в последующих книгах поэта, почти на каждой страни­
це присутствуют Купидон, Венера, Диана, Хлоя, Феб, фавны и
нимфы, Дионис, Сизиф. Иванова привлекают экзотические имена
Темиры, Газеллы, пирата Оле. В «Горнице» фигурируют Пьеро,
Арлекин, Коломбина, Пьеретта. В «Садах» этот список попол­
229
нится целым набором восточных имен: Селим, Заира, Гафиз,
Гюльнара. Не раз вспомнит поэт и библейских персонажей: Хрис­
та, Саломею, Марию.
Поэтический пейзаж стихов петербургского периода в одних
случаях театрализован (фонтаны, лунная нега, пир осени, слад-'
ко-пламенная луна), в других — напоминает старинные гравюры
(голые ветки деревьев, блеск фонарей на волнах, вид из окна).
Гравюры, картины, портреты — неприменные атрибуты сти­
хов молодого Иванова:
Как я люблю фламандское панно,
Где овощи, и рыба, и вино,
И дичь богатая на блюде плоском —
Янтарно-желтым отливает лоском.
Но тех красот желанней и милей
Мне купы прибережных тополей,
Снастей узор и розовая пена
Мечтательных закатов Клод Лорена.
Лорен, Ватто, Шотландия или Франция вспоминаются, даже
когда речь идет о русской старине:
О подражатели Ватто, переодетые в маркизов
Дворяне русские, — люблю ваш доморощенный Версаль.
Поэт испытывает эстетическое наслаждение от пожелтевших гра­
вюр, прадедовского ковра, часов с Наполеоном 1913 года, Антуа­
нетты медальона, старинных кофейников, сахарниц, блюдец, книг.
Не случайно целый цикл стихов он назовет «Книжные украшения».
Изысканные образы выражаются в изысканных же формах
сонетов, триолетов, стансов, акростихов, александрийского сти­
ха, послания. Хризантемы, кабриолеты, аквамарины, азалии, аме­
тисты, китайские драконы, жемчуга — вот далеко не полный
перечень экзотических образов поэта, складывающих музыкаль­
ную мелодию:
Эоловой арфой вздыхает печаль,
И звезд восковых зажигаются свечи,
И дальний закат, — как персидская шаль,
Которой окутаны нежные плечи.
Или:
Письмо в конверте с красной прокладкой
Меня пронзило печалью сладкой.
Я снова вижу ваш взор величавый,
Ленивый голос, волос курчавый.
Не менее виртуозны и рифмы поэта: скерцо-сердце, огнистых-аметистов, иероглифа-Сизифа, за то-Ватто, книга-индиго,
меди-Андромеде, желанен-магометанин.
230
Никто не мог отрицать таланта молодого поэта, его виртуоз­
ного мастерству. И тем не менее выдающиеся современники Ива­
нова А.Блок и Н.Гумилев крайне сдержанно, чтобы не сказать
больше, оценйли его первые книги.
«Он спрятался сам от себя,— писал А.Блок о «Горнице». —
Не сам спрятался, а его куда-то спрятала жизнь, и сам он не
знает куда ... Его книга — книга человека, зарезанного цивили­
зацией, зарезанного без крови, что ужаснее». «Он не мыслит об­
разами, — утверждал Н.Гумилев, — я очень боюсь, что он никак
не мыслит».
Конечно, сегодня, зная дальнейшее творчество поэта, с этой
оценкой можно согласиться лишь частично. В стихотворении «Мы
скучали зимой, влюблялись весною...» уже можно найти пред­
чувствие будущего трагического мироощущения. А финальная
фраза стихотворения «Литография» «Жалобно скрипит земная
ось» — потрясающий образ неблагополучия, определивший всю
позднюю поэзию Иванова. В пронзительном стихе «даже память
исчезнет о нас» («Оттого и томит меня шорох травы») уже живет
один из ведущих мотивов «Посмертного дневника». В эмигран­
тском творчестве постоянно будут встречаться реминисценции
из ранних книг поэта, как противопоставления его новому взгляду
на мир. И все же в целом останься Иванов только автором пе­
тербургских стихов, ему была бы уготована судьба одного из мно­
гих тысяч талантливых поэтов-версификаторов. Слишком лег­
кое детство, слишком беззаботная юность сыграли с поэтом злую
шутку.
Потеря родины, трагедия изгнанничества придали творчеству
Иванова то духовное напряжение, которого не хватало его ран­
ним стихам.
«Новый» Иванов начался с беллетризированно-мемуарной
прозы — книги «Петербургские зимы» — и публиковавшихся пре­
имущественно в газетах «Дни» и «Последние новости» портретов
деятелей культуры под общей рубрикой «Китайские тени».
Среди портретируемых писателем персонажей люди широко
известные (А.Блок, Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам,
С.Есенин, С.Городецкий, Ф.Сологуб, М.Кузмин, И.Северянин )
и знакомые только узкому кругу интеллигенции тех лет (компо­
зитор Н.Цыбульский, организатор поэтических кафе Б.Пронин,
поэт Алексей Лозина-Лозинский). Из ярких, порой гротесковых
описаний Иванова перед читателем как живые встают люди эпо­
хи Серебряного века, давно ушедшие в прошлое подробности.
Другое дело, что далеко не все рассказанное автором соответ­
ствует действительности. Автор книги «Курсив мой», известная
русская писательница Н.Берберова вспоминает, что однажды Ива­
*
231
нов признался ей, что «в его «Петербургских зимах» семьдесят
пять процентов выдумки и двадцать пять — правды». Перед нами
не мемуары очевидца, а книга, пронизанная единой художес­
твенно-философской концепцией, суть которой сформулирова­
на уже в первых строчках «Петербургских зим»: «Говорят, тону­
щий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться.
Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя со­
знание, он идет на дно улыбаясь».
Эта характеристика эпохи кануна революции, образ идущего
ко дну мира искусства — лейтмотивы книги. Символический от­
тенок приобретает рассказ о конце кафе поэтов: «Привал» не
был закрыт — он именно погиб, развалился, превратился в прах.
Сырость вступила в свои права. Позолота обсыпалась, ковры на­
чали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали
бегать, не боясь людей...» Крысы наводняют квартиру Н.Гуми­
лева в последние годы его жизни («Китайские тени»). Крысы,
«похожие на мертвецов», лица завсегдатаев поэтических вече­
ров, бесконечные разговоры о смерти — все это для Иванова
знаки распада. Приходит конец эпохе Христа, на арену выходит
дьявол. Не случайно книга начинается и заканчивается расска­
зом о дьяволопоклонниках.
«Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают
в памяти без связи, без счета, — пишет Г.Иванов. — То совсем
смутно, то с фотографической точностью... И опять — стеклян­
ная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходят люди, падает
снег. И куранты играют «Коль славен»... Нет, куранты играют
«Интернационал».
Говоря о А. Блоке, Иванов неоднократно повторяет трагичес­
кие строки поэта о бессмыслице жизни («Ночь. Улица. Фонарь.
Аптека...»). Описывая Ф.Сологуба, называет главным достоинст­
вом его души боязнь жизни. Дважды давая подчернуто натурализированную картину самоубийства С. Есенина, Иванов видит в его
поэзии «русскую песню, где сознание обшей вины и общего брат­
ства сливаются в общую надежду на освобождение ... За Есени­
ным стоят миллионы таких же, как он, безымянных..., его братья
по духу, «соучастники-жертвы» революции.» Рассказывая о «голом
и беззащитном» перед жизнью Мандельштаме, Иванов с восхище­
нием говорит, как поэт вступил в поединок с палачом-чекистом
Блюмкиным, порвав чистые бланки ордеров на расстрелы.
И все же — эта мысль настойчиво проводится автором —
рафинированному искусству не дано победить прозу жизни. Тра­
гически выглядит А.Ахматова, шедшая в голодные революцион­
ные годы с мешком, принятая какой-то женщиной за нищую и
получившая от этой женщины копейку. В одиночестве и непо­
232
нимании гибнет Н.Гумилев. Поддается соблазну легкой славы и
перестает, по мнению Иванова, быть поэтом Михаил Кузмин.
«Ломаются» и начинают создавать агитпроповскую поэзию С.Городецкий и Р.Ивнев. Погибает от «давления атмосферы» (вели­
колепный образ!) один из персонажей «Китайских теней» поэт
К.Фофанов.
Одна из самых страшных картин «Петербургских зим» — сцена
исполнения Н.Цыбульским Девятой симфонии на беззвучном
инструменте в обществе внеслуховой музыки. Великое произве­
дение гениального композитора обезображивается, превращаясь
сперва в «дикую какофонию красок» (цветомузыку) и провоци­
руя затем присутствующих «подпевать» «сначала робко, тихо,
потом все сильней. Нестройный шум, похожий на ворчанье, все
возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчанье —
лай, блеянье, крик, вой, хрипенье — наполняло комнату».
Так впервые в творчестве Иванова появится мысль о распаде
искусства, определившая дальнейшие поиски этого художника.
В уже упоминавшемся портрете С.Есенина есть такие стро­
ки: «Он оказался как раз на уровне сознания русского народа
«страшных лет России», совпал с ним до конца, стал синонимом
его падения и его стремления возродиться».
«Совпадение» с трагическим ощущением своего народа и по­
зволило Иванову занять «почетное и возвышенное место первого
поэта эмиграции», каковым признала его отнюдь не склонная к
высоким оценкам З.Гиппиус.
Первые вышедшие в эмиграции книги Иванова переклика­
лись своими заголовками с петербургскими сборниками поэта:
«Садам» соответствовали «Розы» (1931), а в названии «Отплы­
тие на остров Цитеру» (1937) сокращенное обозначение остро­
ва из первого сборника написано полностью. Тем разительнее
отличалось их содержание. «Следовало бы озаглавить не «Розы»,
а «Пепел», — писал об одном из циклов Иванова видный кри­
тик зарубежья Г.Адамович. — Все сгорело: мысли, чувства, на­
дежды».
Романтические образы первых петербургских стихов нужны
теперь поэту, чтобы попрощаться с ними, противопоставив им
иной, суровый и трагичный мир:
Грустно, друг. Все слаще, все нежнее
Ветер с моря. Слабый звездный свет.
Грустно, друг. И тем еще грустнее,
Что надежды больше нет.
Это уж не романтизм. Какая
Там Шотландия! Взгляни: горит
233
Между черных лип звезда большая
о смерти говорит.
пахнет розами. Спокойной ночи.
Ветер с моря, руки на груди.
И в последний раз в пустые очи
Звезд бессмертных — погляди.
(Грустно, друг. Все слаще, все нежнее...)
Как мы состарились! Проходят годы,
Проходят годы — их не замечаем мы...
Но этот воздух смерти и свободы
И розы, и вино, и счастье той зимы
Никто не позабыл, о, я уверен...
Должно быть, сквозь свинцовый мрак
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так.
(В тринадцатом году, еще не понимая...)
В последнем стихотворении, несмотря на наличие рифм и доста­
точно выдержанный ритмический рисунок, читатель без труда обна­
ружит усложненный синтаксис, затрудняющий чтение и превосход­
но передающий трагизм стихотворения. Образ поэта, сравниваю­
щего свой взгляд со взглядом мертвеца, завершает впечатление.
Словно из гроба встает прошлое перед лирическим героем («Си­
янье. В двенадцать часов по ночам..,», «Послушай, о как это было
давно...»), а в настоящем «слишком мало на земле тепла», «саван
снежный», «сумрак снежный». «Надежду замело снегами», «на­
дежда улетает». Остается «веревка, пуля, каторжный рассвет». «И
слишком устали, и слишком мы стары».
Холодное солнце, холодная синяя мгла, вьюги, снега, тре­
вожное море, леденеющий мир, умирающий звук, мертвая скрип­
ка, и сама вечность, точно лепестки розы осыпающаяся в миро­
вое зло, — все это образы пустого страшного мира в «Розах» и
«Отплытии на остров Цитеру».
Поэт подвергает сомнению само существование прошлого:
Россия счастие. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,
И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля...
(Россия счастие. Россия свет...)
234
И уж совсем беспросветно:
Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет ...
Хорошо — что никого.
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
(Хорошо, что нет царя...)
Повторение одного и того же слова в начале стихотворения
(анафора) или сочетание слов в виде повторяющегося рефрена,
как и многоточия, обрывающие стих, — характерный прием поэ­
зии Иванова эмигрантского периода. Все эти приемы вместе с
протяжными трехсложными размерами (анапест, амфибрахий)
придают стихам печаль, монотонность, заунывность, чего и доби­
вается поэт.
Завершая стихотворение «Душа черства. И с каждым днем
черствей...», поэт раскроет причину своей трагедии:
Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.
И все же, как трагически ни воспринимал Иванов мир, в его
душе еще продолжает жить осознание ценности жизни, русский
стоицизм, предельно выраженный в свое время в философской
лирике А.Пушкина:
Холодно бродить по свету,
Холодней лежать в гробу.
Помни это, помни это,
Не кляни свою судьбу.
(Холодно бродить по свету...)
Стихотворению «Хорошо, что нет царя...» предшествовало
другое:
Закроешь глаза на мгновенье
И вместе с прохладой вдохнешь
Какое-то дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь.
Заключительные строки этого стихотворения — ключ к тому,
почему нам «не надо помогать»:
235
И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид —
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.
Человек «каждый миг умирает и вновь воскресает», слышит
«дальнее пение», видит «неземное сияние». Душа человека, даже
умирающего человека, «легка, совершенна, прекрасна, нетлен­
на, блаженна, светла». Начав одно из стихотворений словами «Я
тебя не вспоминаю», сказав, что «одинока, нелюдима, вьется
ласточкой душа», он неожиданно завершит разговор с бывшей
возлюбленной признанием:
Но люблю тебя, как прежде,
Может быть, еще нежней,
Бессердечней, безнадежней
В пустоте, в тумане дней.
Душа лирического героя продолжает существование «над бу­
рями темного века» в одном стихотворении, «за пределами эфи­
ра» — в другом.
И тьма — уже не тьма, а свет.
И да — уже не да, а нет ...
Она прекрасна, эта мгла.
Она похожа на сиянье.
Добра и зла, добра и зла
В ней неразрывное слиянье.
(Ни светлым именем богов...)
В этом соединении смерти и вечности — жизнь человека,
трагедия его жизни и надежда.
Так же противоречиво решает Иванов тему поэзии, вопло­
щенной им в образе музыки. То, что еще недавно на берегах
Невы казалось ему единственно ценным и вечным, теперь вос­
принимается как красивая, но беспомощная ненужность:
Все в этом мире по-прежнему.
Месяц встает, как вставал,
Пушкин именье закладывал
Или жену ревновал.
И ничего не исправила,
Не помогла ничему
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.
(Медленно и неуверенно...)
Музыка мне больше не нужна.
Музыка мне больше не слышна ...
236
Ничего не может изменить,
И не может ничему помочь,
То, что только плачет й звенит,
И туманит, и уходит в ночь...
(Музыка мне больше не нужна...)
Впрочем, порой поэт и сомневается в своей правоте. В том
же «Отплытии...» он неожиданно утверждает:
И музыка. Только она
Одна не обманет.
(Сиянье. В двенадцать часов по ночам...)
В 1938 году Иванов издал небольшую книгу прозы с харак­
терным названием «Распад атома», где в самой резкой форме
утверждал, что «Пушкинская Россия обманула, предала», заста­
вив поверить в могущество искусства. «Чуда уже и совершить
нельзя, — писал Иванов, — ложь искусства нельзя выдать за
правду». Стремясь обострить свою мысль, писатель прибег к рис­
кованным натуралистическим образам, в том числе сравнил ис­
кусство с мертвой девушкой, изнасилованной хулиганом. Но
мертвое нельзя оплодотворить. Эта же мысль звучит и в'одном
из частных писем писателя: «“Музыка” становится все более и
более невозможной ... Не хочу иссохнуть, как иссох Ходасевич».
Современники, обиженные резким тоном и грубыми картина­
ми, рисуемыми в книге, обиделись на ее автора. Р.Гуль, один из
старейших писателей зарубежья, даже написал, что книга Ива­
нова «из ада голосок». А между тем в «Распаде атома», как и в
последней приведенной фразе Иванова, содержался выход из
тупика, в котором оказался разочаровавшийся в поэзии Ходасе­
вич. Нужно было найти новые способы рассказа об этом жесто­
ком и простом мире абсурда, упростить поэтические средства,
«изжить» из поэзии «поэзию» в том ее понимании, которое было
характерно для XIX века.
Все это писатель сделал в своих последующих книгах «Порт­
рет без сходства» (1950) и «1943-1958. Стихи» (1958), в цикле «Пос­
мертный дневник» (1958).
Ключом к этим сборникам может служить строка из цикла
«Дневник»: «Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья».
Обладание этим даром позволило Иванову увидеть одновре­
менно «жизни нелепость и нежность», где «боль сливается со
счастьем», а человек «своими слабыми руками» то создает чудный
мир, то разрушает его.
Туманные проходят годы,
И вперемешку дышим мы
237
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.
(Так, занимаясь пустяками...)
Оксюмороны (соединение несовместимого) двух последних сти­
хов (воздух свободы по обычной логике должен быть вольным, а
холод тюрьмы —затхлым) помогают поэту еще более заострить про­
тиворечивость бытия. Неразделенность жизни и смерти подчерки­
вается и в стихотворении «Поэзия: искусственная поза...», где риф­
муются несовместимые поза и роза, чар и Анчар (символ смерти).
Еще в «Отплытии на остров Цитера» Иванов вслед за А.Бло­
ком и В.Ходасевичем создал один из самых страшных образов
небытия-дыры, в которой существуют и мертвые и живые («Жизнь
бессмысленную прожил...»). В стихах 40-50-х годов мотив «ску­
ки мирового безобразья», земного ада расширяется. «Нельзя ска­
зать, что я живу», — восклицает его лирический герой, называя
себя трупом («По дому бродит полуночник...»). «Полужизнь,
полуусталость — Это все, что мне осталось», — признается он
(«Образ полусотворенный...»).
Как скучно жить на этом свете,
Как неуютно, господа
(По улице уносит стружки...)
Даже Париж для поэта «глухая европейская дыра». Тема рус­
ской эмиграции («кружился в вальсе загробном на эмигрантском
балу») переходит в философский план, в разговор о смерти:
«Сегодня ты, а завтра я!»
Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечерком,
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.
Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его...
Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего!
(Все чаще эти объявленья...)
Лексика стихотворения, иронически трагический финал под­
черкивают страшную обыденность смерти, ее заземленность.
Трагедия неизбежного конца каждого рожденного — вот при­
чина усталости лирического героя Иванова:
Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.
(Друг друга отражают зеркала...)
238
Банальная мысль о бессмертии творчества мало греет писателя:
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.
(Игра судьбы. Игра добра и зла...)
«Какое мне дело, что будет потом?» — вопрошает, подобно
тургеневскому Базарову, поэт. Его мучит подозрение, что «жизнь
иная Так же недоступна для тебя» («Что ж, поэтом долго ли ро­
диться...»). Человеку остается только
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.
Тема самоубийства как проявления свободы личности в
трагическом бытие решается однако Ивановым в полемике с
известным стихотворением В.Ходасевича «Было на улице по­
лутемно...». Если В.Ходасевич считает, что к самоубийце хоть
на мгновенье приходит счастье (мир хоть на миг становится
иным), то Иванов достигает наивысшего трагизма, прозре­
вая, что и акт самоуничтожения жизни не придает ей необыч­
ности. Его «несчастный дурак»-самоубийца в минуты смерти
вспомнил
Не то, чем прекрасна земля,
А грязный московский кабак,
Лакея засаленный фрак,
Гармошки заливистый вздор,
Огарок свечи, коридор,
На дверце два белых нуля.
(Просил, но никто не помог...)
Здесь — что очень важно — и срабатывает тот самый талант
двойного зрения, который подсказывает поэту, что надо иметь
мужество жить, зная о неизбежности смерти. Понявшему, что
«жизнь не так дорога», «не страшны ночные часы, или почти не
страшны».
Перед лицом неизбежной смерти у человека есть только один
выход: «сливать счастье и страдание», жить до последнего удара
судьбы:
Впереди палач и плаха,
Вечность вся, в упор!
Улыбнитесь. И с размаха
Упадет топор.
(Шаг направо. Два налево...)
И зная, что гибель стоит за плечом,
Грустить ни о чем, мечтать ни о чем.
(Он спал, и Офелия снилась ему...)
239
Просто жить. Жить не умом, а сверхсознанием, чувством:
Гляди в холодное ничто,
В сиянье постигая то,
Что выше пониманья.
(Лунатик в пустоту глядит...)
«Если бы жить... Только бы жить...», — декларирует лиричес­
кий герой Иванова, демонстративно вводя в круг жизненных цен­
ностей «трубочку, водочку». В полушутливом стихотворении «Все
туман, бреду в тумане я...» поэт мечтает стать не Георгием Ива­
новым, раздвоенным между жизнью и смертью, а
Энергичным, щеткой вымытым,
Вовсе роком не отмеченным,
Первым встречным-поперечным —
Все равно какое имя там.
«Порочному замыслу» (смерти) у Иванова в отличие от В.Ходасевича противостоит жизнь, счастье:
Был замысел странно-порочен,
И все-таки жизнь подняла
В тумане — туманные очи
И два лебединых крыла.
И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...
В позднюю поэзию писателя возвращается природа, но не те­
атральными декорациями ранних стихов, а лиризованными реа­
листическими образами («Звезды мерцали в бледнеющем небе...»,
«Цветущих яблонь тень сквозная...», «Луны начищенный пятак...»).
Если не нетленной (увы! все тленно), то необходимой и укра­
шающей жизнь ценностью назовет поэт любовь, посвятив своей
жене поэтессе Ирине Одоевцевой заключительные стихи «Днев­
ника» — «Не пройдет любовь..» и «Как туман на рассвете».
Так наряду с мотивом одиночества перед лицом смерти поя­
вится в лирике Г.Иванова иной мотив:
Я — это ты. Ты — это я
На хрупком льду небытия.
А от этого сопряжения Я и другие, Я и мир — тема России,
русского человека, решенная в той же дихотомии «двойного зре­
ния». С одной стороны, поэт видит, что Орел Двуглавый «унизи­
тельно издох («Овеянный тускнеющею славой...») и «ничему не
возродиться ни под серпом, ни под орлом» («Теперь тебя не унич­
тожат...»).
240
Стоило ли героически умирать Леониду под Фермопилами,
стоило ли совершать другие подвиги во имя людей, если в России
«снежная тюрьма», да «голубые комсомолочки, визжа, купаются в
Крыму».
Предельно иронично рисует поэт новых правителей России:
Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела...
Вот Молотов, вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола...
Лирический герой не раз вступает в полемику с лермонтовс­
ким стихотворением «Выхожу один я на дорогу...», в отличие от
поэта XIX века не веря в будущее. Он даже заявляет:
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.
(Мне больше не страшно. Мне томно...)
«Нет в России даже дорогих могил, Может быть, и были —
только я забыл». Но «там остался русский человек»:
Русский он по сердцу, русский по уму,
Если с ним я встречусь, я его пойму.
Сразу с полуслова... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.
Подобно позднему А.Пушкину, позднему С.Есенину, Ива­
нов хочет «перед смертью благословить всех живущих и все жи­
вое» («Если б время остановить...»), а себя ощущает не во Фран­
ции,
Не на юге, а в северной царской столице.
Там остался я жить. Настоящий. Я — весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится —
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.
(Ликование вечной, блаженной весны...)
Стоическое противостояние человека и небытия продолжа­
ется, по Иванову, и в сфере искусства. В поздних стихах писате­
ля даже его любимец Ватто предстает не идиллическим худож­
ником, каким он виделся юному поэту, а фигурой трагической
(«Почти не видно человека среди сиянья и шелков...»). Да и
сама поэзия, как порой кажется автору «Дневника», просто «хло­
роформирует сознанье» («О нет, не обращаюсь к миру я...»). И
все же в поздней лирике Иванова настойчиво звучит мысль, что
если что и может победить смерть, так это поэзия. Тленные
розы стихов превращаются в небесах в нетленные («В награду за
мои грехи...»), струны звучат счастьем, пусть и бессмысленным
241
(«Был замысел странно-порочен...»). «Стихи и звезды остаются,
а остальное — все равно!» — провозгласит Иванов в одном из
лучших своих стихотворений «Туман. Передо мной дорога...»
Если В.Ходасевич пришел к выводу о ненужности поэзии, то
Иванов нашел новый путь к тому, чтобы поэзия жила.
Философским содержанием его поэзии стала дихотомия смер­
ти и жизни, отразившаяся в усложнении образов-лейтмотивов
«отплытия» и «розы».
Если в первых книгах поэта «отплытие» содержало в себе
только романтическую надежду, то в творчестве эмигрантского
периода оно было уже и отплытием в смерть («Потеряв даже в
прошлое веру...»), и преодолением смерти музыкой искусства
(«Это месяц плывет по эфиру...»), и трагическим плаваньем по
океану жизни.
Такое же усложнение претерпел образ розы. От декоративно­
условного обозначения красоты в ранних сборниках поэт при­
шел к многовариантности существования этого цветка в мире.
Роза символ смерти: «Все розы увяли и пальма замерзла»; розы в
яме с могильными червями («Восточные поэты пели...»), в по­
мойном ведре («Еще я нахожу очарованье...»). В стихотворении
«Каждой ночью грозы...» розой расцветает война. Но в этом же
стихотворении розы, как и жизнь, «отцветают и цветут опять».
Небо «в розах и огне» дает надежду на осуществление мечты.
В одном из последних стихотворений Иванова («Как туман
на рассвете чужая душа...») розы превращаются в шиповник. Это
превращение — своего рода образ эволюции лексики поэта: от
романтической к реалистической. Иванов сознательно ставил пе­
ред собой задачу писать «о тысячах невоплощенных банальнос­
тей, терпеливо ждущих своего Толстого». Новый путь поэзии,
найденный Ивановым, заключался в синтезе традиционных по­
этических средств с предельно прозаизированными. Холод, сады,
звезды, розы, цитаты из классической русской поэзии сочета­
лись с такими фразеологизмами как «А и Б уселись на трубе»,
«куда Макар гонял телят», «куда глаза глядят», «встречный-поперечный», «развязная мазня», «выспренная болтовня», «разбол­
тавшиеся поэты», «приходится смываться», «два белых нуля». В
стихах поэта чешется собака, «живут» могильные черви и об­
мызганная кошка, раздается блеянье, кваканье, мычание; вос­
производятся крики «ку-ка-ре-ку», «бре-ке-ке», «тра-ла-ла». Сло­
во «поэзия» может сочетаться с «хлороформом» и «леденцом», а
«трансцендентальность» с «телегой». В этой манере пародирова­
ния поэзии заложены основы постмодерна, проявившиеся в пол­
ной мере уже в наше время в поэзии так называемых поэтовконцептуап истов.
.242
Стремясь создать иллюзию достоверности жизни, поэт наро­
чито называет свои поздние циклы дневниками, вводит и них
бытовые подробности, в том числе автобиографические.
Ритм и синтаксис стихов, в том числе уже называвшиеся ана­
форы, повторы, сориентированы на разговорный стиль, на до­
ступность широкому читателю. Ирония и самоирония усиливают
ощущение открытости поэта, снимают «высокость» (торжествен­
ность) поэтического текста.
Но за этой простотой — мастерство и почти незаметная чита­
телю поэтическая культура.
В частности, Иванов любит давать реминисценции из русской
классики, придавая своим стихотворениям дополнительную фи­
лософскую нагрузку, уловимую только высокоэрудированным
читателем.
Простой перечень имен тех, с кем ведет свой диалог поэт,
показывает, что это все художники-философы, работавшие над
проблемой жизни и смерти: А.Пушкин, Н.Гоголь, М Лермонтов, Ф.Тютчев, ИАнненский, А.Блок, О.Мандельштам, В.Ходасевич. Реже — Н.Гоголь, В.Жуковский, Ф .Достоевский, К Л еонтьев, И.Тургенев, Л.Толстой, Н.Гумилев. Иногда поэту доста­
точно только упомянуть имя предшественника или предшествен­
ников («А мы — Леонтьева и Тютчева сумбурные ученики» или
«Там грустил Тургенев»), чтобы читателю из контекста стало ясно,
о чем идет речь. Цитата (часто без кавычек) подтверждает мысль
Иванова («скучно жить на этом свете» — фраза Н.Гоголя, близ­
кая нашему поэту). Цитата может и снижать мысль, придавать
ей иронический оттенок. Так в пушкинских строках «И внемлет
арфе Серафима В священном ужасе поэт» Иванов последнее слово
заменил «петухом».. Читатель-эрудит мог провести и дальней­
шую параллель ивановского стихотворения с пушкинским. «В
часы забав иль праздной скуки...» А.Пушкин написал в ответ на
послание к нему митрополита Филарета, не согласившегося с
определением поэтом жизни как «дара напрасного, дара случай­
ного». Эти ключевые слова в сочетании с «поздней скукой», воз­
можно, и составляют подтекст стихотворения Г.Иванова.
Порой в одном стихотворении контаминируются цитаты из
нескольких авторов, создавая сложнейшую перекличку между
ними и Ивановым:
Полутона рябины и малины,
В Шотландии рассыпанные втуне,
В меланхоличном имени Алины,
В голубоватом золоте латуни.
Сияет жизнь улыбкой изумленной,
Растит цветы, расстреливает пленных,
243
И входит гость в Коринф многоколонный,
Чтоб изнемочь в объятьях вожделенных!
В упряжке скифской трепетные лани —
Мелодия, элегия, эвлега...
Скрипящая в трансцендентальном плане,
Немазанная катится телега.
На Грузию ложится тьма ночная.
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы.
...И лучше умереть, не вспоминая,
Как хороши, как свежи были розы.
Шотландия стихов самого Иванова петербургского периода
как образ романтической действительности корректируется его
же словами из более позднего стихотворения о расстрелянных
пленных («Лунатик в пустоту глядит...»). Коринфский гость (ре­
минисценция из А.К.Толстого) вместо наслаждения любовью «из­
немогает». Трепетная лань из пушкинской «Полтавы» оказыва­
ется запряженной в грубую скифскую телегу. А мелодия и эле­
гия навевают воспоминания о трагедии Эвлеги из одноименного
пушкинского стихотворения-перевода. Пушкинские прекрасные
«холмы Грузии» в сочетании с пятигорскими грозами напомина­
ют о смерти и Пушкина, и Лермонтова. Заключительный стих —
строка из произведения И.Мятлева «Розы», вошедшая в турге­
невское стихотворение в прозе и носившая у обоих авторов XIX
века элегический оттенок, — в контексте всего стихотворения (и
особенно предпоследней строки) приобретает трагический ха­
рактер: как трудно расставаться с жизнью, несущей в себе и ра­
дость, и страдания. А в середине стихотворения как его высшая
точка — образ-символ мира в его сущностном плане: «немазан­
ная катится телега».
Наконец, иногда реминисценция достигается лексико-рит­
мической близостью: стихотворение «Все на свете не беда...»
имеет многочисленные параллели с блоковскими «Плясками
смерти».
Позднюю лирику Иванова отличает богатство метафор и срав­
нений, как всегда у поэта дихотомичных: и обыденных (тучка —
сардинка в оливковом масле; салазки искусства; межпланетный
омут), и возвышенных (сиянье завтрашнего дня; звездный кров;
лучезарная вестница зла). Вплоть до развернутой метафоры:
Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается.
Он делается ветром и песком,
Летящим на огонь весенним мотыльком.
244
«Двойное зрение» захватывает и фонетику поэта. Грубые зву­
ки слов «хлороформировать», «трансцендентальный», «смотать­
ся», «сдохнуть», «околеть» соседствуют с изысканной «желтофи­
олью» и «Эолом», нежными «белочка, метелочка, косточка, уте­
нок», «веточка, царапинка, снежинка, ветерок», со звуковыми
волнами стиха «сиянье, волненье, броженье, движенье».
Антиномии понятий, как правило, соответствуют и рифмы:
простые (нежным-неизбежном; идея-холодея; не беда-ерунда-навсегда; ползет-Не приведет; тлея-Лорелея; свечу-растопчу; моремухоморе) и составные (за плечом-ни о чем; и ни то-сиянье Ват­
то; к миру-хлороформируя; иль менее-имение-недоумение).
Трагедия бытия передается и нарушением цельности текста,
когда в середине стихотворения или в конце появляется паузамноготочие:
Раз начинаются воспоминания,
Значит... А может быть, все пустяки.
...Вот вылезаю, как зверь, из берлоги я,
В холод Парижа, сутулый, больной...
(Все представляю в блаженном тумане я...)
Хоть поскучать бы... Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу
(Белая лошадь бредет без упряжки...)
Георгий Иванов, справедливо утверждал известный писатель
и критик русского зарубежья Р.Гуль, в своих стихах воплотил
объективный трагизм существования, был русским экзистенциа­
листом, на несколько лет предвосхитившим Ж.П.Сартра.
Цикл «Посмертный дневник», состоящий из 38 поэтических
миниатюр, — вершина не только поэтического мастерства Ива­
нова, но и свидетельство стоицизма русского человека у послед­
ней жизненной черты. «На что надеяться, о чем мечтать, Я даже
не могу с кровати встать», — пишет умирающий поэт.
Было все: и тюрьма и сума.
В обладании полном ума,
В обладании полном таланта.
С распроклятой судьбой эмигранта
Умираю...
И тут же иное: насмешка над смертью («Отчаянье я превра­
тил в игру...»), слегка ироничная надежда, что, стертый с земли,
«как чернильное пятно», он «следом чернил обнаружится в сти­
хах В назиданье внукам».
Ночь умирающего, «как Сахара, как ад горяча», в этом аду
лирический герой «думает о разном»,
245
Н о б о л ь ш е все о б е з о б р а з н о м .
О т о м , что л у ч ш е п о м о л ч а т ь ,
К о гд а вам н еч его с к а за т ь ,
Ч то п о м н и т ь сл ед у ет о б э т о м
Зря разболтавш и м ся п оэтам .
Н о сам о м у ем у есть что ск азать. И п о сл ед н и е н а п и с а н н ы е
И в а н о в ы м с л о в а , п о ч т и за н е с к о л ь к о д н е й д о с м е р т и в д о м е д л я
п р естар ел ы х , — о Р о сси и (« Л и к о в ан и е в е ч н о й б л а ж е н н о й в ес­
н ы ...» ) , о п о э з и и и л ю б в и ( « П о г о в о р и с о м н о й е щ е н е м н о г о ...» ) .
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
И ванов Г. Собр. соч.: В 3 т. / С ост., п ред ислов, и ком м ент. Е .В .В итковского. — М.: С огласие, 1994.
Н аи б о л ее пол н ое соб ран и е п р о и зв е д е н и й писателя. П р ед варяется
глубокой вступительной статьей Е .В .В и тко в ск о го «Ж изнь, ко то р ая м н е
снилась» (с. 3-40).
И ванов Г. Стихотворения. Третий Рим. П етербургские зимы. К итайс­
кие тени. / С ост., послеслов. и ком м ен т. Н .А .Б огом олова. — М .: К н и га,
1989.
П ер во е д о статочн о полное и зд ан и е п о э з и и и прозы п и сателя. И з
зн ач и тел ьн ы х п р о и зв е д е н и й н е вош л а к н и га «Р аспад атома», и з во с п о ­
м и н а н и й и скл ю чен портрет С .Е с е н и н а , и м е ю щ и й с я в Н ь ю -Й о р к с к о м
и зд а н и и « П етербургских зим » (1952). К н и г а сопровож дается и к о н о гр а ­
ф и ч ес к и м м атериалом . С татья Н .А .Б о го м о л о в а «Талант д в о й н о го зр е­
н и я» (с.503-523) сод ерж и т п о д р о б н ы й а н а л и з творческого п ути поэта.
П р и во д ятся отзы вы со в р ем ен н и к о в о стихах и прозе Г. И ван о ва. И м е ­
ю тся м н о го ч и сл ен н ы е отсы лки к зар у б е ж н ы м и сточн и кам .
И ванов Г. Р аспад атом а / / Л итературное обозрен и е. — 1991. — № 2. —
С. 86-93.
П у бл и кац и я И .В асильева и к о м м ен та р и й И .П рохоровой «К огда б вы
зн али , и з какого сора...» зн аком ят читателя с сам о й сп орной и скан д ал ь­
н о й к н и го й Г. И ван о в а. П р и в о д ятся о тзы в ы С .Ж егулова, 3. Г и п п и у с,
В .Х одасевича.
Одоевцева И Н а берегах Сены. — М .: Х удож. лит., 1989.
В во сп о м и н ан и ях ж ены п исателя, п о эте сс ы И рин ы О доевцевой, со
слов сам ого И ванова даю тся наиболее п олны е сведения о его семье. К н и га
содерж ит подробности ж и зн и И ван ова в эм и гр а ц и и , его взаи м о о тн о ш е­
н и й с другим и деятел ям и русского зарубеж ья.
Р.Гулъ. Георгий Иванов / / Н овый журнал. — 1955. — № 42. — С. 110-126.
А втор статьи н азы вает И ван о в а « ед и н ствен н ы м русским э к зи с т е н ­
ц и ал и сто м », б л и зк и м скорее к Ж .П .С а р т р у , чем к С .К ьеркегору. В озве­
д е н н ы й п о это м в тв о р ч еск и й п р и н ц и п а н т и эсте ти зм р ассм атри вается
к а к ад ек ватн ы й XX веку способ х у д о ж ествен н о -п о эти ч еск о го вы р аж е­
н и я. С р еди осн о в н ы х тем И ван ов а н азы в а ю тся Р о сси я, эм и гр а ц и я , П е­
тербург, уби й ство (см ерть). В д а л ьн е й ш ем эта статья стала о сн о в о й п р е­
д и с л о в и я к сб о р н и к у И ван о в а «1943-1958. С тихи» (Н ь ю -Й о р к : Н о вы й
ж у р н ал , 1958).
246
Адамович Г. Н аш и поэты. Георгий И ванов / / Н овы й ж урнал. —1958. —
МЬ 52. - С. 55-62.
С опоставляя первы е стихи И ванова, н ап и с ан н ы е «нарядно, весело,
вещ ественно», с п о зд н и м и , где «грязь сочетается с неж ностью », грусть с
издевательством , к р и ти к тем н е м енее считает, что п о э зи я И ван ова несет
в ы с о к о е н равственное начало, так к ак «над всем эти м тихое таи н ствен ­
н о е, нем еркнущ ее сияние».
И васк Ю . Г.И ванов. Собрание стихотворений. Варцбург. 1 9 7 5 .//Н о в ы й журнал. — 1976. — № 125. — С. 281-285.
Работа поэта Ю . И васк а вы ходит далеко за пределы р ец ен зи и н а п о с­
м ер тн о е издание стихов И ванова. Автор соп оставл яет р еш ен и е темы Б ога
В творчестве русского поэта, исп ан ц а Х уана де К руаса и ф ранцуза Ш .Б о д­
л ер а . «О тчаяние < И ван о в а> м етаф и зи ч н о и где-то «граничит» с п р и б л и ­
ж е н и е м к Богу», — считает критик. С ила И ван о в а «в его о щ ущ ен и и н е­
б ы т и я , тьмы, в которой все ещ е так ярк о си яю т звезды , так волш ебно
п о ет , звучит музыка».
Значительное м есто Ю .И васк уделяет вопросу п ерео см ы слен и я в п о ­
э з и и И ванова стихотворны х ц и тат из п рои звед ен и й других авторов.
Вейдле В. Георгий И ванов / / К онтинент. — 1977. — № 11. — С. 359369.
Р ец ен зи я н а В арцбургское ф а к с и м и л ь н о е и зд ан и е сти х о тво р ен и й
п о эта . П рослеж ивается эво л ю ц и я творчества Г. И ванова.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА*
(1892 - 1941)
«РОМАН С СОБСТВЕННОЙ ДУШОЙ»
Писать портрет Цветаевой трудно. Сестра Анастасия Ивановна
говорила о быстро отлетевшей Марининой красоте, поздние
фотографии передают ироничное лицо изможденной женщины,
но все, кто видел Марину Ивановну в разные годы жизни, пере­
дают одну общую черту, стоящую за гранью красоты и некраси­
вости. Эта черта — необычность.
Марина Цветаева родилась 26 сентября 1892 года. О своем
отце Иване Владимировиче Цветаеве она дала исчерпывающую
информацию в ответе на одну из анкет: «Отец — сын священни­
ка Владимирской губернии, европейский филолог..., профессор
истории искусств сначала в Киевском, затем в Московском уни­
верситетах, директор Румянцевского музея, основатель, вдохно­
витель и единоличный собиратель первого в России Музея изящ­
ных искусств (Москва, Знаменка). Герой труда. Умер в Москве в
1913 г., вскоре после открытия Музея. Личное состояние (скром­
ное, потому что помогал) оставил на школу в Талицах (Влади­
мирская губерния, деревня, где родился). Библиотеку, огром­
ную, трудо- и трудноприобретенную, не изъяв ни одного тома,
отдал в Румянцевский музей».
* Глава н ап и с ан а совм естно с канд. ф и л ол . н а у к А .Ю .Л еонтьевой.
248
Стихи и музыка, считает Марина Ивановна, «достались» ей от
матери, редкостно одаренной в музыке, ученицы А.Рубинштейна
(см. повесть М.Цветаевой «Мать и музыка»).
Марина и Анастасия Цветаевы рано осиротели: мать сконча­
лась от туберкулеза, когда Марине было 14, а Анастасии 12 лет.
С шести лет Марина начала писать стихи не только по-рус­
ски, но и по-французски, и по-немецки. В шестнадцать начала
печататься. В восемнадцать, еще гимназисткой, издала первую
книгу «Вечерний альбом», замеченную и одобренную такими по­
этическими мэтрами как В.Брюсов, Н.Гумилев, М.Волошин.
Она любила носить серебряные украшения, особенно брасле­
ты. («Целую кисть, где от браслета Еще белеет полоса», — писал
О.Мандельштам об их встрече в Крыму). Любила море. Безбреж­
ное, с зеленоватым, как ее глаза, отливом волн, глубочайшее и
самодостаточное, освященное мировой культурной традицией и,
главное, миром романтизма (Д.Байрон, А.Пушкин, В.Жуковский
и др.), непокорное и непокоренное, заключающее в себе тишь и
смертельную опасность, обжитость и тайну, бурю и бунт, — оно,
как нельзя лучше, соответствовало ее сути. Удивительное совпа­
дение: имя у нее морское — Марина, и это единство имени и сути
она любила обыгрывать в стихах:
Мне дело — измена,
Мне имя — Марина,
Я легкая пена морская!
Ее сестра Анастасия Ивановна в «Воспоминаниях» рассказы­
вает, что Марина еще в детстве говорила, что носит сказочное
имя «морская». Множество важнейших в ее жизни встреч про­
изошло именно на берегу моря, в Коктебеле и других местах
Крыма: М.Волошин, О.Мандельштам, а главное — Сергей Яков­
левич Эфрон, ее муж — вошли в ее жизнь на море.
До революции вышли два стихотворных сборника Цветаевой:
«Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух книг» (1913). Внешние
события истории почти не коснулись ее стихов. Много позднее
она скажет, что поэт «слышит только свое, видит только свое,
знает только свое». Первая мировая война и революция задели ее
постольку, поскольку коснулись судьбы ее мужа. С.Эфрон был
офицером, воевал в Добровольческой армии и эмигрировал вмес­
те с ней. Написанный Цветаевой, но так и не изданный сборник
стихов «Лебединый стан» лишен той злобы и ненависти, что со­
держится в стихах 3.Гиппиус, в прозе Д.Мережковского и И.Бунина. Это не гимн политической сути белого движения, а рекви­
ем его обреченной жертвенности.
В мае 1922 года Цветаева не столько эмигрировала из России,
сколько уехала к мужу: «Потому что в земной ночи Я вернее пса».
249
15 мая она встретилась в Берлине с С.Эфроном, а уже 1 августа
они были в Праге, где Эфрон учился и где супруги провели три
года. 1 ноября 1925 года супруги переехали во Францию, где
Марина Ивановна провела тринадцать с половиной лет.
В эмиграции в полной мере проявились те качества характера
поэтессы, о которых она писала еще в ранних стихах:
Послушайте, я правдива
До вызова, до тоски,
Моя золотая грива
Не знает ничьей руки.
Непокоренность вызвана и ее силой, и ее глубиной, и богатст­
вом ее души. Очень рано она осознавала себя самой по себе. По­
этому Цветаева не примыкала ни к каким литературным группи­
ровкам, цехам и направлениям: ведь чувства непредсказуемы и
нелогичны, их нельзя направить в рамки одной «главной темы».
Характерен ее ответ-декларация на неодобрительный отзыв Гу­
милева о втором сборнике стихов: «... Интересно, что меня ругали
пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого-то цеха.
Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду». Всю жизнь
она не была ни в каких цехах, оставалась далекой от интриг лите­
ратурной жизни и одинокой. Не изменила она своим принципам
и в эмиграции.
Цветаева печатается преимущественно в эсеровских (левых)
изданиях, не проклинает революцию, отдает дань уважения В.Маяковскому, С.Есенину, считавшимися «советскими» поэтами.
Это ее одиночество — одиночество творца, дерзнувшего идти
своей дорогой, стало одной из ведущих тем ее зарубежных сти­
хотворений.
Прежде всего, одиночество вызвано тем, что она упорно от­
стаивала право поэта на свой путь:
Вы с этой головы, настроенной — как лира:
На самый высший лад: лирический...
— Нет, спой!
Два строя: Домострой (— и Днепрострой — на выбор!)
Дивяся на ответ безумный: — Лиры — строй.
(Двух станов не боец, а — если гость случайный...)
За свою самобытность и право на собственный путь Цветаева
готова расплачиваться до конца:
И с этой головы, с лба — серого гранита
Вы требовали: нас — люби! тех — ненавидь!
Не все ли ей равно — с какого боку битой,
С какого профиля души — глушимой быть?
(Двух станов не боец, а — если гость случайный...)
250
В катастрофическое время Цветаева сохранила, таким обра­
зом, высшую правду поэта — правду неприсоединения, непродажности лиры:
Двух станов не боец, а — если гость случайный —
То гость — как в глотке кость, гость —
как в подметке гвоздь.
Была мне голова дана — по ней стучали
В два молота: одних — корысть и прочих — злость.
Такая позиция не замедлила сказаться: если в 1922-1923 годах
у нее вышло пять книжек, то в 1924-м — одна. А следующая —
лишь в 1928-м: «После России». Большинство ее поэм, драм,
прозаических вещей не увидели отдельных изданий при жизни
автора.
В значительной степени отчужденность эмиграции от Цвета­
евой связана и с позицией ее семьи: мужа, дочери Ариадны и
сына Георгия (домашнее имя — Мур). В начале 30-х годов С.Эфрон подал прошение о советском паспорте. Условием «проще­
ния» его белогвардейского прошлого было поставлено участие в
работе просоветского «Союза возвращения», курируемого, как
позже стало известно, органами НКВД. Деятельность «Союза»
не ограничилась культурной работой. Эфрон оказался замешан в
убийствах и похищениях, организованных НКВД за рубежом, и
вынужден был бежать из Франции. Скандал получил огласку.
Эмиграция в подавляющем большинстве отшатнулась от жены
«агента Москвы». Лишь узкий круг друзей (М.Слоним, Н.Бердя­
ев, Ю.Иваск, А.Головина, Е.Извольская, семьи Лебедевых и Ан­
дреевых) остались верны дружбе.
Встает вопрос о возвращении на родину. Писательница пони­
мает, что «здесь я не нужна, там я невозможна». И тем не менее в
письмах к пражской приятельнице А.Тесковой сообщает о своем
решении: «Нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась».
Это о муже. И о сыне: «Муру будет хорошо. А это для меня глав­
ное». 12 июня 1939 года М.Цветаева с сыном покинули Францию,
18 — приехали в Москву.
Последнее, что написала поэтесса в эмиграции, были «Стихи к
Чехии», полные любви к стране, давшей в свое время приют тыся­
чам русских изгнанников, и трагического ощущения неблагополу­
чия в мире. Подобно персонажу Ф. Достоевского, лирическая геро­
иня одного из стихотворений цикла возвращает «Творцу билет»:
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.
(О, слезы на глазах...)
251
Но безумный мир не оставил поэтессу в покое. Был аресто­
ван муж. Затем дочь. Гослитиздат отверг сборник цветаевских
стихов как «формалистический». Нищенская жизнь в Елабуге,
одиночество, не оставлявшее и на родине, трудные отношения с
сыном сделали свое дело. 31 августа 1941 года Марина Цветаева
удавилась, оставив несколько коротких записок. В одной из них
есть слова: «А меня простите — не вынесла». Могила ее не со­
хранилась. На Елабужском кладбище есть только доска: «В этой
части кладбища похоронена Марина Цветаева».
Свои лучшие стихи, поэмы, трагедии Цветаева создала в эмиг­
рации. Все они — о России.
«России меня научила революция», — скажет зрелая Цветае­
ва. Но Россия всегда была в ее крови — с ее историей, бунтую­
щими героинями, цыганами, церквями и Москвой. «Русскость»
Цветаевой проявляется уже в сборниках под одинаковым назва­
нием «Версты» в цикле «Стихи о Москве», где Москва «вольный
сон, колокольный звон, Зори ранние На Ваганькове». Москва у
Цветаевой — оплот русской непокорности, город, «отвергнутый
Петром», где «Целых сорок сороков церквей Смеются над горды­
нею царей». Москва — это и сердце России, знак родины: «Мос­
ква! Какой огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси —
бездомный. Мы все к тебе придем». Сама поэтесса неразделимо
слита с Москвой, а через нее — с Русью: «Я в грудь тебя целую,
Московская земля!».
Вдали от родины, лишенная корней, Цветаева пишет многие
из своих наиболее русских вещей: поэмы, основанные на фоль­
клорном материале и стилистике народной песенной и разго­
ворной речи («Переулочки», «Молодец»), стихотворения («Плач
цыганки по графу Зубову», «По нагориям...», «Сугробы»), в про­
зе («Мой Пушкин», «Пушкин и Пугачев», «Наталья Гончарова.
Жизнь и творчество»). Сама Цветаева в эмиграции «греется» и
спасается Пушкиным — кроме прозы у нее появляется цикл сти­
хотворений, посвященный любимому поэту: «Пушкинский мус­
кул», — утверждает М.Цветаева, —
То — серафима
Сила — была:
Несокрушимый
Мускул — крыла.
(Стихи к Пушкину, 4)
Русскость молодой Цветаевой приобретает в эмиграции тра­
гическое звучание потери родины, сиротства: «По трущобам зем­
ных широт Рассовали нас, как сирот». Отлучение от родины, по
Цветаевой, для русского смертельно: «Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам».
252
Трагизм цветаевской тоски по России усиливается и тем, что
тоскует поэт опять-таки по несбывшемуся, ибо «Той России —
нету. Как и той меня». Знаками той — цветаевской — России в
поздней лирике остаются даль («Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись Домой!») и любимая с юности цвета­
евская рябина («Алою кистью Рябина зажглась. Падали листья —
Я родилась») — последнее спасение в чужом мире:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...
(Тоска по родине).
В эмигрантской поэзии у Цветаевой появляется много сти­
хотворений, обращенных к отдельным странам (Чехии, Фран­
ции, Германии) или памятникам («Пражский рыцарь»), но при
всей любви к рыцарю, стерегущему «реку — дней», или к слад­
чайшей Франции, в эмиграции Цветаева отождествляет себя уже
в основном с трагическими героинями мировой культуры (Ма­
рией Стюарт, Федрой и другими), прозревая в их судьбе свою
гибельную участь: «Дано мне отплытье Марии Стюарт» («Douce
France»). В основе стихотворения лежит эпизод прощания Ма­
рии Стюарт с Францией перед отплытием в Шотландию, где она
в конце концов погибнет под топором английского палача.
Потерявший родину у Цветаевой — это «Заблудившийся меж­
ду грыж и глыб Бог в блудилише», «виселиц не принявший».
Но к каким бы образам, темам, сюжетам и мотивам мировой
культуры и русской истории Цветаева ни обращалась, даже са­
мые известные из них перерабатывались ею весьма значительно:
они становились фоном и способом самопроявления лиричес­
кой героини и личности самой поэтессы.
Удивительная личностная наполненность, глубина чувств, во­
ображения, духа позволили Цветаевой всю жизнь — а жизнь и
поэзия для нее едины — быть самодостаточной, вести бесконеч­
ный и увлекательный «роман с собственной душой», черпать по­
этическое вдохновение из безграничной, как море, собственной
души. Иными словами, она от начала до конца была «чистым
лириком», по ее же определению в статье «Поэты с историей и
без истории»: «Чистая лирика есть лишь запись наших снов и
ощущений, плюс мольба, чтоб эти сны и ощущения никогда не
иссякали ...»
Чистая лирика уподобляется в статье Цветаевой опять-таки
морю: морским отливам и приливам, морской самодостаточнос­
ти: «Чистая лирика не имеет замысла. Нельзя заставить себя уви­
деть такой и именно такой сон, ощутить такое и именно такое
253
чувство. Чистая лирика есть чистое состояние переживания —
перестрадания, а в промежутках («пока не требует поэта к свя­
щенной жертве Аполлон») — при отливах вдохновения — состоя­
ние безграничной бедности. Море ушло, все унесло и до своего
часа не вернет».
Отличительной чертой цветаевской поэзии от ранних сбор­
ников до последних дней оставалась предельная искренность.
«Единственная обязанность на земле человека — правда всего
существа», — скажет она о своем жизненном и творческом кре­
до. Предельная искренность и обусловила во многом становле­
ние Цветаевой именно как лирического поэта, замкнутого в круге
чувств и лирических снов.
В зрелые годы она поделит творцов на поэтов «стрелы», мыс­
ли, развития, поэтов «с историей» и лириков — поэтов чувства,
«круга», поэтов «без истории». К последним она относила себя и
Пастернака. Одна из особенностей «поэтов круга» — лирическая
погруженность в себя и, соответственно, абстрагирование и от ре­
альной жизни, и от исторических событий. Лирики, по мнению
Цветаевой, замкнуты на себе и потому «не развиваются»: «Чистая
лирика живет чувствами. Чувства всегда — одни. У чувств нет раз­
вития, нет логики. Они непоследовательны. Они даны нам сразу
все, все чувства, которые когда-либо нам суждено будет испытать;
они, подобно пламени факела, отродясь втиснуты в нашу грудь».
В груди Цветаевой до конца властвовала Романтика. Роман­
тика — от германского воспитания матери, Романтика мировой
истории и литературы, Романтика мироощущения. Своим деви­
зом она сделает перефразированные строки В.К.Тредиаковского: «... поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь
могла и долженствовала быть». Отсюда — потрясающая много­
мерность ее лирической героини, которая при самых контраст­
ных своих проявлениях всегда адекватна личности самой Мари­
ны Ивановны Цветаевой. Ее лирическая героиня — это проявле­
ние всех граней ее собственных чувств, снов, переживаний и
настроений. Эту многомерность, по воспоминаниям С.Эфрона,
подчеркивала сама Цветаева. В книге С.Эфрона «Детство» в гла­
ве «Волшебница», посвященной жене, мемуарист приводит ха­
рактерный разговор с ней: « — Ты русалка, Мара? — Я все — и
волшебница, и русалка, и маленькая девочка, и старуха, и бара­
банщик, и амазонка — все! Я всем могу быть, всё люблю, всего
хочу! Понимаете? — Конечно, ты волшебница!»
А раз, по ее же собственному мнению, чувства всегда одни и
заложены в душе поэта изначально, то речь может идти не о раз­
витии, а об углублении, о новом раскрытии художественного мира
лирического поэта Марины Цветаевой.
254
Чистая лирика Цветаевой от первых стихотворений до пос­
ледних дней жизни была лирикой драматических противоречий.
Подобно любимому ею морю, Цветаева и в жизни, и в поэзии
глубока, непостижима, противоречива, изменчива и одинока:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.
Противоречиво решается, в частности, ключевая тема поэ­
тессы — тема любви. С одной стороны Цветаева с ранних стихов
и до конца жизни мечтает о традиционном, вечном семейном
счастье, ей тошно одиночество и «бессемейность»:
Я женщин люблю, что в бою не робели,
Умевших и шпагу держать, и копье, —
Но знаю, что только в плену колыбели
Обычное — женское — счастье мое!
Поэтесса ищет мужскую рыцарственность и находит ее в муже:
В его лице я рыцарству верна.
— Всем вам, кто жил и умирал без страху. —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху
(Я с вызовом ношу его кольцо...)
Идеал рыцарственности, высокой жертвенности воплотится за­
тем в любимом цветаевском образе романтического Тучкова-четвертого: «Ах, на гравюре полустертой, В один великолепный миг,
Я видела, Тучков-четвертый, Ваш нежный лик». Коробочка с по­
лустертым портретом Тучкова-четвертого была взята Цветаевой с
немногими самыми любимыми вещами в эмиграцию и затем вер­
нулась с ней в Россию. Наряду с Тучковым идеалом рыцарствен­
ности и жертвенно-трагической судьбы стали для поэтессы моло­
дые и талантливые генералы 1812 года, чья судьба была прекрасна
и трагична: «Вам все вершины были малы И мягок самый черст­
вый хлеб. О молодые генералы Своих судеб». Все они, воспетые
Цветаевой, «были дети и герои, Вы все могли!». Их жизнь была
блистательна и коротка: «В одной невероятной скачке Вы прожи­
ли свой краткий век, И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег».
Молодые генералы, «очаровательные франты минувших лет»,
родственны и самой поэтессе: в их судьбах она прозревает мечту о
яркой, наполненной жизни:
Я жажду сразу — всех дорог!
Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой, —
255
признается она в «Молитве» (1909). От этой юношеской жажды
полноты бытия ее героиня в позднейших стихах будет прини­
мать самые различные облики: бунтарки, страдалицы, цыганки,
странницы.
С другой стороны, с юношеских стихов и до поздних поэ­
тесса создает образ лирической героини — сильной женщинызащитницы слабого, нуждающегося в опеке возлюбленного:
Скороговоркой — ручья водой
Бьющей: — Любимый! больной! родной!
Речитативом — тоски протяжней:
— Хилый! чуть-живый! сквозной! бумажный!
От зева до чрева — продольным разрезом:
— Любимый! желанный! жаленный! болезный!
(Скороговоркой — ручья водой...)
Лирическая героиня Цветаевой видит свою сущность в люб­
ви («Люби без мер и до конца люби!»), ищет любви яркой и
глубокой. Но очень часто находит грусть и разочарование. Именно
в таком ключе переосмыслена писательницей народная песня о
Степане Разине: не с традиционных позиций богатырства, удали
и долга атамана, а в русле цветаевской поэтики несбывшейся
любви и страданий. И в центре разинских стихов у Цветаевой —
глубокое горе атамана, драма нелюбви (персияночка-полоняночка
любит некоего Джал-Эддина), смерти и горя: «Затонуло ты, Сте­
паново счастье!».
Роковое, бунтарское начало, губительная вихревая любовь во­
плотились в образе любимой цветаевской героини Марины Мни­
шек («Димитрий! Марина! В мире Спите, любовники милые!»).
В Марине Мнишек, сильной, любящей, несчастной, трагичес­
кой, она видела себя, как видела себя в Офелии и Гертруде, от
имени которых выносила приговор Гамлету, в Федре с ее запре­
тной, законом недопустимой любовью, в Кармен с ее бунтом
против уз — любых! — в любви. О любви — высшей свободе
неподсудного чувства Цветаева писала еще в молодости:
Только в очи мы взглянули — без остатка,
Только голос наш до вопля вознесен, —
Как на горло нам — железная перчатка
Опускается — по имени — закон.
(Только в очи мы взглянули...)
Но даже такая трагическая недолгая любовь остается для поэ­
тессы главной основой существования «Твоя любовь была такой
ошибкой, — Но без любви мы гибнем, Чародей!»
Это же восприятие любви — во всех ее гранях и проявлениях —
будет разрабатываться и в ее эмигрантском творчестве: сильнее
смерти и запретов огненная любовь Маруси и упыря в поэме «Моло­
256
дец»; трагична в своей борьбе и несбыточности смертельная, от­
равляющая любовь чародейки Маринки и привороженного, по­
любленного и погубленного ею, погубившего — убившего, но не
победившего ее Добрыни в «Переулочках» (сюжет взят из фоль­
клорной былины «Добрыня и Маринка»); в «Поэме Горы» лю­
бовь — необходимая основа счастья:
Счастья — в доме! Любви без вымыслов!
Без вытягивания жил!
Надо женщиной быть — и вынести!
(Было-было, когда ходил,
Счастье — в доме!) Любви, не скрашенной
Ни разлукою, ни ножом...
Любовь — так же вечна, непостижима, разнообразна, как небо
и океан: «Небосвод — цельным основан. Океан — скопище брызг?!
Без примет. Верно — особый — Весь. Любовь — связь, а не сыск».
Большой пласт эмигрантских стихов Марины Цветаевой пос­
вящен защите любви: защите грешной и страстной Федры и ко­
ролевы Гертруды, защите Офелии и Эвридики в их вечной женс­
кой правоте — любивших:
Принц Гамлет! Довольно царицыны недра
Порочить... Не девственным — суд
Над страстью. Тяжеле виновная — Федра:
О ней и поныне поют.
(Офелия — в защиту королевы)
В любовной поэзии Цветаевой продолжается вечная романти­
ческая раздвоенность ее души: конфликт несоединимости, двоемирного трагизма между земным и небесным началами, между
бытом и бытием. В ее амбивалентном самоощущении земное и
небесное, телесное и земное находятся в постоянном конфликте,
если соединяются, то ненадолго, для того, чтобы породить сомне­
ние в самом существовании любви («Диалог Гамлета с совестью»):
«На дне она, где ил... Но я ее — ... любил??»
Наряду со страстями и сомнениями она ищет запредельной
небесной любви: «За этот просторный покрой Бессмертья... До
самых летейских верховий Любивший — мне нужен покой Беспа­
мятности...» Отсюда — стремление: «И домой: В неземной — Да
мой».
Наряду с темой любви через все творчество Цветаевой прохо­
дит тема смерти. И если в юношеской поэзии «Молитва» к Богу
«Ты дал мне детство — лучше сказки И дай мне смерть — в сем­
надцать лет!» — дань юношеской рефлексии противоречивой и
одинокой натуры, то позже смерть воспринимается как трагедия
лично-драматически:
9— 1662
257
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
(Идешь, на меня похожий...)
соотносится с конечностью, смертностью века:
И так же будут таять луны
И таять снег,
Когда промчится этот юный,
Прелестный век.
(Быть нежной, бешеной и шумной...)
Юный и прелестный, как сама поэтесса.
Спутником осознания собственной конечности и драмати­
ческого восприятия бытия становится характерное для Цветае­
вой обращение к прошлому, к прошедшему. Невозвратимость
прошлого наполняет ее стихи ностальгией: прошлое становится
вечно желаемым ею несбыточным, как невозратно ушедшие «том­
ных прабабушек слава, Домики старой Москвы».
Драматизм заключается и в том, что ничего равноценного
одухотворенному прошлому современность противопоставить не
может: «домики с знаком породы» вытесняются «уродами» (ха­
рактерна сама рифма «породы-уроды»), «грузными, в шесть эта­
жей». К прошлому на протяжении творчества Цветаева будет
обращаться неоднократно: ее героями станут исторические лич­
ности и литературные герои, поэты, вымышленные образы иных
веков, чаще всего — легкомысленного и мудрого, жеманного и
коварного, великого и эфемерного, противоречивого, как сама
Цветаева, века восемнадцатого. Но и великие страсти великих
эпох остались в прошлом, и невероятная душа Казановы («Фе­
никс») понимания в новом XIX веке не найдет: современность —
чаще всего век ничтожеств.
В доэмигрантской лирике Цветаевой драматизм восприятия
смерти во многом обусловлен любовью к жизни и невозмож­
ностью с жизнью расстаться: «Я слишком сама любила Смеять­
ся, когда нельзя!» В поздних стихах смерть — и закономерный
итог бытия, который поэт воспринимает с мудрым философс­
ким спокойствием («Так, когда-нибудь, в сухое Лето, поля на
краю, Смерть рассеянной рукою Снимет голову — мою»), и раз­
двоение между телесной смертностью и уже осознанным и по­
нятым собственным творческим бессмертием:
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.
(Вскрыла жилы: неостановимо...)
258
Так возникает характерная для Цветаевой тема поэзии.
Ранняя догадка, когда Цветаева «не знала», что она — поэт,
догадка о бессмертии ее стихов, о том, что им «настанет свой
черед», в эмигрантской жизни превратится в уверенность, и мысль
о бессмертии творчества в противовес физической смерти как
высокая судьба художника будет доминирующей: «Сквозь равнодушья серые мхи — Так восклицаю: — Будут стихи!»
В поэзии 30-х годов к ней приходит осознание собственного
творческого бессмертия, знаком которого становится ее пись­
менный стол, «стойкий, врагам на страх». Она всегда утверждала
избранничество поэта. Теперь эта тема углубляется: «...Есть бог!
Поэт — устройчив: Все — стол ему, все — престол! Но лучше
всего, всех стойче — Ты, — мой наколенный стол!». Письмен­
ный стол становится и деталью противопоставления поэта и чер­
ни: у черни, у сытых — стол обеденный: «Квиты: вами я объедена,
Мною — живописаны. Вас положат — на обеденный, А меня —
на письменный» (цикл «Стол»).
Поэт для Цветаевой — высшее проявление человечности.
Отсюда совершенно неожиданное для неуживчивой и «труд­
ной» в общении женщины уважительное отношение к собрать­
ям по профессии. Ни о ком из них она не говорила плохо, но
в каждого влюблялась («Стихи к Ахматовой») и умела пере­
дать в лирике и прозе суть каждого из них: «Не мэтр был
Гумилев, а мастер боговдохновенный»; «молодой Державин» —
о Мандельштаме; «златоустая Анна всея Руси» — об Ахмато­
вой; «будь, младенец, Володимир: Целым миром володей!»
(«Маяковскому»); «все дал — кто песню дал» («Памяти Сергея
Есенина»).
Путь поэта у Цветаевой — это путь избранничества и обре­
ченности: «Мертвый лежит певец И воскресенье празднует», —
посвятила она в 1916 году еще живому А. Блоку.
После возвращения в Россию (1939 год) она предчувствует
неотвратимость своей смерти для будущего творческого воскре­
сения: «Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, На дно
твое нырнуть — Ад или Рай — едино! В неведомого глубь — чтоб
новое обресть!» («Смерть! Старый капитан...»). Она слышит в 1941
году: «А этот шелест за спиной — ...То поступь Вечности за мной»
(«Тропы бытия»).
Самосгорание и жертвенность судьбы поэта обусловлены, по
мнению Цветаевой, тем, что «тысячами солнц сияет наша грудь».
Цветаева жила и творила в полный накал искренности и страс­
тей.
Это обусловило и особенности ее поэтики. Сама она однаж­
ды сказала о себе: «Душа, не знающая меры».
9*
259
Все слишком есть —
Во мне! — Все каторжные страсти
Слились в одну!
(Безумье — и благоразумье...)
Рассказывая в одном из писем В.Розанову о матери, Цветае­
ва признавалась: «Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до
крика» (выделено нами — Лет.)
Это национальное буйство, своеволие, безудержный разгул
души («крик») выражается в интонационном стихе: в «рваной»
фразе. « Я не верю стихам, которые льются, рвутся — да!» — ут­
верждала поэтесса. Это относится почти к каждому стихотворе­
нию. Ограничимся одним примером:
Выше! Выше! Лови — летчицу!
Не спросившись лозы — отческой
Нереидой по-лощется,
Нереидой в ла-зурь!
Лира! Лира! Хвалынь — синяя!
Полыхание крыл — в скинии!
Над мотыгами — и — спинами
Полыхание двух бурь!
Муза! Муза! Да как — смеешь ты?
Только узел фаты — веющий!
Или ветер станиц — шелестом
О страницы — и, смыв, взмыл...
И покамест — счета — кипами,
И покамест — сердца — хрипами,
Закипание — до — кипени
Двух вспененных — крепись — крыл.
Так над вашей игрой — крупною
(Между трупами — и — куклами!)
Не общупана, не куплена,
Полыхая и пля-ша —
Шестикрылая, ра-душная,
Между мнимыми — ниц! — сущая,
Не задушена вашими тушами,
Ду-ша!
(Душа)
Первое, что бросается в глаза — обилие тире, призванных
«рвать» стих, лишать его плавности. Восклицательные знаки пе­
редают интонацию. Разделения слов способствуют их смыслово­
260
му осознанию. Проставленные автором ударения акцентируют
слова «и» и «не». В результате антитеза души, полета, крыл, сер­
дца, кипения и трупов, кукол, счетов (всего того, что так нена­
вистно поэтессе), становится почти физически ощутимой. При
более внимательном чтении нетрудно заметить, что свою роль в
этом играет и лексика (лира, Нереиды, Муза — с одной стороны
и туши, игра, трупы — с другой). Не последнюю роль играет и
звукопись: аллитерации в-л-н-н-л; л-л-вл-пл-сп в первых стро­
фах и ш-р-щ в сочетании с ассонансами у-a в последней прида­
ют стиху и тяжеловесность и некую легкость, разбег.
Часто интонационный ритм усиливается графикой (яркий
пример этого — цикл «Стихи о сироте»), использованием эллип­
сов («Тише, хвала!...»; «Любовь» и др.). И в разобранном стихо­
творении, и в десятках других Цветаева дробит фразы на краткие
куски, пользуется повторами слов, синтаксическими параллеля­
ми. Замедлению стиха, нарушению правильного ритма способ­
ствуют и окончания фраз в самых неожиданных местах. «Поэ­
зия, — утверждала писательница, — разгадывание, толкование,
извлечение тайного, оставшегося за строками, пределами слов...
Чтение — прежде всего сотворчество», рассчитанное на работу
мысли воспринимающего.
Творчество Марины Цветаевой стало выдающимся и самобыт­
ным явлением как в культуре Серебряного века, так и в истории
русской литературы в целом. «Моим стихам, как драгоценным
винам, Настанет свой черед», — предрекала она совсем еще юной
поэтессой, зная, что обретет «читателя в потомстве». Читателя,
который поймет и разделит трагическое противоречие ее жизни:
В этот мир я родилась, чтоб
Быть счастливой!..
(Радость всех невинных глаз...)
и тут же:
Мой двадцатидвухлетний опыт —
Сплошная грусть!
(Безумье — и благоразумье...)
Почти не затронув трагической истории XX века, она раскры­
ла трагедию мироощущения человека «огромного и жестоковыйного столетия» (О.Мандельштам). Человека и поэта братской и
трагической судьбы угадал в Цветаевой О.Манделынтам еще в 1935
году, обращаясь к ней из воронежской ссылки:
Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чёрта было — ты четвертый,
Последний чудный черт в цвету.
(За Паганини длиннопалым...)
261
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Цветаева М. П осле России: 1922-1925 / П ред исл. Л .М н ухи н а. — М.:
Сов. A rt., 1990.
К ром е стихов указанн ы х в заголовке л ет, вош ел «Ответ н а анкету».
П реди словие п ринад леж ит известном у исследователю зарубеж ного
творчества пи сательн и ц ы .
Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 тт. /С оставл . и п одгот. комм ент. Л .А .М нухина и А .А .С аакянц. — М .: Э л л и с Л ак, 1995.
Н аи более полное издание творческого н ас л ед и я п и сательн и ц ы с под­
р о бн ы м и ко м м ен тар и ям и в к он ц е каж дого том а. Вклю чает в себя как
худож ественны е п р ои зведен и я М .Ц ветаевой , та к и ее письм а (т.7).
Цветаева М. Сочинения: В 2 т. /С о с т ., подгот. текста и к о м м ен т. А .Саак ян ц ; вступ. ст. В с.Рож дественского. — М .: Худож. лит., 1980.
Цветаева М. Сочинения: В 2 т. /С о с т ., подгот. текста, вступ. статья,
ком м ен т. А .С аакян ц . — М .: Худож. л и т., 1988.
П ри одинаковы х названиях двухтом ники сущ ественно д о п о л н яю т друг
друга и даю т достаточно полное представление о п о эзи и (п ервы е том а) и
прозе (вторы е том а) М .Ц ветаевой. В изд. 1980 г. д а н ы поэмы «П ереулоч­
ки», «П оэм а Горы», «П оэм а К онца», «П оэм а Л естн и ц ы », «С ибирь», «Ав­
тобус»; в изд. 1988 — «Чародей», «М олодец», « П о эм а Воздуха», «П евица».
Д рам атургия в обоих изд ан и ях представлена «Ф едрой».
И здан и е 1980 г. содерж ит в о с п о м и н ан и я «О тец и его музей», м ем уа­
ры о В олош ине, Бальм онте, главы из к н и ги «М ой П уш кин»; статью «Эпос
и л и р и к а соврем ен н ой России», п освящ ен н ую В .М аяковском у и Б .П астерн аку и п р и н ц и п и ал ь н о важ ную статью -д екл арац и ю «П оэт с истори ей
и п оэты без истории». И здание 1988 г. вклю чает автобиограф ическую
прозу, «П овесть о С онечке», д н евн и к о вы е за п и с и , статьи и эссе о л и те­
ратуре и и зб ран н ы е п и сьм а 1909-1941 гг.
Э м и гр ан тски й пери од ж и зн и М .Ц ветаевой обстоятельно о св ещ ен в
статье А .С аак ян ц «М арина Цветаева». О б ш и р н ы е к ом м ен тари и это й и с­
следовательницы позвол яю т проследить творческую историю о п у б л и к о ­
ван н ы х п р оизведений.
Цветаева М. Т еатр /В ступ . ст. П .А н токол ьского; Сост., подгот. текс­
та и ком м ент. А .Э ф рон и А .С аакянц. — М .: И ск усство , 1988.
П ьесы М .Ц ветаевой, н ап и сан н ы е к ак н а р о д и н е , так и в эм и гр а ц и и ,
п ечатались за рубежом. К н и га является ф а к ти ч ес к и первым о тд ельн ы м
и здан и ем в Р оссии пьес «Ч ервонны й валет», «М етель», « К ам ен н ы й а н ­
гел», «П ри клю чение», трагедии «Ариадна». И з р ан е е ш ироко и звестн ы х
пьес вош ли «Ф ортуна», «Ф еникс», «Федра».
В ступительная статья П .А нтокольского, введш его Цветаеву в круг
Е .В ахтангова, дает к ак ан ал и з взглядов п и са те л ь н и ц ы на театр, та к и
разбор отдельны х пьес.
Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева: П исьм а
1926 го д а /П о д го т. т е к с то в , сост., п р е д и с л о в и е , п ерево д ы , к о м м е н т .
К .М .А задовского, Е .Б .П астерн ак а, Е .В .П астерн ак. — М .: К нига, 1990.
П ереп иска, и зд анная на Западе как «П исьм а троих» и впервые опуб­
л и ко ван н ая на родине в 1987 г. («Дружба народов», № № 6 -9) с п ред и сло262
вием Д. С .Лихачева, представляет огромны й интерес для вы явл ен и я как
ф актов биограф ии н азванны х художников, так и их эстетических взглядов.
Малмстад Д . Ц ветаева в письмах: И з Б ахм етьевского архи ва К олум ­
би й ского у н и верситета / / Л и т . обозрение. — 1990. — № 7. — С. 102-112.
П убликую тся п и сь м а 1932-1933 гг. к Н .А Т э ф ф и , В .В .В ейдле, Б .К . и
В .А .Зайцевы м, Г .П .Ф едотову, позволяю щ ие увидеть к ак ли тературн ую ,
так и бытовую ж и з н ь Ц ветаевой.
Саакянц А. М ар и н а Ц ветаева: Ж изнь и творчество. — М .; Э лли с Л ак,
1997.
К ни га явл яется итогом м ноголетней работы иссл ед о вател ьн и ц ы над
изучением творчества М .Ц ветаевой. Часть вторая «Заграница» (с. 299682) рассказы вает о ж и зн и и творчестве п и сательн и ц ы в Б ер л и н е, Ч ехии
и Ф ран ц и и в 1920-1926 гг. П одробно (по годам ) освещ ен о творчество
поэтессы 1920-1937 гг. (глава «Роднее бы вш ее — всего»). Р ассм отрен ы
личн ы е и тв орческ и е связи Ц ветаевой с русским и п о эта м и и Р ильке.
Б ольш ое в н и м ан и е уделено личности С .Я .Э ф рон а.
В м о н о граф и ю вклю чены письм а А .Э ф рон и А .С аа к ян ц к А .И .Ц в етаевой и М .Ш а ги н я н , оспариваю щ ие ил и уточ н яю щ и е р яд п у б л и к ац и й о
М. Ц ветаевой.
П риведен с п и с о к основны х м атериалов, и сп о л ьзо ван н ы х в кн и ге (с.
773-775).
И м ею тся 6 у к азател ей : им ен ; уп ом и н аем ы х в к н и ге х у до ж ествен ­
ны х п р о и звед ен и й и публичны х вы ступ л ен и й М .Ц в етаев о й ; о тд ельн ы х
и зд ан и й ее к н и г; кри ти чески х отзы вов и р е ц е н зи й н а п р о и звед ен и я Ц в е­
таевой.
Кудрова И. П ленны й лев: М арина Ц ветаева, 1934 год / / Звезда. —
1989. - № 3. - С. 142-161.
Работа сод ерж и т к ак сведения о ж и зн и п и сател ьн и ц ы во Ф р а н ц и и
(быт, о тн о ш ен и я с издательствам и, рассказы о друж бе с В .Х одасевичем и
встрече с Б .П ас те р н ак о м ), так и анализ л и р и ч еск о й п р о зы Ц ветаевой
(очерк об А .Б ел о м , эссе о М .В олош ине), автоб иограф и чески х стихотво­
р ен и й «С траховка ж изни» и «Китаец»; ц и к ла «Куст».
Кудрова И. П оследние годы чужбины: М арина Ц ветаева: Ванв — П а ­
риж, 1937-1939 / / Н овы й м ир. - 1989. - № 3. - С. 213-228.
П рослеж ивается драм атический период ж и зн и писательницы во Ф р а н ­
ц ии перед во зв р ащ ен и ем н а родину. Р ассказы вается о судьбе С .Я .Э ф р о ­
на. П риводятся п и сьм а М .Ц ветаевой.
Орлов Ел. М арина Ц ветаева: судьба, характер, поэзия / / Ц ветаева М .
Избр. п рои зведен и я. — М. — Л.: С ов.писатель, 1965. — С. 5-54.
П реди словие В л.О рлова к изданном у в «Б иблиотеке поэта» о д н о то м ­
нику М .Ц ветаевой откры ло путь к серьезном у и глубоком у и зуч ен и ю
ж и зн и и творчества писательницы . Н аряду с ф актам и б и о гр а ф и и , и н огда
«подтянутыми» к идеологическим установкам того вр ем ен и , работа со ­
держ ит ан ал и з худож ественного м ира Ц ветаевой.
Павловский А. К уст рябины: О поэзии М арины Ц ветаево й . — Л .:
С ов.писатель, 1989.
К нига п о свящ ен а исклю чительно поэзии. А втор ставит целью «рас­
крытие ж и зн и и судьбы через стихи». Д оказы вается трагеди й н ая п рирода
263
К н и га посвящ ена исклю чительно поэзии. А втор ставит целью «рас­
кры тие ж и зни и судьбы через стихи». Д оказы вается трагедийная природа
творчества М .Ц ветаевой. П рослеживаю тся отн о ш ен и я поэтессы с А .Б л о ­
ком , В .М аяковским , А А хматовой, О .М андельш там ом , Б. П астернаком .
Бродский И. О Марине Цветаевой. //Н о в ы й м ир. — 1991. — № 2. —
С. 151-180.
П убл и кац и я состоит из двух частей. П ервая («П оэт и проза») а н а л и ­
зирует своеобразие прозы поэта; вторая («Об о д н о м стихотворении») п о с­
вящ ен а р ассм отрен и ю стихотворения «Н овогоднее» (1927) в ш и р о ко м
к он тексте русской и м ировой литературы , скруп ул езн ы й ан ал и з текста
соединяется с рассм отрением взаимосвязей творчества Цветаевой и Р ильке
«как адресата в «Н овогоднем» — его роль как объ екта душ евного д в и ж е ­
ния» поэтессы .
Karlinsky Simon. Marina Cvetaeva: Her Life and Art. — Berkeley, 1966.
И сследование состоит из двух частей: п о д р о б н о й би ограф и ей п и с а ­
тел ьн и ц ы (приводится м ного неизвестны х докум ен тов) и ан али за ее тв о р ­
чества п о ж анрам . Э том у анализу предш ествует глава «Т ехнические ас ­
пекты : язы к , способы верси ф и кац и и , п о эти ч еск и е приемы».
И м еется обш и рн ая библиограф ия (с. 290-309), вклю чаю щ ая в себя
и зд ан и я Ц ветаевой за рубежом и н а родине (в том числе в п ер и о д и ке),
работы о п и сательн и ц е к ак советских, так и зарубеж ны х ученых. О собы й
и н терес п редставляет библиограф ический сп и с о к п рои зведен и й других
п оэтов, п о свящ ен н ы х М .Ц ветаевой.
Осипова Н.О. Мифопоэтика лирики М.Цветаевой. — К иров, 1995.
Осипова Н .О . Поэмы М.Цветаевой 1920-х годов: Проблема художест­
венного мифологизма. — К иров, 1997.
В обеих работах рассм атривается ф ун к ц и я м и ф ол оги ч еско го м ы ш л е­
н и я к ак о сновы поэти ч еской модели м ира в творчестве М .Ц ветаевой. В
п ервой работе основное вн им ание уделено тр ан сф о р м ац и и м и ф ологем
«м ирового древа» и см ерти в лирике поэтессы . Во второй освещ ается
п роблем а худож ественного м иф ологизм а в «П оэм е Горы», «П оэм е К о н ­
ца» и «Кры солове».
В п р и м ечан и ях им ею тся ссы лки на тео рети ч ески е и сследования по
п роблем ам м и ф ол оги зм а и работы, п освящ ен н ы е н еп осред ствен н о тв о р ­
честву М .Ц ветаевой.
Марина Цветаева. Библиографический указатель литературы о жизни и
деятельности 1910-1941 и 1942-1962 гг. / Сост. Л.А.М нухин. — W ien, 1989.
Русское издание ф ран цузского б и б л и ограф и ч еск ого указателя (B ibli­
ographic des oeuvres, efablie par T atiana G ladkova et Lev M nukhin, Paris,
1982). С одерж ит подробны е сведения о зарубеж ны х исследованиях, п о с ­
вящ ен н ы х М .Ц ветаевой.
АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ (МИТРОПОЛЬСКИЙ)
( 1889 - 1945)
« П Р О Ш Е Д Ш И Й ВСЕ С Т У П Е Н И »
На немногочисленных сохранившихся фотографиях Арсений
Несмелое подтянут, строг, всегда в галстуке. Он был замкнут,
молчалив, с неторопливыми движениями, вспоминает близко
знавшая его Е.Рачинская. «Скрытый и замкнутый по натуре,
Арсений Несмелое, — пишет Э. Штейн, — всячески избегал круж­
ковщину, объединения и съезды. Даже в антологии русской по­
эзии, которые издавались в Китае, он не давал своих стихов. И
только однажды, в 1936 году, по настоятельной просьбе Адамо­
вича и Кантора Арсений Несмелое изменил своему принципу и
согласился на публикацию в первой антологии зарубежной поэ­
зии «Якорь» трех своих стихотворений».
Словом, все знавшие поэта, подчеркивают, что он казался
человеком холодноватым, скептическим.
Совсем другим он был в своих книгах: романтиком трагичес­
кого XX века, отлично видевшим все сложности своего времени,
но сохранившим веру в человека, в Россию и в Бога. «Романтик
в нем никогда не умирал», — писала Ю.Крузенштерн-Петерец в
парижском журнале «Возрождение».
Арсений Иванович Митропольский родился в семье статско­
го советника, увлекавшегося литературой. Об обстановке в доме
Митропольских дает некоторое представление рассказ «Маршал
265
Свистунов», главный герой которого вспоминает семейство
Мпольских. Автобиографичен и рассказ «Второй Московский» о
кадетском корпусе, где учился будущий писатель. Если в первом
рассказе подчеркнуто чтение Сенькой Мпольским героического
«Путешествия в восемьдесят дней вокруг света», то во втором
маленький лопоухий кадет Ртищев вступает в драку с верзилойвторогодником бароном Кунцендорфом, не желая «признать себя
его рабом, уничтожить себя, свою личность». Оба эти факта чрез­
вычайно значимы для понимания художественного мира Арсе­
ния Несмелова.
Первую мировую войну Митропольский прошел от прапор­
щика до поручика в рядах 11 гренадерского Фанагорийского пол­
ка. За боевые заслуги был награжден четырьмя орденами. После
ранения оказался в октябрьские события 1917 года в Москве,
принял участие в боях на стороне юнкеров. В 1918 году уехал из
Москвы в Омск, где примкнул к белому движению. Вместе с ар­
мией Колчака оказался в буферной Дальневосточной республике,
где до 1922 года не было советской власти. Там познакомился с
Н.Асеевым, С.Третьяковым, В.Арсеньевым.
В своей скупой биографии Несмелое писал, что во Владивос­
токе он «издал первую книгу стихов («Стихи», 1922, затем, в том
же году, поэма «Тихвин» и в 1924 — книжка стихов «Уступы»). До
этого, еще в Москве, издал маленькую книжечку рассказов воен­
ных («Военные странички: стихи и рассказы — 1914»). Печататься
начал в «Ниве» в 1912-1913 году, кажется».
С падением Дальневосточной республики писатель попада­
ет под неусыпный надзор ГПУ и бежит окружными путями в
Маньчжурию, в Харбин. Некоторое время (до 1927 года) его даже
печатает советский журнал «Сибирские огни», он сотрудничает
в советской харбинской газете «Дальневосточная трибуна».
Всю жизнь писателю приходилось заниматься литературной
поденщиной. Каждый день в харбинской газете «Рупор» появ­
лялся его маленький стихотворный фельетон (часто под картин­
кой), подписанный псевдонимом Гри. Стихи и рассказы писате­
ля появляются в самых различных изданиях Харбина и Шанхая,
подписанные псевдонимами Н.Арсеньев, Анастигмат, С.Трельский, Н.Рахманов, НДозоров и даже Тетя Розга. Однако наибо­
лее зрелые свои вещи писатель неизменно подписывает псевдо­
нимом Несмелое.
Именно под этим именем выходят его стихи в пражской «Воле
России», в парижских «Современных записках», его проза — в
парижско-шанхайских «Русских записках».
Один за другим выходят сборники стихов «Кровавый отблеск»
(1928), «Без России» (1931), «Полустанок» (1938), «Белая флоти­
266
лия» (1942), книга прозы «Рассказы о войне» (1936). Несмелое
чувствовал приближение грозных испытаний для всего мира и
для России. «До известной степени моя беллетристика уже уста­
рела, — обращался он к читателям своих военных рассказов, —
новая война, если ей суждено случиться, будет страшнее той,
картины которой я восстанавливаю. И, следовательно, душа
человеческая будет на эти удары реагировать более мучитель­
но...»
Сохранились воспоминания одного из молодых харбинских
писателей тех лет (В.Кокшарова), что Несмелов в период япон­
ской оккупации Харбина в 1943 году руководил одним из поэти­
ческих кружков, знакомил его слушателей с поэзией С.Есенина,
В.Маяковского, ценил стихи К.Симонова и С.Маршака. Вместе
с тем поэт по-прежнему оставался верен старой России, не мог
одобрить сталинский диктат и одно время даже надеялся, что
кто-нибудь из советских военных скинет тирана (рассказ «Мар­
шал Свистунов»). За несколько лет до своей гибели Несмелов
написал пророческое стихотворение «Моим судьям»:
Часто снится: я в обширном зале...
Слыша поступь тяжкую свою,
Я пройду, куда мне указали,
Сяду на позорную скамью.
Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою трясти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом, как червяка, раздавят
Тысячепудовым: р а с с т р е л я т ь !
В жизни все оказалось проще и страшнее. Как удалось уста­
новить знатоку зарубежной поэзии и публикатору наследия Несмелова Е.В.Витковскому, арестованный в 1945 году в Харбине,
вскоре после прихода туда советских войск, поэт умер в сентяб­
ре того же года на полу тюремной камеры в Гродекове близ Вла­
дивостока. До последних дней он сохранял чувство собственного
достоинства, бодрость духа, пытался ободрять сокамерников,
развлекал их воспоминаниями и анекдотами.
Будучи сам человеком цельным и духовно сильным, Несме­
лов вносил эти черты в свою поэзию и прозу, в чем был продол­
жателем традиций высоко чтимого им Н.Гумилева. От Н.Гуми­
лева идет и приверженность поэта к сюжетным стихам, балла­
дам, интерес к звукописи, чеканным ритмам.
Ключевым образом всей поэзии Несмелова, видимо, можно
назвать слово «воля». Не случайно именно такое название носит
стихотворение, открывающее книгу стихов «Уступы».
267
Если ветер лодку оборвал,
Если вал обрушился и вздыбил,
Опускает руку на штурвал
Воля, рассекающая гибель, —
утверждает поэт. «Я пружины стальное терпенье. Видишь, во­
лею сжаты уста», — говорит он в другом стихотворении («В
скрипке»). Метафорой воли становятся и «Гребные гонки» с че­
редующимися анафорами «раз», «два» и торжеством воли в фи­
нале:
Раз!.. До отказу, до цели.
Два!.. Разорвутся тела...
Три!.. И победно взлетели
Вверх все четыре весла!
В стихотворении «Вперед» Несмелов вступает в полемику даже
со своим любимым С.Есениным, автором щемящих строк о со­
ревновании «милого смешного дуралея» жеребца с «железным
конем» паровозом. В отличие от автора «Инонии» Несмелов ото­
ждествляет себя не с жеребенком, а с мотоциклеткой:
Так это — я. И мы. Простор велик,
А путь один. И этот путь — погоня,
Но неуклюжий черный паровик
Ее, неистовую, не догонит!
«Мужество взносит» лирического героя Несмелова «в простор
лучезарно-глубинный» («Уезжающий в Африку или...»). И даже
видя свою гибель, герой Несмелова «на любую готов игру», так
как знает, что «доверен руке отважной Драгоценнейший тайный
груз». Вот почему тогда
Даже гибель и та чудесна,
И напрасен тревоги вой:
Погибая, я стану песней,
Поднимающей, заревой!
(Все наст ойчивее и гром че...)
«Сочно философствующему Бердяеву» и певцам «народа-богоносца» из «Русской мысли» поэт противопоставляет подлинный
народ, «шершавый от расчесов, вшивый до переносиц», народ, «вка­
пывающийся в глину окопов», подставляющий пулям спину, несу­
щий в себе одновременно и «смрадного изверга» и «светоносного
инока». Людям, никогда не рубившим узлов (т.е. не испытывав­
шим кораблекрушения), не шагавшим через Рубикон, поэт проти­
вопоставляет несгибаемых романтиков, «отважных и беспутных».
Даже роковой 1918 год воспринимается им с благодарностью как
«то партизан, то воин государев», потому что «вечно исступлением
дыша», он зажег людей восторгом битвы. И теперь
268
Кто пил от бури, не погасит жажды
У мелко распластавшейся струи.
(Восемнадцат ому году)
Герои стихов Несмелова «люди каменного побережья» — пар­
тизаны, анархисты, разведчики, разбойники, мечтающие «о чемто сказочном и небывалом» («Тайфун»). «Играя в смерть, ходил в
атаку» китайский бандит («Хунхуз»). Не менее героично встреча­
ет преследователей русский разбойник:
Когда же ночью застучали в двери, —
Согнувшись и вися на револьвере,
Он ждал шести и для себя — седьмой.
(Бандит )
Особое место среди любимых персонажей поэта занимают
офицеры («Леонид Ещин», «Броневик» и др.):
У командира молодецкий вид.
Фуражка набок, расхлебаснут ворот.
Смекалист, бесшабашен, норовист, —
Он чертом прет на обреченный город.
(Б роневик)
Все они похожи на героя «Песни об Уленспигеле», уподоблен­
ного «хлеснувшей волне». Даже в черном Даурском бароне Унгерне поэт видит нечто заслуживающее уважение: это сильная лич­
ность, пусть и преданная своей неправой идее и потому превра­
тившаяся в Вечного Жида, которым пугают детей. Не случайно
посвященное ему стихотворение написано в форме баллады —
жанра романтической поэзии.
Среди аксессуаров, окружающих героев поэзии Несмелова,
«черные винчестера», браунинги, револьверы, верлеи, требующие
от владельцев мастерства и ловкости.
Такой же, как и у героев, непокорной душой, наделенной ро­
ковыми глубинами, видит поэт и Россию («В сочельник»). У него
нет обиды на родину («Переходя границу», «О России»):
Я, как спортсмен, любуюсь на тебя
(Что проиграю — дуться не причина)
И думаю, по-новому любя:
— Петровская закваска... Молодчина!
Вместе с тем поэт не может не видеть, что романтика уходит
из жизни, сменяется скучной повседневностью. И вот уже
Еще вчера стремительный и зоркий, —
Уполз покорно серый броневик
За станцию на затхлые задворки.
И девять лет на рельсах тупика
Ржавеет рыжий труп броневика.
269
И рядом с ним — ирония судьбы,
Подняв молотосерпные гербы,
Встают на отдых красные вагоны...
Что может быть мучительней и горше
Для мертвых дней твоих, бесюновый коршун!
(Броневик)
«В ломбарде» оказываются не только сословные ордена, о ко­
торых автор пренебрежительно скажет «Твоих отличий никому не
жаль, Бездарное, последнее дворянство», но и орден воинской
доблести Георгиевский крест, чей
... знак носил прекрасный Гумилев,
И первым кавалером был Кутузов!,
и «браунинг, забытый меж игрушек».
Меняются и люди. «Все меньше нас, отважных и беспутных»,
— с горечью замечает поэт в стихотворении «Восемнадцатому
году». На антитезе построена «Встреча вторая»: «Василий Васильич Казанцев...Усищев протуберанцы, Кожанка и цейс на
ремне» превратился в мирное время в «конторскую мымру», в
«шевиотовый, синий, Наполненный скукой мешок». И единствен­
ное, что греет лирического героя, что когда-то «сам Ленин был
нашим врагом!».
Романтическое уважение к сильному врагу пронизывает и
стихотворение «Агония»:
Враг! Не Родзянко, не Милюков
И не иная столицы челядь.
Горло сжимает — захват каков!
Истинно волчья стальная челюсть.
Уважение к храбрости, к верности идее приводит поэта к упо­
доблению честного боя дуэли («Мы дуэлянты, нас двое: Я и ко­
торый ко мне») и признанию за противником благородства и
некоего родства с лирическим героем стихов поэта:
Пусть мы враги — друг другу мы не чужды,
Как чужд обоим этот сонный быт.
И непонятно, право, почему ж ты
Несешь ярмо совсем иной судьбы?
(В ст реча первая)
Именно в этом своеобразие отношения Несмелова к револю­
ции. Равновелики были в свое время Екатерина и Пугачев, вы­
зывает уважение революция, когда
... в вихре, налетавшем,
Как пес из-за угла, —
Рос ворон, исклевавший
Двуглавого орла.
(Д ве т ени)
270
Однако и революция исчерпала свою силу. Вслед за А.Бло­
ком, с горечью обнаружившим, что «музыка революции уходит»,
Несмелое пишет:
Родина! Я уважаю революцию,
Как всякое через, над и за,
Но в вашем сердце уже не бьются,
Уже не вздрагивают ее глаза.
(Р.В. 15)
Пошлость и скука наступают в мире. Вот почему у лиричес­
кого героя-романтика «сердце все в слезах От злобы, одиночест­
ва и муки». Олицетворением такого бесгероического и безволь­
ного мира стал противоестественный образ — «ручная волчица»,
обращаясь к которой, писатель скажет:
Как и мы, поэты, — никогда
Не увидишь мир, мечтой обещанный.
Идеи и образы стихотворных сборников перекликаются с про­
зой писателя. Несмелое восхищается полковником Афониным
из одноименного рассказа, молившим Бога не о сохранении своей
жизни («Как, думал полковник Афонин, может молиться о со­
хранении своей жизни начальник, ежедневно посылающий на
смерть несколько тысяч единокровных людей? Ведь смерть ска­
чет вдоль цепей их на своем вороном жеребце, и каждое мгнове­
ние ее окровавленный клинок срубает чью-нибудь голову»), а о
Родине и солдатах. В противоположность «кашафельдфебелю»
генералу Нилову («Короткий удар»), не только не пожалевшему
своих солдат и бросившему их в ненужную атаку, но и варварски
расстрелявшему из орудий трупы убитых, Афонин добивается
перемирия, спасая тем самым жизни десятков раненых русских
и немецких солдат, и сам выносит с поля боя раненого немца.
Драматично звучит финал рассказа, когда в революционном
Иркутске спасенный немец узнал ставшего генералом Афонина
и слезно благодарил его за себя и за других солдат, «а русские
солдаты, изуродованные революцией, стояли рядом и сплевыва­
ли на боевую шинель генерала подсолнечную шелуху».
Прекрасна, хотя и трагична судьба другого русского человека
Андрея Петровича, сохранившего любовь к флотским офицерам
и попытавшегося спасти от влияния революционеров-террористов девушку-учительницу («Страшная ночь Андрея Петровича»).
Смерть и убийство других людей для Несмелова всегда пре­
ступление, не имеющее ничего общего с его романтическими пред­
ставлениями о героике.
И даже пьянчужка Сергей Сергеевич Зуев, владелец летнего
ресторанчика с ностальгически звучащим на берегах китайской
реки Сунгари названием «Волга, мать родная», отказавшийся
271
продать богатым англичанам дворнягу, наделен подлинно рус­
ским романтическим характером, «правильной гордостью» («Ни­
щие, а гордые»).
Находит развитие в прозе писателя и тема любви, очень ску­
по, но все же заявленная в его поэзии («Глаз таких черных, рес­
ниц таких длинных...», «За»). Если в стихотворении «Интервен­
ты» жажда любви объединила солдат разных национальностей —
Каждый хочет любить, и солдат, и моряк,
Каждый хочет иметь и невесту и друга, —
то в рассказе «Le Sourire» («Улыбка») бесхитростные строки жен­
ских объявлений во французской газете вдохновили «четырех муж­
чин, измученных блужданиями по тайге, исчерпавших все запасы
мужества», собрать силы и спастись.
В новелле «По следам любви» разворачивается сначала кар­
тина платонической, сугубо русской по накалу и чистоте страс­
тей любви, а затем не менее сложная психологическая драма
мужчины, любящего свою жену.
Наряду с характерными для поэта романтическими образами
героического капитана-мертвеца из «Солдатской песни», подни­
мающего в бой «мертвую роту свою»; увозимого «в Иркутск на
пытку и расстрел» А.Колчака («В Нижнеудинске»); французской
королевы, перед казнью отправляющей послание возлюбленно­
му, и растерзанному толпой дворянину («Неразделенность») и
безымянного поэта («Ночью думал о том, об этом...»), в стихах
Несмелова все чаще звучат иные ноты:
Плавно, без усилия,
Шествует в лазурь
Белая флотилия
Отгремевших бурь.
Усиливается неприятие войны. Романтические образы напол­
няются противоположным содержанием: елочка, прилетевшая в
окоп к герою, оказывается «в теплой человеческой крови» («Пода­
рок»), торжествующие победу над вражеским крейсером подвод­
ники-герои оказываются сами жертвами войны («Эпизод»). Тема
гибели на войне соединяется с темой Бога. Над погибшими мо­
ряками
Кто-то светловолосый
Тихо идет по водам,
Траурен на зеленом
Белый его хитон.
В развращенном Риме (в «Белой флотилии» поэт активно
использует античные образы) уже присутствует предчувствие
новой жизни, воскресения:
272
Жизнь билась жирной мухой, в паутине
Трепещущей. Жизнь жаждала чудес.
Приезжий иудей на Авентине
Шептал, что Бог был распят и воскрес.
Даже любовь поэт связывает с библейской любовью Соло­
мона и Суламифи («Глаз таких черных, ресниц таких длин­
ных...»). «Христианка»-дева хоть на минуту, но «вдохнула новую
силу» в усталые глаза патриция-язычника.
Героика сменяется спокойным повседневным преданием себя
течению жизни:
Не к бурям, не к безднам и стужам
Вершин огнеликих, а стать
Любимым и любящим мужем,
Спокойную участь достать!
(Беатриче)
Не столько смелость и героизм, сколько доброту и заботу о
людях ставит теперь Несмелое во главу угла («Касьян и Микола»,
«Сотник Юлий»):
Не подвига, — ничтожной доброты
Потребовало небо от солдата.
Форма притчи, использованная в апокрифе о «Касьяне и Ми­
коле», используется и в стихотворении «Цветок», где беспощад­
ному фанатизму инквизиции противопоставляется истинное хрис­
тианство как любовь ко всему живому. Инквизитор, случайно
увидевший в цветке красоту Божьего творения, не смог отпра­
вить на костер прекрасную женщину. Более того
сам монах покинул трибунал:
Почувствовавший, как красив цветок,
Он и людей уже сжигать не мог.
Октябрь 1917 года («В этот день»), гибель царской семьи («Ца­
реубийцы»), грабежи атаманских банд («Божий гнев») воспри­
нимаются теперь писателем как завершение «некоего давнего кро­
вавого пути», как наказание за «посев сытых ханжеств, вековое
зло». Наконец как наказание за бездействие («В отпавшем Пет­
рограде Мощного героя не нашлось»).
Вся поэзия Несмелова посвящена трагической судьбе рус­
ской эмиграции. С одной стороны, поэт осознает ее как но­
сительницу подлинной русской культуры, утраченной на ро­
дине:
Как говорит внимательный анализ, —
За четверть века беженской судьбы
(Не без печали и не без борьбы)
От многого мы все же отказались.
273
Но веру нашу свято мы храним,
Мы прадедовский бережем обычай
И мы потерь не сделали добычей
То, что считаем русским и святым.
(Великим постом)
«Родина Россия остается нам», — пишет он в стихотворении
«Пели добровольцы. Пыльные теплушки...».
Вместе с тем поэт не может не видеть и мучительно не пере­
живать, что старшая эмиграция вымирает, а молодняк теряет рус­
ские корни: уже в стихотворении «Пять рукопожатий» поэт рису­
ет судьбу юноши, уезжающего за океан:
Потеряем мальчика родного
В иностранце двадцати трех лет.
Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
...Мы — умрем, а молодняк поделят —
Франция, Америка, Китай.
Лирический герой Несмелова потрясен трагедией белого маль­
чишки, обзываемого сверстниками-китайчатами «ламозой» (ки­
тайское название русских в Маньчжурии), но уже не понимаю­
щего по-русски своего имени:
Как оно: Сережа или Коля,
Витя, Вася, Миша, Леонид, —
Пленной птицей, задрожав от боли,
Сердце задохнется, зазвенит!
Не избегнуть участи суровой, —
Жребий вынут, путь навеки дан,
Синеглазый и светлоголовый,
Милый, бедный русский мальчуган
(Л ам оза)
Потрясающе емкий образ китайской реки, ведущей наступ­
ление на русское поселение, где «в глухом окаменении тоски
живут стареющие росссияне», создан в стихотворении «Эпита­
фия»:
...хищно желтоводная река
Кусает берег, дни жестоко числит,
И горестно мы наблюдаем, как
Строения подмытые повисли.
И через сколько-то летящих лет
Ни россиян, ни дач, ни храма — нет,
И только память обо всем об этом,
Да двадцать строк, оставленных поэтом.
274
Эта же тема звучит в «Стихах о Харбине», в «Стихах в пись­
ме», в «Кончине», «Уезжающий в Африку или...».
Более того, веря, что Россия станет другой, что наступит вре­
мя, когда совершившие революцию «откажутся от себя» и вы­
растет «без тюрем и без стен» потомок, поэт не верит, что тот,
никогда «не бывший в яростном бою», сможет понять поколе­
ние эмигрантов:
Он усмешкой встретит речь мою
Недоверчиво высокомерной.
Не поняв друг в друге ни аза,
Холодно разъединим глаза,
И опять — года, года, года,
До трубы Последнего суда.
(П от ом ку)
Такое настроение приводит к появлению в позднем творчес­
тве поэта трагических красок и образов: «надломилась ось» зем­
ного бытия, «труба Последнего Суда»; «казненной головою Тре­
петал фонарь в кустах», «в глухом окаменении тоски Живут ста­
реющие россияне», «и осталось только пепелище...», «Холодно,
безлюдно.-Гаснет зорька, И вокруг могильна тишина». И даже
«Русская сказка» о девочке и Деде Морозе завершается плохо —
ребенок замерзает:
Воет ветер где-то,
Нежат чьи-то ласки...
Нет страшнее этой
Стародавней сказки!
Две последние книги стихов Несмелова («Полустанок» и осо­
бенно «Белая флотилия») свидетельствуют об усилении в твор­
честве писателя религиозной проблематики. Тема веры и неве­
рия поднималась Несмеловым еще в рассказе «Богоискатель»,
где за внешним цинизмом и богохульными поступками штабскапитана Ржещевского скрывается страстная зависть к «даже са­
мому наивному проявлению веры» и трагедия безверия. Неудов­
летворенность приводит Ржещевского к гибели. Напротив, глу­
бокое религиозное, отнюдь не показное чувство подпоручика
Бубекина, «большое и теплое, делало все остальное живым и
нужным. Наполняло душу ласковой снисходительностью к лю­
дям» и — более того — вызывало в других людях «чувство бли­
зости к чужому постороннему человеку».
Ощущение присутствия «над миром, над всем, что существу­
ет, живет, дышит, — еще чего-то страшного, не считающегося
ни с волей, ни с желаниями живущих», постигшее героя расска­
за «За рекой», приводит Степана Петровича к обращению за
помощью к Богу.
275
Еще более мысль о спасении верой звучит в поэзии А.Несмелова. Поэт, по мысли писателя, даже в гибнущей подводной лодке
(емкий образ!) не должен потерять веры, обязан увидеть, «что пре­
красно сердце наше», разглядеть божественную сущность человека
(«В затонувшей субмарине»). «Не верить в добро нельзя Для того,
кто еще живет», — настаивает поэт («Новогодняя ночь»). Приятие
божественного промысла звучит в стихотворении «Отречение»:
Не хочу у черного порога
Надрываться от бессильных слез,
Не хочу возненавидеть Бога.
Себя Несмелое с полным правом отнесет к тем, кто до конца
прошел тернистый путь к вечности:
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!
(М оим судьям )
Художественный мир Несмелова-поэта в чем-то близок к метафористике любимого им С.Есенина, строится на антропомор­
физме:
Казалось, солнце, сбросив шляпу,
Трясет кудрями, зной — лузга,
А море, как собака лапу,
Зализывало берега.
(М орские чудеса)
Пленной птицей, задрожав от боли,
Сердце задохнется, зазвенит.
(Л а м о за )
Осенний дождь, как долгий, долгий плач
... хищно желтоводная река
кусает берег, дни жестоко числит.
(Эпит аф ия)
Темная летящая вода
Море перекатывала шквалом.
Говорила путникам она
В рупор бури голосом бывалым.
(П арт изаны )
Утро в окне, как лицо мертвеца.
(Печью истопленной воздух согрет ...)
Очеловечиваются не только явления природы, но и все то,
чего коснулся человек:
276
Домик съеживается, поджимает бока,
Запахивает окна надорванным ставнем.
(С олдат )
Ступив, ступает маятник,
Как старец в мягких туфлях.
(Веронал)
Домики подслеповато щурят
Узких окон желтые глаза.
(Тихвин)
И вот пулемет судачит
Он <револьвер> пламя стволом лакал...
(Ст ихи о револьверах)
Однако весьма часто метафоры становятся более глобальны­
ми, что позволяет судить, что и опыт В. Маяковского, не любив­
шего Несмелова, но весьма чтимого тем, не прошел даром для
автора «Уступов» и «Кровавого отблеска». Достаточно привести
такие образы, как «Маузер — вздор, огромный топор» («Стихи о
револьверах») или «кошелек тоски» («Ожидание») или «годы-во­
лны заливают нас с тобой» («Лодочник»). Глобально звучат оп­
ределения:
Белая флотилия
Отгремевших бурь
(Сыплет небо щ ебет ом...);
И о самое днище жизни
Колотила тобой судьба
(Леонид Ещин);
На осколках планеты
В будущее мчим!
(Ст ихи о Харбине);
Прожигает нежные страницы
Неостывший пепел наших строф!
(Хорошо расплакат ься ст ихам и...)
Как уже говорилось, в поздней лирике поэта большое место
занимают библейские и античные образы. Здесь, кроме уже вы­
шеупомянутых, можно назвать Адама, апостола Павла, Пракси­
теля, Феба, Дедала, Овидия, Энея, Петрония.
Несмелову подвластны все размеры: от классических и на­
иболее распространенных в его стихотворениях четырехстопных
277
(часто чередующихся с двухстопными) ямбов и хореев, пятис­
топных амфибрахиев и анапестов («Все чаще и чаще встречаю
умерших... О, нет...», «На рассвете» и др.), передающих фило­
софские размышления поэта до редко встречающихся в поэзии
XX века восьмистопных («Ветер обнял тебя. Ветер легкое платье
похитил», «Эней и сивилла») и семистопных («День начался зай­
чиком, прыгнувшим в наше окно...»), имитирующих античный
стих. Столь же виртуозно владеет поэт ритмом баллады («Сти­
хи о револьверах», «Баллада о Даурском бароне»), трехстопным
ямбом с пиррихием в третьей стопе воссоздает ритм «Русской
сказки».
Лишь кажущейся простой представляется рифмовка поэта.
Наряду с точными рифмами, Несмелое часто и охотно пользу­
ется неточными и сложными: юнгу-берегу, ужас-стужа, худощавы-плаща вы, нитроглицирин-рыцари, Казанцев-протуберанцы, над и за-глаза, докапали-Каппеля, не знаем-понужаем, ве­
тер-веке и т.д.
Меньшую роль играет в его стихах звукозапись. Наиболее
часто употребляет он, как и все поэты Харбина, звучные китай­
ские слова в соединении с русскими, что придает стихотворени­
ям самые различные интонации: от романтических до элегичес­
ких и даже трагических. Звукопись используется в любовной ли­
рике Несмелова. В стихотворении «Флейта и барабан», напри­
мер, лирическое настроение передается синтезом анафоры трех
строф «У губ твоих, у рук твоих... У глаз» с повторяющимся в
различных сочетаниях звуком «л» («О лебеде, о Лидии и лилии!»
в одной строфе; «О Лидии, о лилии, о ласточке!» — в другой).
Кольцевая композиция (открывающие стихотворение строки в
слегка измененном виде завершают произведение) придает фи­
налу энергичный ритм, переводя его в философский план: бара­
бану и флейте
...аккомпанирует судьба:
— У рук твоих!
— У губ твоих!
— У глаз твоих!»
В не вошедшем в сборники стихотворении «Ты упорен, мас­
теру ты равен» Несмелое говорил, что надо
... поверить яростно и свято
(Так идут на пытку и на крест),
Что в тебе узнает кто-то брата
Далеко от этих лет и мест, —
Что, когда пройдут десятилетья
(Верь, столетья, если ты силен!),
278
П р а в н у к о в н е и с ч и с л и м ы х д е ти
С к аж у т н е ж н о : м ы о д н о , ч то он!
С м е р т н о все, ч т о р ас ц в е тае т ту ч н о ,
М иг ж ивет, чтобы оставить м ир,
Н о б е с с м е р т н а в е щ ая с о зв у ч н о с ть ,
С кры тая в перекликанье лир.
С лова оказали сь п р о роческ и м и : п равн уки р о весн и к о в Н есм ел о ва сегодня ч и таю т сти хи и п р о зу п и сателя и н аход ят в н и х с о ­
зву ч н ы е свои м н ас тр о е н и я м и их вр ем ен и стр о ки .
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
А.Несмелое. Б ез М осквы , без России: С ти хотворен и я. П о эм ы . Р ас­
сказы /С о ст. и к ом м ент. Е .В .В итковского и А .В .Р евон ен ко . — М .: М оек,
р аб о ч и й , 1990.
П ервое и наиболее пол н ое издание п рои звед ен и й п и сателя н а Р о ди ­
н е вклю чает в себя и зб р ан н ы е п рои зведен и я и з первого п о эти ч еско го
сбо р н и ка Н есм елова и п о л н ы й корпус 5 последую щ их к н и г п о эта, а так ­
ж е стихотворения, не входивш ие в сб орн и ки , пять п оэм и десять р ас ск а­
зов разны х лет.
С б о р н и к п р ед варяется статьей Е .В .В и тковск ого «Н а со п к ах М а н ь ­
чж урии», вк лю чаю щ ей в себ я б и ограф и ю п и сател я и ан а л и з его тв о р ­
чества, вы звавш и й и звестн ую пол ем и ку (см . ан н о т ац и ю статьи Ю .И в а ­
н ова).
А.Несмелое. И збранная проза. — Н ью -Й о р к: А нтиквари ат, 1987.
А.Несмелое. Стихотворения. Т .1.- Н ью -Й о р к: А нтиквари ат, 1990.
О ба и зд ан и я вы ш ли в сери и «К ниги русского К итая», и здаваем ой
ам ер и к ан ск и м издателем Э .Ш тей н ом . В частности, в том сти х отворен и й
вош ли изданные под псевдоним ом Н иколай Д озоров п ри ж и зн ен н ы е кн и ги
«Только такие!» (ли ри к а) и «Георгий С ем ена» (поэм а).
Ю .Иеаное. Прош едш ий все ступени: «Идеологический сю жет» поэзии
Арсения Н есмелова Л ит. о бозрение. — 1992. — № 5/6. — С. 28-35.
Рассматриваю тся политические взгляды А. Н есм елова, своеобразие его
о тн о ш ен и я к рев о л ю ц и и , роди н е; затрагивается воп р о с об эво л ю ц и и
м и ровоззрения писателя. А втор статьи оспари вает вы вод Е .В и тковского
о том , что Н есм елову «идеологию зам еняла о ф и ц ер ск ая честь».
Э.Ш тейн. [П исьм о в редакцию ] / / З н а м я . — 1989. — № 7. — С . 232235.
Автор сообщ ает ряд св ед ений о писателе, в том числе о его п розе, и
утверждает, что к в и н тэс сен ц и е й творчества А. Н есм елова бы л «сарказм ,
перерастаю щ ий в н еп р и м и р и м о сть в равн ой степ ен и и к п обеди телям , и
к побеж денны м».
БОРИС ПОПЛАВСКИИ
(1903-1935)
«И П И С А Т Ь ДО С М Е Р Т И Б Е З О Т В Е Т А . . . »
«Наружность Бориса была бы совершенно ординарной, даже
серой, если бы не глаза, — вспоминал хорошо знавший Бориса
Поплавского прозаик Василий Яновский. — Его взгляд чем-то
напоминал слепого от рождения: есть такие гусляры. Кстати, он
всегда жаловался на боль в глазах: «точно попал песок...» Но
песок этот был не простой, потому что вымыть его не удавалось.
Но он носил темные очки, придававшие ему вид мистического
заговорщика». «Его глаза, — как бы спорит с В.Яновским Ирина
Одоевцева, — вряд ли были зеркалом его души. Это были стран­
ные, неприятные глаза, производившие на многих отталкиваю­
щее впечатление. В них совсем не отражалась его душа — душа
поэта». Свою трактовку черных очков поэта дает (с использова­
нием цитат из стихов Поплавского) друживший с ним писатель
Владимир Варшавский: «Я не мог отделаться от чувства, что он
носил их, чтобы «спастись от грубых взглядов», от «страшных
глаз, прикованных ко злу». Между тем, — продолжает В. Вар­
шавский, — Поплавский вовсе не принадлежал к числу тех пи­
сателей, для которых мир невыносим, так как они не способны
увидеть в людях и их жизни ничего, кроме уродства, пошлости,
жестокости и низости. Напротив, я не встречал другого человека
с такой готовностью к восхищению. Он восхищался всем — сне­
280
гом, дождем, звездами, морем, Римом, стоицизмом, гностиками,
святой Терезой, Лотреамоном, Джойсом, боксерами, ярмарочны­
ми силачами, картинами знакомых художников и стихами знако­
мых поэтов. Не был Поплавский и биологически хилым, неспо­
собным жить человеком. С крепкой мужицкой шеей и толстен­
ными, развитыми тяжелой атлетикой руками («занимаюсь мета­
физикой и боксом»), он был способен радоваться жизни с какимто детским простодушием».
Эта детскость порой оборачивалась неприятными чертами:
он был обидчив и в обиде мог доходить до скандала; не умел
обращаться с деньгами. О своих отношениях с людьми он сам
говорил: «Перехамил или перекланялся». Но был и по-детски
отходчив: не стеснялся признать свою неправоту, извиниться за
скандал. И подобно ребенку, он все время был в поиске ответов
на самые главные вопросы жизни и смерти. «Его мысли, поиски
и стремления, — писал его близкий друг Ю.Фельзен, — были
всегда на каких-то высотах, он упорно пытался проникнуть в
непроницаемую тайну природы и для себя упорядочить мир ...
На свои углубленные тревожные вопросы он находил различные
ответы, каждым увлекался и мучался, пробовал закрепиться на
чем-либо одном и сам себя старался уверить, что вот уже найден,
окончательный ответ, что пора успокоиться, медленно обдумать
надежные, твердые воззрения, не оглядываясь на все остальное.
Но такой «идеологической передышки» у Поплавского быть не
могло. Судьба наделила его ужасным, безжалостным даром —
быстро и полно исчерпывать любое очередное открытие, и он
опять куда-то устремлялся».
Жизнь так и не дала ему возможности найти себя, что он про­
рочески предсказал в стихотворении «Мир был темен, холоден,
прозрачен...»: «И писать до смерти без ответа».
Борис Юлианович Поплавский родился в Москве в семье
музыкантов. Его отец Юлиан Игнатьевич, происходивший из
польских крестьян, был одним из любимых учеников П.Чайковского, но вместо музыкальной карьеры избрал дело­
вую: служил в Обществе заводчиков и фабрикантов. Мать (из
старинного рода прибалтийских дворян) — скрипачка. Маль­
чика тоже учили музыке. Но больше он увлекался рисовани­
ем. Уже в детстве Поплавский писал стихи и делал к ним
рисунки.
В 1920 году Юлиан Игнатьевич с сыном уезжают в Крым и в
ноябре 1920 года вместе с армией Врангеля покидают Россию. О
чувствах, испытанных им от прощания с родиной, Б.Поплавский напишет позднее в стихотворении «Уход из Ялты», заверша­
ющимся строками:
281
В последний раз священник на горе
Служил обедню. Утро восходило.
В соседнем небольшом монастыре
Душа больная в вечность уходила.
Борт парохода был суров, высок.
Кто там смотрел, в шинель засунув руки?
Как медленно краснел ночной восток!
Кто думать мог, что столько лет разлуки...
Кто знал тогда... Не то ли умереть?
Старик спокойно возносил причастье...
Что ж, будем верить, плакать и гореть,
Но никогда не говорить о счастьи.
В 1921 году они переезжают из Константинополя в Париж.
Здесь Поплавский сближается с художниками Монпарнаса, учится
в художественной академии, а в 1922-м на два года уезжает в
Берлин, где без успеха занимается живописью, а — главное для
его будущей судьбы — приобщается к кругу русских писателей
(от А.Белого до Г.Иванова).
С 1924 года и до своей гибели Поплавский живет с семьей: в
Париж приехали его мать и брат. Семья жила чрезвычайно скром­
но, перебиваясь минимальными заработками: отец преподавал му­
зыку в Русском музыкальном обществе, мать стала портнихой,
брат, (бывший офицер) — шофером такси. Борис работу не нашел,
да, видимо, и не очень искал: жил на небольшую стипендию. Он
спал до обеда, затем писал или работал в библиотеке (его позна­
ния были огромны в самых различных областях), к вечеру отправ­
лялся в спортзал (он хорошо боксировал, мог руками согнуть же­
лезный прут, был неплохим гимнастом, легкоатлетом) и затем —
на Монпарнас, где, как он писал в стихотворении «Холодно, мол­
чит душа пустая...», «читали мы под снегом и дождем Свои стихи
озлобленным прохожим»; где в самых различных кафе обсуждал с
друзьями, такими же, как он, писателями «незамеченного поко­
ления» (В.Варшавский) самые различные проблемы литературы,
философии, религии, искусства. Еще он любил ходить с кем-ни­
будь из друзей по ночному Парижу молча.
Жизнь не баловала его. Встреча с Натальей Ивановной Сто­
ляровой в 1931 году принесла не столько счастье, сколько стра­
дания. Через три года Н.Столярова уехала в СССР, откуда не
подавала о себе вестей, несмотря на договоренность о том, что
по получению ее письма Поплавский последует за ней. Он не
мог знать, что вскоре после возвращения Столярова была реп­
рессирована, а ее отец расстрелян.
282
Не менее драматично складывалась писательская судьба Поплавского. Несмотря на то, что весь русский Париж знал его «Чер­
ную мадонну», несмотря на то, что он был признан литератур­
ной элитой, его стихи встречали холодно-равнодушный прием у
издателей. Впрочем, как признавался сам Поплавский, даже ро­
дной отец не прочитал ни одного его стихотворения. Двадцать
шесть его стихотворений появилось за два года (1928-1930) в праж­
ском Журнале «Воля России», еще пятнадцать за шесть лет (19291935) — в «Современных записках». Он же писал их десятками.
Лишь в 1931 году нашлась меценатка, финансировавшая его
первую и единственную прижизненную книгу стихов «Флаги»,
высоко оцененную столь влиятельными критиками, как М.Цетлин и Г.Иванов.
Многократно пытался Поплавский издать свой роман «Апол­
лон Безобразов». В 1933 году сорвалось и наполовину уже ре­
шенное издание книги: не нашлось денег на вторую половину. В
1935 году созданная для молодых авторов Издательская Колле­
гия Парижского Объединения писателей и состоящая в основ­
ном из друзей Поплавского, предпочла его книге более корот­
кий и коммерчески выгодный «Роман с кокаином» А.Агеева.
В октябре 1935 года монпарнасский авантюрист, наркоман и
проходимец Сергей Ярко предложил нескольким товарищам ощу­
тить неведомое ранее состояние. Согласились все — пришел один
Поплавский. Они явились на квартиру Поплавских возбужден­
ные и там продолжили «эксперимент». Утром нашли два трупа.
Как позднее выяснилось, С.Ярко перед этим сообщил любовни­
це, что хочет уйти из жизни и «увести с собой» еще кого-нибудь.
Знал ли Поплавский, что совершает последнее путешествие —
не ясно. Одни из друзей говорят, что не знал, что у него были
обширные творческие планы и он не мог пойти на суицид, дру­
гие склонны считать, что это закономерный исход. «Невыноси­
мость и боль жизни» стали перевешивать ту радость, которая
была свойственна детскому характеру писателя, утверждает В.Варшавский, приводя в доказательство одно из стихотворений Поп­
лавского:
Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
Ярким, жадным, грубым, остальным.
Смерть Поплавского всколыхнула литературное зарубежье.
В последний путь его провожали десятки людей, было много
роз. В.Ходасевич выступил со статьей «О смерти Поплавско­
го», где обвинил «литературных олимпийцев» в «величествен­
ном незамечании» талантливой молодежи. Стараниями истин­
283
ных друзей писателя Н.Татищева и К.Померанцева вышли еще
три книги поэта: «Снежный час» (Париж, 1936), «В венке из
воска» (Париж, 1938), «Дирижабль неизвестного направления»
(Париж, 1965). В 60-е годы американские слависты С.Карлинскйй и А.Олкотт выпустили в США (Беркли) трехтомное собра­
ние стихов Поплавского, повторяющее сборники 1931, 1936 и
1965 годов.
В 1989-1990 годах на родине поэта впервые были опублико­
ваны три подборки его стихов.
Художественный мир стихов Б. Поплавского непривычен и
труден для рационального постижения. Отвечая в 1931 году на
анкету альманаха «Числа» «О своем творчестве», Поплавский пи­
сал, что творчество для него — возможность «предаться во власть
стихии мистических аналогий, создавать некие «загадочные кар­
тины», которые известным соединением образов и звуков чисто
магически вызывали бы в читателе ощущения того, что предсто­
яло мне». И далее, характеризуя основную задачу своего твор­
чества, Поплавский писал: «Расправиться с отвратительным уд­
воением жизни реальной и описанной. Сосредоточиться в боли
... Выразить хотя бы муку того, что невозможно выразить».
Ближайший друг поэта Н.Татищев приводит и другое само­
определение Поплавским общего направления своей поэзии:
«вскрывать внутренний ужас нашего подсознания, всю борьбу,
разочарования, колебания между огнем и холодом». Поэт, ут­
верждал Поплавский в «Заметках о поэзии», не должен отчетли­
во осознавать, что он хочет сказать. «Тема стихотворения, ее мис­
тический центр находится вне первоначального постигания, она
как бы за окном, она воет в трубе, шумит в деревьях, окружает
дом. Этим достигается, создается не произведение, а поэтичес­
кий документ — ощущение живой, не поддающейся в руки тка­
ни лирического опыта».
Далеко не все образы стихов Поплавского понятны, большин­
ство из них не поддается рациональному толкованию. Читателю,
писал в «Заметках» Поплавский, должно вначале показаться, что
«написано «черт знает что», что-то вне литературы».
В одном из самых известных стихотворений поэта «Черная
Мадонна» у людей, «соловеющих» в трамвае будут «головы свя­
тые», «умирающие кларнет и скрипка» «родят волшебный звук»,
«запах рвоты» соединится с «фейерверка дымом пороховым». Ок­
сюмороном-контрапунктом окажутся строфы:
И услышит вдруг юнец надменный
С необъятным клешем на штанах
Счастья краткий выстрел, лет мгновенный,
Лета красный месяц на волнах.
284
Вдруг возникнет на устах трамбона
Визг шаров, крутящихся во мгле.
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.
Еще менее поддается расшифровке образ «В венке из воска»
хотя общая направленность его к чему-то неживому, трагичес­
кому очевидна.
В этих сюрреалистических образах, где каждое отдельное опи­
сание вполне понятно, но их соединение кажется необъясни­
мым произволом автора, читатель тем не менее прозревает некое
подсознательно трагическое восприятие мира, усиленное итого­
выми образами «священного адного» и «белого, беспощадного
снега, идущего миллионы лет».
Образ ада, дьявола появляется и в текстах, и в заголовках
многих стихотворений поэта: «Ангелы ада», «Весна в аду», «Звез­
дный ад», «Diabolique». Поистине в поэзии Поплавского, «блес­
нув огнями в ночи, дышит ад» («Limiere astrale»).
Фантасмагорические образы-метафоры усиливают это впе­
чатление. Мир воспринимается то как колода карт, разыгрывае­
мая нечистой силой («Ангелы ада»), то как нотная бумага, где
люди «знаки регистра», а «пальцы нот шевелятся достать нас»
(«Борьба со сном»). Метафоризированный образ людей, стоя­
щих, «как в сажени дрова Готовые сгореть в огне печали» ослож­
няется сюрреалистическим описанием неких рук, тянущихся, как
мечи, к дровам. Трагичен и финал стихотворения: «Мы прокля­
ли тогда свою бескрылость» («Стояли мы, как в сажени дро­
ва...»). В стихах поэта «дома закипают, как чайники», «встают
умершие годы с одра», а по городу ходят «акулы трамваев» («Весна
в аду»); «острый облак луне отрывает персты», «хохочут моторы,
грохочут монокли» («Дон Кихот»); на «балконе плачет заря В
ярко красном платье маскарадном, И над нею наклонился зря
Тонкий вечер в сюртуке парадном», вечер, который затем сбро­
сит вниз «позеленевший труп зари», а осень «с больным серд­
цем» закричит, «как кричат в аду» («Dolorosa»). В заключение
этой жутковатой картины
Смерть запела совершенно даром
Над лежачей на земле Мадонной.
По воспоминаниям друзей поэта, на переплетах его тетра­
дей, на корешках книг многократно повторялись написанные
им слова: «Жизнь ужасна».
Именно это состояние передавали необычно емкие метафо­
ры и сравнения Поплавского: «ночь — ледяная рысь», «распуха­
ет печально душа, как дубовая пробка в бочонке», жизнь — «ма­
285
лый цирк», «лицо судьбы; покрытое веснушками печали», «душа
повесилась в тюрьме», «зеленый ужас», «пустые вечера».
Во многих стихотворениях поэта появляются образы мертве­
цов, печального дирижабля, «Орфея в аду»-граммофона.
Флаги, привычно ассоциирующиеся с чем-то высоким, у Поплавского станут саваном:
Сколько раз Ты в летний день хотела
Завернуться в флаг и умереть
(Ф лаги)
или знаком призрачности высокого мира:
Ты сиял, теперь сойди с
флагштока,
Возвратись к обыкновенной жизни.
Спи. Усни. Любовь нам только
снится,
Ты, как счастье, никому не нужен.
(Ф лаги спускаю т ся)
То и дело обращаясь к стертым метафорам, расхожим симво­
лам, Поплавский порой принципиально изменяет их, обновляет,
обогащая другими расхожими метафорами, сплавляя контексты,
традиции. Так в начальной строфе одного из стихотворений, вхо­
дящих в состав сборника «В венке из воска»,
Уже был вечер в глубине трактира,
Где чахли мы, подобные цветам.
Лучи всходили на вершину мира
И улыбаясь, умирали там.
легко просматривается хрестоматийное начало элегии В.Жуковского «Вечер»:
Уж вечер. Облаков померкнули края.
Последний луч зари на башне умирает.
Но Поплавский разрушает элегизмы, присущие поэту «шко­
лы гармонической точности», вкраплением в них мрачных сим­
волов. В итоге — из романтической «юдоли скорбей», грустящей
о своей недовоплощенности перед идеальными Небесами, поэ­
тический мир произведений Поплавского превращается в фан­
том, одержимый роковыми силами, угрожающий чахнущему в
нем человеку, волею случая проснувшегося к жизни от сна.
Тема свинцового сна, несвободы, непреодолимой инертнос­
ти проходит через все творчество поэта («Отвращение», «Непод­
вижность», «В зимний день на небе неподвижен...», «Флаги спус­
каются», «Рождество расцветает. Река наводняет предместья...»,
«Спать. Уснуть. Как страшно одиноким...» и др.).
286
БОРИСЬ ПОППАВСК1Й
kiiwniuiimitinMHimiuiinuDiuuiuiiiiiiiiiiiniHuiuiiuinuiiiiun
Ф Л А Г И
И ЗД А Т Е Л ЬС Т В О „ЧИСЛА*
П А Р ИЖЪ
19 3 1
Титульный лист книги Б.
с дарственной надписью автора
Со сном неразрывно связана и тема смерти:
Спать. Лежать, покрывшись одеялом,
Точно в теплый гроб, сойти в кровать...
(В зимний день на небе неподвижном...)
В одном их первых стихотворений сборника «Флаги» о лири­
ческом герое говорится, что он шел и смеялся, как «осужденные
смеются с палачами». Уже здесь чувствуется характерная для эк­
зистенциальных настроений поэта тема состязания со смертью,
проходящая через все творчество Поплавского.
С одной стороны, человеку дано слишком мало свободы —
фатум царит над его жизнью:
Наша жизнь, на потешенье века,
Могуществом превыше человека,
Погружена в узилише судьбы.
Лишь пять шагов оставлено для бега,
Пять ямбов, слов мучительная нега,
Не забывал свободу зверь дабы.
(Покушение с негодными средствами)
С другой — и в этой борьбе есть упоение игрока:
Я люблю, когда коченеет
И разжаться готова рука,
И холодное небо бледнеет,
За сутулой спиной игрока.
Иное дело, что оно временно и не отменяет итоговой траге­
дии:
Улыбается тело тщедушно,
И на козырь надеется смерд.
Но уносит свой выигрыш душу
Передернуть сумевшая смерть.
(Ялюблю, когда коченеет...)
Впрочем, достаточно часто в стихах Поплавского смерть вос­
принимается и как трагедия, и как тихая радость. Этот оксюмо­
рон отчетливо прослеживается в заголовке стихотворения «Роза
смерти» и в его тексте:
... весна, бездонно розовея,
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.
В рифме «вяло-певала» стихотворения «В венке из воска» «пе­
вала» относится к смерти, а жизнь характеризуется как «холод­
ный праздник», что «убывает вяло». Поэтично описывает Поплавский переход в иное состояние в стихотворениях «Рукопись,
найденная в бутылке» и «Жалость»:
288
Тихо иду одеянный цветами,
С самого детства готов умереть.
Не занимайтесь моими следами,
Ветру я их поручаю стереть.
Но, быть может, особенно знаменательно стихотворение
«Двоецарствие», где
Сабля смерти свистит во мгле,
Рубит головы наши и души,
Рубит пар на зеркальном стекле,
Наше прошлое и наше грядущее,
но лирический герой в итоге уходит «под землю и в небо» и,
подобно звезде из стихотворения «Звездный ад», обнаруживает,
что не «цветет в аду» «среди разбитых душ», а «сияет на руке
Христа».
Этой теме посвящен во «Флагах» целый цикл мистических
стихов («Гамлет», «Богиня жизни», «Смерть детей», «Детство Гам­
лета», «Розы Грааля», «Саломея»). Характерными образами-сим­
волами этого цикла выступают розы, звезды, дирижабли, ангелы,
дети. А их общую идею выражает «Мистическое рондо I»:
Ты с луны мне говоришь о счастье.
Счастье — смерть,
Я тебя на солнце буду ждать.
Будь тверд.
Так к концу сборника «Флаги» рождается тема, воплотивша­
яся в названии одного из стихотворений — «Стоицизм», харак­
терная для менталитета всей русской поэзии от А.Пушкина до
Поплавского и с предельной полнотой выраженная в строках
стихотворения «Мир был темен, холоден, прозрачен...»:
Станет ясно, что шутя, скрывая,
Все ж умеем Богу боль прощать.
Жить. Молиться, двери закрывая.
В бездне книги черные читать.
На пустых бульварах замерзая,
Говорить о правде до рассвета,
Умирать, живых благословляя,
И писать до смерти без ответа.
Двоемирие, принадлежность к небу и земле и метания между
ними сохранились и в его поздних стихах, ставших однако проще.и строже. Обращаясь в стихотворении конца 1931 года к пос­
тоянному собеседнику «Ты», воплотившему в себе и Бога, и воз­
любленную, и, быть может, своего двойника, поэт говорит:
Все вокруг Тебе давно знакомо.
Ты простил, но Ты не в силах жить.
10— 1662
289
Скоро ли уже Ты будешь дома?
Скоро ли уже Ты перестанешь быть?
(Снег идет над голой экспланадой...)
Еще драматичнее строки стихотворения «Как холодно, мол­
чит душа...»:
Нам спать пора, мы ждать уже не можем.
Забудем мир. Мне мир невыносим —
Он только слабость, солнечная вьюга
В сиянье роковом нездешних зим.
Но тогда же написаны и другие строки, — о любви к зем­
ному:
Забудь свои миры, я остаюсь с Тобою
Спокойно слушать здесь, как дождь шумит;
о сострадании:
Паду к земле быстрее всех и ниже,
Всех обниму отверженных в аду
(В кафе стучат шары. Над мокрой мостовою...)
В стихотворении «Разметавшись широко у моря...» самохарак­
теристика «равнодушен к добру и ко злу» опровергается последу­
ющими: «Полон солнечной радости весь я».
«Домой с небес» возвращается поэт в стихотворении «Не го­
вори мне о молчаньи снега...», открывающем цикл стихов с ли­
рическим названием «Над солнечною музыкой воды»:
Смерть глубока, но глубже воскресенье
Прозрачных листьев и горячих трав.
Я понял вдруг, что может быть весенний
Прекрасный мир и радостен и прав.
Сияет жизнь, она близка к награде
Свой зимний труд исполнившим любя,
И все вокруг одна и та же радость,
Что слушает во всем и ждет себя.
И хотя составлен «Снежный час» не самим поэтом, представ­
ляется не случайным, что близкие ему люди завершили одноимен­
ный цикл стихотворением «Рождество расцветает...», главная мысль
которого — примирение с драматичным миром.
Поэзия Поплавского — свидетельство непрерывных поисков
человека «незамеченного поколения» русской эмиграции. Это
поэзия вопросов и догадок, а не ответов и решений.
Признание поэта «в теплой лодке пишу без ответа» вполне
относится и к прозе Поплавского, еще более сложной, чем его
стихи.
290
Романы «Аполлон Безобразов» (1926-1932), «Домой с небес»
(1934-1935) и незаконченный «Апокалипсис Терезы» по автор­
скому замыслу должны были составить трилогию, о макросюже­
те которой можно теперь судить только гипотетически.
«Аполлон Безобразов» открывается встречей двух его глав­
ных героев, вечных спутников одного возраста, двойников, ко­
торым суждено отныне следовать по жизни вместе — Васеньки и
Аполлона Безобразова. Житейская наивность первого с лихвой
компенсируется развернутой философией второго, нередко обо­
рачивающейся цинизмом и разочарованностью в жизни.
Бродя по эмигрантским кварталам Парижа, герои сохраняют
аскетичное мировидение «нищего Христа» даже в моменты пьяно­
го разгула, непотребных вечеринок. На одном из таких «балов»
Васенька и Аполлон знакомятся с одолеваемой чахоткой ВеройТерезой, дочерью кальвиниста-фанатика, бывшей воспитанни­
цей католического монастыря.
Роман на какое-то время превращается в «роман воспита­
ния»: Тереза постигает не столько уроки катехизиса, сколько
некую природную философию, в которой элементы язычества и
мистицизма сплетаются с подлинно христианским, трепетно-ми­
лосердным отношением к живому и неживому миру. В подобной
«религии», исповедуемой девочкой, аббат Гильденбрандт видит
чудовищное соединение воли Бога и Дьявола в угоду неразумно­
му ребенку. Присланный в монастырь после смерти аббата мо­
лодой священник Роберт Лекорню пытается сопротивляться этому
соединению воль и защитить Терезу от воздействия дьявольских
сил, но тщетно. Его внезапно проснувшаяся любовь к Терезе
встречает ответное чувство со стороны девушки, чувство, спро­
воцированное все той же ее «религией», обращающей христиан­
скую заповедь «возлюби ближнего как самого себя» в возмож­
ность и необходимость совокупления именно с парием, братом
«униженного Христа». Изгнанием Роберта и Терезы из монасты­
ря и заканчивается «роман воспитания».
Он вливается в общий сюжет «Аполлона Безобразова»: герои
волею судьбы собираются под одной крышей полузаброшенного
дома, где каждый из них учится сопротивляться разрушитель­
ным силам, действующим на их судьбы. Сопротивление это тер­
пит крах: влюбленный в Терезу Васенька получает в ответ лишь
жалость, ибо забота Терезы направлена на Безобразова, демони­
чески приковывающего к себе внимание девушки, и Роберта —
безумца, по-прежнему сражающегося с Дьяволом за душу Тере­
зы. Претензии Безобразова и владельца цветочного магазина
Авероэса на создание из окружающих предметов некоего куль­
турного мира оборачиваются профанацией. Усилия «хозяина»
ю*
291
дома Тихона Богомилова по поддержанию какого бы то ни было
порядка не вызывают отклика у отчаявшихся персонажей.
Совместное житие героев обрывает трагедия: Роберт, узрев­
ший в Безобразове Дьявола, губящего Терезу, пытается убить его
во время совместной прогулки в горах, но гибнет сам.
В финале каждому из героев суждено вернуться «на круги
своя».
Хотя формально в центре романа история воспитанницы мо­
настыря Терезы, ее парадоксальных отношений с католическим
священником Робертом Лекорню и трагической гибели послед­
него, не меньшую (если не большую) роль играет пространный
рассказ о знакомстве рассказчика Васеньки с демонической фи­
гурой — Аполлоном Безобразовым и об их отношениях.
«Аполлон Безобразов» изначально становится развертывани­
ем заложенного в имени главного героя и, соответственно, в за­
главии романа — оксюморона. Этот герой несет в своем имени
(псевдониме, которым Поплавский нередко подписывал свои ма­
териалы в прессе) два начала: красоту и уродство, гармонию и
разложение. Поплавский то напрямую отождествляет его с фи­
гурой дьявола, то превращает Безобразова в своеобразного Ме­
фистофеля — спутника Васеньки, насыщая сюжет реминисцен­
циями «Фауста», то передоверяет Аполлону сокровеннейшие ис­
тины — плод долгих авторских поисков. Существует и еще одна
возможность толкования фамилии Безобразов, если прочитать
ее с ударением не на третьем, а на втором слоге. Тогда он оказы­
вается неопределенным, аморфным, как сама жизнь. Текст ро­
мана не раз дает основания и для такой трактовки.
Доводя до уровня символического оксюморона имя централь­
ного персонажа романов — Аполлона Безобразова, Поплавский
в то же время нарочито пренебрежительно обращается с имена­
ми остальных персонажей. Изначально получающая два имени
Тереза уподобляется целому ряду архетипических персонажей и
приобретает право на их имена. Васенька же, напротив, сам при­
сваивает себе комически-фантасмагорическое имя Цыпленок
Дутов и авторской волею превращается в Олега в романе «Домой
с небес».
Так, обрастая культурологическими реминисценциями, герои
превращаются в архетипы, а затем становятся лишь отдельными
гранями, воплощениями и проявлениями универсальной чело­
веческой сущности — раздробленной личности — героя XX сто­
летия.
При этом в одной системе координат оказываются и авторсоздатель романа; и создающие (спонтанно или целенаправлен­
но) поэтические тексты главные герои, в первую очередь Безоб­
292
разов, ищущий в ритме й рифмах гармонии и высших истин
мироздания, медитаций; и второстепенные — вплоть до полу­
пьяных шоферов, философски перевирающих расхожие литера­
турные строки. Более того, и сам Творец-Демиург создает ми­
роздание по тем же законам раздробленности и вовсе не являет­
ся всемогущим. Еще Н.Бердяев заметил, что Поплавскому «близко
лишь уничижение Христа. И совершенно чужд царственный об­
раз Христа».
Следуя за М.Лермонтовым, Поплавский делит «Аполлона
Безобразова» на собственно роман и дневник своего героя, от­
крывающий в убийственно-скептическом Аполлоне всю глуби­
ну тех же страданий, периодов отчаяния и духовных сражений с
Творцом несовершенного мира, которые свойственны и дру­
гим персонажам. «Герой времени» обнаруживает под спудом
иронии свое полное право стать жертвой времени, бросить ему
законный упрек или просто выйти из игры, погрузиться в сон,
небытие.
Раздробленность и противоречивость бытия последовательно
воплощается на всех художественных уровнях романа.
В том числе и в композиции. В композиции романов Поплавского скрещиваются несколько традиций: на первый взгляд,
эпизоды следуют друг за другом, подчиняясь закону ассоциатив­
но-лирического сцепления, налицо сюрреалистическое нагромож­
дение образов, оксюморонов, парадоксов. Лирическое отступле­
ние от достаточно банального сюжета то и дело превращается в
логическое обоснование того или иного парадокса в духе прозы
Оскара Уайльда. С другой стороны, налицо рационалистическая
композиция, сравнимая с романами Ф.Достоевского, где сущес­
твуют герой-теоретик, персонаж-практик и его многочисленные
двойники, повествователь-хроникер. Однако в отличие от рома­
нов Ф.Достоевского, проверяемая на практике идея неизмеримо
усложняется, дробится, превращается в комплекс законов ми­
роздания, отношений человека с Богом, человека с человеком,
человека с Дьяволом, Дьявола с Богом — законов, действие ко­
торых проверяет на своем духовном опыте каждый из персона­
жей. Хаотичность, многосложность придают роману сны персо­
нажей, подробно детализированные фантасмагории, превраща­
ющиеся в литературные аналоги картин примитивиста Анри Руссо
и дадаиста Макса Эрнста.
В романе не раз упоминается французский поэт романтичес­
кого направления Лотреамон, чьи «Песни Мальдодора», имити­
руя «роман ужасов», соединяют в себе возвышенный пафос оза­
рения, сатиру и иррациональные кошмары душевнобольного. По­
добно Лотреамону-Дюкасу, Поплавский изображает не столько
293
своего героя, сколько элементы расхожих литературных стилей,
сюжетов, характеризующих типы мышления, свойственные пред­
ставителям «потерянного поколения». Однако если у Лотреамона исходным материалом выступают романтические «готические
романы тайн и ужасов», то Поплавский использует самый раз­
нообразный круг литературного материала, сознательно ориен­
тируясь на «общие места» русской классической литературы,
поэзии русского и французского символизма.
Именно в этом ключе стоит воспринимать встречающиеся в
романе полуискаженные цитаты из расхожих произведений рус­
ской классики: « — И ты, вино, осенней скуки друг, веселый
утешитель всяких мук. И вовсе не веселый, а какой-то там дру­
гой, говорит наставительно наливающий подающему стакан»;
«Пой, светик, не стыдись, бодрый эмигрантский шофер, офи­
цер, пролетарий, мистик, большевик...»; «Лети, кибитка удалая!
Шофер поет на облучке, уж летней свежестью блистает пустой
бульвар, сходя креке... Пока не проколоты шины и враждебный
песок не тщится самотеком погубить цилиндры-самопалы, лети,
лети шоферская тройка, по асфальтовой степи парижской Рос­
сии...»; «Так минул бал, долгая жизнь, краткая ночь, пьяное
счастье, трезвое горе униженных и оскорбленных алкоголем». В
их нагнетании ощутим весь слом привычных путей разрешения
проблем, представлений о соотношении мира и человека, на­
копленных классической культурой, предшествовавшей культу­
ре столетия двадцатого, выбросившего героев «на обочину мира».
Характерной особенностью романов Поплавского является их
билингвизм: галлицизмы становятся неотъемлемой частью текс­
та романа и способны выполнять самые различные функции.
Характерно, что большинство галлицизмов писатель калькирует
или нарочито неорганично вкрапляет в состав хрестоматийно рус­
ских фраз, достигая этим удивительного эффекта, когда спектр
значений слова в двух языках взаимообогащается, рождая новые
метафоры в рамках самого слова. Так происходит, к примеру с
возникающим на страницах романа галлицизмом «интеллегибельный»: к приведенным в авторских комментариях его значениям
(«сверхчувственный, невещественный, умственный») контексту­
альное употребление прибавляет значение новое, в котором все
концентрированное воплощение сознания «потерянного поко­
ления», гибельность взгляда на мир сквозь призму интеллекта,
рефлексии. Другой функцией галлицизмов в тексте романа ста­
новится создание дистанции между автором и рассказчиком: в
совершенстве владеющий французским, Поплавский дистанциируется от Васеньки в «Аполлоне Безобразове» и Олега в «Домой
с небес» — итогом этого становится пафос всеохватной авторе­
29 4
кой жалости и сочувствия к «маленькому персонажу» на чужой
земле и — шире — в чужом мире.
Второй частью трилогии является роман «Домой с небес».
Действие его начинается с того, что главный герой Олег, —
тридцатилетний студент богословского факультета, влюбленный
в Таню, — безотчетно следует за ней, пытаясь преодолеть на­
пряженность отношений с ней и выяснить, наконец, их суть,
назвав вещи своими именами. В «доисторических лесах» на при­
морском курорте, освободившись от «страха Бога», Олег, пре­
следуя Таню, добивается ряда «объяснений»: его надорванная
интеллигентщина приводит героиню в бешенство, и она то пред­
почитает Олегу более «земного» и опытного любовника, то, под­
чиняясь древнему кликушескому инстинкту, дает волю жалости
и милосердию, снисходительно заботясь о «тридцатилетием под­
ростке».
Пытаясь разорвать порочный круг взаимных оскорблений и
истерической ревности, Олег покидает лагерь у моря и возвра­
щается в Париж. Здесь, в одном из монпарнасских кафе, завя­
зывается его роман с Катей, купеческой дочерью, щеголяющей
разухабной «русскостью» своих манер, теориями коммунизма и
классовой борьбы. В своих отношениях с Катей Олег достигает
и физической близости, и духовной откровенности, и победы
над соперником. Тем не менее герой не перестает ощущать свою
«несвободу от Бога». Рефлектируя над законами, управляющи­
ми мирозданием и его собственной жизнью, Олег не способен
всецело отдаться ни работе (будь то труд шофера или газетчи­
ка), ни любви. Одержав победу в романе с Катей, превратив его
в поединок, Олег, резко возмужавший и познавший земную сто­
рону любви, вновь встречается с Таней, и на этот раз их отно­
шения оборачиваются взаимным стремлением к постижению
законов любви.
Чувствуя «ревность своего Бога», героиня требует от Олега
принять ледяную «безобразовскую» философию. Однако именно
эта философия оказывается несовместимой с любыми формами
проявления земной жизни и земной любви. Апофеозом этой
несовместимости становится половая несостоятельность, беспо­
мощность Олега в одном из финальных эпизодов романа. Она
становится поводом к возвращению героя в «рай друзей» и на­
пряженных поисков Истины.
Роман традиционно начинается пейзажной зарисовкой-эк­
спозицией (восходом солнца), в которой уже отражается основ­
ная сюжетная коллизия произведения. В тексте Поплавского ма­
териальное сплавляется с нематериальным, вещь с абстракцией,
в одном ряду оказываются «спящие тела, оттопыренные губы...,
295
вчерашние обиды, отдавленные руки и ... деисусные страхи».
Утро таким образом уподобляется некоему прамифологическому
времени, когда «жизни еще не было», и день героев становится
началом бытия, открывает мучительную цепь первооткрытий от­
носительно положений, мыслей и чувств человека в новом
мироздании. А сами персонажи оказываются «первой чело­
веческой парой в земном раю». Другой пейзаж молнией разде­
ляет видимую реальность «на два мира, подобные раю и преис­
подней».
Тема раздвоение мира и человека, Бога и дьявола, тема утра­
ты Бога, утраты его не только разуверившимся героем, но и ос­
тавленным Богом миром, как это выясняется впоследствии, ста­
новится основной темой романа.
Бытовые отношения героев выводятся за рамки быта. Это
достигается в первую очередь своеобразием тропов, используе­
мых писателем. Как «античное» воспринимает Танино тело Олег.
Его же поражают «языческие» пристрастия Кати. Метаморфозы
времени и пространства, слегка намеченные в эпитетах, разво­
рачиваются в богатой метафорике текста: «Опять из огненного
куста Эйфелевой башни вылез градусник, красным морским
жителем поднялся до пятнадцати» — так описывает Поплавский
банальную топографию Парижа. И поистине в гротесковый ор­
намент, иллюстрирующий мифологический синкретизм времен
первотворения, превращается у него описание спящей в поезде
молодой пары: «Спящие молодожены продолжают принимать все
более растительные формы, так что теперь уже и разобраться
невозможно, где начинается и где кончается каждый из них, они
включены друг в друга, склеены, спаяны и через отказ от отдель­
ного бытия, самостоятельности наполнены теплой и богатой
жизнью, и я, как дьявол со скалы, огромными глазами наблю­
даю первую человеческую пару в земном раю, ибо у них есть
деньги, а деньги всегда там, где жизнь».
Пространство, в котором действуют персонажи — Париж, при­
морский французский лагерь — становится то ветхозаветной пус­
тыней, то первозданным Эдемом, то, напротив, «земным адом».
Погружаясь в море, герой погружается в некую неодухотворен­
ную прастихию, и его бытие утрачивает бытовую конкретику:
«Потому что Париж — это где-то когда-то между небом и зем­
лею, где медленно идет снег дней, тотчас тая на мокром асфаль­
те... Сколько времени, который час... Никакой. Никогда... За­
блудился в веках между Эгейскими мистериями, стоицизмом,
Гегелем и Лафаргом». При таком самоощущении жизнь рефлек­
тирующих персонажей — Олега, Аполлона Безобразова — стано­
вится блужданиями по временам, пространствам, культурам и
296
книгам. Блужданиями, единственной целью которых становится
постижение законов мироздания, формирование самоощущения
в мире.
Вторым планом становится в тексте апокриф, творимый ав­
тором шаг за шагом — апокриф, отдельные мотивы которого
встречаются в известных гностических текстах, узнаются в мис­
тических трактатах. Тем не менее во всей своей полноте этот
апокриф выступает только в романе Поплавского. Он становит­
ся по сути своей последовательным объяснением парадоксаль­
ных формул, возникающих в культуре рубежа веков: «святости
дьявола», «нет ничего глубже поверхности» и т.п. В апокриф вли­
вается даже цитируемое в романе замечание К.Леонтьева «о без­
упречности природы и внезапной кляксе на ней — городском
человеке с тонкими ногами». Согласно творимому автором апок­
рифу, мир земной с его несовершенством становится результа­
том некоего творческого сна верховного Божества: «Мир не мо­
жет быть только мыслимым Богом, ибо мысль не имеет протя­
жения, а вся в восхищении открытия, но мир и не может быть
только воображением Бога, ибо воображение необходимо под­
чинено воображающему, и в нем тогда не могло быть ни греха,
ни свободы, ни искупления... Нет, мир должен быть сном Бога,
раскрывшимся, расцветшим именно в момент, когда воображе­
ние перестало Ему подчиняться, Он заснул сном мира, потеряв
власть, отказавшись от власти, и было в этом нечто от грехопа­
дения звездного неба, вообразившего себя человеком». Итогом
такого сна стало Зло, поселившееся в мире.
Тем не менее Бог, проснувшись от сна, требует от своего тво­
рения любви и преданности, безотчетного служения, не оставляя
человека ни на минуту. Это постоянное присутствие Бога превра­
щается в кару для осознающего его героя: «Он чувствовал грозо­
вое, напряженное, как сталь, облако божественной ревности над
собою, преследующее его, как Израиль в пустыне. Как лебедь пре­
следовал Леду, как бык ластился к Европе, как золотая туча спус­
калась к Данае». Эта требовательность Божества к человеку при­
водит в итоге к разрушению связей, вселенскому одиночеству,
затворничеству. Тезис об обретении душевной гармонии наедине
с Богом, внушенный Олегу Богословским институтом и духовным
опытом, оборачивается тем, что в отношениях с людьми герой
постоянно терпит дисгармонию, и вывод, к которому он прихо­
дит, заставляет его отказаться от всякого круга общения, за ис­
ключением медитаций в обществе Аполлона Безобразова: «Каж­
дый ... ходит по улице со своей одиночной камерой на плечах и
как только останавливается перекинуться словом с приятелем,
пруты, как живые, врастают в землю перед ним».
297
Отказываясь от попыток обрести гармонию в любви, Олег не
способен найти ее и «в раю друзей», ибо божественная ревность
оборачивается неослабевающим чувством вины перед Богом: «Да,
я утратил друга, я утратил товарища, я утратил Бога... Я не отри­
цаю Его существования, Он слишком заметен, и я постоянно
смотрю на Него, глядя в мир. Но никогда уже не говорю ему
«Ты», а только «Он».
Таким образом, Бог, в котором Поплавский видит импульс
первотворения и потенциальное гармонизирующее начало, ста­
новится в романе двуликим. Его вторым лицом оказывается
Дьявол, изолирующий человека от мира, опустошающий его су­
ществование. Если искать возможные параллели этой религиоз­
ной философии, рождающейся в романе, трудно не обратить
внимание на упоминания героями имени Бафомета — божества
тамплиеров, заключающего в себе одновременно темное и свет­
лое начала.
В контексте разворачивающегося на страницах романа апок­
рифа любовная интрига, незамысловатые отношения героев об­
ретают иной смысл. Двусмысленными становятся сцены объяс­
нений Олега с Таней. В мерцающем, многоплановом поэтичес­
ком мире романа трудно подчас становится определить адресат
фразы: «— Боже, ну оставь ты меня, и так конец всему». Произ­
нося ее, Олег обращается одновременно и к Тане, и к Богу, на­
деясь развязать узел любви-нелюбви, в который он попадает, по­
кидая «небеса» одиночества и обрушиваясь в «ад» любви: «Муж­
чина, умирая, познает сердце женщины. Женщина, умирая, поз­
нает рабство мужчины, каждый из них, потеряв себя, тщетно
ищет себя без исхода в другом, и от этого Perpetuum mobile адс­
ких мук».
Истории спящего Бога противостоит в произведении Поплавского история Дьявола-аскета, Дьявола-монаха, наконец —
Дьявола — студента теологического института, стремящегося раз­
гадать мотивы сотворения Богом мира: «Отчаявшись в безрелигиозно протестующей боли за всех и самую жизнь, он горячо
тянулся теперь к ней, к этой не известной ему жизни, домой с
небес, головою вперед в горячую, смрадно кипящую влагу».
Формула «домой с небес» становится обозначением пути
дьявола, низвергнутого с небес не в подземный преисподний ад,
а в ад самой жизни. В этом смысле герои романа — Аполлон
Безобразов, а вслед за ним и Олег — повторяют дьявольский
путь: страсть к познанию законов мира, к рефлексии толкает их
в пучину жизни, адских мук любви: «Ах, Катя, Катя, домой с
небес, из раскаленного ада святости, жестокости, спорта и книг —
на землю, в смирение труда, усталости и физической любви...
298
Ах, Катя, как скучает дьявол-подвижник на своих Вавилонских
горах о земле, о траве и о белой круглой тяжелой груди своей
родины». Название романа во многом становится ключом к его
содержанию.
Роман «Домой с небес», как и предшествующую ему часть
трилогии, отличает от классического типа повествования под­
вижная точка зрения. Автор то сливается со своим персонажем,
то вступает с ним в диалог, то бесстрастно повествует о нем в
третьем лице, ничем не мотивируя смену стилей повествования:
«Ну, так, значит, уезжай; не осуществил ли ты до сих пор реши­
тельно все, чего тебе хотелось, и не гордишься ли ты именно
этим?.. А давно уже тебе так не хотелось прочь от этой теплой,
дождливой городской боли. Туда, к дикому, грубому, горячему
морю... Экзамены кончились... Уехать оказалось нетрудно., ему,
студенту и бойскауту, и сразу полегчало на душе, все вокруг ста­
ло покровительственно нравиться на прощание, ибо так хорошо
вдруг освободиться от подневольного, неискреннего сочувствия
людям ... Теперь, когда я уже достал эти шестьсот франков, ехать
в летний лагерь мне уже не хочется...» Подобная игра с местои­
мениями приводит к тому, что Поплавский находит ряд новых
приемов раскрытия болезненной психологии Олега, оторванно­
го от корней своего существования и переосмыслившего эту свою
изолированность философски как непреложное свойство чело­
века в случайно выдуманном Богом мире.
Система образов романа «Домой с небес» становится еще бо­
лее центростремительной по сравнению с первым романом три­
логии. Это приводит к тому, что Таня и Катя — образы тщательно
выписанные в классической реалистической манере — оказыва­
ются лишь «душами» Олега, сторонами его «Я», ибо нигде в этих
описаниях автор не выходит за рамки восприятия героя. В Тане
находит Олег недостающую ему жесткость-жестокость, трезвомыслие и расчет, в Кате — отзывается его русская кровь, в метаниях
между Таней и Катей акцентируется положение героя между дву­
мя мирами: доступным, русским, но уже переставшим быть ро­
дным и понятным, — и принципиально чуждым, европейским,
где герой обречен кончить свою жизнь.
Что касается образа Аполлона Безобразова, то несмотря на
то, что в этом романе его сюжетная роль в значительной мере
ослабевает, он присутствует отнюдь не в качестве эпизодическо­
го персонажа, как это кажется на первый взгляд. Именно ему
автор декларативно отдает идею апокрифа-объяснения развора­
чивающихся в жизни Олега событий: «... Олег вспомнил, как Апол­
лон говорил ему о мире как греховном сне Бога.» В апокрифе, в
философии, в конечном счете и находят концентрированное выра­
299
жение жизненные постулаты «потерянного поколения» — внеш­
няя пустота и разочарованность, ирония, за которой оказывает­
ся скрытой развитая философия жизни: «И почему это всегда в
мире все жертвуется тем, кому ничего не нужно?.. Ах, и Христос
ошибался! Не возложил ли он себе на грудь прекрасную голову
Иоанна? Нет, не Иоаннову, а Иудину голову должен он был к
сердцу своему прижать — так действительно пожалел бы он обез­
доленных. Не выше ли всякая Марфа всякой Марии?»
Жалость оказывается единственно возможной формой любви,
но и она невоплотима: в предшествующем романе любовь Терезы
разбивается, рассыпается, ибо слишком многие, каждый «некре­
щеный камень», нуждаются в жалости и имеют на нее полное
право. Вот почему беспочвенны и апелляции Терезы к Богу.
К концу романа многочисленные попытки героев оправдать
мир терпят крах. Остается в качестве утешения лишь философия
Аполлона Безобразова: «Никогда не поворачивайся к жизни ли­
цом. Всегда в профиль, только в профиль. Безнадежно вращай
только одним глазом. Величественно приподымай только одно
веко. Одною рукою души жестокого. Одною рукою наигрывай
«Чижика» на золотом органе искусства. Одним развесистым ухом
рассеянно слушай гортанный голос бедной девы. Пусть никто не
догадывается о том, что у тебя есть духовный опыт.»
В ироничной болтовне, подобной речам Аполлона Безобра­
зова, проскальзывает двойная установка автора, пытающегося в
смехе преодолеть трагедию оторванных от культурных корней
людей и оправдать их вынужденную опустошенность, навязан­
ную им необходимость начать постижение окружающего мира с
нуля, с «чистого листа»: «Оторвавшись от семьи, народа, исто­
рии, Олег стремительно полетел в то чистое отсутствие, из кото­
рого Бог пытался вначале сотворить небо и землю, но не смог
окончательно преодолеть его в его средоточии, и вот сперва от
боли, а потом сатанинским ослепительным мужеством аскезы
оно сбросило с себя, проснулось от всех форм неба и земли».
Эмиграция оказывается одновременно Апокалипсисом и вре­
менем творения нового мира. Миф-апокриф, творимый в не­
оконченной романной трилогии, позволяет автору совместить
два истолкования судьбы героев «незамеченного поколения»:
бесперспективное и обращенное к поискам истины.
Возможно, проживи Поплавский дольше, он сумел бы выйти
из этого двоемирия. Но даже то, что он сделал, позволило мэтру
русского зарубежья Д.Мережковскому, по воспоминаниям Г.Адамовича, сказать, «что если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного достаточно для ее оправдания на вся­
ких будущих судах».
300
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Поплавский\ Б. Стихотворения разных лет /П р ед и сл . и публ. О .М и х а й ­
лова //В о л га . - 1989. - № 7. - С. 71-80.
П ервая ж урн ал ьн ая п у б л и к ац и я (до этого п оэт В .Ц ы б и н о п у б л и к о ­
вал в «Л итературной Р оссии» 19 м ая 1989 г. со свои м п р ед и сл о ви ем
8 стихотворений П о п л ав с к о го ) н а родине.
Вош ли 15 сти х о тво р ен и й и з разны х сб о р н и к о в поэта, п о м ещ ен н ы х
в прои звольном п о р яд ке: «Бы л страш н ы й холод», «Е кти н ья» , « Р азм е­
тавш и сь ш ироко у м о р я...» , «Н ад сол н ечн ою м узы кой воды ...», «В час,
когда пи сать глаза устанут...», «В осхитительны й вечер бы л п о л о н у л ы ­
бо к и звуков...», « С у м еречн ы й м есяц , сум еречны й ден ь...» , «В каф е сту ­
чат ш ары над м о к р о й м остовою ...», «Н е говори м не о м олч ан ье с н е ­
га...», «Н ад бедностью зем л и расш итое узором ...», «В ски п ает в п о л д ен ь
м олоко небес...», «П реж де за сн еж н ой пургою ...», «С текло блести т о г ­
н ем ...», «Ж арко д ы ш и т степ н о й океан...», «Ж алость».
Поплавский Б. Дальняя скрипка /В ступ. ст. и публ. И .В асильева / / О к ­
тябрь. - 1989. - № 9. - С. 157-167.
Д ан о 9 лучш их и н аиболее известны х стихотворений п оэта вне за в и ­
сим ости от хронологии их н ап и сан и я или публикации: «Уход и з Ялты»,
«Я лю блю , когда к оченеет...», «Ж алость к Европе», «Ч ерная м адонна»,
«П оэзия», «Как холодно. М олчит душ а пустая...», «В осхитительны й ве­
чер был полон ул ы б ок и звуков...», «Ф лаги спускаю тся», «Рем брандт»,
«М орелла 1», «В час, когда писать глаза устанут...»
Поплавский Б. Стихи /П р е д и с л . И .В аси л ь ев а //М о с к в а . — 1990. —
№ 7. - С. 164-166.
О публикованы стихотворен и я «Рождество расцветает. Р ека н ав о д н я­
ет предместья...», «П ечаль зи м ы сж им ает сердце м не...», «Голубая душ а
луча...», «Не говори м не о м олчанье снега...», «С и н и й , си н и й рассвет
восходящ ий...»
Поплавский Б. Домой с небес: Романы /В ступ статья, состав., п р и м е ­
чания Л.Аллена. — С П б . — Д ю ссельдорф : Logos-Голубой всад н и к, 1993.
П ервое полное и зд ан и е дилогии на родине.
К ниге предш ествует б ольш ая статья Луи А ллена (Ф р ан ц и я) о ж и зн и
и творчестве пи сателя, им еется несколько ссы лок на и н о стр ан н ы е и с ­
точн и ки , даны текстол оги ческ и е обоснования публ и кац и и . Ряд н ето ч ­
ностей к ом м ентария указан в статье Ю .А .А рпиш кина и М .П .О д есско го
«И тем не м енее...» (Лит. обозрение. — 1994. — № 5/6. — С. 104-106).
Поплавский Б. Неизданное: Дневники. Статьи. Стихи. Письма. — М .:
Х ристианское и зд -в о , 1996.
К ром е п еречи сл ен н ого в подзаголовке, в книгу вош ли вари ан ты р о ­
м анов писателя, отзы вы русской эм и грац и и на см ерть П оп лавско го и др.
материалы.
Откровения Бориса Поплавского: Дневники. Стихи. Статьи по поводу.
/П убл. и примеч. А .Н .Б огосл овского //Н а ш е наследие. — 1996. — № 37.
Больш ая п одб орка м атериалов сопровож дается статьей А .Н .Б о го с­
ловского «П отерявш ийся меж ду небом и землей».
Поплавский Б. Стихотворения: Флаги. Снежный час. В венке из воска.
Дирижабль неизвестного направления. — Т омск: Водолей, 1997.
301
К н и га почти в точ н ости п овторяет и зд ан н о е в С Ш А Собр. соч. п о ­
эта в 3 т. /П о д ред. С .К а р л и н ск о го и А .О лкотта. (Berkeley, 1980-1981).
В клю чает в себя о сн ов н ы е к н и ги стихов Б .П оп л авско го : «Ф лаги» (П а ­
риж , 1931) с уточнениям и по первы м публикациям ; «Снеж ный час: Стихи
1931-1935 гг.» (П ариж , 1936), состоящ ие ф акти ч ески из двух книг: «С н еж ­
н ы й час» и «Н ад со л н ечн ою м узы кой воды»; «Д ириж абль н еи звестн о го
н ап р авл ен и я» (П а р и ж , 1965), со сто ящ и й и з р ан н и х стихов п о эта, п у б ­
л и ко в авш и х ся в этой кн и ге впервы е (за и ск л ю ч ен и ем н еско л ьки х с т и ­
х о творен и й).
Б ори с П оплавский в оценках и воспом инаниях соврем енников. —
С -П б . — Д ю ссельдорф : Logos-Голубой всад н и к, 1993.
В первой части сб орн и ка даны во с п о м и н а н и я о П оплавском , н а п и ­
сан н ы е Г.А дам овичем , Г.И вановы м , В .В арш авским , Г.Газдановы м , его
бли ж ай ш и м другом Н .Т атищ евы м и др.
О собую ц ен н о с т ь п р ед ставл яет вторая часть к н и ги , где со б р ан ы
п р ак ти ч ес к и все о сн о в н ы е р е ц е н зи и н а к н и г и п и сателя. С реди ав т о ­
р о в Н .Б ер д я ев , Г .И в ан о в , Д .С в я т о п о л к -М и р с к и й , В .Н аб о ко в, В .Х о да­
севи ч и др.
Газданов Г. О Поплавском //Д а л ь н и е берега: П ортреты писателей э м и ­
грации. — М.: Р еспублика, 1994. — С. 303-307.
Автор назы вает П оплавского русским сю рреалистом , дает хар ак те­
ри сти ку к н и ги «Ф лаги», прозы , назы вает А .Р ем бо и Г.А поллинера к ак
н аиболее близких П оплавском у поэтов.
Фельзен Ю . П оплавский / / Там же. — С. 294-297.
О дин и з близко знавш их П оплавского п и сателей , Ф ельзен утверж да­
ет, что от раздвоенности м ира («Аполлон Безобразов») П оп лавски й ш ел
к «осязательной братской любви» (очерк «Х ристос и его знаком ы е».
Татищев Н. Синяя тетрадь / / Т ам же. — С. 290-293.
Б л и ж ай ш и й друг и в д ал ьн ей ш ем д у ш е п р и к а зч и к П о п л авско го , Т а ­
ти щ ев п р и вод и т ряд зап ом н и вш и хся ему в ы ск азы в ан и й пи сателя во в р е­
м я совм естны х прогулок по П ариж у.
Татищев Н. П оэт в изгнании / / Н овы й ж урнал. — 1947. — № 15. —
С. 199-207.
Глубокий ан ал и з п о эзи и Б .П оплавского, сопровож даем ы й ссы лкам и
н а Д н е в н и к поэта и дарственны е над п и си на книгах. К ри ти к настаивает,
что п о эт ш ел к отказу от «иллю зии отверж ен н ости , от со м н ен и й в чел о ­
веке», к п р и зн ан и ю искусства как благодати, к Богу, в доказательство
чего п ри водится одна из последних зап и сей П оплавского: «Было врем я,
когда я видел себя на солнце. А потом совсем перестал видеть, а во всем
бы л один Ты».
Адамович Г. П оплавский / / А дамович Г. О диночество и свобода: Л и ­
терату р н о -кри ти чески е статьи. — С П б.: Logos, 1993. — С. 144-151.
П рослеж ивается связь творчества П оп л авского с п о эзи ей А. Б ло ка и
кн и гам и А .Белого. П риводится ряд вы держ ек и з Д н евн и ка писателя.
Варшавский В. Н езамеченное поколение. — Н ью -Й о р к: изд. им. Ч ех о ­
ва, 1956.
О п и сы ваю тся подробности сущ ествования писателя в П ариж е, дан а
общ ая характеристика его взглядов и творчества.
302
Яновский В. П о л я Елисейские: Книга пам яти. — С П б.: П у ш к и н ск и й
ф о н д , 1993. - С. 14-32.
В оспом инания о бы те м олоды х писателей. П ривод ятся ш утки П о п лавского, р ассказы вается о ряде его привы чек. В некоторы х о п и сан и ях
содерж атся н еточн ости , о сн ован н ы е на слухах.
Чагин А. О рф ей русского М онпарнаса (О поэзии Б ори са П оп лавского) / / Р осси й ски й л и тературов ед ческ ий ж урнал. — № 8 (1996) и № 9
(1997).
Глубокое и подроб н ое исследование пробл ем ати ки и п о эти к и стихов
Б.П оплавского.
ГАЙТО ГАЗДАНОВ
( 1903 - 1971)
ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ
Единственное описание внешности Гайто Газданова принад­
лежит его недоброжелателю Василию Яновскому: «Маленького
роста, со следами азиатской оспы на уродливом большом лице,
широкоплечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйво­
ла». Тем не менее и в этом искаженном портрете (достаточно
сравнить его с фотографиями писателя) отмечена сила человека,
прошедшего сквозь множество жизненных испытаний и не со­
гнувшегося (буйвол!), ставшего, по мнению многих критиков,
вровень с В.Набоковым. Не случайно творчество Газданова вы­
соко ценили столь полярные писатели, как И.Бунин и М.Горь­
кий.
Гайто (Георгий) Газданов родился в Петербурге. Его отец Баппи (Иван Сергеевич), осетин, окончил Лесной институт в Пе­
тербурге, когда сыну было три года, и тут же увез семью в Си­
бирь, затем работал лесником в Белоруссии, Тверской губернии,
на Украине. Кроме своей основной профессии, он интересовал­
ся философией. Умер Баппи Газданов в 1911 году, когда мальчи­
ку было восемь лет. Мать Вера Николаевна Абациева выросла в
Петербурге в семье своего дяди народника Магомета (Иосифа
Николаевича) Абациева, страстно увлекалась литературой и при­
вила любовь к ней сыну. Мальчик рано начал читать и от него
304
даже прятали книги. Летом Гайто ездил во Владикавказ к деду и
бабушке, в Кисловодск к дяде, но осетинским языком так и не
овладел. Самое большее, что он мог, по его собственному призна­
нию, отличить осетинскую речь от других языков.
Проведя год в кадетском корпусе и не закончив учебу в гим­
назии, Газданов летом 1919 года в пятнадцать с половиной лет
уехал на Кавказ воевать. Позднее его автобиографический герой
романа «Вечер у Клер» объяснит причины этого поступка: «Мысль
о том, проиграют или выиграют войну добровольцы меня не ин­
тересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же
стремлением к новому и неизвестному. Я поступил в белую ар­
мию потому, что находился на ее территории, потому, что так
было принято; и, если бы в те времена Кисловодск был занят
красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную ар­
мию». Впрочем, в романе содержится и другое, очень газдановское, объяснение присоединения к добровольцам: «Я все-таки
пойду воевать за белых, так как они побеждаемые».
Он служил на бронепоезде, видел множество смертей (тайна
смерти стала темой всего его творчества), а в ноябре 1920 года
вместе с армией Врангеля эмигрировал сначала в Константино­
поль, затем в Болгарию, где в 1923 году завершил среднее обра­
зование в русской гимназии города Шумен. В том же году уехал
в Париж.
Здесь он работал портовым грузчиком, мойщиком паровозов,
сверлильщиком на автомобильном заводе, преподавал русский язык
французам и французский русским. Испытал он и участь париж­
ского клошара (бездомного бродяги), когда зимой 1925-1926 го­
дов ночевал на станциях метро. В 1928 году он нашел постоянную
работу — таксиста.
В конце 20-х — начале 30-х годов «буйвол» Газданов учился в
Сорбонне, лучшем университете Франции, на филологическом
факультете и успешно закончил его.
Значительным событием в жизни Газданова стало вступление
по приглашению опекающего его М.Осоргина в масонские ложи
«Северная звезда» и «Северные братья». Этот поворот в жизни
писателя, его симпатии к масонству, проявляющиеся и в послед­
ние годы жизни, объяснимы в первую очередь культом поисков
нравственной истины, сознанием ее уникальности и права от­
дельной личности на истину собственную. Права, выразителем
которого в первом романе становится анархичный Виталий: «Ни­
когда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не
рассуждай и старайся быть как можно более простым. И помни,
что самое большое счастье на земле — это думать, что ты хоть
что-нибудь понял из окружающей тебя жизни».
305
Его первый рассказ «Гостиница грядущего», написанный в
Константинополе, был опубликован в 1926 году в пражском жур­
нале «Воля России». За ним последовали «Повесть о трех неуда­
чах», «Общество восьмерки пик», «Товарищ Брак» — все о граж­
данской войне. Уже в них видны присущие Газданову фрагмен­
тарность, сочетание лиричности с иронией, умение кратко и вы­
разительно рисовать человека.
В Париже Газданов нашел литературных единомышленников,
таких же, как он, молодых писателей, ищущих смысла бытия и
сомневающихся в возможности его найти, уходящих от традиций
дореволюционной литературы и объединившихся вокруг альма­
наха «Числа». Гайданов стал там своим человеком. Вошел он и в
литературное объединение молодых писателей «Кочевье», орга­
низованное критиком и литературоведом Марком Слонимом, ак­
тивно пропагандировавшим идею единой русской литературы,
советской и русского зарубежья. Газданов, в частности, делал до­
клады о Бунине, Розанове, Ремизове, Маяковском. В мае 1928
года на собрании «Кочевья» обсуждалась проза самого Гайданова.
Удавалось прорываться и в классические «Современные запис­
ки», печатавшие известных старых писателей.
А в декабре 1929 года вышел в свет роман «Вечер у Клер»,
сделавший Газданова знаменитым, но не изменивший его по­
ложения: писатель продолжал работать таксистом до 50-х годов (с
перерывом во время войны, когда таксисты в Париже были не
нужны).
В 1934 году «Современные записки» опубликовали второй ро­
ман Газданова «История одного путешествия» (отдельное изда­
ние — 1938), в 1939-м выходит роман «Полет», публикуются мно­
гочисленные рассказы.
В середине 30-х годов Газданов предпринимает попытку вер­
нуться на родину: там живет его мать, там, по его мнению, на­
стоящий читатель. Попытка окончилась неудачей: мать и сын
так никогда и не встретились.
В период оккупации Парижа Газдановы (писатель женился в
1936 году на происходившей из семьи одесских греков Фаине
Дмитриевне Ламзаки) жили в Париже. Они спасли несколько
еврейских семей (в том числе М.Слонима), участвовали в со­
зданном советскими пленными партизанском движении: Газда­
нов редактировал издававшийся Сопротивлением бюллетень, его
жена была связной. В изданной в 1946 году на французском язы­
ке книге «На французской земле» («Je m 'engage a defendre») Газ­
данов рассказал о борьбе русских партизан во Франции.
Вслед за И.Буниным Газданов вышел из парижского Союза
русских писателей и журналистов, когда там решили лишить
306
членства тех, кто, подобно А. Ремизову, вернул себе советское
гражданство. Но, как и близкий ему М.Осоргин, сам Газданов
не стал поклонником Советов, видя в них тоталитарный режим.
Иное дело, что он не хотел плохо говорить о России, о ее наро­
дах. Именно .такую позицию он занимал на «Радио Свобода»
(Мюнхен), с которым сотрудничал в 1953-1971 годах, и «Свобо­
да» (Париж), где он с 1959 по 1967 годы был корреспондентом, а
в 1967-1971-м возглавлял русскую службу на радио.
Один за другим выходят романы Газданова: «Призрак Алек­
сандра Вольфа» (1947-1948, переведен на французский, англий­
ский, итальянский, испанский), «Возвращение Будды» (1949-1950,
переведен на английский), отдельное законченное издание «Ноч­
ных дорог» (1952), «Пилигримы» (1953-1954), «Пробуждение»
(1965-1966), «Эвелина и ее друзья» (1969-1971). Всего им напи­
сано 37 рассказов, 9 романов, несколько десятков статей. Нако­
нец приходит достаток, но силы «буйвола» подорваны: началась
раковая болезнь. Посетивший Газдановых незадолго до смерти
писателя Л.Ржевский пишет: «Было что-то предельно скорбное
в очертаниях его фигуры».
Умер Газданов в Париже, похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, там же, где и многие другие русские писатели.
С 1988 года на родину стали возвращаться его книги.
Уже в первом романе Г.Газданова «Вечер у Клэр» со всей
яркостью проявился характерный для писателя интерес к не­
классическому типу романа.
«Вечер у Клэр» Газданова нарочито бесфабулен. Разрознен­
ные эпизоды сцепляются в единое целое по законам лирики —
чисто ассоциативно — через какую-либо деталь, слово, образ.
Много лет спустя в своем последнем романе «Эвелина и ее
друзья» Газданов специально подчеркнет сходство и отличие ком­
позиционных принципов этой и всех своих последующих книг и
классических романов: «Я убеждался в том, что классическое пос­
троение всякой литературной схемы чаще всего бывает произ­
вольным, начинается обычно с условного момента и представля­
ет собой нечто вроде нескольких параллельных движений, при­
водящих к той или иной развязке, заранее известной и обдуман­
ной ... Вместе с тем мне теперь казалось, что всякая последова­
тельность эпизодов или фактов в жизни одного человека или
нескольких людей имеет чаще всего какой-то определенный и
центральный момент, который далеко не всегда бывает располо­
жен в начале действия — ни во времени, ни в пространстве...
Этот центральный момент был самым главным, каким-то мгно­
венным соединением тех разрушительных сил, вне действия ко­
торых трудно себе представить человеческое существование».
307
Центром разнородных эпизодов, всплывающих в сознании
героя Николая Соседова (детство, отрочество, война, эмигра­
ция), становится вечер, проведенный им в Париже у почитае­
мой женщины — Клэр. Нетрудно заметить символичность вы­
бора писателем имени героини: клэр — французское «свет», и
именно светом, смыслом жизни становится для героя эта фран­
цуженка после того, как он покидает берега России.
Конфликт «Вечера у Клэр» строится на впервые возникаю­
щем мотиве, которому суждено впоследствии стать центральным
в прозе писателя — некоей «болезни», которая мучит наиболее
приближенных к автору героев. Так герой «Вечера у Клер» кон­
статирует: «Болезнь, создававшая мне неправдоподобное пребы­
вание между действительным и мнимым, заключалась в неуменьи
моем ощущать отличие усилий моего воображения от подлин­
ных, непосредственных чувств, вызванных случившимися со мной
событиями».
Роман обладает сюжетом скрытым: в конфликт вступают не­
подвижное восприятие действительности и память, две ипостаси
двоящегося сознания героя — непосредственно воспринимаю­
щая действительность и преобразующая ее в воображении и па­
мяти. «Я привык жить в прошедшей действительности, восста­
новленной моим воображением», — констатирует герой.
Из многочисленных жизненных явлений Николая Соседова,
как и некоторых других эпизодических персонажей романа Газданова, привлекает поиск смысла бытия. Большое место в его
жизни занимают размышления об одиночестве и смерти.
Так, уже в первом романе писателя появляется вопрос о смыс­
ле жизни, а в роман вторгается тема войны. Перед читателем про­
носятся десятки судеб, не более упорядоченных и целесообраз­
ных, чем судьба главного героя: «Было много невероятного в ис­
кусственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и
пулеметов: они двигались по полям южной России, ездили вер­
хом, мчались на поездах, гибли, раздавленные колесами отступа­
ющей артиллерии, умирали и шевелились, умирая, и тщетно пы­
тались наполнить большое пространство моря, воздуха и снега
каким-то своим, не божественным смыслом...»
Вступают в конфликт и два времени: время одного вечера и
всей жизни — конфликт в высшей степени характерный для про­
зы импрессионистов. Но ни одно из времен не способно побе­
дить — они взаимно отрицают друг друга.
Более того, внутреннее врёмя и внутренняя действительность
также не имеют в поэтическом мире первого романа Газданова вы­
сшей ценности. Мечта героя об обретении смысла жизни в овладе­
нии Клэр, осуществляясь в реальности, оказывается иллюзорной.
308
На французской земле, куда герой стремился все эти годы,
он вновь со всей остротой ощущает в себе конфликт реальной и
воображаемой действительности, подвижного, идеального обра­
за Клэр, рожденного в воображении и памяти, и статичного ее
образа, воспринимаемого непосредственно. Та, в которой герой
склонен видеть смысл прожитых лет, оказывается слишком ре­
альной, слишком доступной, слишком неперевоплощенной уси­
лиями памяти. Клэр, живущей в памяти героя, не пристало петь
фривольную французскую песенку, вести себя так, как она ве­
дет. Конфликт реального мира и воображаемого оказывается не­
разрешимым. Новый смысл — необретенным. Свиданье, пред­
сказанное нарочито наивным эпиграфом из хрестоматийного
письма Татьяны к Онегину («Вся жизнь моя была залогом Сви­
данья верного с тобой»), становится роковым, завершившимся
неслиянностью двух уготованных друг другу судеб, победой фа­
тальных сил. Человеческая жизнь с метаниями и страданиями
наполняется пустотой. Печаль (любимое слово автора и героя в
романе) вновь овладевает миром.
Ярким импрессионистичным образом-метафорой происшед­
шего выступает рассказ о снеге, издали до слез поразившем ге­
роя своей чистотой, но вблизи оказавшемся рыхлым и грязным
комом. Импрессионизм здесь граничит с аллегоризмом.
Цветовой и световой рисунок занимает весьма существенное
место в романе. Однако импрессионистический прием — будь
это «поток сознания» или характерная детализация меняющего­
ся мира — остается у Газданова только приемом: импрессио­
низм утверждает ценность явлений внешнего мира сквозь призму
впечатления, которое одно оказывается способным «остановить
мгновение», в то время как в прозе Газданова акцент целиком и
полностью переносится на мир внутренний.
Внутренний мир автора-героя и многочисленных калейдос­
копически чередующихся героев развернут в «Ночных дорогах».
Выбор в качестве основных персонажей преимущественно лю­
дей парижского «дна», не втянутых в жестко регламентирован­
ный мир «благополучных» граждан, позволяет писателю сосре­
доточиться на внутренних исканиях своих героев. Каждый из
них стоит между выбором привычного «буржуазного» пути и соб­
ственного, индивидуального. Выбравшие путь самопознания бли­
же автору, чем изменившие себе. Однако и ищущие не находят:
каждого из них посещает мысль об абсурдности бытия, о победе
смерти, об одиночестве. Люди, утверждает Газданов, «отделены
друг от друга непроходимыми расстояниями и, живя в одном
городе, говоря почти на одинаковых языках, так же далеки друг
от друга, как эскимос и австралиец».
309
Следующий шаг в развитии своей философии жизни делает
Газданов в романе «Призрак Александра Вольфа» (1947-1948).
Это один из романов писателя, ориентированный на детектив­
ный сюжет, даже несколько нарочитый.
Начало романа связано с гражданской войной, когда геройрассказчик стреляет в скачущего на него всадника и, как он счи­
тает, убивает этого человека. Всю дальнейшую жизнь в эмигра­
ции повествователь, ставший журналистом, с осуждением вспо­
минает об этом случае, видя в своем поступке проявление при­
сущей ему двойственности: наряду с высокой нравственностью
и потребностью духовной жизни — стремление к злу, вплоть до
убийства.
Однако через какое-то время он находит в книге некоего Во­
льфа написанный на английском языке рассказ «Случай в сте­
пи» о том же самом, но с точки зрения всадника, оказавшегося
не убитым, а лишь раненым. Вчерашние противники встречают­
ся и знакомятся.
Оба они живут прошлым. Оба связаны с Еленой Николаев­
ной: Вольф был ее возлюбленным и тираном и хочет вернуть эти
взаимоотношения, полностью покорив женщину себе; повество­
ватель помогает Елене Николаевне изжить душевный холод и в
этой дружбе видит надежду на преодоление прошлого и обрете­
ние новой полноценной жизни.
Критика не случайно сравнивала Газданова с Ф.Достоевским:
за криминальным сюжетом с его невероятными в реальности со­
впадениями кроется философский подтекст.
Приключенческая интрига с первых страниц романа ослож­
няется психологической подоплекой и экзистенциальной про­
блематикой. Всех трех основных героев «Призрака Александра
Вольфа» писатель вновь наделяет раздвоенным сознанием.
Повествователь и Александр Вольф на себе испытали в
гражданскую войну дыхание смерти, которая «дала осечку» (что­
бы еще больше подчеркнуть значимость этой фразы, Газданов
не только несколько раз повторяет ее, как он это делает со всеми
особо значимыми понятиями, определениями, характеристика­
ми, но и пишет по-французски «е11е ш’а rate») и усилила интерес
персонажей к смыслу земного бытия, заканчивающегося неиз­
бежным концом.
Оба они не могут войти в ритм нормальной жизни. Если в
характеристике повествователя варьируется определение «душев­
ная усталость», то применительно к Вольфу автор пользуется бо­
лее категоричным словом «призрак» (существо, находящееся уже
вне жизни). Вольф — «олицетворение всего мертвого и печально­
го». Не случайно писатель наделяет его «ровным невыразитель­
310
ным голосом», «неподвижным взглядом» и даже «неподвижными
глазами». О Елене Николаевне говорится, что «в ней был несо­
мненный разлад между тем, как существовало ее тело, и тем, как,
вслед за этим упругим существованием, медленно и отставая шла
ее душевная жизнь».
Однако на этом сходство трех главных персонажей заканчи­
вается. Повествователь не только сам стремится обрести душев­
ную гармонию, но и помогает другим сделать то же. Газданов
подчеркивает, что все женщины, которых встречал герой, после
знакомства с ним перестают злобиться на жизнь, становятся едва
ли не идеальными. Не составляет исключения и Елена Никола­
евна. Рассказчику удается растопить ее «душевный холод». При
этом он сам как бы начинает новую жизнь.
В событиях жизни героя все зримее начинает присутствовать
наряду с признанием фатальности и понимание какого-то вы­
сшего смысла: божественного. Работа больше не воспринимает­
ся им как нечто трагическим образом не соответствующее его
месту в мире. Ненавистная профессия репортера становится по­
водом к знакомству с Еленой Николаевной. Трагичность обора­
чивается целесообразностью. Любовь к Елене Николаевне, воз­
можно кратковременная и непрочная, вдохновляет его на при­
нятие своей судьбы. Страх перед конечным ответом на вопрос о
смысле человеческой жизни заменяется решением (пока лишь
частично осуществленным) отбросить мысль о страшном мире и
смерти и найти единственно верную систему координат, которая
позволяет примирить действительность и воображение: «Но я
жил теперь наконец настоящей жизнью, которая не состояла
наполовину ... из воспоминаний, сожалений, предчувствий и
смутного ожидания». Подлинное человеческое существование
обретается в связи с другим существованием, что, если не сни­
мает трагедию смерти, то хотя бы смягчает ее.
Иной путь выбирает Александр Вольф. Вольф выстраивает
губительную философию «спокойного отчаяния», видя в мироз­
дании исключительно роковую фатальность. Если для повество­
вателя смерть любого человека «мгновенный перерыв в истории
мира», то Вольф «равнодушен ко всему на свете». Он отрицает
ценность человеческой жизни, как своей, так и чужой. «Его фи­
лософия, — пишет Газданов, — отличалась отсутствием иллю­
зий: личная участь неважна, мы всегда носим с собой нашу смерть,
то есть прекращение привычного ритма, чаще всего мгновенное;
каждый день рождаются десятки иных миров и умирают десятки
других, и мы проходим через эти незримые космические катас­
трофы, ошибочно полагая, что тот небольшой кусочек простран­
ства, который мы видим, есть какое-то воспроизведение мира
311
вообще.» Даже в таком прекрасном чувстве, как любовь, Вольф
видит лишь «наивную иллюзию короткого бессмертия» и «мед­
ленную работу смерти».
Это не мешает Вольфу, подобна лермонтовскому Печори­
ну и героям Достоевского, стремиться встать над фатумом, беря
на себя функции рока, не останавливаясь для этого ни перед
чем, в том числе перед убийством, разрушая чужие судьбы и
даже приближая собственный конец. «В нескольких секундах пре­
кращения человеческой жизни (т.е. в убийстве — В.А.) заключа­
лась идея невероятного, почти нечеловеческого могущества» —
вот тезис, исповедуемый Вольфом. Это тоже путь к индивиду­
альному самоутверждению, но путь ложный и для Газданова не­
приемлемый.
В финале романа герой-рассказчик в момент попытки Вольфа
убить Елену убивает его самого и вместе с этим поступком избав­
ляется от «ужаса жизни и смерти», от страха времени, которым
измеряется для него даже расстояние: «Я сделал шаг вперед, на­
клонился над ним (убитым Вольфом — В.А.), и вдруг мне показа­
лось, что время заклубилось и исчезло, унося в этом непостижи­
мо стремительном движении долгие годы моей жизни».
Композиция романа, нарочито несоответствующая его фабу­
ле, наполненная случайными элементами, все более подчиняется
не детективной фабуле, а философским поискам, размышлениям
о смысле жизни и о смерти.
Следствие, ведущееся повествователем, это не расследование
того, как смог выжить после рокового выстрела Александр Вольф,
это поиски собственной приемлемой философии жизни и смерти.
Особая роль в этих поисках принадлежит «лишним» для де­
тективного, но совершенно необходимым для философского сю­
жета статьям, некрологам, обзорам уголовных хроник, судьбам
эпизодических персонажей, как бы случайно излагаемых в ро­
мане во всех подробностях.
Каждый из этих микросюжетов, включая и персидскую ле­
генду о садовнике и смерти, либо уточняет философские пози­
ции главных героев, либо служит вариантом практического ре­
шения философского спора рассказчика и Вольфа о смысле жиз­
ни, о взаимоотношениях человека со смертью.
«Возвращение Будды» — роман, создаваемый в те же годы,
что и «Призрак Александра Вольфа», становится переломным в
эволюции писателя.
В романе два героя, повторяющих до определенной поры судь­
бу друг друга.
Павел Александрович Щербаков, бродяга, побирушка, на
эмигрантском жаргоне «стрелок», неожиданно становится обла­
312
дателем огромного богатства и погружается, как он сам замеча­
ет, в «иллюзорные утешения»: обустраивает с комфортом свою
квартиру, заводит любовницу Лиду, скрывающую от него и свою
мать сифилитичку Зину, и своего подлинного любовника банди­
та Амара. Однако ни богатство, ни женщина не смогли подавить
в герое «спокойную усталость». Все чаще его посещает желание
раствориться и исчезнуть, как это заповедано буддийским уче­
нием. Он оказался неспособен на поиски самого себя, на выход
из «душевной агонии». Криминальная троица замышляет и осу­
ществляет убийство Щербакова, надеясь, что в своем завещании
он все оставил Лиде.
Однако они обманулись. Владельцем наследства оказывается
рассказчик, который, правда, попадает в тюрьму по подозрению
в убийстве. Подобно персонажам из «Братьев Карамазовых» (опять
Ф.Достоевский!), он готов признать себя морально виновным в
убийстве, так как размышлял о возможной смерти старика. Но
найденная статуэтка Будды помогает полиции найти истинного
виновника. Амар отправляется на гильотину, а рассказчик не
повторяет пути Щербакова и обретает свое «Я» через истинную
любовь к Катрин.
С самого начала романа автор нарушает классический детек­
тивный сюжет неестественно удлиненной для детектива экспо­
зицией. В ней писатель как бы играет всем арсеналом популяр­
ных в литературе направлений: здесь и антиутопия с воображае­
мым попаданием героя на территорию Центрального Государст­
ва, где человеку не положено иметь ничего личного, индивиду­
ального (постоянная тема писателя); и медитативная лирика в
духе религиозно-пантеистических видений, и уже знакомый «по­
ток сознания» импрессионистов. Все эти приемы призваны фи­
лософски расширить роль героя студента историко-филологи­
ческого факультета, сделать его типичным для прозы Газданова
персонажем, наделенным все той же «болезнью» неразличения
двух миров — реального и воображаемого. Уродливый и неста­
бильный мир, в котором герой по несколько раз на дню выносит
себе приговоры и умирает, оказывается порождением его твор­
ческой фантазии. Плачевным итогом пребывания героя в этом
мире становится утрата им границ собственного «Я» и обострен­
ное чувство своей гибели, постоянного растворения, распада в
этом мире. Таким образом, жизнь героя-рассказчика превраща­
ется в сплошное мучение.
Детективный сюжет получает философское обрамление. Имя
Будды, вынесенное в заголовок, перестает связываться только со
статуэткой-уликой. Оно обозначает и философские вехи на пути
героя к себе. Герой проходит круг рождений (сансара), он одер­
313
жим идеями перевоплощений (дхарма). И, что самое главное, не
без влияния Павла Александровича он начинает думать, что
смерть вовсе не катастрофа, «не ужас, от которого стынет кровь»,
как это ему всегда представлялось, а «безмолвное великолепие
бесконечности». Повествователь находит «странно притягатель­
ным» «желание своего собственного исчезновения». Мучительно
осознавая раздробленность своего сознания и перенося его на
макрокосм, герой тем самым делает внешний мир враждебным
для себя и настолько изменчивым, что невозможным становится
сам разговор о смысле жизни, ибо не существует единой жизни,
как не существует и единой личности.
Писатель декларативно обнажает импульсы своего творчества,
характеризуя сознание героя. То, что остается «за кадром» у И.Бу­
нина и М.Пруста — мысль, претворенная в образы и ощущения, —
становится у Газданова ядром сюжета. Идеи материализуются и
обытовляются. Так бытовым воплощением идеи дхармы стано­
вится превращение нищего бродяги в богача. Но это лишь пер­
вый случай воздействия воображаемого мира на события действи­
тельной жизни — отныне герой постоянно предваряет в мыслях
как сюжет романа, так и сюжет собственной жизни. События на
территории Центрального Государства повторяются наяву в каби­
нете следователя, а мысль о возможной смерти Щербакова при­
водит к тому, что старика действительно убивают.
Герой «Возвращения Будды» мог бы занять место в ряду не­
мотивированно осужденных героев Ф.Кафки и А.Камю, однако
вовсе не абстрактная вселенская вина становится условным по­
водом его ареста.
В центре романа оказывается проблема моральной ответствен­
ности человека за свои поступки, и даже помыслы, в нестабиль­
ном, меняющемся мире. Может ли человек, не сохранивший со­
бственной личности, быть за что-то морально ответственным?
Изначально герой дает отрицательный ответ на этот вопрос: «Я
не мог быть целиком ответственен за свои поступки, не мог быть
убежден в реальности происходившего, мне нередко было труд­
но определить, где кончается действительность и где начинается
бред». Но затем герой начинает понимать, что его уход в выду­
манные миры не освобождает его от ответственности за проис­
ходящее. Ведь и его обытовленный двойник Амар, совершив­
ший убийство, тем самым тоже уходил от действительности, же­
лая сменить материальное положение, приобрести автомобиль,
что не освободило его от суда. Так замысел уравнивается с убий­
ством, отказ от моральной ответственности приравнивается к
нарушению морали, а мир, зиждущийся лишь на случайном сте­
чении обстоятельств, этим же случайным стечением — симво­
314
лом которого становится в романе золотая статуэтка Будды —
вызволяет героя из тюрьмы, а затем и из плена иллюзий.
Буддийская философия внутренней сосредоточенности и рав­
нодушия к миру преодолевается повествователем. Еще в тюрьме
герой приходит к выводу, «что, говоря с Павлом Александрови­
чем о том, что и я мог бы при известных обстоятельствах стать
буддистом, я был далек от истины, в частности, потому, что моя
судьба в этой жизни слишком живо все-таки интересовала меня».
Именно в тюрьме, в критический для него момент, когда он был
на волосок от гильотины, вновь вспыхивает любовь героя к давно
утраченной им Катрин.
И хотя после освобождения «прежние размышления с новой
силой вернулись» к рассказчику вместе с «упорными ... бесплод­
ными поисками какого-то прозрачного и гармоничного оправ­
дания жизни», вместе с «тяжелой и бессмысленной печалью»,
герою удается в финале «усилием собственной воли» преодолеть
притяжение Будды, выйти из «оцепенения» (слово, как нельзя
лучше передающее предыдущее соотношение рассказчика с
жизнью) и вернуться в реальный мир, связанный, как и в пре­
дыдущем романе, с любовью.
Осознание ответственности и обретение собственной личнос­
ти в преодолении страха перед миром — лишь к такому итогу
приводит Газданов своего героя, отправляя его в последних стро­
ках романа на встречу с любимой.
Что же касается проблемы взаимоотношения жизни и смерти,
то тут писатель более осторожен. Лишь конечная точка бытия —
смерть — позволяет искать в человеческой жизни какой бы то ни
было смысл, ибо сам человек не властен усмотреть цель в собы­
тиях своей жизни именно потому, что не знает часа конца свое­
го, часа, который смешает все акценты, обессмысливает декла­
рируемые героями догмы и беспочвенные стремления. Напро­
тив, этот час зачастую придает высший смысл тем событиям,
которым герой не придает значения при жизни, считая их тяго­
тами, балластом бытия.
Это не означает однако, что Газданов полностью отрицает
возможность познания истины и наличие смысла бытия, пусть
не сразу познаваемого человеком. Любопытно в этом отноше­
ний сравнить финал «Возвращения Будды» и последние строки
«Вечера у Клэр».
Оба романа кончаются одинаково: герой плывет к утрачен­
ной и случайным образом возвращенной любимой свободным от
иллюзий и страха перед враждебным миром, перед временем.
Возвращается только со стремлением избавиться от «сумасшест­
вия» и сохранить себя. Но «Вечер у Клэр» начинается со сцены
315
нового разочарования, следующей хронологически уже после
финала. Да и сам финал отнюдь не обнадеживает: «прекрасный
сон о Клэр» соседствует в нем с исчезнувшими звездами, небом,
заволакиваемом облаками, сумраками и пропастью. Такой за­
мкнутой кольцевой композиции нет в «Возвращении Будды». На­
против, финал этого романа открыт, надежда не погашена. Зна­
комый горький мотив бессмысленности жизненного пути звучит
удивительно легко, ибо в прошлом герой оставляет губительный
мир своих фантазий: «В числе множества одинаково произволь­
ных предположений о том, что значило для меня путешествие и
возвращение Будды и каков был подлинный смысл моей личной
судьбы в эти последние годы моей жизни, следовало, может быть,
допустить и то, что это было томительное ожидание этого дале­
кого морского парохода, — ожидание, значение которого я не
умел понять до последней минуты».
На фоне уже рассмотренных нетрадиционных романов особо
выделяется «Пробуждение» — классический роман воспитания.
В основе его оказывается архетипический сюжет: герой-Пигмалион пытается возвратить к жизни свою Галатею, конторский
служащий Пьер шаг за шагом учит заново жить контуженную во
время бомбардировки Анну-Мари. В «Пробуждении» отчетливо
ощущается движение Газданова от модернистских стилистичес­
ких эффектов к подчеркнуто реалистической манере с присут­
ствием некоторого натурализма в описании животного образа
жизни Мари. «Пробуждение» с нарочито дидактичным эпигра­
фом из Вильгельма Оранского: «Нет нужды надеяться достиг­
нуть цели, добиться успеха, если не приложишь сил и настойчи­
вости», — превращается, на первый взгляд, в своеобразный гимн
человеческому терпению, благим силам и помыслам.
В то же время все оказывается не столь просто в этом самом
незамысловатом из романов Газданова. Казалось бы, ничто не
напоминает в ведущем размеренную жизнь французском бухгал­
тере Пьере мятущихся героев «русских романов» писателя. О та­
ких, как Пьер, отец Анны-Мари презрительно говорил «статис­
тика», журналисты называли их «средними французами», а снобпсихолог видит в Пьере раздвоенную обезличенность. Однако
Газданов, уже в «Возвращении Будды» много и напряженно раз­
мышлявший о соотношении государства и личности, о нивели­
ровании индивидуальности в XX веке, показывает «маленького
человека» обладающим «огромным запасом душевной силы», «ду­
шевной энергии», до поры до времени остающихся нереализо­
ванными. Как и в предыдущих книгах писателя, осуществляя
повседневные обязанности, герой все более осознает, что не пос­
тиг смысла собственной жизни, своего предназначения. Не ра­
316
циональное, а чувственное может, по Газданову, помочь обрести
себя. В изменении собственного положения он сам играет такую
же роль, как и вмешавшийся в его жизнь случай — встреча с
Мари.
В финале герой оказывается почти на той же грани, что и
герои предыдущих романов. Даже временный уход Мари делает
его вновь незащищенным. Пьер осознает, что только в воскре­
шении этой женщины и ’любви к ней виделся ему смысл жизни
как таковой. Если Мари не вернется, жизнь Пьера потеряет смысл.
Но она возвращается. И это существенно отличает «Пробужде­
ние» от ранних романов писателя.
Мари также является во многом традиционной героиней ро­
манов Газданова. Это раздвоенная личность, мироощущение ко­
торой не перестает быть трагичным оттого, что это раздвоение
получает жесткую реалистическую мотивировку. Но и ее чувство
делает иной.
В «Пробуждении» в корне изменяется авторское отношение
к творческому акту. Будучи недосягаемым для героя «Призрака
Александра Вольфа», творчество впоследствии становится источ­
ником болезненного состояния в «Возвращении Будды». Здесь,
вспоминая высохшую руку Микеланджело, Газданов склонен
поставить и творчество в общий ряд иллюзорных систем, кото­
рыми человек насыщает «чистое пространство» бытия. Но став­
шая сюжетом «Пробуждения» попытка человека спасти другого
человека, воскресить его к жизни без рефлексии над смыслом
этой жизни удается. И единственным смыслом жизни, средст­
вом противостояния смерти становится творческий акт.
В этом отношении весьма характерной является рецензия Газ­
данова на «Снежный час» Бориса Поплавского, ибо в ней писа­
тель доводит мысль о творчестве как единственной силе, спо­
собной противостоять небытию, до уровня аксиомы: «Вряд ли
можно было бы сказать, что Поплавскому изменил его огром­
ный поэтический дар; но нельзя отделаться от убеждения, что
он внутренне и неизлечимо перестал его ценить и придавать ему
то значение, которое придавал прежде. Приблизительно так: если
ничто на свете не важно, то и это так же не важно, как все
остальное... И читая его книгу, не перестаешь испытывать чув­
ство бессильного сожаления и невозможности — теперь что бы
то ни было противопоставить неизбежности этого медленного
холодения его поэзии, так жутко похожего на холодение умира­
ющего тела».
Холодеющей поэзии и умиранию Г.Газданов в своих поздних
произведениях противопоставил творческий акт, теплоту друж­
бы и любви.
317
Итогом литературной эволюции Газданова становится роман
«Эвелина и ее друзья», наиболее концентрированно воплотив­
ший своеобразие проблематики и поэтики писателя.
Два параллельно разворачивающихся детективных сюжета (ис­
тория мадам Сильвестр-Дэвид сон и расследование убийства Жор­
жа) служат лишь поводом для постановки излюбленных писате­
лем философских проблем: человек перед лицом страшного мира
и смерти; пути преодоления смерти и обретения своей индиви­
дуальности; истина и справедливость, правосудие и право на Суд.
Это в свою очередь приводит к типичному для Газданова оби­
лию многочисленных отступлений и наличию весьма разветвлен­
ной образной системы. Последнее отразилось уже в названии.
Система персонажей в романе пестра и как бы собрана из
уже знакомых архетипов. Повествователь в романе вновь на­
делен писательским даром и вновь страдает от «пагубной склон­
ности к мрачным размышлениям и обобщениям» (в том числе о
смерти), от «бесплодного созерцания», от необходимости, бес­
конечно погружаясь в мир своих персонажей, терять собствен­
ную индивидуальность.
Антиподами героя становятся его лучший друг Мервиль, на­
против ищущий спасения в воображаемом мире и постоянно ока­
зывающийся в неминуемых «ножницах» между очередной «иде­
ализированной», придуманной им женщиной и реальной проте­
же, и Эвелина, чьи бурные эмоциональные движения до поры
до времени эгоистичны. Присутствует в системе персонажей и
неуверенный в себе вечно неустроенный Артур, и слегка комич­
ный после внезапного обретения наследства Андрей.
Особенно сложна, но также не выпадает из характерологии
газдановских персонажей фигура Маргариты Сильвестр (она же
Луиза Дэвидсон). Суровый мир сделал ее взгляд холодным, пос­
тупки — жестокими, отношение к окружающим — враждебно­
недоверчивым.
Все герои романа, стремясь обрести смысл жизни, избавить­
ся от ужаса небытия и тем самым преодолеть смерть, на протя­
жении романа, как это подчеркивает Газданов, не раз «теряли и
вновь находили себя».
«Эвелина и ее друзья» самый полифоничный ромаВ писате­
ля. Автор не отвергает ни один из путей, по которому идут его
герои. Приемлемым становится любое осмысление смысла бы­
тия, кроме суда и покушения на бытие свое и другого, и даже
«...идея отрицательного счастья — устранение бедствия — за­
ключает в себе такое богатство содержания...»
Вместе с тем, как и в предыдущих своих романах, Газданов
выступает активным противником позитивизма, рационализма,
318
отдавая предпочтение душевному порыву. Не случайно слова с
корнем «душа» — едва ли не наиболее часто употребляемые в
романе.
В «Эвелине и ее друзьях», как ни в одном другом произведе­
нии Газданова, звучит тема христианства. Вложив в уста одного
из героев слова о том, что Бог забыл созданный им мир, допус­
тив в нем столько зла (одна из излюбленных мыслей Б.Поплавского), Газданов тут же вступает в полемику с этим утверждени­
ем, говоря, что «слабым человеческим разумом мы не можем
постигнуть Его божественной мудрости» и что зло и дьявол нуж­
ны для свободного волеизъявления человека в его выборе между
добром и злом. Всем ходом развития сюжета и многочисленны­
ми цитатами из Библии и христианских авторов, писатель дока­
зывает возможность содружества людей, объединенных христиан­
ской любовью и всепрощением, противостоять злу и обрести смысл
бытия. Даже у мадам Сильвестр-Лу, испытавшей на себе благо­
родство христианской этики Мервиля, к концу романа «от пре­
жней холодности не осталось следа», исчез «неподвижный взгляд».
К ней вернулась способность искренне смеяться.
И если первый вывод, который делает для себя чрезвычайно
близкий автору главный герой, о жизни, то второй — о смерти:
смерть обессмысливает жизнь, прекращая ее внезапно, и она же
единственное, что выводит отдельную человеческую личность за
жесткие рамки пространства и времени, единственное, что при­
общает к вечности.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Газданов Г. Вечер у Клэр: Романы и рассказы /С о с т ., вступ. статья,
ком м ент. С т.Н и к о н ен к о . — М.: С оврем ен н и к , 1990.
П ервое и зд ан и е н а р оди н е п роизведений писателя: р о м ан о в «Вечер у
Клэр», «И стория одного путеш ествия» и «Н очны е дороги»; р асск азо в
«Товарищ Брак», «Судьба С алом еи», «П анихида», «Н и щ и й », « П и сьм а
И ванова» и др.
Вступительная статья «Гайто Газданов возвращ ается н а родину» з н а ­
ком и т с б и ограф ией п и сателя, показы вает нетрад и ц и о н н о сть его р о м а ­
н истики. О собое в н и м ан и е уделяется переп и ске с М .Г орьки м . И м ею тся
ссы лки на зарубеж ны е и сточники.
Газданов Г. Призрак Александра Вольфа /С о с т ., вступ. статья, подгот.
текста С т.Н и к о н ен к о . — М.: Худож. лит., 1990.
Кроме ром ана, вы несенного в заголовок, вош ли «Вечер у К лэр», «В оз­
вращ ение Будды», «П робуж дение», «Эвелина и ее друзья».
Диенеш Л. Гайто Газданов: Жизнь и творчество. — В ладикавказ, 1995.
П еревод и зд ан н ой в М ю нхене в 1982 г. к н и ги венгерского л и тератур о веда-эм и гранта L. D ienes. Russian Literature in Exile: T he Life and W ork
o f G ajto Cazdanov.
319
Н аи б о л ьш и й ин терес пред ставл яю т вторая и третья части. Во вто ­
рой дан п о дроб н ы й ан ал и з всех п р о и звед ен и й п исателя. П ри этом р о ­
м ан ы « П и лигрим », «П робуж дение», «Э велина и ее друзья» и п о зд н и е
рассказы характеризую тся как « эк зи сте н ц и ал ь н ы й гум анизм ». Т ретья
часть « Т ем атика и эстетика» п о св ящ ен а р ассм о тр ен и ю о сн о вн ы х м о ти ­
вов творчества писателя: м отиву п утеш ествия, д в и ж ен и ю душ и к ак м у­
зы ки и к а к п ерерож д ен и я (м етам о р ф о зы ), п ри о р и тету эм о ц и о н а л ьн о го
и п о гр у ж ен и ю в глубины пси хи ки . О соб ая глава п о св ящ ен а газд ан овской к о н ц е п ц и и н евозм ож ности р ац и о н ал ьн о го п о зн а н и я. Закл ю ч и тел ь­
н ая глава рассм атри вает проблем у повествовател я, сп особы со зд ан и я
х арактеров в прозе п исателя, роли вооб раж ен и я в творческом п роц ессе.
К н и га содерж ит подробную б и б л и о гр аф и ю с у к азан и ем всех р о м а ­
н ов, р асск азо в, эссе и кри ти ческ и х вы ступ л ен и й п и сателя к ак на р ус­
ском я зы к е , так и в переводах. У казан ы 162 к р и ти ч еск и е или л и тер ату ­
роведч ески е работы о Г.Газданове.
Тотров Р . М еж ду нищетой и солнцем //Г а зд а н о в Г. Вечер у К лэр. —
В ладикавказ, 1990. — С. 513-542.
Глубокое и сследование ф и л о со ф ск и х и эстети ч ески х п о зи ц и й п и ­
сателя в со п о ставл ен и и с ф и л о со ф и ей Н и ц ш е, Х айдеггера, К ам ю , С а р ­
тра, с буддистским учением . А втор не огр ан и ч и вается ан ал и зо м о п у б ­
л и к о в ан н ы х р ом ан ов, н о вклю чает в разговор р асск аз «В одяная тю р ь­
ма», по его м н ен и ю , п р и н ц и п и ал ь н о важ н ы й д л я всего творчества п и ­
сателя и р яд других п рои зведен и й .
Х адарцева А . К вопросу о судьбе литературного наследия Гайто Газданова //Т а м же. — С. 98-106.
А втор статьи состояла в переп и ске с писателем , что позволи ло ей
уточнить р яд биограф ических сведений. Н аи б ол ьш и й и нтерес п редстав­
л яет п о л н ая п ереп и ск а М .Горького с Г.Газдановы м .
т
В.В.НАБОКОВ
( 1899 - 1977)
«НИЧЬЯ МЕЖСМЫСЛОМ
и смычком...»*
«Высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худо­
бы, с особенным разрезом глаз несколько навыкате, высоким
лбом, еще увеличившимся от той ранней, хорошей лысины, о
которой говорят, что Бог ума прибавляет, и с не остро-сухим
наблюдательным взглядом, как у Бунина, но внимательным,
любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой. В
те времена казалось, что весь мир, все люди, все улицы, дома,
все облака интересуют его до чрезвычайности. Он смотрел на
встречных и на встреченное со смакованьем гурмана перед вкус­
ным блюдом и питался не самим собой, но окружающим...
Того, что называлось — не в ироническом смысле — барст­
вом, на мой взгляд, в Набокове не было, как не было ничего и
помещичьего или, скажем, московского, то есть старорусской
простоты. Он был очень ярко обозначенной столичной, петер­
бургской «штучкой»... Была у него врожденная элегантность, на
которую сама бедность отпечатка не накладывает».
В приведенном фрагменте воспоминаний Зинаиды Шаховс­
кой дан беглый портрет Набокова начала 30-х годов, когда его
блестящая писательская карьера только начиналась и когда вряд
* Глава н ап и с ан а кан д .ф и л о л . наук А .В .Л еденевы м
11—1662
321
ли кто-либо мог предвидеть, насколько необычным для судеб
русской литературной эмиграции будет его путь. Эта необыч­
ность, впрочем, ретроспективно учитывается мемуаристкой: ее
зарисовка с самого начала выстраивается не столько на прямых
характеристиках, сколько на противопоставлениях.
В литературе русской эмиграции Набоков занимает особое
место по ряду причин. Во-первых, его писательская биогра­
фия, начавшаяся на исходе Серебряного века русской поэзии,
охватывает почти все хронологические этапы русского зару­
бежья вплоть до 70-х годов. В этом отношении именно набо­
ковское творчество обеспечивает преемственность современ­
ной русской литературы по отношению к литературе начала
XX века.
Во-вторых, творчество Набокова причастно истории сразу двух
национальных литератур — русской и американской; причем и
русскоязычные, и англоязычные произведения писателя — вы­
дающиеся художественные явления, подлинные литературные
шедевры. Хотя путь писателя к мировой славе не был усеян ро­
зами, в целом его литературная карьера выглядит необыкновен­
но счастливой по сравнению с участью большинства русских
писателей эмиграции.
В-третьих, Набоков больше, чем кто-либо из его современ­
ников, сделал для знакомства западной читательской аудитории
с вершинами русской литературной классики. Именно он понастоящему «открыл» для Запада русских классиков первой по­
ловины XIX века, особенно творчество А. Пушкина.
Владимир Владимирович Набоков родился 22 (10 по ст. сти­
лю) апреля 1899 года в Петербурге. Семья Набоковых принадле­
жала к кругу столичной аристократии. Его дед был министром
юстиции в 1878 — 1885 годы, а отец, отказавшийся от блестящей
государственной карьеры, преподавал в начале века уголовное
право в Императорском училище правоведения, а позднее стал
одним из лидеров партии кадетов.
Домашнее начальное образование, полученное Набоковым,
было исключительно разносторонним. Во-первых, велось оно на
трех языках (английском, французском, русском). Во-вторых,
непривычно большое для русских интеллигентных семей внима­
ние обращалось на спортивные дисциплины — теннис, велоси­
пед, бокс, шахматы (боксировать и заниматься теннисом Набо­
ков продолжит в студенческие годы, а составление шахматных
322
задач станет для писателя одним из любимых занятий). В-треть­
их, поощрялись естественно-научные штудии, и мальчик всерь­
ез увлекся энтомологией, используя малейшую возможность для
охоты за бабочками или для работы с английскими энтомологи­
ческими журналами. Если добавить к сказанному, что уроки ри­
сования давал юному Набокову художник МДобужинский, что
стены набоковского петербургского дома украшали творения
других мастеров «Мира искусства» — Л.Бакста, А.Бенуа, К.Сомова, и, наконец, что частыми гостями этого дома бывали заме­
чательные музыканты начала века, — то представить лучшую для
развития его таланта среду, пожалуй, невозможно.
В 1911 — 1917 годы Набоков учился в Тенишевском училище.
Учителем литературы в набоковском классе был поэт-символист
Вл.Гиппиус, подвергший беспощадной критике первый поэти­
ческий сборник Набокова, изданный молодым стихотворцем за
свой счет в 1916 году (позднее сам писатель относился к своей
первой книге стихов не менее сурово). Уже в это время в харак­
тере Набокова проявляется завидная уверенность в себе — пси­
хологическая черта, которая в будущем послужит Залогом его
непоколебимой сосредоточенности на творчестве даже в небла­
гоприятных жизненных условиях. Под стать этой уверенности —
стиль поведения: корректная сдержанность и чувство дистанции
в отношениях с окружающими, нелюбовь к демонстративным
проявлениям эмоций, стремление оградить свою частную жизнь
от вмешательства других — все то, что могло истолковываться со
стороны как снобизм или даже эгоизм.
Огромную роль в его будущем творчестве сыграет накоп­
ленный в детские и юношеские годы запас впечатлений, свя­
занных с петербургским семейным бытом и в особенности — с
летними сезонами, которые семья Набоковых проводила в за­
городных поместьях. Выра, Батово, Рождествено навсегда оста­
нутся в цепкой памяти художника земным раем, его Россией (о
своем детстве писатель напишет позднее великолепную книгу
«Другие берега»).
Вскоре после октябрьского переворота 1917 года семья Набо­
ковых перебралась в Крым, а весной 1919 года окончательно
покинула Россию. Родители и младшие сестры и братья Набоко­
ва временно устраиваются в Берлине, а он сам в 1919 — 1922
годы изучает французскую и русскую литературу в Кембридже.
Драматический поворот судьбы дает мощный импульс лиричес­
кому творчеству Набокова: он никогда не писал так много сти­
хов, как в эти первые годы вынужденной эмиграции. Собранные
в двух поэтических сборниках 1923 года («Гроздь» и «Горний
путь»), эти стихи отражают широкий спектр литературных вли­
и
*
323
яний. Наиболее отчетливо в них проявляется ориентация на
творческие принципы таких несхожих поэтов, как А. Блок и
И.Бунин.
Для будущей литературной судьбы писателя очень важна была
его рано начавшаяся переводческая работа.
В марте 1922 года в Берлине правыми экстремистами был
убит отец писателя. Смерть отца потрясла Набокова и определи­
ла его судьбу: отныне он мог рассчитывать только на свои соб­
ственные силы.
Набоков становится профессиональным писателем. Пятнад­
цатилетний берлинский период его творчества (1922 — 1937) —
время стремительного роста литературного мастерства. За это
время под псевдонимом Владимир Сирин в эмигрантской пери­
одике появляется большое количество рассказов, стихотворных
произведений, пьес, переводов, критических статей и рецензий
(лучшие из произведений были включены писателем в сборники
«Возвращение Чорба» и «Соглядатай» , а также в сборник «Весна
в Фиальте», опубликованный позже в США). Подлинную славу
и репутацию лучшего молодого писателя русского зарубежья при­
несли Набокову его русские романы «Машенька» (1926), «Защи­
та Лужина» (1929), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь»
(1936), «Дар» (1938).
Берлинский период жизни и творчества писателя завершился
в 1937 году, когда, спасаясь от фашистского политического ре­
жима, его семья перебралась в Париж. Через три года — накану­
не немецкой оккупации — пришлось двинуться еще дальше на
Запад — в США. Последние годы в Европе были отмечены по­
пытками иноязычного творчества: на французском языке Набо­
ковым были написаны и опубликованы статья о Пушкине, авто­
биографический рассказ, переводы пушкинских стихотворений;
на английском — переводы его собственных романов «Камера
обскура» и «Отчаяние». Еще до отъезда в Америку закончен пер­
вый оригинальный англоязычный роман — «Подлинная жизнь
Себастьяна Найта».
С 1940 по 1960 годы Набоков живет и работает в США. Лите­
ратурное творчество он совмещает с преподавательской и иссле­
довательской работой в американских колледжах и университе­
тах. Уже сложившемуся писателю, великолепному стилисту, ему
приходится заново проделать путь от литературной безвестности
к теперь уже мировой славе. Подавляющее большинство произ­
ведений Набокова .этого периода написаны по-английски (ис­
ключения немногочисленны: на русском языке созданы вариант
автобиографической книги «Другие берега», две статьи о худо­
жественном переводе, несколько лирических стихотворений; на
324
французский язык Набоков перевел свой рассказ «Музыка»).
Шумный успех приходит к писателю в конце 50-х годов после
публикаций во Франции романа «Лолита», написанного на ан­
глийском языке. Этот успех позволяет ему оставить преподава­
тельскую работу и целиком сосредоточиться на художественном
творчестве.
В 1960 году Набоковы переезжают в Швейцарию, в Монтрё.
Последний период творчества писателя отмечен появлением та­
ких его англоязычных шедевров, как романы «Бледный огонь» и
«Ада, или Страсть» — самых сложных и технически виртуозных
его произведений. Особенно важным для отечественной литера­
туры было возвращение писателя к русскому языку: в 1967 году
публикуется русский авторский перевод «Лолиты», а в 1971-м в
составе двуязычного сборника «Стихи и задачи» — лирические
стихотворения.
Репутация Набокова как одного из величайших мастеров
мировой литературы XX века в 60 — 70-е годы была столь высо­
ка, что в русской писательской эмигрантской среде сложилось
мнение о нем как о писателе-«космополите», свободном не только
от влияний русской культуры, но и от «русскости» вообще. О
стилистическом «западничестве» Набокова еще в 30-е годы мно­
го и охотно писали его литературные недруги той поры — Г.Иванов, Г.Адамович и некоторые другие авторы парижского журна­
ла «Числа». Эта версия о «нерусскости» Набокова позднее была
активно поддержана (в основном по политическим причинам)
советским идеологическим аппаратом. Некорректность такой
оценки становится очевидной, если судить о писателе не по от­
дельным фрагментам его созданий, а учитывать весь объем сде­
ланного им. С русской культурой Набоков связан не только
собственно художественным творчеством: его перу принадлежат
и серьезнейшие работы по истории русской словесности. Набо­
ков переводил на английский «Слово о полку Игореве», произ­
ведения А.Пушкина, МЛермонтова, Ф.Тютчева, Вл.Ходасевича, написал книгу «Николай Гоголь», а своим главным достиже­
нием считал четырехтомный перевод «Евгения Онегина» с де­
тальнейшими комментариями. В деле знакомства англоязычной
читательской аудитории с вершинами русской классики Набо­
ков не знает себе равных в русской эмиграции.
Главными вершинами мировой литературы Набоков считал
В.Шекспира и А.Пушкина. Если в этом и сказалось «западни­
чество» мастера, то оно, несомненно, обнажает его взгляд на
русскую литературу как литературу общемирового уровня.
Писатель умер 2 июля 1977 года в Швейцарии.
325
В ходе одной из лекций о западноевропейской литературе,
которые профессор Набоков читал своим американским студен­
там, он временно отвлекся от непосредственного предмета раз­
говора (это был анализ «Превращения» Ф.Кафки) для того, что­
бы обсудить понятие «реальность». Он попросил студентов вооб­
разить трех разных людей в обстановке загородного пейзажа. Для
одного из них — горожанина-отпускника, загодя изучившего карту
окрестностей, — окружающей реальностью окажутся «какие-то
деревья» (он вряд ли отличит дуб от вя'за), да недавно построен­
ная дорога, в соответствии с картой ведущая в ближайший горо­
док. Другой человек, на этот раз профессиональный ботаник,
увидит реальность иначе: ему откроется интересующая его жизнь
конкретных растений, каждое из которых в его сознании закреп­
лено точным термином, а восприятие горожанина покажется ему
слишком смутным. Наконец, для последнего из тройки — выро­
сшего в этих местах деревенского жителя — каждое деревце и
тропинка, и даже тень от дерева, падающая на эту тропинку; все
мельчайшие подробности пейзажа, связанные в его памяти с
множеством событий его собственной жизни, все разнообразие
связей между отдельными предметами и явлениями — одним
словом, для местного жителя эта до бесконечности детализиро­
ванная картина и будет подлинной реальностью. Таким образом,
трем разным людям откроются три разных мира, а общее коли­
чество потенциальных «реальностей» будет пропорционально
количеству воспринимающих их живых существ.
В мире Набокова нет реальности «вообще», а есть множество
субъективных образов реальности, зависящих от степени прибли­
жения к объекту восприятия и от большей или меньшей меры
специализации этого восприятия. Искусство для Набокова начи­
нается там, где память и воображение человека упорядочивает,
структурирует хаотический напор внешних впечатлений. Настоя­
щий писатель творит свой собственный мир, дивную галлюцина­
цию реальности. Таким образом, художественная реальность —
всегда иллюзия; искусство не может не быть условным, но ус­
ловность — ни в коем случае не слабость, а, напротив, сила
искусства. Вот почему для Набокова недопустимо отождествле­
ние жизни и творчества. Подобное смешение, согласно Набоко­
ву, приводит к художественной, а иногда и к житейской пошлос­
ти. Недопустимость прямолинейного автобиографизма в твор­
честве побудила писателя намеренно избегать «сопереживательной» стилевой манеры, когда читатель настолько сживается с
близким ему персонажем, что начинает чувствовать себя «на мес­
те» этог<^ персонажа. Приемы пародии и иронии неизменно воз­
никают в набоковских текстах, как только намечается призрак
326
жизнеподобия. Используются эти приемы и по отношению к
близким автору персонажам, и по отношению к заведомо несим­
патичным ему действующим лицам. И наоборот, у Набокова чи­
татель найдет «странную» привычку — наделять даже самых от­
талкивающих своих персонажей отдельными чувствами, мысля­
ми и впечатлениями, которые когда-то вполне могли возникать
у него самого.
Поскольку главными свойствами создаваемого Набоковым
мира оказываются многослойность и многоцветность, его зре­
лые произведения почти не поддаются привычным тематичес­
ким определениям. Материалом его рассказов и романов может
быть неустроенный быт русской эмиграции («Машенька») или
отлаженная абсурдность порядков в вымышленном тоталитар­
ном государстве («Приглашение на казнь»); история литератур­
ного роста начинающего поэта и его любви («Дар») или история
преступления («Отчаяние»); жизнь и смерть талантливого шах­
матиста («Защита Лужина») или механизмы поведения немец­
ких буржуа («Король, дама, валет»); американская «мотельная»
цивилизация («Лолита») или преподавание литературы
(«Пнин»). Однако внешняя свобода в выборе разнообразных, в
том числе непривычных для русской литературы тем, соединяет­
ся у Набокова с постоянной сосредоточенностью на главном —
на проблематике сложных закономерностей человеческого со­
знания, на сочетании субъективных версий событий челове­
ческой жизни, на вопросах о возможности и границах челове­
ческого восприятия. Такую проблематику принято называть
гносеологической.
В этом отношении все его произведения как бы предполага­
ют продолжение: они будто являются фрагментами глобального
художественного целого. Разные произведения связаны друг с
другом подобно тому, как взаимосвязаны отдельные стихотворе­
ния лирического цикла или книги. Каждый рассказ или роман,
являясь вполне самостоятельным, композиционно завершенным
созданием, может быть понят и сам по себе. В то же время,
взаимодействуя в мире Набокова, они проясняют и обогащают
друг друга, придавая всему творчеству писателя свойство мета­
конструкции (то есть совокупности всех произведений, облада­
ющей качеством единого произведения). Цельность этого мира
проявляется, между прочим, в часто используемых писателем
приемах тематических перекличек между разными его создания­
ми, например, в миграции персонажей из одного в другое произ­
ведение, в мимолетных упоминаниях о дальнейшей судьбе того
или иного периферийного действующего лица в более поздних
произведениях или в скрытом автоцитировании. Так, например,
327
герой рассказа «Облако, озеро, башня», оказавшийся заложни­
ком коллективистской психологии своих спутников, жалуется:
«Да ведь это какое-то приглашение на казнь», — воспроизводя
название одного из романов. Другой пример самооглядки набо­
ковского метатекста находим в романе «Дар»: посещая заседание
берлинского Общества Русских Литераторов, Федор узнает из
уст литератора Ширина, что прежде «в правление...Союза вхо­
дили все люди высокопорядочные, вроде Подтягина, Лужина,
Зиланова, но одни умерли, другие в Париже». Здесь упомянуты
старый поэт из «Машеньки», отец главного героя «Защиты Лу­
жина» и общественный деятель, издатель эмигрантской газеты
из «Подвига».
В более широком смысле практически любой «мигрирующий»
элемент текста у Набокова может получить статус лейтмотива,
хотя Набоков избегает механических повторений: воспроизводи­
мый вновь и вновь элемент всякий раз преображается, обставля­
ется новыми декорациями, маскируется метонимическими сдви­
гами. Результат — присущий набоковским произведениям эф­
фект «переодетого воспоминания» или «припоминаемого буду­
щего». Особенно постоянно пристрастие Набокова к судьбонос­
ным датам и цифрам. Цифровой код Набокова часто включает
излюбленную писателем пару цифр-арлекинов 9 и 6, календар­
ное число-фаворит писателя — 1 апреля. На периферии основ­
ного сюжета того или иного романа порой проговариваются сю­
жетные схемы будущих или уже написанных Набоковым книг.
Наиболее известный пример этого рода — сжатое изложение
сюжетной схемы «Лолиты» персонажем «Дара» Щеголевым.
С другой стороны, мельчайшие компоненты, составляющие
текст набоковского «метаромана», обладают свойством дискрет­
ности, повышенной автономности, композиционной закруглен­
ности. Тенденция к «закольцовыванию» разномасштабных фраг­
ментов текста (эпизода, главы, части) была отчасти обусловлена
реальными обстоятельствами литературного быта русской эмиг­
рации (проблематичность публикации крупного произведения,
практика газетных и журнальных публикаций «с продолжени­
ем»). Однако глубинная причина такого композиционного при­
страстия Набокова — следствие его восприятия реальности как
многоуровневой структуры, разные пласты которой изоморфны
по отношению друг к другу и связаны как кольца спирали.
Каковы же основные слагаемые цельного мира набоковско­
го творчества? Историки литературы считают ведущими три
универсальные проблемно-тематические компонента его твор­
чества — тему «утраченного рая» детства (а вместе с ним — рас­
ставания с родиной, родными культурой и языком); тему драма­
328
тических отношений между иллюзией и действительностью и,
наконец, тему высшей по отношению к земному существова­
нию реальности (метафизическую тему «потусторонности»).
Общим знаменателем трех этих тем можно считать метатему
множественной, или многослойной, реальности.
Герои набоковской прозы различаются между собой не столько
по социально-бытовым и психологическим характеристикам,
сколько по способности видеть мир. Для одних мир предельно
прозрачен и ясен: такие люди, по Набокову, чаще всего состав­
ляют большинство — вне зависимости от эпохи и страны прожи­
вания. Их восприятие ограничено, как правило, ближайшим
бытовым, природным и социальным кругом; они любят матери­
альное, надежное, не вызывающее сомнений — и руководству­
ются «здравым смыслом». Впрочем, главное в этих людях всетаки не стиль жизни и не сфера их притязаний: среди них встре­
чаются и образованные интеллектуалы, и обладающие техничес­
ким мастерством художники. Главное — в их неспособности уло­
вить импульсы высшей по отношению к человеку реальности,
осознать обидную ограниченность — нет, не жизни, а самих
способностей к восприятию таинства жизни. Другие человечес­
кие существа интересны для таких людей лишь как средство реа­
лизации своих — всегда в той или иной мере безнравственных —
целей. Универсальное в мире Набокова определение этого люд­
ского типа — пошлость. Постоянное внимание к разновиднос­
тям и психологическим механизмам пошлости заставляет вспом­
нить чеховскую традицию, хотя самыми близкими Набокову в
стилевом отношении русскими классиками являются Н.Гоголь
и А.Белый. Наиболее выразительны в ряду набоковских «та­
лантливых» пошляков — герои романов «Отчаяние» и «Лолита»
Герман и Гумберт Гумберт.
Другой тип героя в прозе Набокова, внутренне близкий ли­
рическому герою его поэзии, — человек, наделенный счастливой
способностью к творчеству и одаренный моментами вдохновен­
ных прозрений. Различаясь мерой творческих способностей, эти
набоковские персонажи воспринимают мир как подаренную судь­
бой «мерцающую радость», как неизъяснимое, но чудесное обе­
щание неземного будущего. Они ненавидят «мерзость генерали­
заций» и любуются неповторимыми гранями всегда уникальных
в их мире частностей — природного и бытового окружения, ис­
кусства, близких им людей. Они способны преодолеть эгоисти­
ческую замкнутость, узнать и оценить родственную себе душу.
Таковы, например, герои «Дара» Федор и «Приглашения на казнь»
Цинциннат.
Сложность восприятия набоковских текстов связана, прежде
329
всего, с особенностями субъектной организации повествования.
Любой открываемый читателю фрагмент сюжета или пейзажно­
го фона, любая календарная или топографическая подробность
происходящего, любой элемент внешности персонажа подается
сквозь призму восприятия одного, а иногда нескольких разных
персонажей или повествовательных инстанций. Поэтому один и
тот же эпизод будто умножается на количество деятельных учас­
тников, свидетелей, а иногда и тайных «организаторов» собы­
тия, каждый из которых поступает в соответствии со своей «вер­
сией» этого эпизода. Приступая к чтению набоковского произ­
ведения, нужно быть готовым к удвоению, а иногда даже утрое­
нию персонажей; к взаимоисключающим трактовкам того или
иного явления разными его участниками или свидетелями.
Чаще всего эти расхождения вызваны разной степенью «сю­
жетной компетентности» персонажа, повествователя и автора
текста, так что в каждый момент сюжетного движения может
возникнуть проблема идентификации персонального восприятия
реальности. Читателю приходится иметь дело с приемами «под­
становки» инородного восприятия или смешения нескольких
оптических перспектив. Ему необходимо отличать собственно
авторский дискурс от повествования «по доверенности»; пом­
нить о возможных «водяных знаках» авторского присутствия в
повествовании, ориентированном на точку зрения персонажа; о
том, что тексты будто оснащены сложной системой разнообраз­
ных невидимых кавычек. Рассказчиков набоковских произведе­
ний принято называть «ненадежными»: то, что герой-рассказ­
чик считает очевидным и в чем он пытается убедить читателя, на
поверку может оказаться его персональным миражом, результа­
том эстетической (а часто и нравственной) близорукости.
Как же сориентироваться в набоковском художественном
пространстве? Одно из главных требований к читателю в мире
Набокова — внимание к частностям, хорошая память и развитое
воображение. Предметный мир набоковских произведений за­
частую более важен для понимания авторской позиции, чем со­
бственно сюжет. «Магический кристалл» его художественной
оптики обеспечивает призматическое, то есть многопреломляющее видение деталей. В поле зрения персонажа попадает и то,
что ему самому кажется единственно важным, и то, по чему его
глаз невнимательно скользит, — но что в авторской повествова­
тельной перспективе окажется решающим для судьбы персона­
жа и для смыслового итога книги. Конечно, столь неявные «зна­
ки судьбы» (или «тематические узоры», как называл их сам На­
боков) не сразу могут быть замечены даже очень внимательным
читателем. Хотя эстетическое удовольствие читатель испытывает
330
уже при первопрочтении, подлинное содержание набоковского
произведения откроется ему лишь при многократном перечиты­
вании. Знакомство с сюжетом, ясное представление о компози­
ции персонажей и о пространственно-временных координатах
произведения — обязательное условие его понимания, но оно
еще не обеспечивает проникновения в набоковский мир.
Само чтение Набокова — занятие, сопряженное с интеллек­
туальным риском (любителей простых ощущений сам автор не­
однократно предупреждал о бесполезности для них его произве­
дений). Набоков по-новому для русской литературы строит от­
ношения автора с читателем. Вот каким смелым уподоблением
он поясняет эту грань творчества в «Других берегах»: «Соревно­
вание в шахматных задачах происходит не между белыми и чер­
ными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (по­
добно тому, как в произведениях писательского искусства насто­
ящая борьба ведется не между героями романа, а между рома­
нистом и читателем)...»
В набоковские тексты будто вмонтирован механизм их за­
щиты от любой прямолинейной трактовки. Эта провоцирую­
щая читателя защита многослойна. Первая степень «защиты» —
своего рода охранная сигнализация — авторское ироническое
подтрунивание над читателем:- заметил ли господин читатель
раскавыченную цитату; обратил ли он внимание на анаграмму,
молчаливо присутствующую в только что прочитанном абзаце;
сумел ли он уловить биение стихотворного ритма сквозь про­
заическую маску описания? Если заинтригованный читатель«разгадыватель» упорствует — он столкнется с еще более слож­
ной преградой.
Эта преграда — появление внутри текста одного или несколь­
ких интерпретаторов этого самого текста. В некоторых набоков­
ских романах предусмотрительно расставлены персонажи-истол­
кователи, предъявляющие читателю несколько объяснений на
выбор (персонажи-критики, литературоведы, переводчики и т.п.).
Ждет читателя и еще одно испытание. Следуя прихотливым по­
воротам набоковских сюжетных тропинок, он начинает ловить
себя на ощущении «уже встречавшегося», «уже читанного ра­
нее», чего-то хрестоматийно знакомого. Это происходит благо­
даря тому, что Набоков насыщает свой текст перекличками с
литературной классикой: повторяет какую-нибудь хрестома­
тийную ситуацию, жонглирует узнаваемыми пушкинскими, го­
голевскими или толстовскими деталями, образами, афоризма­
ми и т.п. (такие переклички принято называть литературными
аллюзиями).
Увлеченный этими «подсказками», читатель порой поддает­
331
ся соблазну увидеть в произведении Набокова всего лишь паро­
дию или мозаику пародий на те или иные факты культуры. Как
пародию на «Преступление и наказание» иногда прочитывают
набоковский роман «Отчаяние», как пародийный перепев «Ев­
гения Онегина» — «Лолиту». Пародийная техника действительно
активно и разнообразно используется Набоковым, но вовсе не
пародия составляет смысловое ядро его произведений. Пародий­
ность и цепочки аллюзий нужны для того, чтобы в конечном
счете скомпрометировать механистическое понимание литера­
турного произведения как суммы приемов, как сложно задуман­
ной головоломки. Нельзя сказать, что поиск текста-«первоосновы» читателем неуместен: без последовательного преодоления
этих искусных миражей читательское впечатление будет беднее.
Однако в конце пути читатель убедится, что аналитическая изо­
щренность и «запрограммированность» — не столько атрибут
набоковского видения, сколько качества чьего-то персонального
взгляда (персонажа, рассказчика или самого читателя).
Разнообразные игровые элементы набоковской прозы при­
дают ей своеобразное стилевое очарование, сходное с очаро­
ванием пиротехники, маскарада-, праздничной украшенности.
Но это лишь радужная оболочка ее смыслового ядра. Принцип
многослойное™ и неисчерпаемой глубины реальное™ в эстети­
ке Набокова не отменяет, а предполагает наличие «вертикально­
го измерения» его вселенной, высшей — по отношению к зем­
ной — реальности. Подлинная «тайна» Набокова — лирической
природы, и в этом отношении он прежде всего поэт. В том
специфическом значении, которое вернул этому слову русский
Серебряный век. Поэт — значит способный чувствовать и выра­
жать помимо и поверх явленных в тексте значений, одаренный
способностью передавать то, «чему в этом мире Ни созвучья, ни
отзвука нет» ( И.Анненский).
В стихотворении 1942 года «Слава» он на мгновение расста­
ется со словами, сохраняя лишь, ритмический рисунок того, что
хотел бы выразить: «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, А точнее
сказать я не вправе...» Способностью передавать эту тайну и за­
мечателен набоковский художественный мир.
Ядро набоковского наследия составляют шестнадцать рома­
нов, девять из которых были написаны на русском языке, а
семь — на английском. Его писательская эволюция носила не­
линейный характер, и ее внешней проясняющей моделью мо­
жет служить излюбленный Набоковым образ спирали. Созна­
ние постигающего и тем самым творчески пересоздающего мир
332
субъекта — тематическая константа этой спирали, по мере рас­
пространения звеньев которой не столько варьируется конкрет­
ный тематический материал, сколько становятся все прихотли­
вее и сложнее комбинации его элементов. Используя аналогию
с историей шахматных дебютов, можно сказать что, сохраняя
тот же набор фигур, более поздние набоковские романы ис­
пользуют все более закрытые варианты стратегического разви­
тия, сменяя «открытые» и «полуоткрытые» дебюты его ранних
вещей. Тем самым исход сюжетного движения становится все
менее предсказуемым, нарастает зона неопределенности, флук­
туации смыслов, все больший удельный вес приобретает много­
ходовое позиционное маневрирование, смещающее семантичес­
кий центр произведения все ближе к финалу.
Остановимся на нескольких произведениях Набокова-романиста.
«Машенька». Первый роман писателя был задуман весной,
написан к исходу осени 1925 года, а вышел в свет в марте следую­
щего, 1926 года. Дебютное для Набокова-романиста произведе­
ние было в целом тепло встречено читательскими кругами рус­
ской эмиграции, хотя и не получило большого резонанса. Тема­
тически «Машенька» воспринималась русскими берлинцами и
парижанами как роман об их собственной жизни с ее унылым
настоящим и невосстановимым прошлым, овеянным поэзией
воспоминаний. Сюжетное время романа — одна из апрельских
недель 1924 года — приходится на первое в истории русской
эмиграции массовое кочевье — переезд большей части русской
колонии из Германии во Францию. Само место действия —
скромный берлинский пансион по соседству с городской же­
лезной дорогой — напоминало о неустроенности полувокзального быта эмигрантов, о призрачности их «теневого» сущест­
вования на чужбине.
Лишь один из семи персонажей, по-драматургически ком­
пактно собранных автором в этом пансионе, доволен берлинс­
кой жизнью и, видимо, способен укорениться в ней. Это Алек­
сей Алферов — мелкий служащий, называющий себя математи­
ком и внешне напоминающий провинциального учителя той
своеобразной породы, что была выведена на страницах прозы
Ф.Сологуба. Алферов лишь недавно приехал в пансион и наме­
рен остаться там надолго: вскоре к нему должна присоединиться
его жена Мария, приезда которой из России он с нетерпением
ожидает.
Впрочем, своему ожиданию Алферов уже в момент своего
первого появления в романе склонен придавать более широкий,
хотя и неясный собеседнику смысл. Он провоцирует главного
333
героя романа Ганина на «символистскую» интерпретацию того
житейского недоразумения, которое свело их вместе в застряв­
шем лифте, предлагая видеть «нечто символическое» в их «встре­
че», в «неподвижности», в «великом ожидании». Если все же
последовать столь неуместным в устах Алферова интертексту­
альным подсказкам и обратить внимание на те крупицы инфор­
мации о жене, которые он понемногу доставляет персонажам
романа и читателям, то выяснится, что его Мария подозритель­
но напоминает пародийный вариант младосимволистской ми­
фологемы Вечной Жены в ее наиболее характерных блоковских
метаморфозах. Окажется, например, что Машенька обожает за­
городные прогулки и что воссоздать ее облик способен только
поэт. Именно поэту Подтягину — еще одному временному оби­
тателю пансиона — предлагает Алферов описать «такую штуку,
как женственность, прекрасная русская женственность...».
Следует сразу же оговориться: внешняя простота первого
набоковского романа, его драматургическая компактность и яс­
ность композиции совсем не настраивают читателя на поиск ка­
кого бы то ни было «второго плана» повествования. Неуместное
умничанье Алферова вполне убедительно интерпретируется при
первопрочтении как одна из граней вездесущей пошлости этого
персонажа наряду с его хамоватой навязчивостью, бестактностью
и бытовой неряшливостью. Лишь в общем контексте набоковс­
кой прозы в «Машеньке» проступают пока еще осторожные эк­
скурсы автора в сферу пародийной интертекстуальности, в дан­
ном случае не вполне органично сочетающейся с принятой им
формой повествования от третьего лица. В романе сравнительно
немного словесной игры и того тонкого плетения «тематических
узоров», которое станет отличительной чертой набоковского сти­
ля и позволит исследователям говорить о «семантическом тота­
литаризме» Набокова — всеохватном авторском контроле над
своим текстом.
Привлекательной для первых читателей романа могла быть
выразительность описаний городского пейзажа, меткость пор­
третных характеристик обитателей пансиона и, конечно же, чув­
ственная фактура воспоминаний героя. Большая часть повество­
вания ориентирована на точку зрения Ганина, с которым автор
поделился остротой и сложностью своего восприятия, а также
своей памятью о России. С момента, когда благодаря плохонь­
кой фотографии Ганин узнает в алферовской жене свою первую
возлюбленную (это происходит в ночь с понедельника на втор­
ник), он в течение четырех дней воссоздает в своей памяти пол­
нокровный образ России, который стремительно замешает в его
сознании берлинскую явь и становится подлинной и навсегда
334
сохраненной реальностью. Сюжетная завязка, таким образом,
одновременно знаменует переворот в восприятии Ганина: от
инерционного бездействия он переходит к созиданию, к интен­
сивной работе воображения, которая и позволяет ему в итоге
вновь обрести реальность.
Интересно, что завязке непосредственно предшествует еще
одно «установочное» высказывание любителя «символов» Алфе­
рова: «Пора нам всем открыто заявить, что России капут.., что
наша родина, стало быть, навсегда погибла». Принципиальные
расхождения Набокова с символистской идеей жизнестроительства очень часто мотивируют введение в его тексты скрытой по­
лемики. Этой идее он противопоставляет убеждение в том, что
именно искусство и только оно способно противостоять распаду
и забвению, что жизнь, преображенная в роман, и есть един­
ственная надежная реальность. Вот почему в финале Ганин вдруг
отменяет первоначальное решение встретить и увезти с собой
Машеньку: «Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу —
и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Ма­
шенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, — эти
четыре дня были быть может счастливейшей порой его жизни».
Четыре дня сюжетного (романного) времени вместили для Гани­
на значительно большее хронологическое пространство — три
его последних года в России от первой встречи с Машенькой до
последнего ее письма к нему.
Омонимическое «роман» в сочетании с художнически цеп­
кой памятью Ганина будто намекают на потенциальное писа­
тельское будущее главного героя, пока еще не подкрепленное,
впрочем, сюжетной конкретикой. Более того, дар воображения и
искусство наделять воспоминания качествами живой жизни даны
герою его создателем не вполне мотивированно, как бы аван­
сом, из-за чего истоки этих его качеств приобретают таинствен­
ную непрозрачность. Таинственность прошлого (и будущего)
Ганина еще больше усилена мотивом двух паспортов, по кото­
рым он живет — подлинного русского и подложного польского.
Сам Набоков много позднее скажет в одном из интервью: «Ис­
кусство писателя — вот его подлинный паспорт». К искусству
слова будут иметь отношение большинство героев его зрелой
прозы.
Ганинские воспоминания о Машеньке в романе Набокова —
персонализированный образ общей эмигрантской мечты, их на­
дежды на возвращение милой их сердцу России. Однако вер­
нуться она может лишь к тому, кто обладает даром воспомина­
ний, для кого воспоминание и воображение более реальны, чем
породившая их реальность, — таков очевидный смысл концов­
335
ки романа. Менее очевидна, но в перспективе набоковской эво­
люции существенна антисимволистская тенденция финального
авторского жеста, принципиально разводящего искусство и
жизнь, мечту и биографию.
Писатель пока еще следует в этом произведении традицион­
ным принципам композиции персонажей: главный герой надеж­
но дистанцирован от автора (помимо стабильности повествова­
ния от третьего лица существенно и то, что герой наделен явно
несимпатичным автору безразличием к судьбам других людей);
между обитателями пансиона четко расписаны их социально­
психологические роли. Аккуратно проработана пространствен­
ная разметка романа, выверен темп знакомства читателя с вто­
ростепенными персонажами. Чередование «массовых сцен» ро­
мана с эпизодами целительного одиночества главного героя, а
также выдерживаемое в собственно сюжетной части текста един­
ство времени, места и действия заставляют вспомнить о набо­
ковских драматургических опытах 1923 — 1924 годов.
Вместе с тем уже в «Машеньке» явлена значительная часть
будущего репертуара набоковских стилевых ходов. Это и совме­
щение разных временных планов при помощи кинематографических «наплывов», и интертекстуальная подсветка сюжетного
движения, и характерное использование цифрового шифра (ком­
наты пансиона пронумерованы листками старого календаря от 1
до 6 апреля, причем в «первоапрельском» номере живет Алфе­
ров; последняя хронометрическая подробность романа — «трид­
цать шесть минут седьмого» на «огромном циферблате»). Даже
такой частной детали, как заикание Алферова в первом предло­
жении романа, суждена миграция в другие произведения Набо­
кова («пеньки запинок» будут встречаться в речи таких разных
набоковских персонажей, как например, Цинциннат и Гумберт
Гумберт).
«Чета Алферовых» на мгновение появится в другом набоков­
ском романе — «Защите Лужина», но гораздо важнее, что даль­
нейшую разработку в творчестве Набокова получит проблемати­
ка первенства воображения и многослойности создаваемой им
реальности.
«Дар». Последний и самый крупный из набоковских рома­
нов, написанных на русском языке, создавался в 1933 — 1938
годы, публиковался фрагментами с апреля 1937 по октябрь 1938
года в парижском журнале русской эмиграции «Современные
записки», а полностью отдельной книгой вышел в свет в ньюйоркском издательстве имени Чехова в 1952 году. Действие ро­
мана, как позднее указал сам писатель, начинается 1 апреля 1926
и заканчивается 29 июня 1929 года.
336
С тематической точки зрения «Дар» представляет собой «сво­
бодный» роман, соединяющий историю литературного роста глав­
ного героя и его счастливой любви к Зине, исследование суб­
культуры русского Берлина 20-х годов, описание воображаемого
путешествия в Среднюю Азию, меткие «литературно-критичес­
кие» комментарии к обширному корпусу русской лирики XIX —
начала XX веков, пародийную литературную биографию и, на­
конец, размышления о прихотливых отношениях судьбы-и лич­
ной инициативы.
Поразительно, что в романе, весь материал которого замкнут
на восприятие главного героя, появляются десятки действующих
лиц — реальных исторических или полностью вымышленных, а
еще чаше гибридных, балансирующих на грайице вымысла, ли­
тературной пародии и документа. Огромный «эпический» мате­
риал подвергнут здесь столь интенсивной «лирической» перера­
ботке, а лирические мотивы столь тонко вплетены в повествова­
тельную ткань, что привычные литературоведам разграничения
лирики и эпоса по отношению к «Дару» мало что дают, даже
если они снабжены многослойным экскортом оговорок и кавы­
чек. Набоковский роман соединяет в себе качества завершен­
ности и принципиальной открытости, будто его автору удалось
совместить акмеистическое требование окончательной отделанности текста и знакомую по литературной практике футуристов
нелюбовь к финальным редакциям.
Видение реальности как сложной совокупности нескольких
субъективных версий этой реальности — амальгамы знаний и
предположений, верований и иллюзий, зависимых от конкрет­
ной позиции наблюдателя, — достигает в «Даре» еще большей
глубины, чем в предшествующих романах писателя. Уже пер­
вый абзац сообщает читателю о множественности «измерений»
текста.
Пародийное указание на время начала действия; описание
уличной сценки, перенасыщенное нефункциональными деталя­
ми (ни мебельный фургон, ни пара занимающихся перевозкой
мебели жильцов не сыграют сколько-нибудь существенной роли
в развитии сюжета); челночная смена грамматических форм 3-го
и- 1-го лица, прошедшего и будущего времени и, наконец, вкрап­
ления металитературных комментариев — все это служит реля­
тивизации изображения, намекает на бесконечную множествен­
ность возможных сюжетных перспектив, создает модальность
неопределенности романного будущего. Читатель немедленно
сталкивается с проблемой: с чьим восприятием реальности он
имеет дело, кому принадлежит эта невероятно прихотливая оп­
тика?
337
Настройка внутрироманной оптики завершается лишь на пя­
той странице текста, когда окончательно выясняется, что она
мотивирована переездом главного героя на новую квартиру. Стоя
у окна и разглядывая дом на другой стороне улицы, он погружа­
ется в, казалось бы, излишнюю рефлексию: «Само по себе все
это было видом, как и комната была сама по себе; но нашелся
посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно
комнаты». В набоковском романе нет вещей или персонажей
«самих по себе»: «оригинальной честности» традиционного реа­
лизма, зачастую игнорирующего субъективность восприятия, но
настаивающего на подлинности воспроизводимой жизни, Набо­
ков противопоставляет иное понимание подлинности — подлин­
ности конкретного видения, превращающего прямоугольник
«зеркального шкапа» в «параллелепипед белого ослепительного
неба», если посмотреть на «дом номер семь по Танненбергской»
от аптеки на углу улицы, как это делает начинающий писатель
Федор Годунов-Чердынцев.
Герой «Машеньки» Ганин счастливо воссоздает образ воз­
любленной, иногда пытаясь вообразить, как он сам воспринима­
ется окружающими его людьми. Впрочем, собственный имидж
для него не очень важен: он не стремится, например, переубе­
дить Клару, считающую, что Ганин пытался украсть у Алферова
деньги. Герои других романов Набокова (особенно в «Согляда­
тае» и «Отчаянии») прежде всего озабочены именно собствен­
ным имиджем в глазах других, и потому их главная страсть —
обеспечить себе эстетическое «алиби», собственноручно создав
для потенциальной аудитории комплиментарный или, по край­
ней мере, располагающий к сочувствию автопортрет. И Смуров,
и Герман хотели бы навсегда закрыть вакансию автора своих
собственных портретов: их ни в коей мере не устраивает всего
лишь «посредническая» роль повествователя. Однако, как они
ни бьются, манипулируя сюжетами собственных жизней, им не
удается повысить собственный статус до положения авторов со­
ответствующих текстов.
Двойственность повествовательного статуса главного героя
лежит и в основе субъектной организации «Дара». Федор Годунов‘Чердынцев — одновременно персонаж (описываемый извне
или изнутри его сознания, соответственно, в форме повествова­
ния от третьего или первого лица) и повествователь разворачи­
вающейся истории или, иными словами, одновременно худож­
ник и его модель. Однако повествователь не является единствен­
ной инстанцией, управляющей текстом: в нем есть один, более
высокий уровень организации, неподконтрольный Федору.
Отношение сознания творца к используемому им материалу —
338
особенно неоднозначное, если этим материалом оказывается
жизнь писателя, — и организует проблематику романа.
С точки зрения жанровой классификации «Дар» близок тому,
получившему в XX веке распространение, типу романа, который
по аналогии с термином «роман воспитания» получил название
«роман о формировании художника». В нем прослеживается впе­
чатляющий рост писательского таланта Федора, причем его ли­
тературное становление не только иллюстрируется конкретны­
ми его созданиями, но и отражается в тонкой эволюции самих
способов повествования. Тренируя свой писательский голос,
Федор к финалу становится способным контролировать сте­
пень лирической вовлеченности в изображение и остраненного ясного его видения, а одновременно постигает во внешне
случайном сцеплении событий ажурные «тематические узоры»
судьбы — этого верховного мирового художника.
В первой главе читатель знакомится с образцами юношеской
лирики Федора — элегантными двенадцатистишиями, «посвя­
щенными одной теме, — детству». Они введены в качестве под­
тверждающих цитат в воображаемую критическую статью с раз­
бором первого поэтического сборника Федора. А поскольку текст
рецензента — плод воображения самого молодого поэта, читате­
лю открывается не столько то, что сумел, сколько то, что хотел
выразить Федор. Неудивительно, что этот первый в книге опыт
металитературной рефлексии героя сопровождается отрезвляю­
щими замечаниями от первого лица: «Боже мой, я уже с трудом
собираю части прошлого, уже забываю соотношение и связь еще
в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и
обрекаю на отмирание....Что же понуждает меня слагать стихи о
детстве, если все равно пишу зря, промахиваясь словесно или же
убивая и барса и лань разрывной пулей «верного» эпитета»?
Федора больше всего заботит способность искусства сохра­
нять живые соотношения вещей, удерживать все богатство по­
родивших стихотворение ощущений. Увы, пока его лирике, пол­
ной живописных наблюдений и формально безупречной, недо­
стает какой-то тайной энергии, позволяющей передать уникаль­
ность того, что он чувствует, и Федор в начале второй главы «с
тяжелым отвращением» думает о своих стихах, «о словах-щелях,
об утечке поэзии». Во второй главе Федор обдумывает новый
литературный замысел и принимается за биографию своего отца,
большую часть которой составляет описание его путешествия в
Среднюю Азию и Китай. На этот раз он учится энергии выраже­
ния у Пушкина-прозаика, заучивая наизусть страницы его «Ар­
зрума» и «Пугачева».
Работа над биографией продвигается стремительно, образ отца
339
складывается и из личных детских воспоминаний Федора, и из
мемуаров современников старшего Годунова-Чердынцева, но чем
дальше, тем все заметнее в сознании Федора утрачивается дис­
танция между героем его книги и им самим. В набросках Федора
это колебание повествовательной перспективы проявляется сна­
чала в том, что в числе спутников отца появляется персонифици­
рованный будущий биограф — «тот представитель мой, которого
в течение всего моего отрочества я посылал вдогонку отцу», а
потом в последовательной мутации местоимений: «он» — «мы» —
«я». Повествовательная граница между Федором и его отцом ис­
чезает, задуманная биография превращается в проекцию вооб­
ражения биографа на жизнь его героя. Федор прекращает работу
над книгой, объясняя причины своего решения в письме к ма­
тери: «Знаешь, когда я читаю его или Грума книги, слушаю их
упоительный ритм, изучаю расположение слов, незаменимых
ничем и непереместимых никак, мне кажется кощунственным
взять да и разбавить все это собой... Я понял невозможность
дать произрасти образам его странствий, не заразив их вторич­
ной поэзией...».
Если стихам Федора недоставало, по его мнению, определен­
ности облика лирического героя, глубины переплавки внешних
ощущений, когда, по его словам, «за разум зашедший ум возвра­
щается с музыкой», — то в черновике биографии он различает
недостатки противоположного рода — подмену наблюдательности
и знания воображением, экспансию собственного сознания в
автономный мир сознания героя. Можно сказать, что его поэзия
была отягощена остраненной описательностыо, а его биографи­
ческая проза оказалась перенасыщенной слишком личными ин­
тонациями. Но в самих этих недостатках — потенциальные ис­
токи будущего успеха Федора: ему предстоит теперь согласовать
противоположные способы артистического видения, найти ключ
к гармоничному совмещению «своего» и «чужого» восприятий в
пределах одного текста и тем самым реализовать свою уникаль­
ную способность к «многопланности мышления».
О смене повествовательного ключа романа сигнализирует в
конце второй главы упоминание о переезде Федора с Танненбергской улицы на Агамемнонштрассе: «Расстояние от старого
до нового жилья было примерно такое, как где-нибудь в России
от Пушкинской — до улицы Гоголя». Тем самым личная пробле­
ма поиска Федором органичного для его дара стиля накладыва­
ется на его размышления о судьбах русской литературы. Учась у
писателей прошлого и отталкиваясь от их достижений, Федор
создает свою собственную историю русской классики — прочер­
чивает ту ее традицию, которая становится генеалогией его пер­
340
остального дара. Роман о взрослении художника приобретает
новое тематическое измерение: в предисловии к английскому
переводу романа Набоков скажет, что его героиня — не Зина
Мерц, а русская литература.
Принимая подлинное в литературном наследии и «закаляя
мускулы музы» уроками у А. Пушки на, Н.Гоголя, Л.Толстого,
А.Чехова, Федор одновременно должен избавиться от того, что,
по его мнению, извращало великую традицию — изгнать злых
духов русской культуры. Теневые проявления традиции мно­
гообразны, но всегда сводятся к попыткам подчинить искусст­
во внеположным ему прагматическим целям. Одним из отцов
этой тенденции Федор считает шестидесятника Н.Чернышевского, биография которого и становится очередным — и реша­
ющим для его писательского формирования — начинанием
Годунова-Черд ынцева.
Биография Чернышевского, составляющая 4 главу романа,
пародийно перекликается с биографией самого Федора (прежде
всего обращает на себя внимание совпадение дней рождения
Федора и его героя — 12 июля, а также общая для вставного
романа о Чернышевском и собственно «Дара» кольцеобразная
композиция; по принципу контраста соотносятся «отцы и дети»
двух романов — пары Чернышевский — его сын Саша и Кон­
стантин — Федор Чердынцевы). Повествовательную тональность
«Жизни Чернышевского» сам Федор в разговоре с Зиной опре­
деляет как балансирование «на самом краю пародии» : «А чтобы
с другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по
узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее».
Оставаясь верным фактической стороне жизни своего героя
(фактам «самим по себе»), Федор компонует его биографию на
основе развития нескольких сквозных мотивов (прописей, бли­
зорукости героя, изобретаемого им перпетуум-мобиле и др.). Тем
самым он на глазах читателя превращает Чернышевского-писателя и Чернышевского-человека в литературный персонаж, чье
существование целиком обусловлено законами искусства. Лите­
ратура будто творит иронический суд над пропагандистом ее,
литературы, подчиненности жизни. Взгляды Чернышевского ока­
зываются развенчаны самой его «Жизнью», взятой художником
в мстительные кавычки. Сама внешняя композиция главы, на­
чинающейся двумя финальными терцетами, а завершающаяся
начальными катренами сонета, подчеркивает первенство твор­
ческого сознания над сознанием утилитариста.
Работа над биографией Чернышевского позволяет таланту
Федора окрепнуть. Сумев выявить в жизни другого прихотливые
тематические узоры судьбы, он и свою собственную жизнь ви­
341
дит теперь не только как череду невосстановимых потерь (роди­
ны, отца, друзей), а как реализацию пока еще неведомого ему
замысла. А если так, то все то, что случилось с ним, приобретает
новую значительность, и любое мгновение жизни, каким бы свет­
лым или томительным, важным или тривиальным оно ему пре­
жде ни казалось, должно быть спасено от забвения. «Куда мне
девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня —
и только меня? Отложить для будущих книг?.. Понять, ч т о
скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным зеле­
ным гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть!»
Пятая глава романа содержит важнейшую для эволюции Фе­
дора как писателя сцену в Груневальдском лесу, где он пережи­
вает состояние творческой окрыленности и прозрения. Он обре­
тает вдруг способность видеть себя самого из какой-то иной,
высшей реальности: «...Я улавливал ощущение, которое должно
поразить перелетевшего на другую планету... Солнце сплошь
лизало меня большим гладким языком. Я постепенно чувство­
вал, что становлюсь раскаленно-прозрачным, наливаюсь пламе­
нем и существую только, поскольку существует оно. Как сочине­
ние переводится на экзотическое наречие, я был переведен на
солнце. Тощий, зябкий, зимний Федор Годунов-Чердынцев был
теперь от меня так же отдален, как если бы я сослал его в Якут­
скую область. Тот был бледным снимком с меня, а этот, летний,
был его преувеличенным подобием. Собственное же мое я, то,
которое писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Рос­
сию, шоколад, Зину, — как-то разошлось и растворилось, силой
света сначала опрозраченное, затем приобщенное ко всему мрению летнего леса...».
Федор достигает более высокой, чем прежде, степени автор­
ского видения, приближающейся к позиции имплицитного авто­
ра, управляющего сюжетом судьбы самого Федора. Ему приоткры­
вается возможность творчески преобразовать, «перевести» собствен­
ную жизнь с ее утратами драгоценных мгновений в неподвласт­
ную времени реальность искусства. Он будто догадывается, «что
делать», как совместить потерю родины, отца, друзей с ощущени­
ем солнечного смысла «за всем этим». Теперь и горе других людей
воспринимается им иначе, чем прежде. Он вспоминает о драме
семьи Александра Яковлевича; приходит на место самоубийства
Яши, притягивающее его, «словно он был как-то повинен в гибели
незнакомого юноши»; представляет на этом месте мать Яши: «Его
охватило паническое желание не дать этому замкнуться так и про­
пасть в углу душевного чулана, желание применить все это к себе,
к своей вечности, к своей правде, помочь ему произрасти по-но­
вому. Есть способ — единственный способ».
342
Последнее уверенное утверждение в этом высказывании при­
надлежит, впрочем, не Федору-персонажу: оно исходит от вер­
ховной авторской инстанции, существующей в пространстве уже
написанного «Дара». А Федору-персонажу еще предстоит неблиз­
кий путь к подлинному авторству: его роман возникнет не рань­
ше, чем достигнет счастливой кульминации любовный роман с
Зиной. Последняя глава сводит воедино, в центральную смысло­
вую точку главные тематические линии текста, которые могли
прежде казаться параллельными, но теперь сходятся как фраг­
менты единого тематического узора. Сам Федор, обретя «писа­
тельскую» способность видеть себя как участника разворачивае­
мого судьбой сюжета, понимает теперь всю артистическую тон­
кость истории его встречи и сближения с Зиной, ретроспективно
выстраивающуюся по модели изящной шахматной композиции.
То, что казалось Федору (и читателю) случайным, получает
неожиданную функциональность: и переезд на новую квартиру,
и отвергнутое предложение случайного работодателя, и сочиня­
емое в третьей главе стихотворение о еще неведомой возлюблен­
ной («Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина, полумерцанье в
имени твоем...»). На последних страницах «Дара» Федор сооб­
щает Зине о задуманном им романе, в котором он покажет трех­
ходовую попытку судьбы соединить их с Зиной. Первый ход —
переселение в тот же дом, куда только что въехала хорошо зна­
ющая Зину жена Лоренца, и приглашение на вечеринку к ним,
где присутствовала Зина. Второй — переданное через адвоката
Чарского предложение «помочь незнакомой барышне с перево­
дами каких-то документов». Наконец, третий ход, едва не со­
рвавшийся, — новый переезд, на этот раз непосредственно в
квартиру матери и отчима Зины. Финальный разговор Федора с
Зиной — обсуждение «технологии» написания будущего романа.
Здесь, на границе сюжетной развязки, завязывается новый, са­
мый сложный узел проблематики романа — проблематики его
многослойного «авторства» и соотношения прототипов и обра­
зов-персонажей романа.
Федор уже понимает необходимость дистанции между «авто­
биографическим» материалом и его романным пересозданием:
«... Я все это так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыг­
ну... таких специй добавлю, так пропитаю собой, что от автоби­
ографии останется только пыль, — но такая пыль, конечно, из
которой делается самое оранжевое небо». Являясь метаописани­
ем структуры «Дара», эти слова Федора могут служить внешне
убедительным доказательством его, Федора, итогового авторст­
ва. Однако до последнего печатного символа текста — до его
заключительной точки — Федор остается персонажем романа.
343
Его внутритекстовая компетентность, хотя и приближается к сте­
пени авторского всезнания, все же остается неабсолютной.
Наиболее красноречиво об этом свидетельствует иллюзорная
надежда Федора на то, что наконец-то им с Зиной удастся ос­
таться наедине в оставленной ее матерью и отчимом квартире.
Федор не знает, что принадлежащая Зине связка ключей забыта
ее матерью в запертой квартире и что, следовательно, кульмина­
ции их с Зиной отношений суждена отсрочка. Именно в этот
момент в последний раз в романе стремительно перебираются,
сменяя друг друга, все использованные в нем грамматические
формы местоимений, относящихся к Федору. Вот последователь­
ность, в какой напоследок окидывается авторским взглядом мес­
тоименный инвентарь романа: «он» — промежуточная безличная
конструкция («было», «нарастало») — «я» — «мы».
Последнее перед лирической кодой романа «мы» намеренно
создает модальность неопределенности, в равной мере относясь
к Федору с Зиной и к «следующему по классу измерению» —
всезнающему автору. Набоков оставляет своего героя в тот мо­
мент, когда он уже готов переступить отделяющую его от автора
черту: «...и для ума внимательного нет границы — там, где поста­
вил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой стра­
ницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка». Автор­
ская точка функционально оказывается запятой, потому что при­
глашает вернуться к первому предложению романа и перечитать
его как авторский беловик, написанный поверх черновика Фе­
дора.
«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» — первый англоязыч­
ный роман Набокова, знаменующий решающий поворот в его
писательской биографии, — по времени создания непосредствен­
но примыкает к «Дару» (написан в декабре 1938 — январе 1939
года, опубликован в США в 1941 году). Значительно более ком­
пактный по объему, новый роман имеет много общего с пре­
дыдущим. «Мигрирующими» оказались «матрешечная» структу­
ра романа в романе, многочисленные шахматные аллюзии сю­
жетных ходов, многослойная субъектная организация текста и,
наконец, сама проблематика «подлинности» воссоздаваемой жиз­
ни, взаимоотношений реальности и воображения.
Вместе с тем инвариантные компоненты набоковской прозы
получили в «Подлинной жизни»... новую стилистическую оркес­
тровку, а проблема взаимодействия «своего» и «чужого» сознаний
была существенно углублена. Принципиально новым стало вве­
дение дополнительного — языкового измерения этой проблемы.
Преемственность и новизна нового романа по отношению к
предыдущим отразились в характерном для Набокова перерас­
344
пределении инициалов своего прежнего псевдонима и фамилии:
повествователь «Подлинной жизни»... скрывается под инициа­
лом «В», а главный герой его романа унаследовал первую букву
псевдонима («С») и первые два звука фамилии Набокова. Еще
более существенным оказалось разделение «культурно-генеало­
гического» наследства двух сводных братьев: в то время как мать
повествователя — русская, а он сам в ходе сюжета — русский
эмигрант, Себастьян был рожден англичанкой и известен как
английский писатель. В расстановке персонажей Набоков ис­
пользует реализацию двух английских идиом — mother tongue
(родной язык) и half-brothers (сводные братья).
Внешняя сюжетная канва романа в осложненном виде пов­
торяет тот фрагмент «Дара», который посвящен работе Федора
над биографией своего отца. На этот раз повествователь В. пы­
тается написать правдивую биографию своего сводного брата
Себастьяна, а поскольку большая часть его жизни биографу не­
известна, он стремится заполнить биографические лакуны, опи­
раясь на свидетельства знакомых Себастьяна или его близких, а
также на писательское его наследие.
После эмиграции из России В. становится членом русской
колонии в Париже, в то время как его брат, еще в России взяв­
ший себе фамилию матери-англичанки, учится в Кембридже, а
потом делает блестящую писательскую карьеру как английский
писатель. Самый близкий Себастьяну в это время человек — его
возлюбленная Клэр Бишоп, идеальная спутница писателя и его
муза. За время раздельной жизни братья мельком встречаются
лишь дважды, а в 1936 году (год собственно сюжетного действия)
В. неожиданно получает от Себастьяна письмо, написанное порусски. Вскоре после этого приходит телеграмма, в которой до­
ктор Старов сообщает, что его пациент — в очень тяжелом со­
стоянии. В. спешит в Париж, надеясь застать брата живым, но
опаздывает.
Ситуация опоздания несколько раз повторяется в романе,
создавая общую схему безнадежной погони за утраченным вре­
менем. Восстанавливая картину последних лет жизни брата, В.
сталкивается с тем, что ключевой фигурой, способной пролить
свет на этот последний период биографии Найта, является его
таинственная русская возлюбленная, ради которой он оставил
Клэр. Поиск этой незнакомки составляет самую сложную и за­
путанную часть расследования, предпринятого биографом. Чем
ближе к разгадке подвигается поиск В., тем острее возникающее
у читателя ощущение, что сам маршрут и обстоятельства движе­
ния В. будто реализуют созданный воображением писателя Най­
та сюжет. «Реальная» и «романная» жизни причудливо сплетают­
345
ся, обмениваясь сходными эпизодами, людьми-персонажами и
деталями повествовательного фона.
Особенно яркий пример диффузии двух «жизней» — та по­
мощь, которую оказывает русскому биографу случайно встре­
ченный им попутчик по фамилии Зильберманн. Именно он в
решающий момент, когда В. уже утратил надежду разыскать пос­
леднюю возлюбленную Найта, берет на себя расследование и
добывает для биографа фамилии и адреса четырех вероятных
спутниц последних лет жизни писателя. При этом он, как выяс­
нится, не возьмет денег за работу и посоветует В. оставить поис­
ки женщины, поскольку, по его словам, нельзя увидеть обрат­
ную сторону луны. Между тем «Обратная сторона луны» — на­
звание последнего из рассказов Себастьяна Найта, самым «жи­
вым персонажем» в котором, если верить впечатлению В., был
некто Зиллер (портретные характеристики Зильберманна и Зиллера во многом совпадают).
Впечатление композиционной предуготовленности внешне
случайных перемещений В. усиливается тонким узором шахмат­
ных аллюзий, имплантированных в текст (вспомним о набоков­
ском уподоблении литературы и шахматной композиции). Пре­
жде всего это фамилии главного героя и двух ключевых в его
биографии спутниц, соответствующие английским (Knight — конь;
Bishop — слон) и русско-французскому (Tour — ладья, в русском
любительском обиходе — «тура») названиям шахматных фигур.
Световая палитра предметного фона в романе отчетливо ориен­
тирована на черно-белые, «шахматные» контрасты, о чем напо­
минает еще и трио периферийных персонажей Белов, Шварц
(нем. «черный») и Блэк (англ, «черный»).
Особого внимания заслуживает то, что местом смерти Се­
бастьяна оказывается Сен-Дамье. Французский «топоним» St.
Damier ставит инициал имени Найта перед словом «шахматная
доска». Более того: спешащий к умирающему брату В., пытаясь
вспомнить ускользнувшее из его памяти название городка, уве­
рен, что оно начинается на «м» — и в числе перебираемых вари­
антов первым называет Мат, тем самым невольно напоминая
читателю этимологию слова «шахматы» (арабское «шах мата»
буквально значит «король мертв»). Веер шахматно-лингвисти­
ческих аллюзий и пародийных намеков в романе чрезвычайно
разнообразен — от упоминаемой в связи с роковой Ниной Лесерф-Туровец «международной шпионки» Мата Хари до стран­
ного совпадения фамилий Клэр Бишоп и ее мужа (неочевидная
композиционная ирония последнего совпадения в том, что в
шахматных эндшпилях позиции с разноцветными слонами у иг­
рающих сторон приводят к полному уравнению — ничьей).
346
Еще более значим и семантически многозначен в романе
«шахматный» мотив рокировки, соотносящийся с темами эмиг­
рации, смены места жительства и окружения, перехода на дру­
гой язык, отчуждения, ухода в писательскую «башню из слоно­
вой кости»: французское tour — не только «ладья», но и «баш­
ня»; англ, castle — одновременно позиция рокированного коро­
ля, и в словосочетании castles in Spain — воздушные замки вооб­
ражения. О рокировке напоминает прежде всего «французский»
топоним Roquebrune (фр. Roque — «рокироваться») — место смер­
ти матери Себастьяна Вирджинии, причем ошибка Себастьяна,
попадающего в «другой Рокбрюн», напоминает о двух вариантах
рокировки в шахматах.
Менее очевидны, но столь же последовательны более тонкие
способы «рокировочных» аллюзий — использование буквенного
или цифрового кода. В шахматной нотации длинная рокировка
обозначается сочетанием символов 0 — 0 — 0, а короткая соот­
ветственно — 0 — 0. Первое кодированное указание на длинную
рокировку — лукаво раскрываемое инкогнито «старой русской
дамы» — Ольги Олеговны Орловой уже на первой странице тек­
ста. Первая аллюзия на короткую рокировку — в сцене проща­
ния В. и его матери с Себастьяном перед его отъездом в Кем­
бридж: женщина носит «отцовское обручальное кольцо» на том
же пальце, что и собственное, связав их черной ниткой. В даль­
нейшем мотив будет поддержан такими деталями описания, как
очки, велосипед, наперсток и т.п. — и будет всегда сопровож­
даться хронологическими или пространственными перемещени­
ями (встречи и проводы, сны и воспоминания).
Из других элементов шахматной нотации, используемых в
романе, важен символ взятия фигуры (замещения одной фигуры
другой на шахматной клетке) — «х», часто используемый, когда
речь идет о вымышленном или периферийном персонаже: фоне­
тическое остранение английской буквы «экс» в нескольких эпи­
зодах романа подчеркивает ее двойственный статус и семанти­
ческую многозначность.
Наконец, о еще одной важной шахматной аллюзии обмол­
вился сам Набоков в англоязычном варианте автобиографии
«Память, говори», когда, характеризуя свои отношения с братом
Сергеем, сослался на роман «Подлинная жизнь» с его «self-made
combinations». Буквальный перевод словосочетания («мат само­
му себе») в данном случае менее выразителен, чем принятый в
русской шахматной композиции эквивалент «кооперативный
мат»: подобный тип задач предполагает совместное участие чер­
ных и белых в достижении искомого результата, причем ходы
черных оказываются вынужденными, безальтернативными.
347
В одном из своих русских стихотворений Набоков изящно
определяет эстетическое совершенство как «ничью меж смыс­
лом и смычком». Прихотливая аранжировка шахматного под­
текста в романе полновесно обеспечена сложностью выражае­
мого им смысла. Всегда актуальная для писателя проблема вза­
имодействия разных сознаний или разных граней одного со­
знания в конце 30-х годов приобрела в его творчестве новое
измерение. Принятое им решение перейти в литературном твор­
честве на новый язык актуализировало для него проблематику
взаимодействия разных культур в пределах одного сознания, а
применительно к собственному будущему — вопрос о возмож­
ных пределах цельности создаваемого им художественного мира,
о способности сохранить уникальность «сирийского» дара, став
англоязычным писателем Набоковым. Предельная сложность
метаморфоз, происходящих в сознании меняющего язык ху­
дожника, тонкость грани между самообманом и подлинностью
его интуиций, между вполне возможной лингвистической рас­
щепленностью и труднодостижимой стилистической цель­
ностью его творений — вот смысловой пунктир ведущегося в
романе расследования.
Мотивы решающей трансформации, взаимообратимости и
встречного движения сложно сочетаются в романе с мотивами
подмены, миража, псевдооткрытия. Двойственный, бликующий
антураж предметного мира «Подлинной жизни» подыгрывает
«зависающей» модальности сюжетного развития: каждый ход
чреват как удачей, так и неуспехом героя. Уже в прежних рома­
нах Набоков использовал тактику затягивания сюжетной неоп­
ределенности, когда лишь ретроспективное озарение преобра­
жало мнимый беллетристический беспорядок в стройную ком­
позицию. Теперь он идет еще дальше, словно вынося за пределы
сюжета ключ к его семантической кристаллизации. Роман и дол­
жен до последнего предложения сохранять двойной «смысловой
шифр».
Вплоть до финальной сцены в «Подлинной жизни» удержи­
вается хрупкий баланс между двумя возможными версиями про­
исходящего. С одной стороны, в романе рассыпаны намеки на
то, что родство В. и Себастьяна — плод воображения биографа и
что весь роман — проекция его буйной фантазии. С другой, —
что В. являет собой повествовательную маску Себастьяна, пишу­
щего заключительный роман «Сомнительный асфодель». Впе­
чатления В. от этого романа содержат развернутое метаописание
собственно «Подлинной жизни»: «Человек умирает, и он — ге­
рой повествования; но в то время, как жизни других людей этой
книги кажутся совершенно реальными (или по меньшей мере
348
реальными в найтовском смысле), читатель остается в неведе­
нии касательно того, кто этот умирающий...».
Неразрешимая симметрия двух версий подрывает саму идею
независимой от воображения, «подлинной» жизни: понятия «под­
линности» и «воображения» оказываются взаимообратимыми
двойниками. Однако эта патовая ситуация все же снимается
финальным предложением: «Я — Себастьян или Себастьян —
это я, или, может быть, оба мы — кто-то другой, кого ни один из
нас не знает». Челночная смена грамматических форм лица «я»,
«он», «мы» повторяет прием, использованный в финале «Дара».
Оба потенциальных субъекта текста обретают статус персонажей
и стилистических призм романа, а их подлинной жизнью оказы­
вается сам роман, написанный неизвестным им «другим». Теку­
честь сюжетного времени- обнаруживает себя как сугубо беллет­
ристическая условность: единое синхронное пространство текс­
та отменяет хронологические барьеры между В. и Себастьяном и
позволяет им достичь «совпадения душ».
Именно в пространстве искусства, по ту сторону времени,
возможно подлинное прозрение, — таков смысловой итог рома­
на. Об этом догадывается в финале В.: «...Душа — это лишь фор­
ма бытия, а не устойчивое состояние, ...любая душа может стать
твоей, если ты уловишь ее извивы и последуешь им. И может
быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить
в любой облюбованной тобою душе...». Этот чрезвычайно важ­
ный фрагмент романа в переводе утрачивает, к сожалению, металитературный подтекст, столь важный в оригинале. Много­
значное слово «manner» (в двух русских переводах заключитель­
ного фрагмента, соответственно, «способ» и «форма») — одно из
наиболее частотных в романе, и соотносится оно не только с
«образом жизни» и «бытовыми манерами», но и с литературным
стилем писателя Найта, особенностями его художественного
мышления. Так, в 4 главе В. признается: «я не в состоянии даже
скопировать его манеру, поскольку его прозаическая манера была
манерой его мышления...». Ключевая роль слова в романе под­
черкнута в эпизоде сожжения писем Себастьяна, когда его свод­
ный брат успевает прочитать на уже исчезающем листе несколь­
ко русских слов, буквально переданных биографом по-английс­
ки как «thy manner always to find» («твоя манера вечно находить»).
Вот почему в финальном откровении В. о возможности по­
нимания чужой души эта возможность предполагает пониманию
стилевой уникальности «другого», умение находить «тематичес­
кие узоры» его творчества и следовать им.
И в русскоязычном, и в англоязычном творчестве Набоков
последовательно наделяет именно искусство свойствами прови349
денциальности, гарантируя «реальность» и «подлинность» толь­
ко художественному преломлению жизни в высоком искусстве.
В перспективе писательского будущего Набокова «Подлинная
жизнь» выглядит как авторская интуиция о стилистическом един­
стве его разноязычных творений и одновременно как рефлексия
о драматизме самого пути к этому единству.
Последнее письмо Себастьяна своему брату написано по-рус­
ски. Размышляя над последней книгой писателя, В. замечает:
«Мне нравятся ее манеры (в оригинале «manners» — А.Л.). И
порой я говорю себе, что было бы не так уж и сложно перевести
ее на русский язык».
Автор романа, уже перешедший на другой язык, никогда не
перестанет быть тем самым писателем, которого читатели рус­
ской эмиграции знали под псевдонимом В.Сирин.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Н абоков В .В . Собр. соч. В 4 т. — М .: П равда, 1990.
Н аи б о л ее п о л н о е н а сегодн яш н и й д ен ь соб ран и е русских р ассказов
и р о м ан о в писателя.
Н абоков В .В . Романы : П ер. с англ. — М .: Худож. лит., 1991.
В кн и гу вклю чены три ром ана, написанны х Н абоковы м по-ан гли й ски .
Во вступительной статье и ком м ентариях А Д о л и н и н а — характеристика
англоязы чн ого творчества Н абокова и глубокий анализ текстов.
Н абоков В .В . Bend Sinister: Романы: П ер. с англ. — С П б.: С евероЗап ад, 1993.
В сб о р н и ке — н ап и сан н ы е п о -ан гл и й ск и ро м ан ы в пер. С. И льи н а.
П еревод « П одл и н н ой ж и зн и С ебастьяна Н айта» в этом и зд ан и и точн ее,
чем в сб о р н и ке 1991 г.
Н осик Б . М ир и дар Н абокова: П ервая русская биография писателя. —
М .: и зд -в о «П енаты », 1995.
Н аи б о л ее д етал ьн ая биограф ия В .Н абокова н а русском язы ке. П о м и ­
м о со б ствен н ы х разы ск ан и й автор использовал в к н и ге м атериал ан гл о я­
зы чны х биографических исследований, в том числе ф ундаментальную двух­
том ную работу новозеландского биограф а Н абокова Б .Бойда.
Ш аховская З.А . В поисках Н абокова. //Ш а х о в с к а я З.А. В п о и сках Н а ­
бокова. О траж ения. — М .: К нига, 1991, с. 10 — 107.
К н и га о сн ован а н а личны х впечатлениях автора — одной и з зам ет­
ных ф и гур русской литературной эм и грац и и . П о м и м о рассказа о встр е­
чах с Н аб о ковы м предлож ены и н терп ретац и и некоторы х его п р о и звед е­
н и й . В к н и ге — р азм ы ш л ен и я о св язи Н аб окова с русской л и тературн ой
тради ц и ей и о стилевы х особенностях его прозы . Взгляд З .Ш ах о вск о й
отраж ает в осприятие творчества Н абокова частью русской эм и грац и и .
B oyd В. V.Nabokov: T he Russian Y ears. — P rinceton: Princeton U niversity
Press, 1990.
B oyd B. V.Nabokov: T he American Y ears. — P rinceton: P rinceton U niver­
sity Press, 1991.
350
Д вухтом ная н аучная би о гр аф и я писателя, н ап и с ан н а я Б .Б о й до м , —
сам ы й авторитетны й н а сегодня биограф ический источник. П о м и м о тщ а­
тельн ого о п и сан и я ф актов литературной эвол ю ц и и к н и га содерж и т к о м ­
п актн ы е и н терпретации больш инства произведений Н абокова.
Анастасъев Н .А. Феномен Набокова. — М .: Сов. п и сатель, 1992.
П ервы й в Р осси и м о н о гр аф и ч еск и й о черк о творчестве п исателя.
А втор м ного разм ы ш л яет о со отн ош ен и и «русскости» и «нерусскости»
Н аб окова.
Бицилли П .М . Возрождение аллегории — Р усская ли тература, 1990,
№ 2 , с . 1 4 7 - 154.
О дна и з лучш их в русской эм и гран тской к р и ти ке статей о В .С и ри н е
(п ервая п у бликация — в 1936 г.). Автор обсуж дает стилевы е схож дения
Н аб окова с М .Е .С ал ты к овы м -Щ ед ри н ы м и предлагает тракто вку р о м а­
н а «П ри глаш ение н а казнь».
Долинин А. А. Цветная спираль Набокова //Н а б о к о в В.В. Р ассказы .
П ри гл аш ен и е н а казнь. Ром ан. Э ссе, и нтервью , р ец ен зи и . — М .: К н и га,
1989, с. 438 - 469.
Долинин А А «Двойное время» у Набокова (От «Дара» к «Лолите») / /
П ути и м ираж и русской культуры. — СП б.: «Северо-Запад» , 1994, с. 283322.
Д ве статьи А .Д ол и н и н а принадлеж ат к числу лучш их, н аи б о л ее п р о ­
н и ц ательн ы х в отечественном набоковедении. И сследуется м н о го сл о й н ость худож ественного м и ра писателя, вы явл яю тся ва ж н е й ш и е черты
м и р о во ззр ен и я и п о эти к и Н абокова.
Ерофеев В .В . В поисках потерянного рая (Русский метароман В.Набо­
кова) //Е р о ф е е в В.В. В л аб и р и н те прокляты х вопросов. — М .: Сов. п и с а ­
тель, 1990, с. 162 — 204.
В ы является ед инство р о м ан ов п исателя, которы е, п о м ы сл и и ссл е­
дователя, составляю т ц ел ьн ы й м етаром ан.
Ж олковский A Philosophy of Composition (К некоторым аспектам струк­
туры одноголитературного текста) //К ул ьтура русского м одернизма. Статьи,
эссе и публикации. — М .: Н аука, иэд. ф ирм а «Восточная литература», 1993,
с. 390 - 399.
Б лестящ ее литературоведческое эссе о рассказе Н аб о ко в а «В есна в
Ф иальте». Д ем онстрируется глубинная содерж ательность его ф о р м ал ь ­
ны х прием ов.
Левин Ю .И . Биспациальность как инвариант поэтического мира В.На­
бокова — Russian L iterature, A m sterdam . — X X V III, № 1 , 1990, с. 45 — 124.
Левин Ю .И . Об особенностях повествовательной структуры и образного
строя романа В.Набокова «Дар» — Russian Literature. A m sterdam , IX, № 2,
1981, с. 191 - 229.
П ервая статья Ю .Л евина содерж ит общ ее оп и сан и е п о э ти к и Н аб о ­
кова, вторая интерпретирует его самы й слож ны й русский р ом ан .
Леденев А В . Владимир Набоков //Р у с с к а я литература XX века. 11 класс:
У чебник для общ еобразовательны х учебны х заведений. /П о д ред. В.В.Агеносова. Ч асть 1. — М.: Д р о ф а, 1997, с. 489-525.
В главе учебника содерж ится подробны й ан ал и з р о м ан а В .Н аб о ко ва
«П риглаш ение н а казнь». Д ан ы вопросы для углубленного и зучен и я этого
произведения писателя.
351
М ихайлов О. В.В. Н абоков. //Р у с с к а я литература XX века. Ч асть 1. —
М : П р освещ ение, 1994, с. 349 — 360.
А втор отстаивает взгляд н а Н аб оков а к ак на писателя, чуж еродного
русской литературной традиции, — интеллектуала и виртуоза ф орм ы .
Ходасевич В. О Сирине. «Защ ита Луж ина». «Камера обскура». //Х о д а ­
севич В. Ф . К олеблем ы й трен ож н и к: И збранное. — М.: Сов. писатель,
1991, с.458 — 463, 556 - 562.
В статьях и рец ен зи ях лучш его, п о м н ен и ю Н абокова, к р и ти ка рус­
ского зарубежья содерж ится «эстетическая» трактовка произведений п и са­
теля.
P a rk er S. Understanding Vladimir Nabokov. — C olum bia: U niversity o f
South C arolina Press, 1987.
К н и га н ап и сан а в популярном когд а-то в Р осси и ж анре «сем и н а­
рия» : ее цель — ввести нач и н аю щ его изучать Н аб окова студента в п р о ­
блем ати ку творчества писателя, п о зн ако м и ть с осн овн ы м сти ли сти чес­
к и м репертуаром. Н ап и сан а очен ь я с н о и м ож ет бы ть р еком ен д ован а
лю бом у владею щ ем у ан гл и й ск и м я зы к о м студенту.
Tammi Р . Problems o f N abokov’s. Poetics. A N arratological Analysis. —
Helsinki: Suom alainen T iedeakatem ia, 1985.
О дн о и з самы х исчерпы ваю щ их оп и сан и й п о эти к и п исателя с п о зи ­
ц и й нарратологии.
T he G arland Companion to Vladimir Nabokov /E d . by V.Alexandrov. —
N .Y ., L ondon: G arland Publishing, 1995.
И здан и е эн ц и кл оп еди ч еского характера, по ф орм е н ап о м и н аю щ ее
п оп улярн ую в наш ей стране «Л ерм онтовскую энциклоп еди ю ». С одер­
ж и т ко м п актн ы е интерп ретац и и н аб оковски х прои зведен и й , вы п о л н ен ­
н ы е л учш и м и набоковедам и м ира.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
(1881- 1925)
«ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ»
У него была обманчивая внешность эстетствующего гурмана:
крупный, круглолицый, дородный мужчина с щегольским пен­
сне на мясистом носу. По воспоминаниям К.Чуковского, Авер­
ченко появлялся на публике «в преувеличенно модном костюме,
с бриллиантом в сногсшибательном галстуке, ...сыпал острота­
ми». Толпы поклонников собирались посмотреть на «короля
смеха», как его единодушно окрестила критика. По воспомина­
ниям другого современника (И.Сургачева), в улыбке Аверченко
всегда «можно было прочесть: «Я — парень хороший и товарищ
отменный, но пальца в ррт, пожалуйста, не кладите. Против
воли откушу. У меня широкая рука: когда есть что — поделюсь.
Но своего не спущу. В ресторан же всегда готов». Большинство
журнальных дел возглавляемого им «Сатирикона» («Нового Са­
тирикона») он так-таки решал с сотрудниками в кабинетах рес­
торанов, самых скромных в начале издательской деятельности, в
фешенебельных, когда к нему пришла известность, и наконец в
аристократическом «Пивато», где бывало высшее общество Рос­
сии. По легенде, именно в «Пивато» его застало известие о Фев­
ральской революции.
И лишь немногие близкие к писателю люди знали, что в бес­
пощадном сатирике живет любовь к людям (особенно детям), а
12—1662
353
модное пенсне скрывает больные глаза. «Левый глаз,— вспоми­
нал писатель Н.Брешко-Брешковский, — хранил жуткую слепую
неподвижность (он повредил его еще в 90-е годы в уличной дра­
ке, отстаивая свое достоинство — В.А.), а правый излучал что-то
мягкое, вдумчивое, задушевное, что влекло чужие сердца к его
обитателю».
Аркадий Тимофеевич Аверченко родился 18 марта 1881 года
в Севастополе. О своих первых шагах в жизни и литературе он
написал в иронической «Автобиографии». Само ее начало свиде­
тельствует о неприязни писателя к любым шаблонам: «Еще за
пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый
свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому,
что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных
людей, жизнь которых с утомительным однообразием описыва­
лась непременно с момента рождения». Об отце Аверченко пи­
шет, что тот, «будучи по профессии купцом, не обращал на меня
никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и
планами: каким бы образом поскорее разориться. ... Добрый ста­
рик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом».
В 15 лет мальчика, из-за болезни глаз окончившего всего два
класса гимназии, определили служить в транспортную контору,
а через год (в 1897-м) он становится конторщиком Акционерно­
го общества Брянских каменно-угольных копей. Служит сначала
в провинции, а затем в Харькове, где находилось руководство
компании. Несмотря на самостоятельный характер, он продер­
жался там 6 лет, точнее, его держали. «Вероятно, потому, — объ­
ясняет писатель*— что я был превеселым, радостно глядящим на
широкий божий мир человеком, с готовностью откладывающим
работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что
освежало окружающих, погрязших в работе, в скучных счетах и
дрязгах».
Литературная деятельность Аверченко началась в 1903 году
(а не в 1904-м, как ошибочно указывает он сам). Далее следова­
ло редактирование харьковских журналов «Штык и меч», пере­
езд в 1907 году в Петербург и создание в 1908-м журнала «Са­
тирикон» (с августа 1914 года — «Новый Сатирикон»), где со­
брался цвет русской сатиры: Тэффи, Саша Черный, В.Маяков­
ский, А.Толстой, А.Ремизов, А.Грин. Для «Сатирикона» рабо­
тали художники Ре-Ми, Л.Бакст, И.Билибин, М.Добужинский, А.Бенуа, Н.Альтман. Не было в России читающего челове­
ка, не слышавшего про «Сатирикон» и Аркадия Аверченко.
Сорок книг издал писатель до 1917 года. Только «Веселые ус­
трицы» (один из его лучших сборников) переиздавались 20 раз.
Он смеялся над «усмирителями» России, черносотенцами, вы­
354
сокопоставленными чиновниками, над царской семьей, высме­
ивал обывателей, дураков, продажную прессу, не жаловал пред­
ставителей «нового искусства» — модернизма.
О его отношении к Февральской революции можно судить
по обложке одного из номеров «Нового Сатирикона». Как извес­
тно, Николай II писал резолюции на наиболее понравившихся
ему документах: «Прочитал с удовольствием — Николай». На
рисунке журнала — текст царского манифеста об отречении от
престола и резолюция: «Прочитал с удовольствием — Аркадий
Аверченко». Об этом же «Мой разговор с Николаем Романо­
вым». Писатель приветствовал Временное правительство («Мое
самоопределение»). Он ждал от него действий, перемен и пото­
му писал: «И если вся Россия затрещит от этой власти, и слава
Богу. Это хороший треск! Так трещат кости у человека, который
сладко потянулся перед тем, как засесть за долгую работу» («Как
мы это понимаем»).
Октябрь 1917-го писатель не принял по многим причинам.
Он не может смириться с ухудшившейся жизнью, ее дорожанием («Запутанная и темная история», «Индейка с каштаном»).
«Когда нет быта с его знакомым уютом, с его традициями —
скучно жить», — писал он в рассказе «Быт». Не устраивало
его и пренебрежительное отношение большевиков к нацио­
нальным, патриотическим идеям («Капли крови»). Наконец,
в 1918 году власти закрыли «Новый Сатирикон» — главное
детище писателя.
В том же году Аверченко со товарищи через Украину пересе­
ляется в Крым, где сотрудничает в газете «Юг» («Юг России»).
Фельетоны писателя бьют не только по большевикам, но и по
белым властям. «Юг» был закрыт, и лишь визит знаменитого
писателя к «черному барону» П.Врангелю позволил продолжить
деятельность этого издания.
В октябре 1920 года Аверченко вместе со 130 тысячами бе­
женцев покидает Россию. Путь его лежит в Турцию. С июля 1922
года писатель живет в Праге. Он отвергает все предложения эмиг­
рировать в Париж: хочет быть ближе к родине, слышать славян­
скую речь. Он много пишет и широко публикуется.
Почти в каждом номере сначала константинопольской газе­
ты «Presse du Soir (Вечерняя пресса)», а затем софийской «Русь»
появляется то рассказ, то фельетон писателя.
В небольшом фельетоне «Жизнь за Троцкого» сатирик пере­
делывает оперу Глинки «Жизнь за царя» на советский манер.
Советский режиссер Мейерхольд, иронизирует Аверченко, ка­
ламбуря на фамилиях, придаст музыке Глинки фарфорность, вве­
дет в первый акт «волосяные скальпы от Чека», «световые эф­
12*
355
фекты — первой пулеметной команды». «В конце третьего акта
на сцене будут расстреляны три саботажника». Завершается фель­
етон страшно: «А ночь молчала: у нее были выколоты глаза».
Сатирик охотно пользуется и басенными персонажами и сю­
жетами. В фельетоне «Легенда Бискайцского залива», например,
он рассказывает, как в партию большевиков пришли записы­
ваться лошадь, корова и осел. Последний, обосновывая свои за­
слуги, утверждает: «Только благодаря мне коммунисты в России
у власти ... Ослами только и держитесь». Фельетон завершается
авторским комментарием: «У Брема сказано: «Ослы водятся почти
во всех европейских и азиатских странах». Вероятно, поэтому
коммунисты так и задержались в России».
Впрочем, в фельетонах Аверченко 20-х годов достается не
только большевикам (ВЛенину, Л.Троцкому, А.Луначарскому),
но и А.Керенскому, иронически названному «Первым любо­
вником революции».
Мастерски владеет писатель и жанром короткого отклика на
события. Аверченко создал огромный цикл «Волчьи ягоды» —
цитаты из газет, речей различных деятелей с кратким, но пора­
зительно едким авторским комментарием. Так, на появившееся
в газетах сообщение, что советский дипломат В.Воровский был
возвращен с итальянской границы с огромными запасами цен­
ностей, писатель откликнулся кратким фельетоном «Полномоч­
ный посол», где всего лишь обыграл фамилию большевика, на­
звав его Громильским. Выбрав из опубликованного в советской
прессе выступления чекиста Я.Петерса перед ростовскими рабо­
чими слова «Разве это голод, когда ваши ростовские помойные
ямы набиты разными отбросами», писатель дал свой коммента­
рий: «Устроили из всей Великой России — один общий котел:
помойную яму».
На словесной игре построен и комментарий к газетному со­
общению «Вчера ковенская полиция обходила город и искоре­
няла русские вывески; ни одного Шлимана и Гузина не найдешь
в городе. Все превратились в «Шлимансов» и «Гузикасов» и даже
доктор Владимирцев преобразовался во Владимироваса». «Ли­
товцам, — пишет в своем мини-комментарии сатирик, — можем
сказать на чистом литовском языке: «Кудавас чертивас несут?
Если не образумитесь, то... скоровас постигневас жестоковас расправас».
Продолжая традиции дореволюционного «Сатирикона», Авер­
ченко составляет иронический словарь, сопровожденный поме­
той «Агитпросветом и Пролеткультом к обращению не допущен».
Среди включенных туда понятий «Аристократ — по советской
орфографии — Ористократ. Потому, что ори русский человек
356
сто крат, ори двести крат — все равно мир не услышит его»;
«наган — единственное кушанье, которым надеются накормить
голодных коммунисты. Если же обед из трех блюд, то на второе
маузер, а на сладкое — парабеллум»; «триллион — карманная
мелочь советского гражданина на дневные расходы. Возится за
ним на трех автомобилях»; «Керенский — манекен для френча
модного и торгового дома «Зензилов, Минор и К°». Перед упот­
реблением взбалтывать. Когда говорит — бьет себя в грудь, так
ему и надо».
Его сатира была столь разительна, что ее не выдерживала ни
царская, ни врангелевская, ни советская цензура. С ним пыта­
лись заигрывать Николай II и ВЛенин. Первый пригласил его
для личного знакомства в свою летнюю резиденцию — Царско­
сельский дворец; второй своей рецензией «Талантливая книга»
на сборник Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» от­
крывал сатирику возможность покаяться и вернуться на родину.
«Ни во дворец тогда, ни тем более в Кремль теперь я не поеду», —
сказал своим коллегам по эмиграции Аверченко. А в фельетоне
«Pro domo sua» («Presse de Soir», 1921, 14 декабря) писал: «Раз я
«озлобленный белогвардеец» — как же можно говорить, что мои
«рассказы заслуживают перепечатки. Таланты нужно поощрять».
А ну — поверь я вдруг, да сдуру и вернусь в Советскую Россию?
Энти поощрять. Так поощрять, что буду я, издырявленный, скво­
зить, как ажурный чулок .... Сижу и думаю: а не организовать
ли «общество защиты писателей от ласкового обращения»?..
Теперь у меня есть гордое ощущение, что я принес России ощу­
тительную пользу — отнял у Ленина часа полтора своей особой,
значит одним декретом меньше, значит десятью нерасстрелян­
ными больше».
В отличие от большинства эмигрантов он и в Праге не ходил
на приемы советского торгового представителя В.Антонова-Овсеенко, того самого, кто арестовал Временное правительство.
Незадолго до смерти Аверченко почти полностью ослеп. Жа­
ловался, что «тяжело как-то стало писать... Не пишется... Как
будто не на настоящем стою...» Умер он 12 марта 1925 года и
похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Пятью годами
позже русско-чешское общество «Мир» поставило на его могиле
скромный обелиск с крестом. Над обелиском — береза.
Проблематика его творчества после октября 1917 года много­
образна.
Теме революции посвящены книги «Нечистая сила» (1920),
изданная еще в Севастополе, и «Дюжина ножей в спину револю­
ции» (1921), вышедшая в Париже. Большинство вошедших в них
миниатюр выдержаны в фельетонной манере: публицистическая
357
двуполюсность оценок, пародийное использование фольклор­
ных и классических сюжетов, включение в текст документаль­
ных материалов, гиперболизация реальных фактов до абсурда.
Характерно, что Аверченко не отказывается от идеи револю­
ции. Он пишет:
«Нужна была России революция?
Конечно нужна.
Что такое революция? Это переворот и избавление.
Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить —
избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что
снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судо­
роге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не
видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с
избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дура­
ки, — готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей
в спину». ...Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню — в
дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер,
вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Ве­
ликую Свободную Россию!».
Писатель использует прием антитезы, сопоставляя до- и пос­
лереволюционную жизнь. В прежние времена, пишет он, «та­
щила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину, и мучицу, и
овощь всякую, и фрукту — и не было тогда Совнархоза. Волос
дыбом, когда подумаешь как по-свински жили — безо всякого
Совнархоза, без Агитпросвета и Политкома обходились, как ди­
кари какие-то... Убоинку каждый день лопали, пироги, да поро­
сенка, да курчонка ценой в полтину. А нынче Спирька — главкомвоенмор, всюду агитпросветы и пролеткульты... У барышни,
игравшей по воскресеньям «Молитву Девы», рояль реквизирова­
ли, школьники, бездумно переводившие намоченными пальца­
ми пересъемочные картинки, передохли от социалистической
голодухи, а купца ... просто утопили в речке за то, что был «мел­
кий хозяйчик и саботировал Продком» («Наваждение»). В фель­
етоне «Моя старая шкатулка» рассказчик воспроизводит старые
счета за обед в ресторане, за покупку туфель, за пошив костюма,
называет цену за прогулку на таксомоторе, рассказывает о воз­
можности дешево снять квартиру или поехать в Африку, Египет,
Венецию — обо всем том, что безвозвратно ушло в прошлое. В
«Поэме о голодном человеке» «в одной из квартир Литейного
проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, по­
жав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пусто­
го, освещенного воровским светом сального огарка», чтобы вспом­
нить забытые слова «панированная телячья котлета», «фрит»,
«бифштекст по-гамбургски», «пулярка», «поросенок» и даже «на­
358
вага» и «пиво». В финале рассказа писатель «обыгрывает» назва­
ние известного сборника арабских сказок: «Тысяча первая го­
лодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча
первое голодное утро».
Прочитавший «Дюжину ножей в спину революции», В.Ленин писал в иронической рецензии на эту книгу, что Аверченко
поднимается до настоящего пафоса, «когда говорит о еде. Как
ели богатые люди в старой России, как закусывали ... за 14 с
полтиной и за 50 рублей и т.д.». Вождь Октября предпочел не
заметить, что писатель не ограничился сопоставлением до- и
послереволюционной жизни богачей. В рассказе «Черты из жиз­
ни рабочего Пантелея Грымзина» он сопоставил, как теперь го­
ворят, потребительскую корзину рабочего в эти два периода.
При «хозяине-кровопийце» за поденную плату в два с полтиной
Пантелей отремонтировал сапоги и на оставшийся рубль купил
«полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, пол­
бутылки водки, бутылку пива и десяток папирос» и еще оста­
лись четыре копейки. Весной 1920 года Грымзин получил за
один день 2700 рублей, 2300 истратил на ремонт сапог, «купил
фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых...
Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел».
Столь же «вкусно» говорит сатирик и о еде и жизни больше­
вистских вождей и их прихлебателей: о заливной рыбе, телятине,
макаронах с пармезаном, крупчатке и малороссийской колбасе,
сахаре на столах и в кладовых Л.Троцкого, АЛуначарского, М. Горь­
кого, о жарко натопленных квартирах, где «народные трибуны»
играют в карты. На этом фоне грозным обвинением режиму вос­
принимается скупое упоминание об умирающих прямо на улицах
от голода, о мерзнущем от холода населении, о вершившихся рас­
стрелах ни в чем неповинных людей. («Добрые друзья за рам­
сом»). В преамбуле рассказа Аверченко вспоминает гоголевское
описание Потемкина и Екатерины II. Формально цель этого опи­
сания — доказать преимущества живого писательского слова пе­
ред историческим описанием. Но по сути эта преамбула призвана
показать, что картинка царской жизни, нарисованная Н.Гоголем,
меркнет в сравнении с жизнью партийных бонз.
Можно спорить, насколько удалась писателю фантазия на тему
жизни Троцкого-мужа и Ленина-жены («Короли у себя дома»).
Ленин считал, что «злобы много, но только непохоже». Но нет
сомнения, что вполне удалась фельетонисту «Новая русская сказ­
ка», переосмысливающая сюжеты «Красной Шапочки» и «Серо­
го Козлика». Заграничный мальчик Троцкий сговаривается с
Красной Шапочкой: «А что, товарищ, не слопать ли нам коз­
ла?» — свалив все на волка. Затем оба «пришили» старушку и за­
359
жили припеваючи: «Мальчик на старухиной кровати развалил­
ся, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хло­
почет, сундуки взламывает». Обиженный поклепом на него Се­
рый Волк приходит разбираться:
«Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спра­
шивает:
— Отчего у тебя такой язык длинный?
— Чтобы на митингах орать.
— Отчего у тебя такой носик большой?
— При чем тут национальность?
— Отчего у тебя большие ручки?
— Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь
награбленное!
— Отчего у тебя такие ножки большие?
— Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в
Швейцарию убегать?!»
Съел Волк заграничного мальчика, наказал глупую девчонку
и навел «такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и
привольно». И «к черту охотника, — завершает сказку автор. —
Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить...»
Стремясь наиболее полно показать несоответствие реальной
революции демократическому идеалу, Аверченко то использует
в качестве метафоры ее сравнение с «Луна-Парком» («Чертово
колесо»), то предложит читателю, как в кино, прокрутить пленку
в обратную сторону: от Октября 1917-го к 17 октябрю 1905-го.
Трагические последствия Октябрьского переворота, жизнь
средней интеллигенции в Крыму и эмиграции стали содержани­
ем последующих книг Аверченко. Фельетонный стиль сочетает­
ся с более тонким нюансированием описываемого, использова­
нием новеллистической сюжетной манеры, усложняются выра­
зительные средства Аверченко-художника.
Первую свою книгу, изданную в эмиграции, писатель назвал
«Кипящий котел» (1920). «Я хочу этой книгой, — объяснял Авер­
ченко во введении, — закрепить период нашего годового кипе­
ния в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло
пятки, — одним словом, я хочу, чтобы все, уплывающее из на­
шей памяти, расположилось ясными, прямыми, правдивыми стро­
ками на более прочной, чем мозг человеческий, — бумаге. Мой
кипящий котел — это Крым эпохи «врангелевского сидения». ...
Мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски, — пережили ди­
кий «Кипящий котел» на своих многострадальных боках!..»
Книга состоит из шести разделов: «Оскудение и упадок»,
«Обнищание культуры», «Денежная гипертрофия», «Спекуляция»,
«Демократия», «Бесквартирье».
360
Аверченко берет бытовые ситуации и доводит их до абсурда,
до буффонады. Мошенники у него не могут мошенничать: слиш­
ком дорого стоят необходимые для жульничества орудия, и они,
скрепя сердце, становятся вполне «законными» спекулянтами
(«Страна без мошенников»). «Леденящая душу история» заклю­
чается в том, что талантливый молодой человек не может подпи­
сать контракт с нанимающим его обществом, так как контракт
подписывается на три года, цены же растут еженедельно. К кон­
цу срока контракта его месячный оклад должен достичь 4 билли­
онов рублей, но тогда с учетом перевозки само производство
станет нерентабельным. В рассказе «Прогнившие насквозь» муж
ушедшей от него жены страдает от того, что не успел записать
адрес ее любовника, с которым он вместо дуэли договорился о
покупке двенадцати дюжин перчаток. Впрочем, и жена, и увед­
ший ее господин вместо пылких объяснений в любви обсуждали,
кто будет платить за поездку к новому месту жительства и будут
ли они жить в квартире или комнате. Комизм рассказа «Ищут
комнату» в том, что молодой человек, давший в газете объявле­
ние «Согласен жениться на хозяйской дочери за комнату», все
время говорит с отцом девушки о комнате, а тот — о дочери:
«— ...комната хорошенькая?
— Ничего себе. А дочь, можете представить, такая способная:
кончила за четыре класса...
— Светлая? — М...м... Как вам сказать? Скорее каштановая.
— Обои, что ли?
— Нет, одна. У меня единственная.
— Обои, вы говорите, каштановые или что?!
— Волосы.
— Чьи?!
— Дочкины.
— А, чтоб вас! Я вас о серьезном спрашиваю, а вы мне о
пустяках».
Финал рассказа доведен до буффонады: услышав после свадь­
бы предложение поискать квартиру, герой убивает новоиспечен­
ную супругу. На суде «прокурор плакал навзрыд и заявил, что не
обвинять, а защищать будет убийцу». Присяжные оправдали не­
счастного Гришу, лишив его тюремного жилья, отказавшись по­
садить в сумасшедший дом или даже в контрразведку. «Значит
опять на мыльные ящики? — возмущается Гриша. — Ну и суд у
нас в России!».
Персонажи «Кипящего котла» сравниваются автором с раз­
личными сортами фарфоровых статуэток. «Одни — старые, по­
тертые, в обветшалых, но изящных, художественно помятых,
мягких шляпах и в старинных, лопнувших даже кое-где, ботин­
361
ках... Статуэтки, нечто вроде старого Сакса или Императорского
фарфорового завода, за которые любители прекрасной старины
платят огромные деньги. И другие статуэтки — новые, сверкаю­
щие, в пальто с иголочки, в дурно сшитых многотысячных лаки­
рованных ботинках с иголочки, чисто выбритые, иногда зави­
тые. Это — ярко раскрашенное аляповатое фарфоровое изделие
от берлинского Вертгейма, выпущенное в свет в тысяче штампо­
ванных одинаковых экземпляров. Это — новые миллионеры.
Первые статуэтки элегически грустны, как, вообще, грустно все,
на чем налет благородной старины, вторые — тошнотворно са­
модовольны. У вторых вместо мозга в голове слежавшаяся грязь,
и этой грязью они лениво думают, что наша теперешняя жизнь
самая правильная и что другой и быть не может».
Это противопоставление пройдет через все дальнейшее твор­
чество Аверченко, воплотится и в «Дюжине ножей...» (хроноло­
гически они написаны позже «Кипящего котла»), и в «Записках
П ростодушного».
Если первые вспоминают о петербургских закатах, постанов­
ках «Аиды», «Кармен» и «Онегина», об Айседоре Дункан, Лео­
ниде Андрееве и «Сатириконе», об изысканных блюдах рестора­
нов и светской суете, то разговоры вторых о семи ящиках лимо­
нов и двенадцати спичек, о какао, которым торговца «Амбарцуна завалили» («Осколки разбитого вдребезги»).
Главными объектами осмеяния становятся нувориши, те, кто,
спекулируя на трудностях земляков, создал себе «роскошную»
жизнь. «Раньше, — каламбурит Аверченко, — на добром стяге
было написано «Сим победиши!» Теперь, вместо Сима, пришла
пора другого Ноева сына... На русском стяге красуется по ново­
му правописанию: «Хам победиши!» При этом писатель не про­
водит различия между хамами-эмигрантами и новой советской
знатью. И те, и другие шагнули из грязи в князи, оставшись
пошляками и невеждами. Целая галерея таких типов выступает в
рассказах «Константинопольский зверинец», «Второе посеще­
ние зверинца», «Русские женщины в Константинополе». «Хозя­
евами жизни», важно сидящими в заграничных ресторанах, ста­
ли петербургские проститутки Динка-Танцуй и Манька-Кавардак, бывший торговец бычачьими шкурами и солеными кишка­
ми Филимон Бузыкин, мошенник Христофор Христолидис. А в
России устраивают «шикарный» бал портные Еремей Обкорналов и Птахин, сапожник Сысой Закорюкин, слесарь Огуреч­
ный, торговка Голендуха Паскудина («Аристократ Сысой Зако­
рюкин»). Швейцаром в константинопольских ресторанах слу­
жит бывший профессор Бестужевских курсов, человек у вешал­
ки — генерал, официантки — графиня и баронесса. Из разно­
362
чинцев, иронизирует автор, лишь буфетчик — бывший настоя­
тель Покровского собора. Та же картина у советских аристокра­
тов: играть на балу наняты голодающие профессиональные му­
зыканты экстра-класса, мороженое делает бывший профессор
химии. Развозят по домам участников вечеринки кучер барон
Менгден, шофер князь Белопольский, извозчик граф Гронский.
Почти фантастически выглядит не то, что рассказчик-писатель,
придя навестить известную актрису, живущую в доме барона Д.,
обнаруживает, что она служит горничной и выдает себя за про­
стую бабу, и не то, что бывший генерал, ныне швейцар, прихо­
дит к той же Аннушке с черного хода, а то, что хозяева, узнав в
рассказчике создателя «Сатирикона», предоставляют домработ­
нице и ее посетителям гостиную, а сами раздувают самовар и
бегут в лавку («Русское искусство»).
В этом презрении к новоявленным «хозяевам жизни» нет даже
оттенка высокомерия. «Если бы твоя рука по-прежнему остава­
лась красной рабочей рукой, — обращается Аверченко к «под­
вальному мальчику», явившемуся делать маникюр, — я, если хо­
чешь, поцеловал бы ее благоговейно, потому что на ней написа­
но святое слово «труд» («Старый Сакс и Вертгейм»). Но когда
маникюр скрывает духовное убожество, когда новоявленный
джентльмен редко моется, но проворно занимает первые места,
писатель обрушивает на него весь свой сарказм.
Аверченко с гневом говорит, что «подвальные мальчики» дав­
но уже потеряли право называть себя рабочими, так как ненави­
дят и презирают работу («Дневник одного портного»). Доводя до
абсурда идею классовой борьбы, сатирик создает фантастическую
картину, как попавшие в катастрофу моряки вместо того, чтобы
грести день и ночь и привести лодку к берегу, создают профессио­
нальный союз, устанавливают восьмичасовой рабочий день, от­
казываются грести по праздникам, устраивают забастовки и в
результате погибают. От всего этого выиграли акулы, сожравшие
дождавшихся шторма классовых борцов («Драма на море»).
Если в описаниях «новых русских» Аверченко сохраняет фель­
етонный стиль, то, обращаясь к портретам рядовых эмигрантов,
он более тонко нюансирует свое отношение к ним, создает мно­
гообразие лиц и типов русского человека в эмиграции.
Наибольшим уважением писателя пользуются те, кто и в ус­
ловиях трудной жизни сохранил интеллигентность, чувство со­
бственного достоинства. «Я не Маруся, — гордо «отшивает» на­
глого Филимона Бузыкина официантка из рассказа «Русские
женщины в Константинополе». —Я баронесса Тизингаузен. Меня
зовут Елена Павловна». На наглые притязания сего ухажера ба­
ронесса отвечает звонкой пощечиной. По-старому любит де­
363
вушку некий Молодой Человек (писатель пишет эти слова с
заглавных букв именно потому, что его персонаж действительно
сохранил все качества человека) из рассказа «Сентиментальный
роман».
Оптимист по натуре, Аверченко с удовольствием рассказыва­
ет о тех русских, чей оптимизм помогает им выжить. Бывший
журналист лежит в гробу в оккультном кабинете и отвечает на
вопросы посетителей, бывший поэт «ходит в женщине»: влезает
в бабу из картона и рекламирует ресторан; сестра журналиста
«состоит при зеленом таракане»: носит зеленый бант — цвет ез­
дока на тараканьих бегах и ведет запись в тараканий тотализа­
тор. «Ой, крепок еще русский человек, — завершает рассказ Авер­
ченко, — ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не
пугает, ежели простой таракан его кормит» («О гробах, тарака­
нах и пустых бабах внутри»).
Милый студентик Петя Козырьков, чтобы не быть изгнан­
ным из убогой комнаты, назанимал денег у знакомых, купил
пятьсот коробок сгущенного молока, а через месяц, когда цены в
очередной раз подскочили, продал их, нажился, вернул долги и
вновь купил. Теперь он владелец торгового дома («Торговый дом
«Петя Козырьков»).
Интерес писателя вызывает и другая категория русских лю­
дей, чья широта характера и непрактичность приводят их к кра­
ху. Отношение Простодушного (как называет себя автор) к ним
неоднозначно: здесь и насмешка, и сочувствие («Аргонавты и
золотое руно», «Утопленники»). Еще ранее такое смешанное от­
ношение проявилось к персонажам рассказа «Осколки разбитого
вдребезги». Старички (бывший сенатор, а нынче поденщик на
артиллерийском складе и бывший директор металлургического
завода, а ныне приказчик комиссионного магазина), наивно спра­
шивающие «Кому все это мешало?» и несмотря на свое высокое
положение в царской России так и не понявшие происшедшего,
описаны с некоторой долей иронии, что почувствовал в своей
рецензии ВЛенин.
За веселыми ситуациями у Аверченко то и дело проглядыва­
ется суровый трагизм. Казалось бы забавно, что хиромант-гада­
тель по руке дает 24-летнему человеку 52 года, предсказывает,
что тот доживет до 240 лет, противореча сам себе, утверждает,
что его посетитель занимал два королевских престола 70 лет и
что умрет он от родов. Но за этой смешной сценой — драма,
даже две драмы: молодой человек — инвалид войны, его рука —
протез, а пошел он к хироманту, побоявшись признаться, что у
него нет руки, потому, что «боялся потерять две (предложенные
за это — В.А.) лиры. Вы знаете, когда пять дней подряд питаешь­
364
ся одними бубликами...». Еще более драматичен финал «Разворо­
ченного муравейника». Если у одного персонажа воспроизводи­
мого автором диалога родственники разбросаны по всем концам
России, многие из них погибли, то у другого «все вместе, все
девять человек». Но, как тут же выясняется, радоваться нечему:
«Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат».
Не менее драматично, хотя и смешно, рассказывает писатель
о тех, кто сумел приспособиться, но потерял то ценное, что со­
ставляло сущность русской духовности. В рассказе «Трагедия
русского писателя» воспроизводятся последовательно произве­
дения преуспевшего беллетриста, написанные в изгнании. Уже
через год после эмиграции он помещает одесскую Дерибасовс­
кую улицу в Петербург, а его персонажи начинают объясняться
на ломаном языке: «Я есть большой замерзавец на свой хрупкий
организм... Подай мне один растягай с немножечком poisson
bien frais и одну рюмку рабиновка». Еще через год он пишет:
«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль
петербуржьен! Один молодой господин ходил по одна улица, по
имени сей улица: Крещиатик. Ему очень хотелось manger. Он
заходишь на Конюшню сесть за медведь и поехать в restaurant,
где скажешь: garson, une tasse de Рабинович и одна застегайчик
aves тарелошка с ухами».
Впрочем, самому Аверченко такая опасность не грозила. Его
герой-рассказчик, Простодушный, сохранял лучшие черты рус­
ского национального характера. Он, в отличие от героя рассказа
«Трагедия писателя», не покидает славянской страны Чехосло­
вакии; сохраняет благородство и лукавую наивность («Брилли­
ант в три карата»), верит в идеалы («Русские женщины в Кон­
стантинополе», «О гробах, тараканах и пустых бабах»), а самое
главное — верит в будущее России.
Это будущее воплощено для него в детях.
Детская тема звучала еще в дореволюционном творчестве
писателя. С особым драматизмом она воплощена в рассказе «Тра­
ва, примятая сапогом», вошедшем в «Дюжину ножей в спину
революции». Героиня этого рассказа — маленькая девочка, об­
наруживающая недетскую осведомленность во взрослых вещах.
На шутливый вопрос рассказчика: «Небось и женишка уже при­
пасла?» — восьмилетняя кроха отвечает: «Куда там! (Глубокая по­
перечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный
лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого».
Ее розовый ротик задает вопрос: «Скажи, неужели Ватикан ни­
как не реагирует на эксцессы большевиков?». Она сурово осуж­
дает рассказчика, спутавшего шрапнель с трехдюймовкой и со
знанием дела объясняет, как воет бризантный снаряд. И все же
365
даже эта лишенная детства девочка остается ребенком: в конце
концов она «защебетала, как воробей, задрав кверху задорный
носик» о котеночке, «чтобы у него розовенький носик и черные
глазки», о «голубенькой ленточке с малюсеньким таким золотым
бубенчиком», чтобы повязать котенку на шею. Впрочем, тут же
спохватилась, что бубенчик вместе с маминым золотом комму­
нисты реквизировали.
Завершая рассказ, писатель предрекает, что как бы не топта­
ли тяжелые сапоги, подбитые гвоздями, молодую травку, она
встанет: «Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он припод­
нялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о
своем, о малом, о вечном».
«Из всех человеков милей всего моему сердцу дети», утверж­
дал писатель («Душистая гвоздика»).
«Все должно быть логично, — писал он в предисловии к сбор­
нику рассказов «Дети» (1922). — Вересаев был врачом; он напи­
сал «Записки врача»; Куприн был военным; он написал «Поеди­
нок». Я был ребенком; пишу о детях». «Дети, в общем, выше и
чище нас», — начинал Аверченко рассказ «Под столом», где ма­
ленький Дима, не будучи «цензором нравов», а лишь из симпа­
тии к голубой туфельке не дал мужским ботинкам (и их облада­
телю) «жать и тискать» ногу владелицы чудной туфли. Тот же
Дима ведет «светский» пасхальный разговор с напившимся гос­
тем, стремящимся напугать ребенка, чтобы тот ушел и можно
было «увести» оставшуюся на столе бутылку коньяка.
Называя себя «большим взрослым сентиментальным дураком»,
сатирик тем не менее с восторгом сравнивает трех маленьких
девочек с любимыми им гвоздиками. При этом Аверченко про­
являет способность глубокого проникновения в детскую психо­
логию. Рассказав о девочке Лене, от обиды на мать решившей
уйти из дома, собравшей вещи, дошедшей до калитки, но испу­
гавшейся собаки и решившей подождать, когда ей будет четыр­
надцать лет, писатель говорит: «Насколько я помню, в тот мо­
мент ей было всего 6 лет. Восьми лет ожидания у калитки она не
выдержала. Ее хватило на меньшее — всего на 8 минут. Но, Боже
мой! Разве знаем мы, что пережила она в эти 8 минут?!».
Аверченко подмечает уважение ребенка к старшим и друг к
другу. Маленькая девочка из того же рассказа не молится вместе
с братом: «Как же я буду молиться, когда Боря уже молится?
Ведь Бог сейчас его слушает... Не могу же я лезть, когда Бог
сейчас Борей занят!».
Писателя восхищает наивность детей, в том числе и шалов­
ливых («Кулич», «Разговор в школе»), их бескорыстие. Развитая
366
Володькой («Продувной мальчишка») бешеная торговая деятель­
ность по перепродаже газет, подчинена не коммерческим инте­
ресам, а желанию сделать себе и маме праздник. На вырученные
деньги мальчишка купил крошечную елочку, цветные каранда­
ши себе и теплые перчатки матери. Стремясь избежать слаща­
вости рождественских рассказов (а именно такой подзаголовок
дан рассказу), писатель прибегает в финале к юмору: приводит
корявые надписи на подарках: «Дли Валоди», «Дли мами».
Во всеми презираемом врале и фантазере «светлоглазом за­
думчивом Косте» писатель прозревает будущего поэта и с грустью
предрекает ему устами отца ребенка ту же участь, что ждет всех
больших художников: «Его будут гнать все от себя, не понимать
и смеяться над ним».
«У философов и у детей, — пишет Аверченко, — есть одна
благородная черта — они не придают значения никаким разли­
чиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внеш­
ним» («Три желудя»). Герои этого рассказа дружили в детстве, но
судьбы их разошлись, когда они выросли.
«Почему взрослый человек почти сплошь мерзавец!» — вос­
клицает писатель («Душистая гвоздика»).
Улучшить мир взрослого, приблизить его к доброму и светло­
му миру ребенка — такую задачу ставит перед собой писательсатирик Аркадий Аверченко.
Он верил, что как бы ни был плох и трагичен мир, как бы ни
царила в нем нечистая сила, пропоет петух. «Это не тот страш­
ный «красный петух», что прогулялся по России от края до края
и спалил все живое ... . Нет, это наш обыкновенный, честный
русский петух, который бодро и весело орет, приветствуя зарю и
забивая своим простодушным криком осиновый кол в разыграв­
шуюся в ночи нечистую силу. Еще клубятся повсюду синие не­
крещеные младенцы, вурдалаки, упыри и шишиги — но вот уже
раскрыт клюв доброго русского петуха — вот-вот грянет побед­
ный крик его!».
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аверченко А. Записки Простодуш ного. — М.: К н и га и б и зн ес, 1992.
Н аи более п ол н ое и зд ан и е эм и гр а н тск и х п р о и зв е д е н и й п и са те л я .
В клю чает в себя к н и ги «Дети», « К и п я щ и й котел», «Зап и ски П р о сто ­
душ ного», «Д ю ж ина нож ей в сп и н у револю ции», «Н ечи стая сила».
З авер ш ается с б о р н и к о б с то я т ел ь н о й статьей О .С ер гее в а « Б ел ы е
м ы сли А ркадия А верченко». В статье ш и р о к о цитирую тся эм и гр ан тск и е
источн и ки , м алоизвестны е работы писателя.
Аверченко А. Д венадцать портретов. — Н овосиб ирск: В ена-89, 1989.
П ервое и ед инственное издание на роди н е н аиб олее «злой» к н и ги п и ­
367
сателя. С одерж ит остро сатирические портреты В .Л енина, Л .Т роц кого,
Ф .Д зер ж и н ского, М .Горького, А .К ерен ского, А .М артова и др.
Аверченко А. Рассказы / / А верченко А ., Т эф ф и . Рассказы . — М.: М о ­
лодая гвардия, 1990.
В клю чены к ак доревол ю ц и он н ы е, так и эм и гран тски е п р о и зведе­
н и я п и сателя, объединенны е в тем ати ч ески е ц иклы , в том числе «Н а
С евастоп ольском берегу», «К убарем п о заграницам », «О ни о револю ­
ции», «Д ю ж ина нож ей в сп ину револю ции».
К р атк о е п р ед и сл ови е П .Г о р ел о ва « Ч и сто к р о вн ы й ю м ори ст» дает
сам ы е общ и е сведения о писателе.
Аверченко А. Избранные рассказы . — М.: С ов .Р осси я, 1985.
В о сн о вн ом дан ы доревол ю ц и он н ы е п рои зведен и я писателя. Вклю ­
чена «А втобиография». Х орош о представлены рассказы о детях «О м а­
л ен ьки х для больш их».
В ступительная статья О .М ихайлова, м н ого сделавш его д л я возвра­
щ ен и я п р о и зведен и й писателя н а родину, содерж ит ан ал и з основны х
тем до р ево л ю ц и он н ого творчества А верченко, об эм и гран тском п ер и о ­
де говори тся достаточно бегло.
Спиридонова Л.А. Аверченко А.Т. //Р у с с к и е писатели. Б и оби бли ограф и ч еск и й словарь. — М .: С о в .эн ц и к л о п ед и я , 1990. С. 8-10.
ТЭФФИ (Н.А.Лохвицкая)
(1872-1952)
«МЫ СМЕХОМ ЗАГЛУШИМ СВОИ СТЕНАНЬЯ»
В отличие от многих юмористов, мрачных и угрюмых в жиз­
ни, она до конца своих дней была общительна, остроумна, лю­
била поклонников, хотя и держала их в некоторой строгости, не
желала мириться с наступающей старостью, ради чего не только
уменьшила свой возраст во французских документах на 15 лет,
но и внимательно следила за модой. Бархатный берет она кокет­
ливо сдвигала набок, чтобы открыть завитые локоны, шарф ще­
гольски заворачивала вокруг шеи, на концерты приходила в длин­
ном красном платье. Близко знавшая ее, писательница жена Г.Ива­
нова Ирина Одоевцева вспоминает, что Тэффи могла высмеять в
фельетоне модниц за страсть к шляпам — обезьяньим колпачкам
с торчащим вверх фазаньим пером, а вечером сама являлась в
таком колпачке. В ней было что-то детское. Не случайно дружив­
ший с ней писатель-символист Ф.Сологуб, утверждавший, что у
человека кроме реального, есть и метафизический возраст, дал ей
по этому счету 13 лет. Именно эта детскость проявилась и в том,
что писательница, заполняя французские документы, сменила не
только цвет волос («шатен» на «блонд»), но и цвет глаз (карие на
голубые); и в том, что, увидев, как французский мальчишка ловко
прыгает по ступенькам метро на одной ножке, далеко не юная
Тэффи попыталась сделать то же и чуть не сломала ногу.
369
О ней восторженно отзывались самые разные люди. В канун
празднования 300-летия Дома Романовых на вопрос, кого из со­
временных писателей пригласить для участия в юбилейном сбор­
нике, Николай II ответил: «Тэффи, только Тэффи». Одно из ее
стихотворений было опубликовано в газете, редактируемой В.Лениным. В эмиграции у нее не было врагов (случай почти уни­
кальный). Сам Бунин, весьма едкий по отношению к коллегам и
крайне сдержанный на похвалы, писал об уже немолодой Тэф­
фи, что она «всю жизнь как соловей пела и все еще так же поет,
совершенно не замечая того, рассыпая блеск!». «Вы дороги не
одним нам, — писал И.Бунин Тэффи незадолго до смерти, — а
великому множеству людей, Вы, совершенно необыкновенная!».
Надежда Александровна Лохвицкая родилась 24 апреля
1872 года в знатной дворянской семье, где все писали (прадед —
мистические стихи; отец — научные труды и блестящие речи; ее
старшая сестра Маша под псевдонимом Мирра Лохвицкая —
стихи, ее называли «русской Сафо»; две другие сестры тоже вы­
ступали в литературе, правда, с гораздо меньшим успехом, чем
Мирра и Надежда; пробовал писать и старший брат, ставший
позднее генералом).
Первое стихотворение Надежды под ее собственной фами­
лией появилось в 1901 году. Стихи она писала затем всю жизнь,
выпустила три сборника, но не они принесли славу.
Юная писательница создала пьесу и решила послать ее в один
из лучших театров. «Нужно было — объясняла значительно поз­
же и не без лукавства писательница, — такое имя, которое при­
несло бы счастье. Лучше какого-нибудь дурака — дураки всегда
счастливы. ... И тут вспомнился мне один дурак. Звали его Сте­
пан, а домашние называли Стэффи. Отбросив из деликатности
первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать
пьеску свою «Тэффи».
Критики, правда, нашли иное объяснение происхождению
ее псевдонима: вспомнили, что героиню сказок Р.Киплинга зва­
ли Taffy.
Так или иначе пьеса имела успех, и все свои дальнейшие
вещи писательница подписывала этим псевдонимом. А написа­
но было немало: два тома юмористических рассказов (неодно­
кратно переиздавались), шесть «толстых» книг (лучшие — «Кару­
сель» и «Неживой зверь»), множество тонких; печаталась в «Сати­
риконе» («Новом Сатириконе»), во многих других изданиях.
Имя ее гремело по всей России. В 1910 году критик НЛернер
назвал ее первой среди сатириков и юмористов.
Февраль 1917-го писательница приветствовала: от разложив­
шегося самодержавия Тэффи ничего хорошего не ждала (воз­
370
можно, свою роль здесь сыграло и ее беглое знакомство со зна­
менитым Гришкой Распутиным). Октябрь 1917-го — нет. Тер­
рор, несправедливость и насилие в равной степени были непри­
емлемы ей ни при царском режиме, ни при большевистском.
«Бывают пьяные дни в истории народов. Их надо пережить, но
жить в них всегда невозможно», — писала Тэффи.
Вместе с А.Аверченко и другими сатириконцами писательни­
ца едет в Одессу (это путешествие подробно описано в ее «Вос­
поминаниях»), как ей казалось, на гастроли, а оттуда в 1920 году
за границу. Временно. «Весной вернусь», — считала Тэффи. Вер­
нуться не удалось.
В Париже писательница организовала литературный салон,
активно заботилась о нуждах соотечественников: организовыва­
ла благотворительные вечера, где и сама выступала, преодолевая
свой мучительный страх перед эстрадными выступлениями; со­
бирала средства на русскую библиотеку в Ницце, в фонд памяти
Ф.Шаляпина.
Ее рассказы, фельетоны и книги скрашивали нелегкую жизнь
русских эмигрантов, вливали в них оптимизм и потому широко
издавались во всех русских колониях: во Франции, Чехослова­
кии, Германии, Югославии, Латвии, в далеком Харбине. С 1920
по 1940 годы вышло 19 сборников рассказов. Пьесы и скетчи
Тэффи шли во многих театрах.
Годы войны писательница провела в Биаррице. В 1943 году
в Америке пронесся слух о ее смерти. Был опубликован, некро­
лог, написанный М.Цетлиным: «Мы знали, что Надежда Алек­
сандровна Тэффи не сотрудничала с оккупантскими властями и,
значит, жила в голоде и холоде ... О Тэффи будет жить легенда
как об одной из остроумнейших женщин нашего времени». Тут
же критик отмечал, что писательница не раскрылась полностью
в своем творчестве: «Она как человек была значительнее, круп­
нее того, что писала». Узнав об этом, писательница шутила, что
ей «очень любопытно почитать (некролог — В.Л.). Может быть
такой, что и умирать не стоит». А в другом письме дочери сооб­
щала: «Я сейчас вернулась с кладбища, где была не в качестве
покойницы, а навещала Павла Андреевича Тикстена».
С мужем Владиславом Бучинским писательница развелась еще
до революции. Он с детьми жил на своей родине в Польше.
П.А.Тикстен стал ее гражданским мужем в Париже. Сама уже
больная (воспаление нервов кожи и удушье, известное в просторечьи как «жаба»), Тэффи нежно ухаживала за умирающим
Тикстеном до его последнего часа. Но эта атмосфера напряжен­
ности не отражалась в ее рассказах: чуть грустные, они продол­
жали нести веру й жизнь.
371
После войны советские власти начали заигрывать с Тэффи. В
Париж был командирован К.Симонов с секретной миссией уго­
ворить И.Бунина и Тэффи вернуться на родину. Для идеологов
большевизма это было особенно важно в свете развернувшейся в
СССР травли А.Ахматовой и М.Зощенко: мол, лучшие писатели
эмиграции с нами. Ответом писательницы был фельетон «Добро
пожаловать, товарищ Тэффи!». В нем вспоминается, как в Пяти­
горске при въезде в город красовался плакат «Добро пожаловать
в первую советскую здравницу!» и на тех же столбах «качаются
два повешенных. Вот теперь я и боюсь, — писала Тэффи, — что
при въезде в СССР я увижу плакат с надписью «Добро пожало­
вать, товарищ Тэффи», а на столбах, его поддерживающих, будут
висеть Зощенко и Анна Ахматова».
Последние годы жизни писательницы проходили в мучитель­
ной болезни. Верная себе, Тэффи пыталась не омрачать жизнь
окружающих своими трудностями, острила: «По всем поняти­
ям... я непременно должна скоро умереть. Но я никогда не дела­
ла того, что должна. Вот и живу. Но, честно говоря, надоело».
Она умерла 5 октября 1952 года, успев попрощаться с друзь­
ями, которых, впрочем, осталось тоже немного. На русском клад­
бище Сен-Женевьев де Буа выступил Б.Зайцев и было прочита­
но ее собственное стихотворение «Он ночью приплывет на чер­
ных парусах»:
Как черный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною.
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,
И скажут: «Вот она сегодня умерла...»
Среди основных сборников Тэффи, изданных в эмиграции,
«Городок» (1927), «Книга июнь» (1931), «Воспоминания» (1931),
«Ведьма» (1936), «Все о любви» (1946), «Земная радуга» (1952).
Наряду с новыми рассказами писательница включала во многие
из них небольшое количество старых, чтобы придать книге идей­
ную завершенность. Без них рассмотрение эмигрантского миро­
восприятия писательницы будет неполным.
Тэффи никогда не была только юмористкой, какой ее хотел
видеть обыватель. Еще в 1916 году в предисловии к сборнику
«Неживой зверь» она писала: «Слезы — жемчуг моей души».
Ирония, юмор сочетаются в ее творчестве с любовью к своим
смешным персонажам. Именно эта особенность отличает ее от
более жесткого и категоричного А.Аверченко.
Эти качества усилились в эмиграции.
Есть у Тэффи автобиографический рассказ «Как быть?». Его
героиня — писательница выслушивает от одного читателя упрек,
что зря берет «такие печальные темы, когда и без того так груст­
372
но, так тяжело живется! Печатное слово должно ... дать нам
хоть минутку веселого, здорового смеха». Другой читатель учит
ее, что «смех, а тем паче насмешка сейчас неуместны, прямо
скажу — бестактны». Третий требует отказаться от реализма,
четвертый — писать реалистичнее. А некая дама передает чьи-то
слова, что писательнице надо быть Бичер-Стоу. «Я осталась и
вот так и сижу, — заканчивает Тэффи рассказ. — Как быть?».Ответ сформировался едва ли не с первых эмигрантских произ­
ведений. Писательница одновременно смеется и грустит.
Именно так написан один из самых популярных в эмигран­
тской среде рассказ «Ке фер?». Его герой русский генерал-беже­
нец выщел «на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам,
глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую
толпу, почесал переносицу и сказал с чувством: — Все это, ко­
нечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот... ке фер?
Фер-то ке?». Этот незатейливый каламбур подкрепляется при­
мерами забавной и никому не нужной суеты политиканствую­
щих эмигрантов.
Жизнь эмиграции представляется Тэффи как замкнутое бы­
тие городка (что и определило название одной из книг писатель­
ницы) на реке Сене. Это позволило писательнице вновь прибег­
нуть к излюбленному ею приему каламбура. В городке, пишет
она, существовала поговорка: «Живем, как собака на Сене —
худо!» («Городок»).
В эмиграции, утверждает писательница, у многих «тускнеют
глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, обращенная на вос­
ток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умер­
ли. Боялись смерти большевистской — и умерли смертью здесь».
Но Тэффи не была бы Тэффи, если бы на этой ноте закончила
разговор. Вступление завершается энергичным: «А ведь здесь
столько дела. Спасаться нужно и спасать других». И тут же, как
бы смягчая себя: «Но так мало осталось и воли, и силы». Далее
следуют несколько сценок о душах не умерших, хотя и тоскую­
щих. О русской березе (французскую не обнимешь, не изойдешь
с нею слезами), о «глупом и счастливом» лице русского челове­
ка, вспомнившего родную речку. Трогателен рассказ о русской
няньке, допрашивающей французскую кухарку, ни слова не по­
нимающую по-русски, отчего во Франции «церкви есть, а благо­
весту не слышно», и долго рассказывающей «о лесах, полях, о
монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном
ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил». (Еще
одна такая старуха, с удовольствием вспоминающая даже недо­
статки старой России, действует в рассказе «Сладкие воспоми­
нания. Рассказ нянюшки»). Вывод писательницы выходит за пре­
373
делы бытовой ситуации. Это скорее притча. Русскому человеку
трудно поверить, что страдание продлится долго. Он всегда на­
деется на лучшее. Писательница сочувствует этой вере, но и пред­
упреждает, что не следует обольщаться («Ностальгия»).
В творчестве писательницы появляется большая группа рас­
сказов о трагедии русского человека в эмиграции. Героями таких
рассказов чаще всего выступают маленькие люди.
Нескладный и скучный приват-доцент «знаток каких-то ли­
тератур» обнаруживает зимой в своей холостяцкой нетопленной
квартире муху и начинает трогательно заботиться о ней: топить
столовую, где она поселилась (сам он ночует в холоде — дров
мало), кормит муху сахаром, оберегает от грубой прислуги. Эта
смешная ситуация заканчивается трагично. «Он умер. Умер от
воспаления легких», но зато, как настаивает Тэффи, «последние
дни свои он не был одинок. И хорошо. Вдвоем ему было легче».
Не менее драматична судьба генерала из рассказа «День». Из­
влеченные из сундука мундир и ордена так никто, кроме консь­
ержки, и не увидел. Не пришло в день рождения ни одного
поздравительного письма, не наведались боевые приятели. Пря­
мо в мундире и орденах старик лег на кровать и поплыли перед
ним какие-то ящики. «Пусть плывут. Ведь доплывут же до пос­
леднего», — заканчивается рассказ.
С глубоким психологизмом раскрыта судьба инвалида-офицера Кости Коноплева из рассказа «Майский жук». Доведенный
нуждой до крайности, он идет к бывшему репетитору, многим
обязанному в прошлом их семье, Жуконопуло, разбогатевшему,
пока Костя воевал на фронте. Стыдливо путаясь и сбиваясь, про­
сит о помощи и получает грубый отказ. Лишь выйдя от хаманувориша, Костя осмысливает всю ночь снившийся ему сон (Тэф­
фи во многих своих произведениях придает снам символический
характер): свиньи в деревне с хрустом поедали отвратительных
майских жуков. Жуконопуло своей фамилией ассоциируется и с
жуками, и со свиньями. В финале рассказа герой без всякой позы,
даже как бы извиняясь, кончает жизнь самоубийством. Не бес­
покойтесь, кричит он полицейскому, «я живо! ... Усмехнулся и с
гримасой невыразимого отвращения, неловко и торопливо при­
ставил револьвер к виску».
Горячее сочувствие писательницы вызывает героиня расска­
за «Маркита» Сашенька, любящая своего маленького сына и
именно этим вызвавшая интерес у одинокого богатого посетите­
ля кафе. Стремясь понравиться наметившемуся жениху, Сашенька
стала разыгрывать из себя демоническую женщину Маркиту-Кармен и даже отреклась на словах от сына. Финал драматичен для
всех персонажей: Сашенька осталась с сыном в нужде, богатый
374
посетитель разочаровался не только в новой знакомой, но и в
жизни.
Драматизм измены себе, своему назначению звучит и в юмо­
ристических «веселых» рассказах писательницы. Невероятно глу­
пые вопросы задает матери простуженного ребенка доктор Ко­
робко из одноименного рассказа: «От какой болезни умерли ваши
родители?», «Не страдает ли бабушка пациента запоем?», имеет
ли двенадцатилетний пациент детей, «не хлещет ли коньяк» и
так далее. Впрочем, и ответы пришедших столь же смешны: на
медицинский вопрос, на что жалуется бабушка, наивный паци­
ент отвечает: «Бабушка все жалуется, что денег нет». В гротеско­
вой манере выписан и итоговый монолог взбесившегося от взаим­
ного непонимания врача: «Удивительные люди! Идут к врачу —
температуры не знают, болезни своей не понимают, собствен­
ных родственников не помнят и еще спорят, слова сказать не
дадут. И вот лечи их тут! ... Куда же вы? Эй! Полощите борной
кислотой эту вашу ерунду. Да не надо мне ваших денег, я с рус­
ских не беру, а с болванов в особенности». Все проясняется к
финалу: «Итак, запишем, — говорит себе доктор, — второй па­
циент... пациент номер второй. Необъяснимая болезнь гортани...
Эге! Практика-то развивается. Если так пойдет...». Коробка ког­
да-то был акушером. Двадцать лет не занимался практикой, был
помещиком, охотником. Нужда заставила вспомнить прошлое.
Так за внешне смешной ситуацией в очередной раз кроется пе­
чальная сущность эмигрантской жизни.
Особый интерес писательницы вызывают персонажи, сумев­
шие и в жестких условиях эмиграции, европейского торгашества
сохранить наивную русскую душу, веру в людей. Смешно выгля­
дят супруги Угаровы, приютившие у себя проходимца Вязикова,
укравшего часть их сбережений. Их деликатность доходит до того,
что они решают, если он появится, не напоминать о его поступ­
ке, но «всячески давать ему возможность подсунуть деньги об­
ратно». Для этого доверчивые и совестливые люди «оставили
прислуге ключ для Вязикова». Тот явился... и украл остальные
деньги. «Больше Вязиков не приходил, — заканчивает рассказ
Тэффи. — Угаровы никогда между собой не говорили о нем.
Только раз Угаров задумчиво сказал: — А все-таки подло с на­
шей стороны, что мы его подозреваем. Но тут же сконфузился и
смолк» («L'ame slave»).
Особое место в творчестве писательницы занимает тема люб­
ви. Тэффи дает многочисленные вариации этой темы, рисует це­
лую галерею персонажей, по-разному толкующих само слово «лю­
бовь».
Смешна дама-«идеалистка», клянущаяся, что «любит своего
375
мужа вечной любовью, до гроба», и в тот же вечер изменившая
ему со случайным попутчиком-обольстителем («О вечной люб­
ви»). Не менее нелепа и сторонница взгляда на любовь как био­
логическое «вполне естественное явление», хающая все фран­
цузское и едва ли не в постели проповедующая «квасной» патри­
отизм («Психологический факт»).
Неприемлемы писательнице и бабы-мужененавистницы, кле­
вещущие на противоположный пол («Подлецы»), и похотливые
мужики-совратители («Виртуоз чувства»). Чего стоит некий до­
ктор, застигнутый с чужой женой и монотонно повторяющий:
«А вот и наш муж» («Яго»). Тэффи неистощима на выдумку, что­
бы смешнее показать потуги этих людей на любовь. Яго, напри­
мер, не человек, как можно было бы предполагать, зная пьесу
Шекспира, и не клеветник, а честное зеркало, позволяющее мужу
из прихожей увидеть спальню. Такое же ироническое травестирование серьезного сюжета в «Нерассказанном о Фаусте». Омо­
лодившись телесно, Фауст по уровню сознания остался 76-лет­
ним стариком, не способным на любовные порывы. И потому
прекрасная Маргарита, лузгающая на свидании тыквенные се­
мечки и не понимающая рассуждений о философском камне,
представляется ему «дурой петой». В итоге Фауст требует от чер­
та вернуть ему «золотую старость».
Если в названных рассказах Тэффи добродушно иронична,
то в «Лавизе Чен» и «Тете Зете» она беспощадна к эгоистам и
ханжам, загубившим чужую жизнь, опошлившим нормальные
человеческие чувства.
Симпатии писательницы отданы тем, кто, может быть, наив­
но, иногда даже слегка кокетничая своим равнодушием к любо­
вной жизни, тем не менее ждут настоящей любви. Ждут и обманы­
ваются. Ибо подлинная любовь у Тэффи чаще всего трагична. Раз­
рушены мечты уже немолодой Лизы Корново («Чудо весны»). Об­
манута в лучших чувствах наивная Маруся, поверившая дельцу
Платонову («Флирт»). Сюжет чеховской «Дамы с собачкой» разыг­
ран здесь Тэффи с точностью до наоборот. Обманута и погибает от
неразделенной любви героиня «Авантюрного романа» Наташа.
Тэффи любит сталкивать людей и птиц, собак, зверей. В цик­
ле миниатюр «О душах больших и малых», например, жена, уз­
навшая о смерти мужа, с коим прожила 30 лет, деловито сообща­
ет сиделке, что заплатит той лишь за половину дня (до смерти
супруга); некая Фанни на предложение мужа о разводе отвечает
циничным вопросом, кому останется мебель. А собака Джой из
этого же цикла рассказов умирает от тоски лишь оттого, что была
разлучена с хозяином на время его болезни. В уже упоминав­
шейся новелле «О вечной любви» изменнице-женшине проти­
376
востоит голубь, умерший от тоски по погибшей семье. В этом же
ключе выдержаны превосходные рассказы «Лесной ребенок»,
«Старик и старуха» (о дряхлых львах и звере-укротителе), «Чуде­
са!» (о дружбе лошади и собаки), «Собаки».
Лишь в редких случаях персонажи Тэффи поднимаются до
высот любви. Иногда это чувство вспыхивает внезапно и полно
таинственного обаяния («Книга июля»). В этом рассказе писа­
тельница проявляет себя мастером пейзажа. В других рассказанных
Тэффи случаях любовь греет всю жизнь, даже без взаимности. Та­
кова любовь героини рассказа «Мать», отдавшей всю свою жизнь
заботе о подлеце-сыне. Одна пустая фраза сына-убийцы, показав­
шаяся старухе проявлением любви к ней, сподобила женщину на
новую жертву: она взяла вину сына на себя. Такая же любовь,
любовь как полное (или почти полное) отторжение от себя для
любимого человека присуще Наташе («Авантюрный роман»).
При этом понятие любви расширяется до христианского, ког­
да весь мир воспринимается с благоговением и радостью. Именно
так ощущает действительность лишенная зрения героиня расска­
за «Слепая»: «Такая это красота, что и описать нельзя». Для нее
даже востроносая старуха с противным, как у сыча, голосом —
красивая, «как цветок Божий». А плачущая женщина на скамей­
ке представляется ангелом. Слепой, по мысли писательницы,
оказывается не физически слепая девушка, а зрячая капризнича­
ющая дама, не желающая видеть поэзию жизни.
Скрытый от обычного человеческого взгляда высший смысл
бытия увидел и сумасшедший художник: старые сосны окружи­
ли молодую елку, а от нее «поднимается к небу в золотом возду­
хе полдня неведомая, живая, светящаяся точка» («Мистерия»).
Мысль о высоком нравственном предназначении человека
помогает невзрачному Сысоеву на несколько мгновений поднять­
ся над прозой жизни, воплотиться в легендарного героя, запла­
тив за эти мгновения своей жизнью («Поручик Каспар»). Гор­
дость за принадлежность к великому роду человеческому, со­
здавшему такое чудо, как Эйфелева башня, помогает живущему
далеко от Франции соловецкому «монашку в скуфейке» не ощу­
щать своего одиночества («Башня»). С восхищением говорит
Тэффи о двух старушках, раскрывших в хорошую погоду зонти­
ки, дабы заслониться ими от марширующей по Парижу колонны
немецких оккупантов. В этом внешне незначительном поступке
проявляется их внутренний героизм («Демонстрация»).
Тэффи любит наполнять или даже завершать свои книги рас­
сказами именно о таких людях, о детях — существах, наиболее
склонных к любовно-благородному восприятию жизни, ее вы­
сшего смысла.
377
В миниатюре «Красота» мальчик вдохновенно-восторженно
смотрит на свои на самом деле безобразные заплаты на коленках
штанов. Его «могучий подъем, — пишет Тэффи, — как стон от
боли ищет помощи. И я помогла. — Да это ужасно красиво, —
серьезно и спокойно сказала я». Девочка увидела в носатом зай­
це, подаренном ей на елке, «жемчужного лебедя. Из музыки»
(«Нигде»). Еще одна девочка талантливо врет про свою родню,
бархатные платья, золотые рояли, чертей и — что важно — сама
верит в это и убеждает других («Лизи»). Мальчик, очарованный
в детстве портом и кораблями, стал взрослым, но и теперь «во
сне часто качается на верхушке огромной мачты и чувствует, как
ветер треплет ему волосы и несет его корабль в страну «Нигде»,
о которой он будто бы и наяву тоскует, но только наяву не
понимает, что тоскует именно по ней, а всегда думает, что о
чем-то другом» («Нигде»). Четырех-шестилетние «фантазеры с
горячими головами», задумавшие бежать в Америку, хотя им «маму
жалко», и попавшие в сад необычным путем, через окно, вос­
принимают и хорошо знакомый цветник необычно: «Страшно!»
(«В Америку»).
«Дети у Тэффи — это целая «маленькая вселенная», — утвер­
ждал поэт и критик Ю.Терапиано.
О детях писательница говорит без сентиментальности. Пере­
несение на них некоторых взрослых понятий и ситуаций прида­
ет рассказам юмористическую окраску. «Два мрачных типа, вось­
ми и пяти лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носа­
ми». «Котька был честный коммерсант, своего не упускал и вел с
мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жира брал по де­
сять сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требо­
вал пять сантимов, вычистить ногти — десять, из расчета по
сантиму за палец; выкупаться с мылом — драл нечеловеческую
цену: двадцать сантимов, причем оставлял за собой право виз­
жать, когда ему мылили голову и пена попадала в глаза. За пос­
леднее время его коммерческий гений так развился, что он требо­
вал еще десять сантимов за то, что он вылезет из ванны, а не то,
так будет сидеть и стынуть, ослабеет, простудится и умрет». «У
толстой Бубы была душа Жанны д'Арк, а тут вдруг извольте
вертеть куколку» («Где-то в тылу»); четырехлетняя Валя «уравно­
вешенная, спокойная с утра до вечера занималась коммерцией —
выторговывала у меня шоколадки» («Валя»). В рассказе «Траге­
дия» семилетний Котька Закраев чувствует себя женихом, а Танеч­
ка, которой «половина восьмого», выступает изменницей.
Тэффи умеет с юмором передать своеобразие восприятия деть­
ми времени. Маленькая девочка говорит о святых, что они «все
не меньше шестнадцати лет, а то и прямо старики» («Кишмиш»),
378
пятнадцатилетняя барышня видит в тридцатилетием офицере
«отжившего и дряхлого старика» («Зеленый черт»). Толстая Буба
особенно остро переживает, что «Петя, по прозванью Пичуга,
младше нее, и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пи­
чуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза.
От него совершенно невозможно перенести унижение».
Великолепны создаваемые писательницей реплики детей, их
наивные объяснения, рассказы об их мечтах. Ребенка не берут в
церковь к заутренне и он «ядовито говорит»: «К исповеди-то небось
таскали. Что похуже — то нам, а что получше — то для себя»
(«Лиза»). «Я не тебе пл'ачу, а маме пл'ачу», — заявляет Буба бонне
(«Где-то в тылу»). Маленькая девочка делает матери странный
комплимент: «У тебя, как у слоника, носик». «Красоту своего
резинового слоника она ставит выше Венеры Милосской», —
комментирует писательница («Валя»). В «невыразимом отчая­
нии» «рыдающим голосом кричит Котька и хватает изменницу за
плечо. — Таня, я ведь через три года тоже буду кадетом. Пойми!
Мама сказала. Я буду кадетом, Таня!» («Трагедия»).
С тонким психологизмом показывает писательница обострен­
ную тягу детей к добру и разрушительные последствия их стол­
кновения с реальным миром. Увидевшая во сне серебряные ка­
мыши и решившая передать свою радость другому человеку, ге­
роиня рассказа «Любовь» отдала самое дорогое, что у нее было
(апельсин), девушке-поденщице Ганке. А та, не зная, как его
едят, надкусила кожуру, «уродливо сморщилась, выплюнула и
отшвырнула апельсин далеко в кусты». «Сегодня утром челове­
чество не поняло моих серебряных камышей, которые мне так
хотелось объяснить», — утверждает девочка. И при всей наив­
ности этих слов автор разделяет ее чувство одиночества. Столь
же уважительно говорит Тэффи и о несчастье пятнадцатилетней
девушки, сначала не получившей прелестного зеленого чертика
и страдавшей от этого, затем укравшей его, и теперь уже страда­
ющей от угрызения совести («Зеленый черт»).
Трагедия непонимания постигает и двенадцатилетнего Сер­
го. Недоступному его уму противоречивому миру взрослых он
противопоставляет простую и ясную жизнь индейцев. Ребенок
становится добрее, вёдет себя как благородный гурон-индеец. И
с нетерпением ждет, когда придет из Америки от приятельницы
его тети фотокарточка с изображением индейцев. А тетка, Поо­
бещав, не только и думать забыла написать в Америку, но чуть
ли не гордится собой, что не стала поощрять «глупость» племян­
ника («Гурон»),
С тревогой говорит Тэффи о том, что пороки взрослых все
чаще проникают в мир детей. И вот уже маленькая обжора, до579
чка рассказчицы, не видит красоты воскового ангела и ломает
прекрасную игрушку, так как ангел «был немножко сладкий»
(«Валя»). Впрочем, дети не бывают испорчены так, как взрос­
лые. И та же Валя, увидев слезы матери, утешает ее: «Не плачь,
глупенькая. Я тебе денег куплю».
«Тэффи не склонна льстить людям, не хочет их обманывать и
не боится правды, — писал известный критик русского зару­
бежья Г.Адамович. — Но с настойчивой вкрадчивостью, будто
между строк, внушает она, что, как ни плохо, как ни непригляд­
но сложилось человеческое существование, жизнь все-таки пре­
красна, если есть в ней свет, небо, дети, природа, наконец, лю­
бовь».
Сама она выразила эту же мысль в стихотворении «Подсол­
нечник»:
И если черная над нами встанет тень —
Мы смехом заглушим свои стенанья.
Этому способствует выработанная писательницей энергичная
манера повествования с динамичным кратким сюжетом, ирони­
ческие характеристики персонажей и самоирония рассказчицы
(«Воспоминания», «Дэзи и я», «Гедда Габлер», «В кафе» и мно­
гие другие), смягченные сочувствием, легкой грустью. «Мне все
больно», — писала Тэффи И.Бунину.
Созданию оптимистической веселой атмосферы в рассказах
Тэффи способствуют изумительно яркие фамилии и прозвища
персонажей, порой несоответствующие возрасту и социальному
положению героя (имена стариков — Вовочка Гутбрехт и Гогося
Ливенский; Тюля Ровцын, Фея Карабос, Алевтя, Ардальон Пет­
рович Марельников, Катуля, мосье Витру), образы-характерис­
тики (вяленая муха, долбонос, пес старой школы, тухлые глаза,
весьма семейный человек), смешные неологизмы и бытовой сленг
(лицо тошнительное, вывраться, «тереть ногти» вместо «делать »
маникюр», «сделать мусеньку» — сложить губы бантиком, «впол­
не почтенный поступок» — о смерти). В совершенстве владеет
писательница и искусством передачи речевого колорита ее пер­
сонажей: от наивного в рассказах о детях и зверях до злопыха­
тельского в рассказе «Подлецы», от вульгаруо-мещанского в но­
велле «Анна Степановна» до комически возвышенного в «Гедде
Габлер».
Вернувшись на родину уже после смерти писательницы, рас­
сказы Тэффи в силу своей общечеловеческой направленности и
сегодня затрагивают души читателя, добавляют ему оптимизма.
380
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Тэффи.Все о любви: Р ассказы . П овесть. Роман. — М.: П оли ти здат,
1991.
В клю чены рассказы из созданны х в эм и грац и и сб о р н и ко в «Городок»,
« К н и га ию нь», «Все о лю бви», «Зем ная радость»; «А вантю рны й р ом ан », а
такж е р яд дореволю ционны х произведений писательницы .
С б о р н и к откры вается цитатой из статьи Г.А дамовича «Тэффи».
Тэффи. Ж итье-бытье: Рассказы . Воспоминания. — М : П олитиздат, 1991.
С б о р н и к вклю чает 30 эм и гран тск и х рассказов п и сательн и ц ы и з р а з­
личны х сборников, «В оспом инания» о «путеш ествии автора через всю Р ос­
сию» и о встречах Т э ф ф и с Григорием Распутины м .
К н и г а предваряется статьей И .А .В асильева «А некдот и трагедия», д о ­
статочно подробно характеризую щ ей дореволю ционное творчество Т эф ф и
и весьм а л ап и д арн о-эм и гран тск ое.
Тэффи. Н остальгия: Р ассказы . Воспоминания. — Л.: Х удож .лит., 1989.
В к н и гу входит н ес к о л ь к о рассказов из сб о р н и ка «Городок», 9 — и з
с б о р н и к а «Все о л ю бви» и 15 — и з различны х эм и гран тски х и зд ан и й п р о ­
и зведен и й Тэффи.
В о вступительной статье ам ер и к а н с к о й и ссл ед овател ьн и ц ы т в о р ч е с­
тва Т э ф ф и Э .Н и траур (E .N e a tro u r) « Ж и зн ь см еется и плачет» п р о с л е ж е ­
ны о сн о в н ы е типы п ер со н аж ей пи сательн и ц ы , развитие м оти вов см ер ти ,
оди н о ч ества, Р ока, тем ы л ю б в и в н овел ли сти ке п и сател ь н и ц ы .
Аверченко А., Тэффи. Р ассказы — М.: М олодая гварди я, 1990. — С.
224-465.
Т ем ати чески й сб о р н и к: рассказы из различны х к н и г о бъ еди н ен ы в
ц и клы : «Далекое», «Дети», «Н еж ить», «О них», «В стране Н игде», « Ж и ль­
цы б ел о го света», «И вр ем ен и не стало», что позволяет получить с и н х р о н ­
ное п редставление о творчестве писательницы . О собую ц ен н о сть и м еет
н а п и с а н н а я в эм и гр а ц и и статья «Н а скале Г ергесинской», х ар ак тер и зу ю ­
щ ая отн ош ение Т э ф ф и к револю ции. О п озднем творчестве Т э ф ф и дает
представление р асск аз «И врем ен и не стало».
С татья Е .Т рубиловой «В п ои сках страны Н игде» (с.208-223) содерж ит
н аи б о л ее полный и з всех вы ш еп еречи слен н ы х сб о р н и ко в ан ал и з э м и г ­
р ан т ск о го творчества п и сател ьн и ц ы , а такж е ссы л ки н а ряд зарубеж н ы х
и сто чн и ко в, п о свящ ен н ы х Т эф ф и .
Тэффи. Смешное в печальном: Рассказы . Авантюрный роман. П ортреты
современников. — М .: С оа.п и сател ь, 1992.
Н аибольш ий интерес представляет раздел воспоминаний Т эф ф и о Ф .С ологубе, А .А верченко и других деятелях русской культуры.
Вступительная статья Б.А верина и Э .Н и тр ау эр (E .N eatro u r) «Т айна
см ею щ и хся слов» (с .3-16) рассм атривает творчество Т э ф ф и в к о н тексте
ю м о р и сти ки А Ч е х о в а , А .А верченко, С аш и Ч ерного. И м еется ряд ссы л о к
на зарубеж ны е труды о писательнице.
Одоевцева И. Н а берегах Сены. — М.: Х удож .лит., 1989.
Т э ф ф и п осв ящ ен ы сс. 72-95. П ередан ряд вы ск азы ван и й п и сател ь н и ­
цы о себе и своем творчестве.
381
Трубилова Е.М . Т эф ф и //Л и тер а ту р а р усск ого зарубеж ья: 1920-1940. —
М.: Н асл еди е-Н аука, 1993. — С. 241-264.
Н аиболее полное и научно достоверное исследование творчества п и са­
тельн и ц ы . «М ечты о будущ ем, во с п о м и н а н и я о прош лом и уход в И гру от
н астоящ его —- вот характерны е м отивы р асск азо в Т эф ф и » , — утверждает
исследовательница. В сносках к статье содерж ится больш ой до п олн и тель­
н ы й м атериал о ж и зн и Т эф ф и.
N eatrour Elizabeth В. (Н ит рауэрЕ .). M iniatures of R ussian Life at H om e
& in Em igration: the Life and W orks o f N.A.Tefly. — Indiana U niversity, 1973.
Э .Н и трауэр сообщ ает со ссы лкам и на архивны е м атери алы м нож ество
подробн остей о ж и зн и Т эф ф и , ан ал и зи рует ее рассказы , вы явл яя п ред­
ставлен и я п исательницы о русском н ац и о н а л ьн о м характере. Сжатое и з­
лож ен и е м он ограф и и см.: Тэффи. Ностальгия.
«М ЕЖ Д У ДВУХ ЗВЕЗД »
ВТОРАЯ ВОЛНА РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ
Вторая мировая война породила новый поток русских эмиг­
рантов. Это были граждане Прибалтийских республик, не желав­
шие признавать советскую власть; военнопленные, справедливо
опасавшиеся возвращения домой; молодые люди, вывезенные с
оккупированных фашистами территорий в Германию в качестве
дешевой рабочей силы; наконец, это были люди, сознательно
вставшие на путь борьбы с советским тоталитаризмом. По далеко
не полным данным к 1952 году только в Европе было 452 тысячи
перемещенных граждан СССР. 548 тысяч русских эмигрантов при­
было в Америку в период с 1941 по 1950 гг. (The Encyclopedia
Americana: International Edition. Vol. 37. — N.Y., 1993. — P. 525).
Во второй волне русской эмиграции было немало людей, пос­
вятивших себя литературному творчеству. Среди них поэты Иван
Елагин, Ольга Анстей, Дмитрий Кленовский, Юрий Иваск, Бо­
рис Нарциссов, Игорь Чиннов, Валентина Синкевич, поэты и
прозаики отец и сын Марченко (взявшие себе соответственно
псевдонимы Николай Нароков и Николай Моршен), Сергей
Максимов, Владимир Марков, Борис Филиппов, прозаики Лео­
нид Ржевский, Владимир Юрасов, Борис Ширяев и многие дру­
гие. С первой волной новых изгнанников объединяло полити­
ческое неприятие советской реальности, связь с дореволюцион­
ной культурой (в 20-30-е годы, на которые пришлось их детство,
ее остатки не были полностью искоренены; к тому же большин­
ство писателей второй волны происходили из образованных се383
мей), горечь изгнания и горечь ностальгии. Если беженцы пер­
вых послевоенных лет испытали ужасы революции и гражданс­
кой войны, то на долю эмигрантов второй волны выпал или ста­
линский ГУЛАГ (Б.Ширяев, Н.Нароков, С.Максимов), или ощу­
щение «вины» за свое происхождение и страха за свое будущее
(Д.Кленовский, И.Елагин, Н.Морщен, О.Анстей).
Как вспоминает З.Шаховская, первыми, послереволюцион­
ными, эмигрантами «вторая волна была признана за свою» («Одна
или две русских литературы?» — L'Age d'Homme, 1981, с. 58).
Более того, многие из писателей первой волны оказывали по­
мощь младшим коллегам. Вопрос взаимодействия художников двух
поколений русской эмиграции, тем более творческого влияния
мэтров русской литературы на новых эмигрантов, практически
не изучен и ждет своих исследователей. Известно лишь, что пос­
тоянный интерес к литературной молодежи проявляли Б.Зайцев,
Тэффи, Г.Газданов, Г.Адамович, Г.Иванов. На Западе опублико­
вана переписка Г.Иванова с В.Марковым (I.Odojevceva, G.Ivanov.
Briefe an Vladimir Markov. 1955-1958. — Koln-Wien, 1994), из кото­
рой видно не только то, как под воздействием Г.Иванова мужал
талант его корреспондента, но и пристальное внимание мэтра к
«племени молодому, незнакомому» (Г.Иванов пишет В.Маркову
о Н.Нарокове, Н.Моршене, И.Елагине и многих других). Встре­
чи с И.Буниным и письма классика явно оказали влияние на
прозу Л.Ржевского. Много и доброжелательно писал о литерато­
рах второй волны Р.Гуль. Именно он «благословил» в «Новом
журнале» первые книги И.Елагина, Н.Нарокова и Л.Ржевского;
заметил рассказ С.Юрасова «Враг народа», переросший затем в
роман; высоко оценил стихи молодого И.Чиннова. Творчество
Н.Моршена и Б.Нарциссова получило поддержку И.Одоевцевой.
Второй родиной для русских эмигрантов 40-50-х годов стали
сначала Германия (преимущественно Мюнхен и его окрестнос­
ти), затем (для большинства) — Америка.
В Мюнхене находились многочисленные организации рус­
ских эмигрантов: Национально-трудовой Союз (НТС), Централь­
ное объединение политических эмигрантов из СССР (ЦОПЭ),
радиостанции, вещавшие на Россию. В Мюнхене же активно
функционировал Институт по изучению истории и культуры
СССР, печатавший работы многих русских эмигрантов. Здесь
начал выходить в 1946 году «журнал литературы, искусства и об­
щественной мысли» «Грани». В 1951-1954 годы в Мюнхене выхо­
дил журнал литературной критики (альманах) «Литературный
современник». В 1958 году в издательстве ЦОПЭ вышел сбор­
ник-антология «Литературное зарубежье» с произведениями
И.Елагина, С.Максимова, Д.Кленовского, Л.Ржевского, О.Иль­
384
инского,. Н.Нарокова, Б.Ширяева, О.Анстей, Б.Филиппова,
С.Юрасова, Н.Моршена, В.Свена — практически всех, кто по­
том определял развитие литературы второй волны. То же изда­
тельство выпустило 15 номеров альманаха «Мосты». В 1959 г. на
страницах «Граней» (№ 44) была опубликована антология поэтов
обеих волн (составитель Ю.Терапиано), позднее вышедшая от­
дельной книгой «Муза диаспоры» (Франкфурт-на-Майне, 1960).
Что касается Америки, то наряду с продолжавшим выходить
«Новым журналом», охотно печатавшим писателей второй во­
лны эмиграции, здесь существовало несколько крупных изда­
тельств русской книги, в том числе издательство имени Чехова,
опубликовавшее в 1953 году антологию «На Западе» (составитель
Ю.Иваск), куда вошли стихи О.Анстей, И.Елагина, О.Ильинского, Д.Кленовского, В.Маркова, Н.Моршена, Б.Нарциссова, Б.Филиппова, И.Чиннова. В 1966 году поэтесса Татьяна Фесенко со­
ставила и издала антологию «Содружество: Из современной по­
эзии русского зарубежья» (Вашингтон, 1966). Позднее объединя­
ющим поэтов и художников второй волны стал продолжающий­
ся и сегодня альманах «Встречи» (с 1977 по 1982 год — «Пере­
крестки»), редактируемый поэтом Валентиной Синкевич. В 1996
году вышел юбилейный 20-й номер этого издания, на страницах
которого теперь встречаются поэты и художники как второй и
третьей русской эмиграции, так и писатели, живущие на родине.
Событием литературной жизни стала собранная все той же не­
утомимой В. Синкевич антология стихов поэтов второй эмигра­
ции «Берега» (Филадельфия, 1992).
По единодушному мнению критики наибольший вклад в раз­
витие русской литературы второй волны русской эмиграции при­
надлежит именно поэтам.
Характерно, что почти все они начинали с политических сти­
хов, часто даже сатирических. Иван Елагин в стихотворении «Ам­
нистия» проклинает убийц своего отца, ему же принадлежат «По­
литические фельетоны в стихах. 1952-1959» (Мюнхен, 1959). Ни­
колай Моршен в стихотворениях «Тюлень» и «Вечером 7 нояб­
ря» своего первого сборника противопоставляет человека тота­
литарному обществу. В.Юрасов пишет вариацию на тему поэмы
АТвардовского «Василий Теркин», герой которой рассказывает
о советских концлагерях, о нищенской пред- и послевоенной
жизни деревни, высмеивает партийных руководителей. В эмиг­
рации поэтам надо было прежде всего освободиться от давящей
атмосферы прежней жизни и лишь затем перейти к более объек­
тивному и философски глубокому изображению реальности и
своих переживаний.
Через религию пришел к положительному восприятию жиз13—1662
385
ни Юрий Иваск (1907-1986), эмигрировавший в 1944 году в Гер­
манию из Эстонии, а с 1949 года живший в США*.
В эмиграции им опубликованы книги стихов «Царская осень»
(Париж, 1953), «Хвала» (Вашингтон, 1967) и «Золушка» (НьюЙорк, 1970), сборник «Я — мещанин» (Холиок, 1986), «Завоева­
ние Мексики» (Холиок, 1984), посмертно вышли его прозаичес­
кая «Повесть о стихах» (Нью-Йорк, 1987) и поэма «Играющий
человек» (Париж — Нью-Йорк, 1988). Большое влияние на ми­
ровоззрение поэта оказали труды К.Леонтьева, о котором Иваск
написал превосходную книгу (Bern, 1974).
Уже в «Царской осени» присутствуют мотивы неземного ус­
покоения:
Куда, в какую синеву
Небес, высокую и выше,
Куда, неведомо, плыву?
Земные шумы тише, тише.
Поэт в звучных стихах, широко пользуясь аллитерациями и
ассонансами (критика даже называла их «необарочными», а сам
поэт в «Повести о стихах» признавался в любви к «игре слов и
звуков»), воздает «Хвалу» не только небесам, святым местам Афона
и Италии, но и провинциальному русскому Звенигороду:
Невидимые зитаки,
Полуденные, звенят —
Твои узнаю я знаки,
Звенигород, Звениград!
Земной полуденный рай,
Пока не вышел из строя,
Позванивая играй!
Ему дороги все проявления тварного мира: и итальянский
«вокзальный вечный мальчишка У вылезающих из машины —
Вырывающий чемодан» («Принц и нищий»), и уходящее в небо
«Болдино» и даже Хлестаков — «Повеса — вовсе не задира, Из
Петербурга милый Лель!» («Хлестаков»).
«Я (никогда — В.А.) не сомневался в чудесах, — писал Иваск
в «Повести о стихах», — ни в евангельских, ни в житийных, ни
даже в житейских».
В позднем творчестве Иваск увлекся игрой словом и звуком.
В одних случаях эти поиски были интересны, как например, в
стихотворении «Гласные»:
♦Составители справочника «П исатели русского зарубежья (1918-1940)»
относят Ю .И васка к первой волне русской эм и грац и и , одноврем енно п р и ­
зн авая , что эм и гран том о н стал л и ш ь в 1944 году, когда п о ки н у л Э с т о ­
нию . Е сли учесть, что все его осн о в н ы е к н и ги вы ш л и после этого ср о к а ,
п р аво м ер н о отнести его к о второй вол н е эм и грац и и .
386
Пели-пели-пели,
Пили — пили — пили,
Поле-поле-поле,
П у л и -п у л и -п у л и ,
П а л и - п а л и -п а л и ;
в других — малопонятны («Homo Ludens»).
Если Ю.Иваск и Дм.Кленовский (см. главу «Я их изведал
радости земли...» Дм.Кленовский), едва оказавшись на свободе,
сразу стали писать о радостях земли, то у большинства освобож­
дение затягивалось надолго, налагая на стихи трагический, что­
бы не сказать пессимистический, оттенок. Однако с годами (и в
этом проявлялась «русскость», национальное своеобразие поэ­
зии) социальные темы почти у всех крупных поэтов второй во­
лны все чаше переходили в философские, а мировосприятие
обретало пушкинскую гармонию.
Это видно даже из сопоставлений названий сборников. У
Елагина: социально-биографическое «По дороге туда» (1947,1953)
сменяется философским «В зале Вселенной» (1982). У Моршена
социологизированный «Тюлень» (1959) вытесняется космологи­
ческим «Эхом и зеркалом» (1979) и лирико-философским «Умол­
кшим жаворонком» (1996). (Подробнее об этих двух поэтах см.
отдельные главы.)
Ярким примером подобного пути служит творчество Вален­
тины Синкевич ( род. 1926) — одного из крупнейших поэтов
«второй волны» русской эмиграции, критика и издателя.
Валентина Алексеевна Синкевич родилась в Киеве, выросла
в городе Остер на границе России, куда ее родители уехали, что­
бы избежать репрессий (одно из ее лучших стихотворений пос­
вящено «Городу детства Остеру»). В 1942 году была принуди­
тельно отправлена на работы в Германию. После войны находи­
лась в лагере для перемещенных лиц, а в 1950 году переселилась
в США. Живет в Филадельфии.
Стихи Синкевич пишет с детства. На ее первый сборник
«Огни» (1973) откликнулись рецензиями И.Одоевцева и Ю.Терапиано. Ей принадлежат сборники стихов «Наступление дня»
(1978), «Цветение трав» (1985), «Здесь я живу» (1988). Все они
вместе с циклом «Новые стихи» вошли в итоговую книгу «Из­
бранное» (Филадельфия, 1992).
В своем творчестве Синкевич проделала путь из одиночес­
тва (среди поэтических образов ее первой книги туман, мед­
ленно плывущая река, «топкая гладь души», «души бетонная
гладь», «задохнувшаяся улица», и лишь телефон связывает
лирическую героиню с людьми) к приятию мира, утверждая,
что нельзя жить,
387
13*
не заметив узорчатость платья
мотыльков, и зверей и деревьев,
Всей земли нашей крепкое братство:
шерсть, и листья, и травы, и перья —
золотое наше богатство!
(Прохожему)
Поздние стихи Синкевич пронизывает чувство сопричастности
поэта ко всему происходящему:
Может в этом есть нечто странное —
письма пишу в разные страны я,
разным людям пишу я разное
и их письма ко мне праздную.
Боже мой, как все волнующе!
Прошлое, настоящее, будущее —
в рифму, в строчку и в строчечку:
сын родился, похоронили дочечку...
Что мне до этого. Что мне до этого!
Все это строчечки не поэтовы.
Но нет. Мне житейское варево,
будто на небе великое зарево.
Малое все — велико одинаково.
Все именую в жизни Итакою.
Плыть нам всем вместе. Поэтому
Все вдохновляет. Все здесь поэтово.
Если в ранних стихах поэтессы звучал «плач по зверю», то в
позднем своем творчестве она утверждает возможность «сплава зве­
рей с людьми». Это, писала автору книги поэтесса, «отнюдь не
поэтический вымысел, а нечто весьма реальное, некое мироощу­
щение, родственное Швейцеру. Друзья давно считают меня слегка
«тронутой» и имеют на то основание: у меня в доме пятеро быв­
ших бездомных собак и двое котишек за домом». И уже в стихах:
В тесном доме моем находят приют звери и люди,
книги с твоими картинами, знают неведомую нам ворожбу.
Пусть говорят твои мысли, что в будущем ничего не будет.
Все справедливо. И я благословляю свою судьбу.
«Нам заказано не быть Нам — быть!» — пишет Синкевич в
стихотворении «Быть».
Силу для такой пушкинской умиротворенности в трагичес­
ком XX столетии поэтесса черпает из веры в Слово:
...нас чужим давило бытом,
сбивало с речи, с пути и ног.
388
Но карта — нет, еще не бита,
и Слово не покинуло порог
пустого, старенького дома —
он обречен уже на слом.
Но мы стоим, как будто нету слома, —
во всем отчаяньи своем!
(Вокруг чужая речь, своя ли...)
в «стихо-творение»:
Пора принять нам свой жребий
и честно с собой говорить.
Тоска? Что бывает нелепей!
Не лучше ль покорно поплыть
к единственной видимой цели —
к перу и к бумаге в столе.
Когда-то нас вспомнят: мы пели
на этой красивой земле.
(Пора принять нам свой жребий...)
Мы «плакали, днями работали, а к звездам шли по ночам», —
пишет она в другом стихотворении.
Сквозные образы поэзии Синкевич — костер, звезда и кни­
ги. Именно они придают ее стихам суровый оптимизм и фило­
софскую глубину:
Пусть горит огонь костра и камина.
И страна, и земля эта уже не чужбина.
Только время бежит, очень быстро бежит время.
И горит огонь...
Ты идешь по дороге, зная горечь разлуки,
Ты пройдешь все — и не умоешь руки.
Ты поймешь все — от молчанья до Слова
И найдешь хлеб и найдешь кров у другого крова.
Ты забудешь степь, полюбив моря и пустыни.
Ты переломишь хлеб, горький хлеб. И отныне
Будет сладок он. И огонь гореть будет в доме.
Будет в доме живой огонь.
(Огонь)
В этом стихотворении почти каждое слово несет несколько
смыслов, синтаксис и ритм сознательно затруднены, чтобы на­
прячь, активизировать читательское восприятие.
Стремясь наиболее полно передать философскую мысль, по­
этесса порой пользуется в позднем творчестве белым стихом, «не
заботясь, чтоб стих был гладок и голос красив».
Подобный путь проделал и Владимир Марков (род. 1920),
совместивший в себе талант выдающегося литературоведа, кри­
тика и поэта.
Знаменательно, что составляя свой итоговый сборник «Поэ­
зия и одностроки» (Мюнхен, 1984), мэтр предварил первую часть
(полностью повторяющую книгу 1947 года) грустным эпиграфом
из «Осени» Р.М.Рильке («Кто без жилья — уж поздно строить
дом, Кто одинок — тому им оставаться...»), а вторую, куда вошли
поздние стихи, «Гурилевские романсы» и «Поэма про ад и рай»,
а также «Одностроки», цитатой из «Ночного часа» Брокмайера,
заканчивающейся словами: «Бог придет сейчас».
«Поэзия и одностроки» открывается стихами 1947 года, где
поэт называет себя «последним в мире трубадуром» и утвержда­
ет, что «Наверно, кто-то очень неумелый Играет упражненьем
нашу жизнь» («Сумерки»). В своих ранних стихах Марков не
только «не в силах снять с души нагар», но и рифмует жизнен­
ную «роль» человека со словом «боль» («Неразделенная минута»).
Даже на ласковой земле Италии душа лирического героя Маркова
«слепа, душа глуха: Нет чувств, нет мыслей, нет желаний» («Вес­
ной и солнцем дышит грудь...»). В стихотворении «Там, где пре­
кращается живое...» поэт испытывает «боль без облегченья, Злобу
на земную слепоту». Он «убегает в выдумку от боли», ему «жутко
на земле» («Мы стоим у притворенной двери...»). Однако по мере
развития лирического сюжета книги в ее герое пробуждается лю­
бовь. Поэт даже вступает в полемику с Ф. Тютчевым, видевшим
в ночи таинственный ужас. У Маркова напротив «Днем все бес­
трепетно, все грязно, все понятно», зато
Ночной поток, сверкающий агатом,
Течет сквозь душу тысячами струй;
На цыпочках, в волненьи, каждый атом
Привстал принять у ночи поцелуй.
Заключительные стихотворения говорят о преобразовавшей
лирического героя любви. «Мы много лет и стран пройдем с то­
бою», — обращается он к любимой. — «И скажем мы: Жизнь
все-таки красива». Книга завершается стихотворением, полностью
отрицающим начальный посыл поэта:
Пускай смешно сейчас искать устои
Иль даже краткий временный причал,
Но всюду есть то важное, простое,
Чего никто еще не замечал.
А коль заметишь ты случайно где-то —
Молчи и никому не говори,
Возьми с собой и из находки этой
Жизнь незаметной сказкой сотвори.
390
Юрий Иваск
—поэт, критик, Валентина Синкевич — поэт,
критик, издатель альманаха
философ-эссеист
«Встречи»
Олег Ильинский — поэт,
литературовед
Владимир Ю расов — прозаик,
поэт
Прославление жизни, любви и природы составляет содержа­
ние написанной редким по ритмическому рисунку хореем (в че­
тырех стопах только два ударения на первой и третьей стопе)
нерифмованным стихом «Гурилевских романсов» (1951) В.Маркова, соединивших наше время с эпохой декабристов. Предва­
ряя вопросы потомков, «не знающих больше Войн, арестов, эмиг­
раций, Лагерей, бомбардировок», зачем понадобился ему такой
сюжет, поэт скажет:
Я люблю одну Россию —
Невозвратно дорогую;
И сейчас, под шорох липы
И жужжанье пчел прилежных
Вдруг и страстно захотелось
Погрустить о ней немного
Светлой пушкинской печалью.
К сожалению, российский читатель до сих пор лишен воз­
можности познакомиться с творчеством этого интереснейшего
поэта. В изданную в Санкт-Петербурге книгу трудов В.Маркова
«О свободе в поэзии» (иэд. Чернышева, 1994) вошли лишь «Одностроки». В канун его 75-летия выпушен сборник статей рус­
ских и зарубежных ученых «Культура русского модернизма» (М.:
Наука, Воет, изд., 1994), посвященный юбиляру.
Нет возможности охарактеризовать всех достойных внима­
ния поэтов второй волны русского зарубежья, тем более, что их
книги практически недоступны не только широкому читателю,
но и специалистам. Ограничимся перечнем имен авторов, чье
творчество ждет своих исследователей: Игорь Чиннов (1909-1996)*,
Олег Ильинский (род. 1932)**, Татьяна Фесенко (1915-1995) ***,
Вячеслав Завалишин (1915-1995), Иван Буркин (род. 1919)****.
* И .Ч и н н о в у прин ад л еж ат кн и ги : «М онолог» (П ари ж , 1950), «Ли­
нии» (П а р и ж , 1960), «М етаф оры » (Н ь ю -Й о р к , 1968), «П артитура» (Н ью Й о р к, 1970), «К ом п ози ц и я» (П ари ж , 1972), «П асторали» (П ар и ж , 1976),
«Антитеза» (Collage P ark, M d.. 1979), «Автограф» (Х олиок, 1984).
** О. И л ьи н с к и й — автор 6 кн и г, п ять и з которы х назы ваю тся «С ти­
хи» и далее н ом ер к н и ги . Ш естая — «С тихи. 1981-1996. И з записок»
(Ф и л ад ел ьф и я, 1996).
*** Т .Ф ес ен к о вы пустила всего одну книгу: «П ропуск в былое» (1975).
П ечаталась в п ериод ике.
**** И .Б у р к и н о п у бл и к овал к н и ги : «Т олько ты» (М ю н х ен , 1947),
«П утеш ествие и з Ч ер н о го в Белое», «Рукой н еб р еж н о й (обе — М ю нхен,
1972), «Заведую словам и», «Т ринадцаты й подвиг», «Голубое с голубым»
(Ф и л ад ел ьф и я, 1978, 1980), «Луна н ад С а н -Ф р ан ц и с к о » (С п б., 1992).
392
* * *
Вторая волна дала достаточно высокий всплеск и прозаичес­
кого творчества.
Если предметом повествования писателей первой волны рус­
ской эмиграции была дореволюционная Россия, то писатели вто­
рой обогатили литературу рассказом о жизни родины в преддве­
рии второй мировой войны, непосредственно в годы войны и в
первые послевоенные дни.
В отличие от советских авторов героями своих книг они де­
лали людей, в силу тех или иных причин не нашедших места в
советской жизни: интеллигентов, не принимавших жестокостей
тоталитарного режима; крестьян, разочаровавшихся в колхозной
действительности; репрессированных в разные годы рядовых
граждан России.
Эпоха, воспринимаемая почти всеми советскими писателя­
ми как исключительно героическая, под их пером становилась
трагической.
Типологически общим для лучших прозаиков второй волны
является преодоление идеологической зашоренности и страха,
обретение героем новой общечеловеческой (христианской) нравствен­
ности.
Однако до этого персонажу зачастую предстояло пройти тер­
нистый путь страданий, испытаний, метаний «между двух звезд»,
как метко назвал одну из своих повестей Леонид Ржевский (19051986).
В сложном положении оказываются герои повести Л.Ржев­
ского «Девушка из бункера», рассказов Б.Филдетова «Духовая
капелла Курта Перцеля», «Gott mit uns», «Счастье», повестей
Б.Ширяева «Ванька вьюга» и «Кудеяров дуб»: им равно чужды
идеи фашизма и сталинского тоталитаризма, приносящие зло
простым людям, всему русскому народу.
Концентрированным выражением этой коллизии является
рассказ-притча Владимира (печатался и под именем Сергей)
Юрасова (псевдоним, подлинная фамилия — Ж абинский,
род.1914) «Горе тому же кувшину» (1951). Идея рассказа доста­
точно четко выражена в его эпиграфе: «Камень падает на кув­
шин — горе кувшину, кувшин падает на камень — горе тому же
кувшину». Герой-повествователь еврей-портной пострадал сна­
чала от советского вторжения в Польшу: его насильственно «эва­
куировали» в Житомир, где он сперва работал на заготовке дров,
а затем шил из тряпья одежду колхозникам. С приходом немцев
он потерял жену, и сына. Затем чуть было не был обвинен совет­
скими органами в сотрудничестве с фашистами и, наконец, по­
лучил разрешение вернуться в Польшу, откуда эмигрирует в Па393
лестину. В финале рассказчик говорит: «Я часто спрашиваю Бога:
за что Он взял у меня сына и жену и сохранил мою жизнь? И
ответа мне нет. Люди говорят о родине евреев — Израиле, люди
радуются, а мне нет радости, я похож на Иова».
Между родиной и чужбиной мечется герой романа Юрасова
«Параллакс» (первая часть под названием «Враг народа» опубли­
кована в 1951 году; отдельное издание романа из трех частей —
в 1972-м).
Судьба В.И.Юрасова-Жабинского необычна: с энтузиазмом
восприняв большевистскую идею индустриализации страны, он
работал на монтажах Россельмаша, Сталинградского тракторно­
го, Магнитогорского металлургического комбината, шахт Донбас­
са, новороссийских цементных заводов, затем на индустриаль­
ных стройках Ленинграда. Увлечение поэзией (он и сам писал
стихи) привели юношу на литературный факультет Ленинград­
ского университета. По ложному доносу студент был арестован в
1937 году и отправлен в Сегежстрой.
Больной туберкулезом Жабинский попросился на строитель­
ство окопов, откуда затем был отправлен вместе с другими за­
ключенными в тыл. Попав под Ярославлем под бомбежку, он
бежал, а после окончания Великой Отечественной войны, скрыв
свою судимость, работал в Наркомате промышленности и даже
был откомандирован в Германию для репараций промышленно­
го немецкого оборудования в СССР. Там понял, что вскоре бу­
дет разоблачен и арестован, и вынужден был искать прибежище
в американском секторе.
Примерно такая же судьба и у героя романа «Параллакс»
Федора Панина.
Однако его побег вызван не столько драматическими обстоя­
тельствами, сколько неприятием «всеобщего рабства», внедряе­
мой сталинским режимом идеи «Великого Страха» как двигателя
прогресса. «Здесь дышать нечем!» — объясняет свои действия
Панин.
Тема преодоления страха и воскресения человека, проходящая
через почти всю литературу второй волны русской эмиграции,
характерна и для романа Юрасова (не случайно вторая часть ро­
мана названа «Страх»).
Герою романа снится, как его ловят «люди в советской фор­
ме. Однажды людей не было, а были только глаза — пара серых,
беспощадно спокойных, наблюдающих глаз. Снилась площадь,
улицы, развалины — и куда бы он ни шел, повсюду за ним сле­
довала и следила эта пара глаз... Он задыхался, он шмыгнул в
чужую квартиру, он забрался в чужую спальню, но пара глаз на­
шла его. Он выбрался через окно на крышу, но глаза по воздуху
394
двигались за ним. Он знал, что выхода не будет и что сейчас
сорвется вниз и умрет раньше, чем долетит до булыжников мос­
товой».
В романе с потрясающей силой показано проникновение стра­
ха в лагеря советских военнопленных, ожидающих репатриации
на родину. «В бараках люди ходят серые от страха, давятся по
ночам, режут себе вены, боятся агентов, сексотов, ... стонут во
сне. Страх душит их, и они вскакивают, обливаясь холодным
потом».
Трагична сцена насильственной отправки русских военно­
пленных на родину (глава «Платтлинг»), завершающаяся автор­
скими словами «Небо плакало мелкими старушечьими слезами».
И все же писатель не верит в возможность полного порабоще­
ния русского народа. Не все отправляемые одержимы страхом.
Символом сопротивления звучит песня, исполняемая одним из
эпизодических персонажей романа и его друзьями:
Не к лицу нам покаянье,
Не пугает нас огонь,
Мы бессмертны! До свиданья!
Сюжет романа, включающий в себя передвижения Федора
по Германии и его друга Василия Трухина по России, их много­
численные встречи (с русскими военнопленными и узниками
ГУЛАГа, советскими и американскими боевыми офицерами и
разного рода чекистами, вплоть до всемогущего генерала Серо­
ва) придают роману социальную широту и размах, позволяют
увидеть одни и те же события с разных точек зрения. Слово
«параллакс» и означает, как об этом пишет энциклопедический
словарь, «видимое изменение положения предмета (тела) вслед­
ствие перемещения глаза наблюдателя».
Не только главные герои романа (Федор и Василий Трухин,
Катя и Соня), но и многочисленные второстепенные персона­
жи, живущие по обе стороны океана (заключительная часть ро­
мана так и называется «По обе стороны»), постепенно изживают
страх, проникаются пониманием общечеловеческих ценностей и
готовы своим высоконравственным поведением отстаивать их.
Отвечая своему американскому спасителю, бывшему капита­
ну Бобу, пославшему Федору статью о мягкости русского харак­
тера, Панин пишет: «Мягкость, женственность русского харак­
тера и дала русскому народу перебороть страшное татарское иго,
смутные времена, крепостное право, самую кровавую револю­
цию в мире, коллективизацию и все ужасы сталинщины, выиг­
рать войны против Наполеона и против Гитлера».
Влиятельная бостонская газета «Крисчен сайенс монитор»
395
писала: «Роман «Параллакс» как человеческий документ и как
произведение искусства выходит за пределы России и живо ста­
вит глубокие вопросы судьбы человека и истоков его духовных
сил». А сам Юрасов в предисловии к роману утверждал, что кни­
ги писателей-эмигрантов, в том числе и его «Параллакс», «помо­
гут преодолеть трещину — пропасть, разделившую людей» на
разные лагеря.
Идея духовной стойкости и преодоления страха пронизывает
и творчество Сергея Максимова (псевдоним Сергея Сергеевича
Пашина (1916-1967). Сын сельского учителя, Максимов провел
детство в Москве, печатался в «Мурзилке» и «Смене», в 1934
году поступил в Литинститут, а в 1936-м был арестован и пять
лет провел в концлагере. Выпущенный в 1941 году, писатель ока­
зался в оккупированном немцами Смоленске, где под псевдони­
мом Сергей Широков опубликовал книгу стихов и повесть «Су­
мерки». Арестованный гестапо, писатель был отправлен в Гер­
манию, где с 1943 года сотрудничал с Восточным отделом ми­
нистерства пропаганды и русской эмигрантской газетой «Новое
слово», а также писал рассказы. После войны жил в Гамбурге,
печатался в «Гранях», где опубликовал полемизирующий с шо­
лоховской «Поднятой целиной» роман «Денис Бушуев» (1949),
переведенный на немецкий, английский и испанский языки и
принесший ему широкую известность. За многочисленными лю­
бовными коллизиями и полудетективным сюжетом убийства
Мустафы Ахтырова встает трагическая судьба председателя кол­
хоза Алима Ахтырова, сначала всей душой поверившего в кол­
лективизацию, затем жестоко разочаровавшегося в ней, не захо­
тевшего жить во лжи и страхе и покончившего жизнь самоубий­
ством. В романе дан яркий национальный характер русской жен­
щины Манефы, выразительно написаны портреты деда Северьяна и сорокалетнего молчуна Гриши Банных. Вместе с тем авто­
ру не удалось органически синтезировать жанр любовного и со­
циального романа, бледным получился и главный герой, чьим
именем назван роман.
Крупные жанры вообще не давались писателю. Схематизмом
и излишней политизацией отличалась не только первая повесть
писателя «В сумерках», но и пьеса «Семья Широковых» (1953),
не удался роман «Бунт Дениса Бушуева» (1953-1956). Несколько
более удачны драматические поэмы «Двадцать пять» и «Танюша», но и в них чувствуется излишняя литературность (стилиза­
ция под народную песню).
Подлинным мастером писатель проявил себя в рассказах сбор­
ников «Тайга» (1952) и «Голубое молчание» (1953).
15 рассказов книги «Тайга» повествуют о системе ГУЛАГа, о
396
трагедии ареста, допросов и предательств друзей («Одиссея арес­
танта»), об ужасах этапов, когда в трюм парохода загоняют три
тысячи человек, а в камере пересыльной тюрьмы вместо по­
ложенных 25 мучаются 107 («На этапе») и убивающем труде («Пи­
анист», «Стошестидесятый пикет»). Рассказы о трагедиях и из­
девательствах над людьми («Одна ночь», «Княжна», «Забава»)
соседствуют с повествованиями о «счастливых» и трагикомичес­
ких днях арестантов («В театре», «Счастье»).
Максимов, писал рецензент «Литературного современника»
о «Тайге», «умеет в нескольких штрихах дать яркий, закончен­
ный тип, нарисовать картину, создать цельность и незабываемость. ... Крохотные черточки врезаются в память ... Все расска­
зы — жуткие, сильные, яркие» («Лит. современник», Мюнхен,
1952, № 4).
Философско-драматическую основу конфликтов составляет
мысль о борьбе животного и человеческого в экстремальных ус­
ловиях. «Здесь уже не было людей. Здесь были звери», — говорит
писатель об уркаганах в рассказе «Стошестидесятый пикет». «Поет
свою страшную панихиду тайга», и в унисон с ней урки удов­
летворяют свою похоть в мертвецкой («Одна ночь»). Вынужда­
ет к сожительству с ним Веру жестокий жулик по кличке «Чума».
Тщетно бодрится вернувшаяся домой княжна, горько рыдает
ее мать, понявшая, какой ценой заработаны масло, конфеты,
хлеб. «А дождь все лил и лил, превращая в грязь серую пахучую
землю, — завершает рассказ автор. — Где-то на реке заунывно
тянул женский голос:
Ах, начальничек, ах, начальничек,
А-тпусти до дому,
За-болею я цынгою —
Ни-и вернусь назад!»...
Трагично заканчивается судьба актеров — жителей аристок­
ратического барака из рассказа «В театре»: «Хавронский из ре­
жиссеров превратился в уборщика бараков. Радунская (примаактриса — В.А.) стала прачкой. Актер Фрог устроился чертежни­
ком в конструкторском бюро при Управлении лагеря. А я попал
к старой подруге-тачке». Карцером завершилось неумелое стро­
ительство печки для героев рассказа «Счастье».
«Холодно. Ах, как холодно на этой земле!..» — звучит автор­
ский вывод в финале рассказа «Прохожая». «Вода плещет о борт,
словно убаюкивает, сыро, темно, смрадно. Тяжелый многоголо­
сый храп. А в сердце тоска и холод», — завершается рассказ «На
этапе». Мрачен финал новеллы «В снежной могиле»: «...Падало в
мутной дымке морозное солнце за зубчатую стену леса. Тихо,
как свечи в церкви, потрескивали ели и сосны. Скрипел снег
397
под ногами. Я шел впереди конвоира и бессильная злоба сжима­
ла мне горло. 9-й лагпункт оставался позади, уходя, как в моги­
лу, в сугробы снега».
Не только уголовники-урки, но и начальники лагерей, «вос­
питатели» давно потеряли человеческий облик. Не случайно по­
вествователь замечает нечто общее между уголовником Гришкой-филоном и начальником всех лагерей «товарищем Яковом
Морозом». Особенно страшно и психологически достоверно вы­
глядят в книге «интеллектуальные палачи». Благодушно настро­
ен и выставляет себя чуть ли не отцом родным для заключенных
боров-начальник Казарин. Между ним и расконвоированным
Кириллом даже как бы устанавливаются человеческие отноше­
ния. Но вот Казарин попал в смешное положение, выпав из лод­
ки, и зек посмел посмеяться над ним, произнести роковое слово
«забава!»
«Встав на дно лодки, Казарин взглянул на нас... Жирные
щеки дрожали, с волос по лбу, по глубоким морщинам вокруг
рта бежали струи воды. Выкатившиеся глаза остановились на
Кирилле. Стало очень тихо.
— Кому — забава? Тебе забава? — еле слышно проговорил
Казарин, медленно расстегивая правой рукой кобуру револьвера.
Одним махом он выхватил браунинг и прицелился. Кирилл
растерянно улыбался своей милой улыбкой и теребил пуговицу
на гимнастерке.
Сухо треснул выстрел, покатился по воде, охнул в тайге...
Кирилл порывисто тряхнул головой и без стона легко опро­
кинулся навзничь, зацепив рукой штурвал. Колесо взметнулось
вправр — влево, как бы отсчитывая последние секунды жизни, и
застыло.
Казарин тяжело дышал, поглядывая на труп.
— Я говорил... я говорил ему... я ему говорил...»
Каждое слово писателя передает оттенок настроения, создает
неповторимо правдивую и жуткую картину унижения человечес­
кого достоинства одних и потери человеческого облика другими.
Рассказ довершается эпическим финалом: «Луна тихо полоска­
лась в холодной воде, уносившей нас все дальше и дальше. Звез­
дное, звездное небо...»
Противоречие между высшим смыслом бытия и повседнев­
ностью создает трагический настрой.
И тем не менее от первого рассказа «Прохожая» до последне­
го «Прокаженный» лейтмотивом проходит мысль о тяге человека
к свободе, о нравственном преодолении страха. Не захотела сбе­
жавшая из лагеря женщина вернуться к издевательствам — за­
стрелилась, оставив записку: «Милый, у меня есть только пол398
Сергей Максимов — прозаик,
драматург
Борис Филиппов — прозаик,
поэт, литературовед
Борис Ширяев — прозаик,
критик, публицист
Николай Нароков —
прозаик
минуты времени. Собаки и конвой совсем рядом. Самое главное
в жизни — свобода». Доверчивый, интимный тон записки при­
дает всему рассказу особую убедительность. Это и есть та самая
«крохотная черточка», о которой писал рецензент «Литературно­
го современника» и которая превращает рассказ из документаль­
ного свидетельства в художественное явление. Этому же способ­
ствует и описание психологического состояния, предшествую­
щее рассказу о самоубийстве Ирины: «Перед смертью человек
чувствует лишь сладкое замирание сердца перед вечной тайной.
И больше ничего. И — холод».
Выбор побега и смерти вместо унижений и рабства делает
Митька-Пан («Пианист»), голодный охранник морга выбрасы­
вает буханку хлеба, полученную от циников-сластолюбцев («Одна
ночь»), борьбу вместо смирения выбирает герой рассказа «Про­
каженный», уже после освобождения надерзивший секретарю
горкома партии.
Не оказывается поражением и согласие княжны стать любо­
вницей негодяя: подобно Соне Мармеладовой она жертвует со­
бой во имя немощной матери, тоже находящейся в лагере
(«Княжна»).
Даже театральный спектакль, поставленный заключенными,
воспринимается как протест против режима. «Все 3000 человек
переживали вместе с нами предстоящее событие и желали успе­
ха, останавливали на дороге, просили: — Братцы, уж вы там
дайте жизни... Покажите начальникам, на что заключенный че­
ловек способен!.. Это волнение передалось и нам».
Глубоко психологично описана смена настроений зеков и
пробуждение в казалось бы потерявших доброту людях челове­
ческого сочувствия в рассказе «Весной». Резко отрицательное
отношение согнанных на концерт заключенных к артистической
бригаде (для изможденных трудом людей артисты — лодыри,
холуи начальства) сменяется сочувствием после того, как боль­
ная чахоткой Женя Малинина, вынужденная по приказу руково­
дителей лагеря танцевать «яблочко», падает в обморок.
Мысль о человеческом достоинстве пронизывает поздний
рассказ писателя «Темный лес».
Автор берет в качестве сюжета драматичнейшую ситуацию.
Бывший студент Ириков, ставший лейтенантом и партизанским
разведчиком, по дороге на диверсионное задание вместе с быв­
шим бандитом Васькой-Тузом берет в плен немецкую девушкумедсестру. Отпустить ее нельзя (ситуация почти в точности пов­
торяющая эпизод из «Звезды» Эм.Казакевича). Командир при­
казывает Ваське расстрелять пленную, но тот решил перед этим
воспользоваться девушкой. И Ириков, невесту которого изнаси­
400
ловали и убили немцы, не прощает этого своеволия и убивает
негодяя. И над всем этим, как часто завершает свои рассказы
писатель, — вечность: «Лес, лес, лес» и луна — «безразличная и
чужая, безмерно далекая».
С «Тайгой» С. Максимова во многом перекликаются «лагер­
ные» рассказы поэта, прозаика и литературоведа Бориса Филип­
пова (псевдоним Бориса Андреевича Филистинского (1905-1991).
Закончив два ленинградских института (восточных языков в
1928-м и промышленного строительства в 1936-м), Филиппов в
1936 году был арестован и отправлен в ГУЛАГ. Освободившись в
1941 году, оказался в оккупированном немцами Новгороде и в
конце второй мировой эмигрировал в Германию. Сотрудничал
в «Гранях», «Возрождении», «Новом журнале», в русских газе­
тах. С 1950 года жил в США: работал для «Голоса Америки»,
преподавал в университетах.
Наряду со своими книгами (почти 30) издавал в сотрудничес­
тве с другими славистами собрания сочинений А.Ахматовой,
М.Волошина, Н.Гумилева, Е.Замятина, Н.Клюева, О.Мандельштама, Б. Пастернака и др.
Если С.Максимова привлекают эпические спокойные сюже­
ты повседневной жизни узников ГУЛАГа, то в поле зрения Б.Филиппова чаще попадают события драматические, необычные;
характеры неоднозначные.
Писательское кредо Филиппова выражено в рассказе «Счастье»
в наставлении одного из зеков начинающему прозаику Андрею,
от лица которого написано большинство произведений писате­
ля: «Не перечерните только, дружище: жизнь и так уже достаточ­
но темновата, не стоит ее сажей замалевывать, а даже и в среде
гепеушников встречались великие чародеи и неплохие, в своем
роде, человеки».
«Человеки» в их многообразном отношении друг к другу и к
жизни и составляют главный интерес писателя.
В каждом рассказе нарисованы люди яркие, самобытные,
принадлежащие к разным сословиям и национальностям. Так в
рассказе «Курочка» в домике у буровой собраны вместе «меха­
ник Павел Васильевич; работник центральной аптеки лагеря,
бывший архиепископ Виталий; старовер начетчик из Суздаля
Архип Сергеевич; невельский часовщик ... Самуил Исакович
Перовский; страстный эсперантист, технолог проектного бюро
Ричард Тадеушевич Цивильский» и рассказчик Андрей, а также
«старая пестрая курица Мавра и тиграстый кот Памва Берында».
Попутно рассказывается об их вольном начальнике и неплохом
человеке главном геологе, так и не освоившим даже названия
своей профессии и упорно называвшим себя «геолухом». В новелле
401
«Несть еллин ни иудей» писатель сводит чукотского шамана,
«осужденного за саботаж и антисоветскую религиозную пропа­
ганду на пять лет»; профессора, бывшего князя Николая Бори­
совича; еще одного князя старика-грузи на Вассо Григорьеви­
ча; бывшего гвардейского офицера Николая Павловича; быв­
шего комсомольца Сережу Новицкого и армянского писателя
Вагана Христофорыча, «переименованного» заключенными в
Вагона Семафорыча. А в качестве эпизодических персонажей
действуют механик и часовщик управленческого лагпункта Са­
муил Исакович Перовский и о.Агафангел. Еще более плотно
«населен» рассказ «О любви, ревности, смерти и других роман­
тических вещах».
Писателю удается создать не только внешние портреты, но и
привычки, передать манеру говорения своих персонажей. При
этом весьма часто используются и юмористические детали, штри­
хи. Шаман перед арестом клялся, что он «православный, боль­
шевик». Николай Павлович и Вассо Григорьевич обожают спо­
рить о регалиях разных полков царской армии. Ваган Христофорыч «нервно дергается», когда Вассо поет «Сулико»:
«— Вассо, оставьте: эту песню ваш Сталин любит.
— Хорошо. Не буду. Извиняюсь. Только Сталин — не грузин,
мать его ваша армянка, а отец осетин».
Добродушно нарисован и «геолух», мечтавший стать пивова­
ром и отправленный по партразнарядке в геологический вуз. «От
него, — говорит рассказчик, — мы узнали о существовании Домкратова меча и Домоклова яйца»; он же, стремясь подражать
Сталину в использовании античных образов, называет Геростра­
та Педестратовым. Что, впрочем не мешает ему относиться «к
заключенным, работавшим в его аппарате, заботливо и даже сер­
дечно...:
— Как у моих геолухов дело мокрое, всегда на болотах, то
их шлеры (обувь) развалились, остался один прах, — убеждал
он снабженцев лагеря, смешно разводя толстыми короткими
руками около криво обвисшего чрева, затянутого в чекистский
мундир. — Срамотища одна: у геолуха Панова задница светит­
ся. А? Хучь и заключенные, а всё — шесть условий товарища
Сталина!»
Сюжеты рассказов Филиппова внешне незамысловаты и об­
щечеловечны. Хорошие добрые люди привязались к двум неле­
пым животным — курице и коту («Курочка»). Добрые соседи
приглашают друг друга отпраздновать сначала еврейскую Пасху,
затем — православную («Несть еллин ни иудей»). Разные люди
по-разному влюблены: герой — платонически и видит смысл своей
любви в заботе о любимой. «Сухой, суровый, подтянутый и сдер­
402
жанный» Ахтям Сатыбалов, не существовавший вне конструк­
ций и схем, неожиданно влюбляется в легкомысленную девицу
Марусю Штейнберг и едва не убивает ее за измену, после чего
становится безразличен ко всему на свете. «Ведь он сам убил
себя, ее убивая. Смысл жизни своей убил», — комментирует
рассказчик («О любви, ревности...»).
Условия лагеря, неволи вносят в эти в основном бытовые
ситуации трагический оттенок, ведут к разрушению норм жиз­
ни и тем более жутковатым финалам, чем более подробно и
юмористично показана повседневная жизнь. В сентябре 1938 года
в лагерь приезжает комиссия, чтобы «проверить дела осужден­
ных», что означало «удлинение сроков, расстрелы, пытки». Всю
ночь «беспокойно ворочались наши звери. Они не могли найти
себе места. Кот жалостно мяукал, Пеструшка как-то болезнен­
но квохтала...» А на следующий день после ареста священника
«кот стоял перед пустой койкой владыки, стоял неподвижно,
как надгробие, и выл не по-котиному, выл как собака или волк.
А в ногах койки лежала наша Пеструшка. Сдохла. Может быть,
сдохла она от дряхлости, но мы тогда убили бы того, кто осме­
лился бы это сказать. Мы твердо решили: сдохла ПеструшкаМавра от тоски».
Рассказ о том, как в песнопении Воскресенья объединились
к общем порыве православные, иудеи и даже чукотский шаман,
«обильно вымазавший и пасхой, и мясом, и яйцами обоих идо­
лов» своей веры, завершается рассказом о последствиях этого
события и предшествующего празднования еврейской Пасхи:
«неприметный, худой и сутулый местечковый раввин и тишай­
ший о.Агафангел были осуждены выездной сессией суда Коми
АССР за лагерную пропаганду и расстреляны».
А легкомысленную возлюбленную Ахтяма проиграл в карты
и убил уголовник.
И все же в финале (а иногда и в пейзажных зачинах) каждого
из лагерных рассказов утверждается мысль о продолжении жиз­
ни. «Курочка» завершается тем, что один из персонажей нашел и
выкупил шапку, сделанную заключенными-китайцами из кота и
по-русски помянул животное: «Тоже ведь тварь Божия». «Боль­
шей части участников празднования (из рассказа «Несть еллина
ни иудея» — В.А.) удалось как-то выкрутиться» и «геолух»-чекист
предупреждает одного из уцелевших, чтобы тот был впредь «по­
осторожней».
Характерен финал рассказа «О любви...», где автор ирони­
чески пародирует возможную критику своей книги: «Но где же
композиция в вашем рассказе? Да вы совсем не владеете техникой
писательства! Чехов говорил, что ружье, висящее на стене в начале
403
произведения, должно обязательно выстрелить в его конце... А
вы... А то — все случайные лица ... Да и не определишь: рассказ ли
это, очерк или фельетон, мемуары? Ералаш какой-то! — возму­
тится квалифицированный читатель. Да и не определяйте жанра
этой вещи, господин доцент литературоведения! Ведь и жизньто наша — порядочный ералаш!»
Три разобранных рассказа написаны в 1945-1950 годы. Позд­
нее писатель вновь обратится к лагерной тематике в новеллах «В
тайге» и «Любовь» (1965), «Мотив из «Баядерки» (1970), «Ра­
дость» (1971). Все четыре произведения отличаются от ранних
предельной краткостью, но сохраняют характерную для твор­
чества Филиппова приверженность к сложным характерам, пе­
редают его благословление жизни как крестного пути к добру и
любви. Не случайно в итоговом прижизненном «Избранном»
(Лондон, 1984) эти рассказы помешены под общим заголовком
«Кресты и перекрестки».
В этот же цикл писатель включил и один из первых своих
рассказов «Духовая капелла Курта Перцеля» (1946), где показана
более чем сложная картина войны, созданы неоднозначные ха­
рактеры немцев, поднята проблема нравственной ответственности
каждого человека. Добродушные и даже слегка юмористически
нарисованные немецкие оркестранты послевоенной Германии
напоминают автору отряд СС, квартировавший в псковской де­
ревне во вторую мировую войну. «Добродушный баварец Курт
Перцель» не только завел себе русскую возлюбленную по имени
Любка, но и любил играть с ее сыном, переименованным немца­
ми «из Вовки в Петера». «Перцель носился по избе с Петером на
руках, носил его на шее, качал, подбрасывал, подпевая» себе про
Лорелею. Люба «жила с ним душа в душу» и даже «носила в себе
маленького Вилли или Фрица». Немцы пичкают Вовку-Петера
конфетами, вспоминая своих детей. Но это не мешает им же
чувствовать себя высшей расой, хладнокровно и равнодушно
избивать пленного партизана и затем повесить его. И осущес­
твляет казнь валторнист опереточной группы из Верхней Бава­
рии, «синеглазый плотный мужчина, хорошо и ладно скроенный
и достаточно интеллигентный. Он сильно интересовался Рос­
сией, читал в немецких переводах «Войну и мир» и романы Ме­
режковского». В финале «добрые немцы» сжигают эту самую де­
ревню, а трудоспособных отправляют в Германию (Курт, правда,
предупредил «свою» Любу, и она с сыном бежала). Сцена, нату­
ралистически нарисованная писателем, впечатляет: «Вначале
нехотя, с отвращением, приступили солдаты к окружению де­
ревни. ...По мере того, как загорались одна за другой избы —
вместе с загнанными в них мужичками, подозрительными или
404
нетрудоспособными, — росли ожесточение и какой-то азарт точ­
ного исполнения приказа. Выволакивали девок, часто своих вче­
рашних подруг, выхватывали парней и баб — и под конвоем гна­
ли их к грузовикам, а погрузив на пятитонки, везли к теплуш­
кам, чтобы гнать их дальше на Запад. Многих же загоняли при­
кладами и штыками в горящие дома, били, стреляли и зверели
все больше и больше».
Писатель не принимает объяснение, которое в конце расска­
за дает войне один из побывавших в русском плену немцев: «Ви­
новат международный империализм. И наш, и советский, и ка­
питал Америки, Англии». Филиппов убежден, что каждый до­
лжен нести в себе нравственные понятия. Не случайно среди
вакханалии убийств в псковской деревне нашелся «хмурый Ганс
Герман», сознательно «не заметивший, когда у него из-под носа
ушли какой-то статный парень со ссадиной на лбу и молодайка
с девчонкой-двухлеткой на руках».
Мысль эта столь важна писателю, что он повторил ситуацию
с казнью в рассказе «Gott mit uns»: в то время когда «интеллиген­
тный» доктор философии Хельмут Гальске и примитивный ун­
тер-офицер Клаус Штейнхейм соревнуются за право повесить
несчастного военнопленного, укравшего с немецкого склада не­
много продуктов, чтобы не умереть с голоду, и, наконец, оба
получают это право, их коллеги кадровый офицер фон Шлиппе
и переводчик-немец Бергфельд, всю жизнь проведший в Рос­
сии, называют палачей сволочами и решают не подавать им руки,
хотя бы этим выражая свое презрение. Фигура Эльмара Мортимеровича Бергфельда, офицера царской армии, отказавшегося
эмигрировать, — творческая удача писателя. Ему в уста вложил
Филиппов русскую мысль о долге интеллигента быть с народом
(то, что Бергфельд немец, для автора абсолютно несущественно:
в рассказах Филиппова не раз приводится евангельское «несть
еллина, ни иудея»). «Я остался страдать и радоваться, умирать и
воскресать со своим родным народом, на своей родной земле ...
Я скитался по самым глухим углам родины, скрывался под чу­
жим именем, жил как затравленный волк. И мы, с о в е т с к и е ,
не допустим, чтобы нас пришли учить те, кто в это самое время
спокойно отсиживался в относительном благополучии», — бро­
сает Бергфельд эмигранту Ключаренко, вернувшемуся в Россию
с испанскими частями. Впрочем, однозначность и здесь чужда
писателю. Ключаренко не только извиняется перед стариком, но
и тут же и рассказывает, что и его жизнь «не была так отрадна и
легка. Мне так и не удалось закончить университет. Работал по­
лотером, электромонтером, маляром. ...Я был всегда «грязным
иностранцем».
405
Писатель настойчиво проводит мысль, что самые бесчело­
вечные догмы фашизма или коммунизма не могли полностью
развратить русский народ. Тот же Ключаренко, на чьих глазах
были расстреляны красными отец и дядя, сохранил любовь к
родине и сумел увидеть и оценить жизнестойкость и патриотизм
русских людей. «Мне казалось, — рассказывает он, — что все
мужики должны быть какими-то особенными, насквозь озвере­
лыми большевиками или сплошными мучениками. ...И вдруг
люди как люди: веселые, радушные, простые... И еще: встреча с
первыми пленными. ...Первый, с кем я разговаривал, был моло­
дой парень, из рабочих, видать, коммунист. И — мне стыдно вам
признаться, господа, — мне было трудно отвечать ему: выходило
так, что не я его, а он меня допрашивает, а я оправдываюсь: —
«Да не против России мы пошли, поймите вы», — кричу я ему.
А сам думаю: — а ну, как он прав? А что если, действительно,
против родины? А?».
Творчество Филиппова многогранно и многопланово. Рас­
сказы об эмиграции соседствуют с жизнеописаниями советских
людей в довоенную пору, с рассказами об арестах, побегах, стра­
даниях, с «Преданьями старины глубокой» (именно так назвал
писатель свою книгу, вышедшую в Вашингтоне в 1971 году, и
составившую заключительный раздел «Избранного»).
Объем введения позволяет сказать лишь о самом значитель­
ном, куда, бесспорно, относятся короткие рассказы 70-х годов
«Из записок Андрея». Филиппов мастерски передает здесь ис­
конно присущую детям доброту и наивность — качества, кото­
рые сохраняют и любимые персонажи его «взрослых» рассказов.
Пятилетний Андрей, «обуреваемый сознанием мировой неправ­
ды», пожалел «босую лошадь», идущую под дождем без калош. На
возражения взрослых, что и его отец ходит без калош, мальчик
отвечает: «Он — офицер. Военные калош не носят. А Гнедко —
наш, он штатский, не строевой. У отца сапоги. Что они — фунт
дыма?» («Гнедко»). Тот же Андрей, до слез возмущенный
«Песнью о вещем Олеге» («Как! Верного, доброго коня сослали
до смерти куда-то из-за предсказания выжившего из ума кудес­
ника!»), «вооружившись ножницами и клеем, всецело погру­
зился в вырезывание гнусных страниц из «Русской Музы»...
Мое рвение не пощадило и случайно встретившегося мне «Ва­
силия Шибанова» — зверский поступок его барина и свире­
пость Грозного заставили меня горько плакать». На упреки взрос­
лых за испорченную книжку ребенок отвечает:
«— Но ведь Олег так зло поступил с лошадкой...
— Да ведь это — стихи, и это было уже так давно, — возража­
ет отец.
406
— А, значит, если лошадь, которая давно, так с ней все мож­
но? Нет, пусть давно, а я не хочу, не хочу, не позволю!!»
(О лошади, которая давно).
Наша книга — не история русской литературы за рубежом, а
всего лишь рассказ о наиболее значительных ее явлениях. Чита­
тель должен понимать, что далеко не все, созданное писателями
второй волны, как и первой, было шедеврами. Среди книг, на­
писанных за рубежом, были в немалом количестве и работы не­
состоятельные либо с исторической, либо с художественной точ­
ки зрения. Либо и с той, и с другой. Были и явления промежу­
точные, относительно ценные. Объем нашей книги не позволя­
ет подробно остановиться на этом явлении. Поэтому ограни­
чимся двумя примерами.
В 1945 году в Мюнхене вышло ротаторное издание книги
Анатолия Дарова «Блокада». Судьба ее автора заслуживает уваже­
ния. Впервые он, в прошлом сам ленинградец, опубликовал 10
очерков «Ленинградский блокнот» еще в 1943 году в газете «Но­
вая мысль» в оккупированном немцами Николаеве на Днепре.
Очерки вызвали гнев гестапо, и автора спасло от расправы толь­
ко вмешательство главного редактора газеты журналиста Н.Поль­
ского (соратника генерала Краснова). «Блокада» давала яркие
сцены жизни Ленинграда. Впервые Европа узнала о голодном
рынке, существовавшем в осажденном городе, о ледовой дороге.
Писатель честно рассказывал о любви всей страны к ленинград­
цам, о тех встречах, которые устраивал эвакуированным блокад­
никам русский народ. В 1953 году Даров переработал роман и на
протяжении ряда лет публиковал его в «Гранях» и «Возрожде­
нии» под названием «Солнце все же светит». Книгу перевело и
довольно широко распространило французское издательство «Галлимар», вновь опубликовала газета «Новое русское слово». На­
конец, в 1964 году книга вышла в Нью-Йорке в издательстве
«Rausen Publishers». Однако никакой художественной ценности
она не представляет. Главные герои молодой поэт Саша Половский и его друг красавец и любимец девушек Дмитрий Алкаев
ведут бесконечные, вялые и малосодержательные беседы. Жанр
хроники лишает роман действия.
Еще сложнее обстоит дело с творчеством чрезвычайно ода­
ренного Бориса Ширяева (1889-1959). Выпускник Московского
университета, он до 1917-го года занимался педагогической ра­
ботой. Дважды был приговорен к смертной казни: но в 1918 году
ему удалось бежать, а в 1922-м смертную казнь ему заменили
Соловецким лагерем (печально знаменитым СЛОНом) с после­
дующей ссылкой в Среднюю Азию и на Северный Кавказ. Учас­
407
тие в Русском Освободительном Движении, оказавшемся между
двух огней, привело будущего писателя теперь уже в гитлеровс­
кий лагерь в Германии. С 1945 года и до последних дней Ширяев
жил в Италии.
Свои первые вещи писатель опубликовал в издававшемся в
СЛОНе журнале заключенных: очерк «1237 строк» (№ 4); отры­
вок «Сыр» из задуманной книги «Волчьи тропы» и «Туркестанс­
кие стихи» (№ 5-6).
Перу Ширяева-эмигранта принадлежат очерки «Ди-Пи в
Италии» и «Светильники Русской Земли» (обе: Буэнос-Айрес,
1953).
Наиболее цельная книга писателя «Неугасимая лампада» (НьюЙорк, 1954; в России издана в 1991: М.: «Столица») о Соловках
от Петра Первого до советского концлагеря. Выразительные пор­
треты соловецких узников (от уголовной шпаны до иерархов цер­
кви) чередуются с легендами и преданиями. Само название кни­
ги идет от легенды о Схимнике, со смертью которого не погасла
Неугасимая лампада Духа. В финале автор выражал твердую уве­
ренность, что «через Смерть к Жизни — тайна Преображения».
Гораздо более противоречивы собственно художественные
произведения писателя. По замыслу Б.Ширяева все его вещи
составляют цикл «Птань» (сам автор называл его «хроникой») из
пяти повестей о жизни казаков села Масловка (что под Тулой)
преимущественно в период второй мировой войны, но с эк­
скурсами в историю: «Последний барин» («Возрождение», 1954,
№ 33-36), «Ванька Вьюга» («Возрождение», 1955, № 37-41),
«Овечья лужа» («Грани», 1952, № 16), «Кудеяров дуб» («Грани»,
1956, № 6; 1958, № 37), «Хорунжий Вакуленко» («Грани», 1959,
№ 42, повесть не завершена, посмертно опубликованы отрывки).
Автору удаются характеры сельских интеллигентов (учитель­
ницы Клавдии Изотиковны, тети Клоди; молоденькой девушки
с ее внезапной любовью к немцу Августу Вертеру, также нарисо­
ванному весьма многопланово; священника о.Ивана), сложно и
правдиво изображены немцы, даже лучшие из которых не могут
понять русского национального характера. Трагично и ярко на­
рисован Иван Евстигнеевич Вьюга с его утопической идеей со­
здания исключительно национального движения, равно проти­
востоящего сталинизму и фашизму.
Значительно меньше удались писателю образы доцента Все­
волода Сергеевича Брянцева, тоже выбирающего путь «между
звездами» и юного Миши Вакуленко — своего рода антипода
фалеевским молодогвардейцам, ставшего активным борцом с
советской системой и пропагандистом «нового порядка». Дума­
ется, что свою роль в неудаче писателя при создании этих персо­
40*
нажей сыграла ангажированость Ширяева, его неумение пере­
дать всю тонкость проблемы сотрудничества русских людей с
немецкими оккупантами. С этой точки зрения проза Ширяева
значительно проигрывает по сравнению с книгами Л.Ржевского
и написанным уже в наше время романом Г.Владимова «Генерал
и его армия».
Явной неудачей писателя, избравшего жанр социально-пси­
хологического романа, стали противопоказанные этому жанру
карикатурные портреты комсомольцев и коммунистов, создан­
ные в цикле.
Опыт Ширяева — еще одно подтверждение того, что ожесто­
ченность несовместима с художественной литературой. По край­
ней мере, литературой реалистической. Она мешает выйти на
философские глубины, постичь тайны бытия.
Умение, рисуя повседневность, погрузиться в вечные про­
блемы, показать борьбу добра и зла, утвердить веру в победу нрав­
ственности и духовности, в обретение человеческой общности
(соборности) пронизывает творчество одного из лучших прозаи­
ков второй волны русского зарубежья — Николая Нарокова (псев­
доним Николая Владимировича Марченко, 1887-1969).
Будущий писатель учился в Киевском политехническом ин­
ституте, по окончании которого служил в Казани. Принимал
участие в деникинском движении, был пленен красными, но су­
мел бежать из плена. Учительствовал в провинции: преподавал
математику. В 1932 году был ненадолго арестован. С 1935 до 1944
года жил в Киеве. 1944-1950 годы провел в Германии, откуда
переехал в Америку.
Перу Нарокова принадлежат три романа: «Мнимые величи­
ны» (1952), «Никуда» (1961) и «Могу!» (1965).
Во всех поставлена проблема свободы, морали и вседозво­
ленности, Добра и Зла, утверждается идея ценности человечес­
кой личности, что роднит писателя с творчеством Ф.Достоевского, влияние которого проявляется на всех уровнях художествен­
ных произведений писателя.
В основе «Мнимых величин» и «Могу!» лежит полудетектив­
ный сюжет, тайна, позволяющая заострить столкновение мора­
ли и безнравственности, выяснить, любовь или жажда власти
правит миром.
Один из главных героев «Мнимых величин» чекист Ефрем
Любкин, возглавляющий НКВД в провинциальном городке, ут­
верждает, что все провозглашаемые коммунизмом цели — лишь
громкие слова, «суперфляй», а «настоящее, оно в том, чтобы 180
миллионов человек к подчинению привести, чтобы каждый знал,
нет его!.. Настолько нет, что сам он это знает: нет его, он пустое
409
место, а над ним все... Подчинение! Вот оно-то... оно-то и есть
на-сто-ящее!». Многократно повторяющаяся в романе ситуация,
когда человек создал фантом и сам в него поверил, придает злу
трансцендентный характер. Ведь этому закону подвержен и не­
счастный арестант Варискин, и мучающие его следователи, и
сам всемогущий Любкин, поверивший в то, что подчинение и
есть смысл жизни и лишь избранным дана «полная свобода, со­
вершенная свобода, от всего свобода — только в себе, только из
себя и только для себя. Ничего другого — ни Бога, ни человека,
ни закона».
Еще более последовательно проводит эту мысль «человекмогу» Федор Петрович Ив. Все его помыслы направлены на под­
чинение себе других людей. Подобно Великому инквизитору из
романа Ф.Достоевского «Братья Карамазовы», Ив утверждает,
что обычные люди должны с радостью отказываться от своей
свободы в пользу сильных. Причудливый путь этого дьяволаискусителя (видный коммунист — сотрудник гестапо — капита­
лист) на самом деле весьма показателен и характерен: все эти
виды деятельности дают Иву власть.
Однако по мере развития сюжета выявляется несостоятель­
ность идеи тирании как главного закона мироздания. Любкин
убеждается, что его теория такой же «суперфляй», как и комму­
нистические догмы. Его все более тянет к Библии с ее идеалом
любви к ближнему. Иву не удается хитроумный план завладеть
нравящейся ему женщиной. У его верной помощницы Софьи
Андреевны, как и у Раскольникова, «чтобы убить, сил хватило,
но чтобы жить с убийством в душе» — нет. Любкин к концу
романа меняется; Софья кончает жизнь самоубийством. Сам Ив
вынужден бежать.
Причиной такого исхода является наличие в системе образов
обоих романов людей высокой морали. Как правило это женщи­
ны: Евлалия Григорьевна и ее соседка старушка Софья Дмитри­
евна в «Мнимых величинах», Юлия Сергеевна —в «Могу!». Внеш­
не слабые, наивные и даже порой смешные, они верят в то, что
«все дело в человеке», «человек — альфа и омега», верят в инту­
итивное понимание Добра, в то, что Кант и Достоевский назы­
вали категорическим императивом. Напрасно искушает Любкин
хрупкую Евлалию Григорьевну правдой о предательствах близ­
ких ей людей, ожидая, что женщина воспылает ненавистью к
ним, откажется от любви к ближнему. Тщетно спекулируют на
совестливости Юлии Сергеевны Ив и Софья, желая совратить
праведницу. Они приносят ей страдание, но не могут заставить
изменить принципам.
Сложная система образов-зеркал помогает писателю выявить
410
нюансы нравственных споров, придает романам многогранность
и психологическую глубину. Этому же способствуют широко вво­
димые в ткань повествования описания снов персонажей, сим­
волические притчи, рассказываемые героями, воспоминания об
их детстве, оценка способности или неспособности восприни­
мать красоту природы.
В 1990-1991 годах романы «Мнимые величины» и «Могу!» были
изданы на родине.
Менее удачен из-за своей назидательности роман «Никуда»
(«Возрождение», 1961, № 110-118). Его герой помещик и общес­
твенный деятель Николай Борисович Дербышин растрачивает
свою жизнь на внешне полезные дела (вплоть до работы в Госу­
дарственной Думе) и проходит мимо своего подлинного счастья,
воплотившегося в традиционном для Нарокова образе духовно
богатой женщины Нины Павловны. Смерть героини возвраща­
ет Дербышина к осознанию подлинной жизни и Бога, к новой
возрождающей его любви.
В архиве писателя имеется книга «Странных рассказов», часть
из которых была опубликована в журнале «Возрождение»
(№№ 41, 45, 55, 58). Основная мысль большинства рассказов —
иррациональность бытия; наличие Высшей воли, необъяснимо­
го чуда и вселенского Зла («Флакон», «Издевательство», «Дождь»,
«Слепая»), относительности земных ценностей («Прошлогодний
снег», «Малайское ожерелье»). В отдельных рассказах звучит
осуждение социального миропорядка, резкая ирония над безду­
ховными «хозяевами жизни» («Крупное событие», «Стеклянная
королева», «Люди»). Лучшим из рассказов присуши оригиналь­
ные сюжеты, притчевость, соединение бытовых деталей и фантасмогорий. Некоторые излишне рациональны, наполнены затя­
нутыми философскими диалогами и прямыми выводами автора.
Интерес писателя к психологии массового сознания и рус­
скому национальному характеру отразился в написанных на
историческом материале рассказах «Общественное мнение», «Не­
культурный человек» и «Завоеватель» («Возрождение», №№ 42,
46, 58).
Мы лишь бегло рассказали о неизведанном материке русской
литературы второй волны русской эмиграции, но и из сказанно­
го видно, что нельзя говорить о падении или измельчании лите­
ратуры русского зарубежья в 40-50-е годы. Она составляла до­
стойную конкуренцию весьма небогатой на шедевры литературе
метрополии тех же лет, литературе, замордованной послевоенны­
ми постановлениями ЦК ВКП/б/ по вопросам искусства.
411
ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ (КРАЧКОВСКИЙ)
( 1893- 1976)
«Я ИХ И З В Е Д А Л , Р А Д О С Т И З Е М Л И . . . »
Стихи поэта «второй волны» русской эмиграции Дмитрия
Кленовского, почти ровесника писателей «парижской ноты»,
решительно отличаются от их творчества оптимизмом и близостью
к классической русской литературе, с одной стороны, к поэзии
акмеизма — с другой.
Дмитрий Иосифович Крачковский (Кленовский — псевдо­
ним) родился 24 сентября 1893 года в Петербурге. Его отец Иосиф
Евстафьевич Крачковский — академик живописи, мать — Вера
Николаевна Беккер — художница-пейзажистка. С 6 лет до 16
мальчик «издавал» свои журналы, разумеется, рукописные. Вместе
с родителями много путешествовал по Европе. С 1904 по 1911
годы юноша учился в Царскосельской гимназии, о которой поз­
же написал:
Есть зданья, неказистые на вид,
Украшенные теми, кто в них жили.
Так было с этим.
Вот оно стоит
На перекрестке скудости и пыли.
Отметив далее, что в годы его учебы в Царском селе уже не
было вольного духа пушкинской поры, а преобладала «казенщи­
на без всякого уюта», поэт тем не менее скажет:
412
Но если приоткроешь двери в класс —
То юношу увидишь на уроке,
Что на полях Краевича, таясь,
О конквистаторах рифмует строки.
А если ты заглянешь в кабинет,
Где бродит смерть внимательным дозором —
Услышишь, как седеющий поэт
С античным разговаривает хором.
(Царскосельская гимназия)
Речь идет о Н.Гумилеве и И.Анненском, чье творчество ока­
зало на будущего поэта наибольшее влияние. Тема Царского села
пройдет через все творчество Кленовского, что позволит извес­
тной поэтессе и критику русского зарубежья Н.Берберовой на­
звать его «последним певцом Царского села».
С 1914 года стихи молодого поэта начинают появляться в раз­
личных периодических изданиях. А в 1917 году накануне октябрь­
ских событий, выходит его первый сборник «Палитра», почти
незамеченный критикой.
С 1917 по 1922 годы Крачковский служит военным чиновни­
ком в Главном артиллерийском управлении. С 1922 по 1941-й
работает в Радиотелеграфном агентстве Украины, выступает в
качестве журналиста, переводчика украинских стихов. На почве
начавшегося еще в 1913-1916 годы увлечения антропософией поэт
сближается в 1918-1920 годы с А.Белым, М.Волошиным, О.Мандельштамом и другими поэтами. Однако Собственных стихов он
не пишет с 1925 года.
В 1942 году писатель эмигрирует через Австрию в Германию.
«Не успела моя нога оторваться от советской почвы, — вспоми­
нал он впоследствии, — как неожиданно для самого себя, от­
нюдь не ставя перед собой этой задачи, я возобновил после 20летнего молчания мою поэтическую работу». Своей «болдинской
осенью» назвал Кленовский дни пребывания на берегах австрий­
ского Дуная в стихотворении, открывающем его первую зару­
бежную книгу стихов:
Я мертвым был. Года сменяли годы.
Я тщился встать и знал — я не могу.
И вдруг сейчас под легким небосводом
Очнулся я на голубом снегу.
И вот иду я узкою тропою,
Лицо свежит неторопливый дождь
И Болдинская осень надо мною
Златит листву у придунайских рощ!
(Болдинская осень)
413
Одна за другой выходят 11 книг стихов: «След жизни» (1950),
«Навстречу небу» (1952), «Неуловимый спутник» (1956), «Прикос­
новение» (1959), «Уходящие паруса» (1962), «Разрозненная тайна»
(1965), «Стихи. Избранное» (1967), «Певучая ноша» (1969), «По­
черком поэта» (1971), «Теплый вечер» (1975), «Последнее» (1977).
В этих названиях легко прослеживается единая нить: стрем­
ление постичь, передать почерком поэта след жизни, прикос­
нуться к неуловимой тайне бытия, устремиться навстречу небу.
Именно эти качества позволяют говорить о близости Кленовского к поэзии акмеизма.
Как известно, акмеизм начал свое существование в качестве
антипода символизма. Символистскому уходу от жизни в мир слож­
ных и понятных лишь избранным образов акмеисты противопоста­
вили простые радости земли. «Радость» едва ли не ключевое слово в
поэзии Кленовского. В стихотворении «Просьба» (1946) он пишет
о счастье «рвать черемуху, трогать струны, провожать серебряные лу­
ны», сторожить розовые зори. Он называет «высокими мгновеньями»
общение с любимой и чтение пушкинского «Онегина». К «сокрови­
щам неба и земли» относит сады, звезды, прибои. И через 20 лет:
Я их изведал, радости земли,
Леса, тропинки, волны, корабли,
Прикосновенья, рифмы, поцелуи...
(Я их изведал, радости земли)
Вместе с тем не следует забывать, что акмеисты не только не
отрицали наличия высшего бытия, отраженного в реальной жиз­
ни, но и называли себя продолжателями символистских идей.
Мысль о связи быта и бытия последовательно проходит через
все сборники Кленовского:
О, я знаю: лишь в прикосновеньи
К повседневности моей земной
Обрету нездешнее виденье,
Лишь в ее прозрачном отраженьи
Просияет мир передо мной.
В каждой капле, камешке, листе
Шумный космос дремлет, изначален,
Оттолкнулся — и, глядишь, причален
К самой невозможной высоте!
(Повседневность)
В «никем не тронутой тишине», в луче света, в звезде «и в
каждодневном хлебе иногда» поэт видит «нездешней преломленности находку» («Заложница несбыточной мечты...»).
В отличие от поэзии Ф.Тютчева у акмеистов (в том числе
Кленовского) космос не противостоит человеку, не враждебен
414
ему. Другое дело, что земное воплощение бытия разрозненно во
множестве явлений. Поэт сравнивает эти проявления с черепка­
ми, подобранными в пыли повседневности и восклицает: «Как
хороша должна быть в целом разрозненная тайна их».
Я верю все-таки в возможность
До невозможного дойти, —
утверждает он в стихотворении «Я не улавливаю знаков...» (1964).
Простой стакан чая может стать нектаром, если к нему при­
коснулся херувим, а может вернуться в состояние обыкновен­
ного напитка («Сижу в кафе весною...»). Нечто высшее, по Кленовскому, соединяет человека и вещь. Не случайно часы после
смерти хозяина «не захотят одалживать минуты» новому вла­
дельцу («Я умер. И часы мои...»).
Лирический герой Кленовского вносит существенную поп­
равку в христианский догмат о земной жизни как заточеньи души,
а смерти — как освобождении. Не случайно для обозначения
перехода в другой мир он использует оксюмороны «испепеляю­
щее чудо», «щемящее освобождение».
...но как-то боязно всегда
Сменить на пышные хоромы
Лачугу песен и труда,
Где плохо мне, но где я дома.
Где все понятно, где окно
Откроешь — и увидишь крыши,
Где можно, если все равно,
И не взглянуть ни разу выше.
О, черепица бытия!
Лукавый сторож нашей лени!
Ты видишь, сам кидаюсь я
Перед тобою на колени...
(Последних мук не утаить...)
Чем дольше я живу, тем ненасытней я,
Тем с большей жадностью тянусь к усладе здешней.
Пусть ждет меня нектар иного бытия —
Я от разлуки с ней все безутешней.
(Чем дольше я живу....)
Поэт твердо верит, что мир испорчен, но не обречен. В нем
существует красота:
Я знаю: мир обезображен.
Но сквозь растленные черты
Себе еще порою кажет
Лик изначальной красоты.
415
И с каждым разом мысль упрямей,
Что мир совсем не обречен,
Что словно фреска в древнем храме,
Лишь грубо замалеван он.
(Я знаю: мир обезображен...)
В нем есть вера:
Ты скажешь: нет? Но то одно,
Что ты чего-то ждешь и ищешь, —
Не доказательство ль оно,
Что может что-то быть дано,
Пускай, как милостыня нищим?
И если шепчешь ты слова
И замираешь от волненья —
То значит есть она, жива
Связь неземного естества
С земным своим изображеньем!
(Вера)
Известно, утверждает Кленовский, «что долгожданного отве­
та нам здесь услышать не дано»,
Но как спокойно, как отрадно,
Как важно знать, что тайна есть.
(Поговорим еще немного...).
Нелегко прожитые годы, удаленность от любимой петербур­
гской земли не приводит Кленовского к разочарованию. Исполь­
зуя библейский образ Ноя, выпускавшего голубя, дабы найти
землю, поэт говорит:
Я тоже горлиц посылал
За веткой из масличной рощи,
Но так еще и не держал
Ее в руке моей. Не проще ль
Быть гордым, быть настороже
И в дальнее не верить диво?
Но иногда на все в ответ,
Мне слышится: «Начни сначала!
Что если не нашелся след
Не потому, что рощи нет,
А горлица не долетала!»
(Я тоже горлиц посылал...).
Даже «не забытое, не прощенное» с годами не то, чтобы про­
щается (этого нет), но становится неотъемлемой частью жизни
лирического героя, тяжкой, но все-таки благословенной. Реми­
нисценцией пушкинскому «что пройдет, то будет мило» станет у
Кленовского эпиграф к «Поющей ноше»:
416
Все дурное и все хорошее
Перебродит в душе твоей
И певучею станет ношею —
Собеседником поздних дней.
Несколько ранее эта мысль прозвучала в книге стихов «При­
косновение»:
Жизнь незаметно с каждым днем
Мне все становится нужнее.
Мы так давно уже вдвоем,
А вот впервой сроднился с нею.
С тревогой размеряешь срок,
Что ей отпущен быть твоею,
И мыслишь: как я только мог
Всегда не любоваться ею.
(Жизнь незаметно с каждым днем....)
В земном и радостном мире поэзии Кленовского огромное
место занимает любовь. Почти все его поздние сборники имеют
краткое, но выразительное посвящение: «Моей жене».
Хотя в стихах я говорю
Все об одной любимой —
Я разный облик ей даю —
Всегда неповторимый.
В моих стихах живешь, поешь,
Себя не узнавая! —
обращается автор к возлюбленной.
Уже в ранних стихах поэта природа (облачко) хранит люби­
мую «от ожога бытия». Да и сама она, хоть и «усталая, но ясна,
как на заре», и питает всех «этой утренней прохладою необугленной души» («Вот она, моя любимая...»). Это лиричное, цело­
мудренное, явно уходящее в XIX век, описание любви сохраня­
ется и в последующем творчестве Кленовского. Шепот влюблен­
ных у него сильнее «шума вселенной» («Как бушевали соловьи»).
Лишь в одном стихотворении («Нас было двое. Женщина была...»)
присутствует любовная трагедия: обманутый лирический герой
совершает самоубийство. Но и здесь внимание автора сосредо­
точено не на измене, а на той нежности, которую его герой ис­
пытал к бросившей его женщине, прикоснувшейся в нему после
рокового выстрела:
...и как легко мне
Внезапно стало: я в твоих глазах
Прочел все то, во что уже не верил —
Недоумение, и боль, и страх,
14— 1662
417
И чувство горькой все-таки потери.
...О, если бы из тишины моей,
Из моего прекрасного свершенья
Вернуться снова в ужас этих дней,
Изведать снова все твое презренье,
Всю ложь прикосновенья твоего
И как последнюю земную милость
Спустить курок — все только для того,
Чтобы опять вот так ко мне склонилась.
Через много лет пожилой поэт вновь обратится к этой теме,
хотя и в гораздо более смягченном элегическом тоне:
Не удивляйся, друг, когда порой
С тебя подолгу не спускаю взгляда!
Я унести хочу тебя с собой!
Ведь вот и нам расстаться тоже надо!
(Я оборачивался без конца...)
О, если б я увидеть мог,
Последней близостью богатый,
Твой мокрый, скомканный платок
В ладони судорожно сжатый!
(Мне сладко думать, уходя...)
В поздних стихах едва ли не впервые автор скажет и о физи­
ческой близости с женщиной:
Все обогнало цель свою,
Все процвело и облетело,
Но жадно в памяти храню
Твое прижавшееся тело.
(Все обогнало цель свою...)
Любовь поэта простирается столь далеко, что он обещает
любимой прийти к ней после смерти, чтобы она на другой день
улыбнулась:
Знай, это я вчера незримо
Пришел помочь меня забыть.
(Я знаю комнату, в которой...)
И если в «Певучей ноше» поэту еще казалось, что «она» и
«он» — два разных существа», «мы можем быть вдвоем, но ни­
когда не сможем стать единым», то в стихотворении «Помнишь,
встречу наших двух дорог...» следующей книги Кленовский оп­
ровергнет это собственное утверждение, сказав, что «для нас они
(дороги — В.А.) слились в одну», и «дорога превратилась в путь».
Темы радости жизни и любви соединяются у Кленовского с
темой поэзии. Не найдя рифмы «к той строке, где мы с тобой
вдвоем», лирический герой восклицает:
418
И зачем ловить неуловимую,
Если в книге радости земной
Ты уже и так, моя любимая,
Хорошо срифмована со мной!
(Мякоть розово-золотистая...)
Решение Кленовским вопроса о соотношении поэзии и жиз­
ни меняется по мере приближения поэта к творческой мудрости.
В ранних сборниках автор утверждает, что жизнь, царскосельс­
кий день учат его
Уменью жить цезурою стиха,
Как эти вот дворцы, аллеи, шлюзы,
Как тот кувшин в бессмертных черепках,
Откуда пили ласточки и музы
(Пирог с грибами стынет на столе...)
Жизнь противопоставляется культуре. Ласточки, смех деву­
шек, мальчишеские крики —
Весь этот говор италийской плоти —
Он старше Данте и Буанарротти
И может быть бессмертней их обоих.
Я думаю о мелочах, которых
Векам и безднам одолеть труднее,
Чем пышность человеческой затеи.
(Ш уршанье ящериц в кам нях Р авенны ...).
Однако со временем Кленовский приходит к выводу о равен­
стве поэзии и жизни. В подтверждение этой мысли он приводит
обычай немцев, восклицающих о цветке, девушке, о любом нра­
вящемся им предмете: «Ну разве не стихотворенье» («Когда они
вконец восхищены...»).
«Ничто так сердце не будит, как настойчивый зов стиха», —
пишет Дм.Кленовский в стихотворении «Поэты». Стихи — это
«ямбическое прикосновение к душам», — вторит он себе во всту­
пительном стихотворении сборника «Прикосновение», разви­
вая свою более раннюю мысль о том, что самое огромное про­
странство — «пространство наших душ» («Мы потому смотреть
на небо любим...»). Русский язык для поэта — способ выраже­
ния души:
Есть в русском языке опушки и веснушки,
Речушки, башмачки, девчушки и волнушки,
И множество других, таких же милых слов.
Я вслушиваться в них, как в музыку, готов.
Равно находчив ты и в радости, и в горе!
Для горя ты смягчил слова свои:
14*
419
Могилка, вдовушка, слезинка... — сколько их!
Прекрасный наш язык — нам хорошо с тобой!
(Есть в русском языке...)
Язык сближает поэта с родиной.
Тема России постоянно звучит в лирике Кленовского.
Я служу тебе высоким словом,
На чужбине я служу тебе, —
писал поэт в 1952 году в стихотворении «Родине». И еще трагич­
нее в 1973-м в «Поэте зарубежья»:
Он живет не в России — это
Неизбывный его удел,
Но он русским живет поэтом
И другим бы не захотел.
Перебродит, перетомится,
Отстрадает моя страна
И обугленную страницу
Прочитает тогда сполна!
Кленовский уверен, что «обратно возвращает слово все то,
что срублено и сожжено» («Его вчера срубили, что осталось...»).
Поэт, по Кленовскому, повар у плиты, пчелка, собирающая мед
(«Стихи о стихах»). В этих бытовых сопоставлениях видно, если
не прямое заимствование, то типологическая близость с ахматовским «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи». Оба
поэта корнями связаны с акмеизмом.
Впрочем, наряду с бытовыми определениями стиха, Кленов­
ский охотно использует и высокие:
...песня не моя,
Она не здесь пропета
И мне на то дана,
Чтоб почерком поэта
Была закреплена.
В одном из поздних стихотворений поэта («Себе», 1971) мысль
о том, что все уже сказано, «обо всем спрошено», «на все, что
мог, тобой отвечено», опровергается прямо противоположной:
надо продолжать работать, писать:
Просто тропкою иди,
Чужеземной, узкою,
Что быть может впереди
Все ж сольется с русскою.
Поэт надеется, что и на закате дней
420
Может будет дано склониться
Над нежданной уже строкой
И смогу дописать страницу
Не озябшей еще рукой?
(Может жизнь меня не накажет...)
Единственное, что тревожит поэта, окажутся ли после его
смерти у его стихов читатели. В стихотворении «О, только бы
«оттуда...» Кленовский молит судьбу не дать ему узнать, что «боль­
ше не читает никто моих стихов», «помалкивает литературовед».
Так тема поэта и поэзии сливается с темой смерти. Поэзия
для Кленовского та же память, если не бессмертие, то продление
земного бытия:
Как важно кем-то для кого-то быть,
Стать в чьей-то жизни гостем, не прохожим!
Ты можешь этим образ свой продлить,
Пусть незаметно для себя, но все же!
(Мы сохраняем в памяти былых...)
В последних книгах Кленовского темы жизни и смерти тесно
переплетаются, создавая то диалектическое новохристианское един­
ство, которое было характерно для поэтов и философов Серебря­
ного века русской литературы, для творчества И.Шмелева и Б.Зайцева. С одной стороны, как уже говорилось, поэт любит простые
земные радости. И чем ближе к старости, тем яростнее становится
жажда жизни. С этой точки зрения показательно стихотворение
«Когда приходит день осенний...», где повторяются в целом ряде
стихов слова «дожить бы до». Лирический герой хочет дожить до
первого дрозда, до первой сирени, до первого яблока, а там опять
до первого дрозда. Уже само существование земного мира и души
поэта для Кленовского доказательство Божьего бытия:
Свет горит во мне и надо мною,
Мрака нет и нету пустоты!
Звездным небом и моей душою
Ты твердишь, что существуешь Ты!
(Всевышнему)
Жизнь — подарок Божий:
Как же я Твое не вспомню имя,
Сущего, Тебя не назову!
Жизнь проходит тропами глухими.
И Тобой, щедротами Твоими,
Только ими — я еще живу.
Не раз в стихах поэта появится и образ ангела-хранителя,
сопровождающего лирического героя на его жизненном пути:
Сейчас кругом чужие земли,
Буруны, вихри, облака,
421
Да на руле, когда мы дремлем,
Немого ангела рука.
(Мы все уходим парусами...)
С другой стороны, в смерти Кленовский видит некое при­
ближение к непостижимой для земного существа тайне:
Умереть... Что значит: умереть?
Может быть: найти, узнать, узреть,
Высоты почуять приближенье?
(На определенной высоте)
Последний трепет бытия,
Мучительное содроганье —
И вот уже свободен я
От неуменья и незнанья, —
пишет Кленовский. И лишь тогда,
Когда умрем, поймем мы, может быть,
Зачем так много горечи на свете.
Другое дело, что сомнения, идущие от русской литературы
XIX века и, в первую очередь, от дорогого Серебряному веку
Ф.Достоевского, не могли не коснуться поэта. И тогда рождают­
ся строки: «Мы стоим перед загадкой: Что свершится с нами
«там»?».
Что если душе
...«там» так пусто будет
(Ни глаз поднять, ни слова произнесть),
Что станет вновь молиться, как о чуде,
О возврашеньи в горестное «здесь».
Или:
В смерти страшен переход
В неизвестность.
Как понять нам наперед
Эту местность?
Приспособлюсь к тем местам
(И к немилым!)
Лишь бы что-то было там,
Что-то было б!
Разностопный хорей и прозаизмы («местность», «приспо­
соблюсь») контрастируют с высокой темой смерти и создают
ироничный тон стихотворения. Тем не менее и в первом, и во
втором стихотворении нет присущего Г.Иванову, Б.Поплавскому и другим авторам «парижской ноты» налета безнадежности. В
первом стихотворении вопрос о «напрасности неземного тор­
422
жества» снимается утверждением необходимости, даже не пос­
тигая сознанием высшего промысла, двигаться к нему:
Разве гусеница знает,
Что очнется мотыльком?
Но преградам непокорна,
Сквозь безмолвие и тьму
Пробивается упорно
К совершенству своему.
Характерная для всей русской литературы идея стоицизма
звучит и в финале стихотворения «В смерти страшен переход...»:
«Лучше с этим Ничего примириться!».
Находясь «в плену земли», человек, по Кленовскому, не до­
лжен забывать о высшем предназначении (у поэта это звучит
метафорой «Давайте строить корабли»).
А если мы не доплывем —
Узнаем за свою дорогу
То, для чего мы здесь живем:
Порыв, надежду и тревогу.
(Конечно, мы в плену земли...)
В конечном счете у Кленовского всегда торжествует мысль о
наличии высшего смысла бытия, о послеземном существовании:
Если я лишь песчинка тленная
На пустом берегу земном,
Для чего же тогда вселенная
Мой огромный и страшный дом.
Еще более безапелляционно и потому, быть может, менее
художественно, выражена эта мысль в словах:
Знаю я: на мне печать Господня,
Мне довольно этого сознанья.
Именно такое умиротворенное восприятие жизни позволило
Кленовскому незадолго до смерти (а умер он в здравнице для
пожилых в небольшом городке Траунштейне, что между Мюнхе­
ном и Альпами, в 1976 году) написать:
Будь благодарен... — Нет не перечесть
Всего, за что быть благодарным надо!
Вплоть до креста за низкою оградой.
Его могло б не быть, а вот он есть.
Художественный мир Кленовского весь устремлен к класси­
ческой поэзии. О своих поэтических пристрастиях он скажет в
стихотворении с полемическим названием «Нет бедных рифм,
докучливых, плохих...». «Строка, — утверждает здесь поэт, — тре­
бует, как берегов река, Спокойного, совсем простого слова».
Рифмы Кленовского изящны, но строги. Он избегает явной игры
423
аллитерациями, ассонансами, сдержанно пользуется составны­
ми рифмами, но мастерски владеет приблизительными и не бо­
ится рифм глагольных (не просите — пишите; узнавайте — не
забывайте). Его любимый размер ямб. Его он употребляет втрое
чаще, чем хорей. Ориентация на напевность, лиризм, а не при­
ближение к разговорной интонации обусловила минимальное
использование трехсложных размеров. Не очень широко пользу­
ется поэт и разностопными размерами, характерными для не­
рвного стиха XX века.
Основными художественными средствами Кленовского, по­
коряющими сердца читателей, являются слово и интонация. Как
уже говорилось, поэт виртуозно соединяет высокую лексику с
бытовой, используя все открытия акмеистов. Не случайно вид­
ный литературный критик русского зарубежья Н.Ульянов назвал
его «завершителем и, может быть, самым характерным предста­
вителем акмеизма».
АННОТИРОВАННЫЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
КленовскийД. «Н ас было двое. Ж енщ ина бы ла...» //О го н ек . — 1988. —
21-28 м ая (№ 21). - С. 9.
П ервая п у б л и к ац и я поэта на родине.
КленовскийД. (П одборка стихов) / / Д е н ь п о эзи и . Л енинград. 1989. —
Л ., 1989. - С. 265-267.
П у бл и к ац и я п яти стихотворений поэта: «Есть свечи: не заго р аю т­
ся...»; «Когда о н и вк о н ец восхищ ены ...»; «Себе»; «В одну и з тех н о чей ,
когда...»; «Н е забы тое, не п рощ ен н о е...» . П у б л и к ац и я завер ш ается н е ­
больш ой зам еткой Н .И в а н о в о й -Р о м ан о в о й «Я служ ил тебе вы со к и м сл о ­
вом...»
К леновскийД . (П одборка стихов) //Д е н ь п о эзи и . 1989. — М ., 1989. —
С. 112-113.
В п одборку вош ли 4 поздних сти хотворения поэта: «К ак м н о го есть
п рекр асн о го н а свете...»; «В талом небе таки е м окры е...»; «К ак буш евали
соловьи ...»; «Ц арскосел ьск ая ги м н ази я» . П у б л и к ац и я со п ровож д ается
статьей Е .В .В итковского «Р азрозн ен н ая тай н а Д м и тр и я К леновского»
(с. 111-112).
К леновскийД . С тихи. И збранное. — M unchen, 1967; П евучая нош а. —
M un ch en , 1969; П очерком поэта. — M u n ch en , 1971; Теплый вечер. —M u n ­
ch en , 1975; П оследнее. — M unchen, 1977; Собрание стихов. Т.1. — Paris,
1982.
«И збранное» дает представление о всем творчестве поэта д о 1967 г.
Т ом 2 « С обрания стихов», по свед ениям В .К азака, не выш ел.
Казак В. О Д м .К лен овском // Н аш соврем ен н и к . — 1993. — № 2. —
С. 137-138.
Биограф ическая справка о писателе с общ ей характеристикой творчес­
тва.
Ржевский J1. П оследний акмеист: О творчестве Дмитрия Кленовского / /
424
Р ж евск и й Л. К верш инам творческого слова: Л итературоведческие статьи
и откли ки . — N orvich U niversity Press (U SA ), 1990 — С. 231-237.
Статья известного п р о заи ка и литературоведа Л. Р ж евского, впервы е
оп убли кован н ая 7 апреля 1974 года в газете «Н овое русское слово», н а зы ­
вает «светлый и благородны й взгляд н а ж изнь» и «гарм он и ческое ощ у щ е­
н и е мира» главны м и свойствам и п оэзи и К леновского. В статье вы явлен ы
осн о вн ы е тем ы стихов поэта: душ а и тело, тем а см ерти , л и р и к а лю бви ,
тем а поэзии.
Ульянов Н. Д.Кленовский //Н о в ы й ж урнал. — 1960. — № 59. —
С. 121-126.
К лен о вски й рассм атривается в связи с тр ад и ц и ям и А .А хм атовой и
О .М ан дельш там а к ак «заверш итель и сам ы й характерны й представитель
акм еизм а». Д ается анализ его п оэтической индивидуальности.
Боброва Э. Д.И.Кленовский (Три года со дня смерти) //Н о в ы й ж урнал.
- 1 9 8 0 . - № 1 3 3 . - С . 102-110.
Ч резвы чай но подробная биограф ия К лен овского сочетается с а н а ­
л и зо м его основны х тем: детство, лю бовь, Бог, см ерть.
Горбов Я. Дм.Кленовский: «Стихи» //В о зр о ж д ен и е . П ариж . — 1967. —
№ 7 . - С . 141-150.
И сследуется проблем а св язи зем ной и б ы ти й н о й ж и зн и , хар актер ­
н ая для акм еизм а.
Офросимов Ю . Рифмованные догадки: О поэзии Д.Кленовского. —
Н о вы й ж урнал. — 1967. — № 88. — С. 114-124.
К л ен о вск и й противопоставляется «париж ской ноте». П р о сл еж и ва­
ется его связь с традицией Е .Б араты нского, с творчеством Н .Г ум и лева,
В.Х одасевича, М .В олош ина, А .Белого, Ф .С ологуба, В яч.И ван ова, В .Б р ю ­
сова.
Перелетим В. Залетная душа //Г р а н и . — 1970. — № 78. — С. 241-247.
Наряду с проблематикой творчества Кленовского рассмотрена рит­
мика поэта, своеобразие его рифм.
Ильинский О. Дмитрий Кленовский. Почерком поэта. //Н о в ы й ж у р ­
нал. - 1970. - № 88. - С. 289-291.
Р ассм атривается единство ф орм ы и сод ерж ания в п о э зи и К л е н о в ­
ского. В качестве клю ча к творчеству поэта предлагаю тся его строки «В
каж дой к апле, к ам еш ке, л и сте Ш ум ны й косм ос дрем лет изначален».
ИВАН ЕЛАГИН (МАТВЕЕВ)*
(1918-1987)
«ЗДЕСЬ ЧУДО ВСЕ: И НЕБО И ЗЕМЛЯ...»
Когда Даниил Гранин встретился с Иваном Елагиным в
1967 году в Нью-Йорке, его поразила совершенно заурядная
внешность одного из самых известных поэтов русской эмиг­
рации: «...Невысокий, полноватый, не слишком хорошо оде­
тый, тем не менее чем-то он выделялся. Живые, быстрые глаза
его, кроткая улыбка, ярость внутренней жизни, притиснутая
хмуростью, настороженностью».
Но было время, когда Елагин, тогда еще Иван Матвеев, про­
изводил другое впечатление. Его многолетняя знакомая Татьяна
Фесенко писала, вспоминая 1942 год и Киев, оккупированный
немцами: «...Невысокий, очень молодой человек, в темном сви­
тере, беспрестанно куривший и, по видимому, очень нервный. В
разговоре о русской поэзии он проявил большую начитанность,
но свои оригинальные мысли и наблюдения он излагал, слегка
заикаясь от волнения, как-то не вязавшегося с избранной им
профессией — был он студент-медик».
Между этими двумя встречами была почти целая жизнь Ива­
на Елагина, любимого и общепризнанного поэта, автора знаме­
* Глава н ап и сан а в соавторстве с канд. истор. н ау к В .В Л ео н и ао в ы м ,
котором у п ри н ад л еж и т ее больш ая часть.
426
нитого стихотворения, ставшего для многих символом русского
зарубежья:
Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей давно оставленной России
Мне не хватает русского окна.
Оно мне вспоминается доныне,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.
(Мне незнакома горечь ностальгии...)
Иван Венедиктович Матвеев родился во Владивостоке 1 де­
кабря 1918 года. Его дедом был Николай Петрович, журналист,
автор книги «История города Владивостока». Отец, Венедикт Ни­
колаевич, более известный как поэт-футурист, писавший под псев­
донимом Венедикт Март, в 1918-1921 годах главный редактор жур­
нала «Великий Океан». Его перу принадлежит четырнадцать поэ­
тических и несколько прозаических книжек. Дяди Ивана (братья
Венедикта) тоже публиковали свои стихи под псевдонимами: Ни­
колай взял псевдоним Бодрый, Гавриил — Фаин. После 1918 года
семья недолго жила в Харбине, затем вернулась на родину, где
мыкалась по ссылкам: из Подмосковья их выслали в Саратов,
затем им удалось перебраться в Киев. Будущий писатель был зна­
ком с Н.Клюевым, Б.Пильняком, Ф.Панферовым, Д.Хармсом.
В Киеве Иван Матвеев, тогда еще не Елагин, поступил в ме­
дицинский институт.
Перед войной он с тетрадками своих стихов и стихов жены
Ольги Анстей поехал в Ленинград к Анне Ахматовой. Но беседы
не получилось: поэтесса торопилась с передачей к сыну, томив­
шемуся в тюрьме.
В 1937 году Венедикта Матвеева вторично арестовали, и он
сгинул в сталинских лагерях.
Образ отца проходит через все стихи и поэмы Елагина:
Ночь. За папиросой папироса,
Пепельница дыбится, как еж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаешь?
Сколько раз я звал тебя на помощь, —
Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чем.
(Звезды)
427
И каждый раз, когда речь заходила о каких-то контактах с
советской властью, Елагин вспоминал свою растоптанную жизнь:
Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.
(Амнистия)
Боль Елагина стала болью его поколения:
О России — кромешная тьма...
О, куда они близких дели?
Они входят в наши дома,
Они щупают наши постели...
(О России — кромеш ная т ьм а...)
В своей ненависти поэт был очень точен и конкретен:
Мне из Москвы писали
(Участвовать пригласив)
О том, что хранится в ЦГАЛИ
Наш семейный архив.
За стеклами, в морозилке
Хранится родитель мой,
Положен с пулей в затылке.
Дата: тридцать восьмой.
И думали вы, что сунусь
С воспоминаньями я
В архив, где хранится юность
Растоптанная моя?
(Семейный архив)
После двух страшных лет в оккупированном немцами Киеве
поэт вместе с О.Анстей уехал в Германию, а потом оказался в
лагере для перемещенных лиц под Мюнхеном. Сомнений в том,
что на родине побывавших в плену или оказавшихся в Герма­
нии ждет участь изгоев или заключенных (теперь уже в советс­
ком концлагере), у Елагина не было:
Корпуса бетонные —
Кто ж внутри содержится?
А перемещенные
Беженцы-отверженцы...
Нечисть эмведистская,
Точно псы легавые,
428
По Европе рыская,
Налетят облавою!
Чтоб избегнуть жребия
Этого проклятого, —
Вру, что жил я в Сербии
До тридцать девятого.
(Беж енская поэм а)
Обитателям лагеря Шлейсгейм повезло — их не выдали со­
ветским властям, не обрекли на страдания в сталинском ГУЛАГе.
В 1947 году в Мюнхене уже под взятым в лагере псевдонимом
вышла маленькая книга стихов «По дороге оттуда», а в 1948-м —
другая, тоненькая брошюра «Ты, мое столетие» — название, оп­
ределяющее во многом содержание всего творчества поэта. Кни­
ги были замечены И.Буниным, приславшим начинающему сти­
хотворцу письмо, где называл его «талантливым, смелым и на­
ходчивым» поэтом. Хвалебную рецензию о стихах написал и
другой мэтр русской поэзии — Г. Иванов.
В 1950 году вместе с большинством других «ди-пи» Елагин
прибыл в США. Там мыл пол в ресторане, работал в стекольной
мастерской, пока не поступил в штат нью-йоркской газеты «Но­
вое русское слово». Параллельно учился в Колумбийском и НьюЙоркском университетах. За огромный и труднейший перевод
поэмы Стефана Винсента Бенэ «Тело Джона Брауна» ему была
присвоена докторская степень. Последние годы жизни поэт пре­
подавал в колледже Мидлсбери и в Питсбургском университете.
В Америке он создал новую семью с Ириной Даннгейзер.
Его стихи выходили как отдельными книгами, так и подбор­
ками в ведущих журналах русской эмиграции. Критика едино­
душно называла его первым поэтом второй волны русской эмиг­
рации. В 1981 году, отвечая на анкету редакции издававшейся в
Айове энциклопедии современной русской и советской литера­
туры, Елагин назвал некоторые основные «узлы» своего поэти­
ческого творчества:
«1. Гражданственность;
2. Беженская тема (война);
3. Тема ахматовского реквиема;
4. Тема ужаса перед машинной цивилизацией;
5. Частично — налет сюрреализма (гротеск), урбанистическая
фантастика;
6. Эскапизм;
7. Тема раздвоенности одной души в двух мирах;
8. Сквозная тема искусства;
9. Переключение эпического сюжета в лирический план.
429
...Сам я, как теперь вижу, не отметил особенности ритма, риф­
мы и лексики, образности. Но это не кажется мне главным».
Можно по разному толковать такие пункты как «сквозная
тема искусства» или «раздвоенности одной души в двух мирах».
Но вполне однозначно звучат поставленная на первый план са­
мим поэтом тема памяти о пережитом, «ахматовский реквием» и
ужас «перед машинной цивилизацией».
Уже первые книги Елагина — приговор своей эпохе и своему
времени:
Скабрезно каркнув, пролетает грач
Над улицами, проклятыми Богом,
Над зданиями, рвущимися вскачь
Навстречу разорениям и поджогам...
(С кабрезно каркн ув, пролетает грач...)
А рядом бой. Полнеба задымил.
Он повествует нам высоким слогом
О родине. И трупы по дорогам
Напрасно дожидаются могил.
(О сунувш ись, и сгорбясь, и унизясь...)
Поле в рубцах дорог:
Танки прошли по полю.
Запертое в острог
Рвущееся на волю —
Ты, мое столетие!
(Бомбы истошный кри к ...)
Елагин очень подробно, скрупулезно описывает пейзаж, на
фоне которого время играет свой кровавый шабаш:
Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
И на путях дымятся груды шпал,
И проволока вянет на заборе.
Они молчат — свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.
(Уж е последний пехотинец п ал...)
В 1953 году издательство Чехова в Нью-Йорке выпустило в свет
первую большую книгу стихов Елагина — «По дороге оттуда». Поэт
использовал прежнее, «мюнхенское» название. В книгу в основ­
ном вошли стихи из «лагерных книг», но настоящим ее украше­
нием стала маленькая поэма «Звезды», посвященная отцу поэта.
430
Ну а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреба.
Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба!..
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!
Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не поднимем,
Потому что знаем: неба нет.
«Неба нет» — почти дословное повторение мыслей Заратуст­
ры и Раскольникова. Обращаясь к Всевышнему, Елагин откры­
то бросает вызов:
Во имя человеческой тоски
Мы отречемся от Твоей опеки,
Чтоб драться вновь за рыжие пески,
За облака, за голубые реки!
(К ом у-т о кт о-т о чт о-т о д ок а за л...)
Однако в том же сборнике мы читаем совсем другие заклю­
чительные строки:
Через двести лет, через триста
(В смерти верить не перестаю!)
На земле моей будет чисто
Бог умоет землю мою.
(К а к ночь эт а пам ят на...)
Пожалуй, эти два слова — «земле моей» — имеют ключевое
значение и для дальнейшей поэзии Елагина. Мир принадлежит
поэту, и никто не вправе вмешиваться в этот мир.
Жизнь в Америке не могла не изменить поэзии Елагина.
Осталась прежней обостренная искренность стихов, как пре­
жней осталась и поэтика Елагина, которая была, по словам Е.Витковского, «куда ближе к советским поэтам военного поколения,
своим ровесникам, чем к наследникам «парижской ноты». Поэт
был очень прост и ясен, его стихи не требовали никакой рас­
шифровки. Новым были вошедшие в елагинские строки небос­
кребы и огни Америки.
Лишь очень немногие стихи сборника «Отсветы ночные» (1963)
окрашены радостью. Среди них удивительно светлое стихотво­
рение «Деревца горят в оконных рамах...», посвященное жене и
обретению нового счастья:
Посмотри, вверху, над небоскребом
Встала Вифлеемская звезда,
431
Даже небо кажется особым
Сделанным из голубого льда.
Мы пойдем бродить с тобой без толку
За веселой цепью огоньков,
Всю тебя осыплю я, как елку,
Золотым дождем моих стихов.
Закипает вечер снегопадом,
Светятся снежинки на бегу.
У окна стоят с тобою рядом
Ангелы босые на снегу.
Но эти строфы, скорее, исключение. Поэт опять отказывает­
ся принять окружающее, только на этот раз разрывы снарядов
заменяет канонада джаза, а сгоревший танк и мост — небоскре­
бы огромного города:
Вот он город мой неузнаваемый,
Город каменной моей судьбы,
Под тобой оранжевыми сваями
Световые движутся столбы.
(Дож дь беж ал по улице на цыпочках...)
Небоскребы упрятались в марево.
Зажигали огни самолеты.
В отдалении сумрак вымарывал
Городского пейзажа длинноты...
И опять, не звана и не прошена,
Тень моя обозначилась рядом,
И скользит удлиненно и скошено
По ночным мостовым и фасадам...
Эти кубы, параллелепипеды,
И углы, и бетонные плиты!
Тень! С тобой из орбиты мы выбиты,
Тень! В чужую орбиту мы вбиты.
(Н ебоскребы упрят ались в м ар ево ...)
Есть что-то есенинское в этом страхе перед городом, в ощу­
щении апокалипсиса от гула машин, грохота музыки, попытки
забыться. Влияние «последнего поэта деревни» особенно замет­
но в «Отсветах ночных», хотя талант Елагина слишком силен,
чтобы перейти в простое подражание. Вот, например, одно из
самых известных стихотворений Елагина «В Гринвич Вилидж»:
Всю ночь музыкант на эстраде
Качался в слоистом дыму.
432
И т е н и п о -в о л ч ь е м у , сзад и
Н а п л еч и к и д а л и с ь ем у...
П р и в е т теб е, м о й с о в р е м е н н и к .
Е щ е ты т а к о й ж е , к а к я,
Д н ев н о й неурядицы п л ен н и к
Н ад р ю м к о й н о ч н о г о п и т ь я ...
Я
Я
Я
В
п а л ь ц а м и в т а к т б а р аб ан ю ,
в т а к т к аб л у к ам и стучу,
то ж е со всей э то й д р я н ь ю
к а к у ю -т о я м у лечу.
В одном и з сти хотворен и й п оэт ср авн и вает себя с ви н ти к о м
д ь я в о л ь с к о й м а ш и н ы , к о т о р а я т а щ и т е г о в б е з д н у , гд е у ж е н е т
н о р м ал ьн ы х ч ел о в еч еск и х чувств, н ет н и чего:
П о с л у ш а й , я все ск аж у б е з у та й к и .
Я ж е р тв а к а к о й -т о д ь я в о л ь с к о й ш а й к и .
П о с л у ш а й , ч т о -т о во м н е з а м е н я ,
В м е н я вк р у ти л и к а к и е -т о г а й к и ,
Ч т о -т о вм о н ти р о в а л и в м е н я .
И о тк л ю ч и л и от Б о ж ь его м и р а
Д у ш у м о ю — м о его п ас са ж и р а .
П о с л у ш а й , я с к о р о п р и б о р о м стан у,
У ж е я п о ч т и ч то н е ч е л о в е к .
В о р б и т ы м н е встави л и п о э к р а н у ,
И я уж е н е увиж у п о л я н у ,
Я н е уви ж у звезд ы и с н е г...
О н и м н е се р д ц е хотят и з п л ас тм асс ы
В стави ть и вы н уть се р д ц е м ое.
(Послушай, я все скажу без утайки...)
Э та тем а получает д альн ей ш ее р азви ти е в сб о р н и ке «Д ракон
н а к р ы ш е » (1 9 7 3 ). З д е с ь с н о в о й с и л о й з в у ч и т т е м а г у б я щ е г о в с е
го р о д а :
М о й го р о д гр о зн ы й , го р о д г р а н д и о зн ы й ...
М о й го р о д всех о гн ей и всех ветр о в,
Где п о ги б а ем м ы от к ата ст р о ф .
(Мой город грозный, город грандиозный...)
Е лаги н о х о тн о п о л ьзу ется сю р р е ал и с ти ч е ск и м и о б р а за м и ,
п о м о га ю щ и м и п ер ед ать ем у аб су р д н о ст ь м и р а, у ж ас б ы ти я :
К р у го м к а к и е -т о те м н ы е ш а ш н и —
С т р аш н о !
З а р е в о м с т р аш н ы м о к н о
закраш ено —
433
Страшно!
И чего я мытарюсь?
Пойду к нотариусу,
Постучу в дверь его.
Войду и скажу:
— Я хочу быть деревом!
Я хочу, чтоб было заверено,
Что такой-то — дерево,
И отказался от человеческих прав.
В другом стихотворении лирический герой рассказывает о
своей расщепленности:
Я сначала зашел в гардероб,
Перед тем, как направиться в зал,
Сдал на время мой крест и мой гроб,
И мой плащ, и кашне мое сдал.
Тема «расщепленности», выпадания из времени, сознания
принадлежности не только к окружающему сейчас миру звучит
все более мощно:
Я просыпаюсь
И рассыпаюсь.
Но не на части, не на куски, —
От меня отваливаются двойники.
Отделяются
И удаляются
Я тенью по стенам
Чуть видно намечен.
Я красным рентгеном
Под сердце просвечен.
( Я просы паю сь...)
Обобщенным образом этого мира цивилизации стало само
название книги — «Дракон на крыше». Сказочный дракон срав­
нивается с вертолетами на крыше небоскреба. Он «сгреб девчон­
ку», надсмеялся над своим былым победителем Святым Георги­
ем, назвав идеалы болтовней. Впрочем, ритм стихотворения поз­
воляет увидеть и долю насмешки над страшилищем, хвастливо
заявляющим:
Вот сейчас взмахну крылами —
Отходи поскорей!
На три метра свищет пламя
Из ноздрей, из ноздрей.
Однако, если бы поэт писал только об ужасах, пережитых им
и его поколением, если бы он только был певцом отчаяния и
тоски, он никогда не стал бы тем, кем он был.
В любых, порой самых страшных строчках Елагина всегда
434
есть нечто большее — сила, дающая возможность жить дальше и
увидеть по-иному даже самое знакомое и известное.
Картины «хаоса Божьего экспромта» Елагин перемежал поэти­
ческими рассказами о силе жизни. Этому способствовал и энергич­
ный ритм стиха, и просторечие неунывающего лирического героя.
Таково стихотворение «Вот она — эпоха краха...» Поэт называет
эпоху и пряхой, и свахой, и шлюхой, и запивохой, и эпохой смеха.
И вот с этой-то эпохой
Я по свету трюхаю —
Если плохо — с хлебной крохой,
Хорошо — с краюхою.
Елагин, как никто другой, мог увидеть красоту мира и бытия,
набросать в стихотворении пейзаж улицы, леса, дня, эпохи.
Он свободно и легко писал из слов картины, его поэзия «зря­
ча». При всей простоте своего творчества Елагин умел четко об­
рисовать все, что хотел, обрушивая на читателя «звездопады» строк
и превращая его в зрителя.
Вот что писала об этом Татьяна Фесенко: «У Елагина необы­
чайная красочность палитры, яркие мазки, сразу напоминающие
французских импрессионистов (недаром раскрашенный ветер дует
у него «гогенисто» и «сезанисто»)».
«В своей поэзии Иван Елагин, — вторит Фесенко художник
Сергей Голлербах, — употреблял приемы живописца и графика.
Он знал мазок, линию, экспрессивный контраст».
Л.Ржевский отмечал в стихах Елагина «целый поток поэти­
ческих откликов на видимое и познаваемое в по-новому найден­
ных ритмах, звучаниях и модуляциях впечатлений, негодований
и иронии».
Снова дождь затеял стирку
Крыш, деревьев, кирпичей.
Дни ложатся под копирку
Антрацитовых ночей
(С н ова дож дь затеял ст ирку...)
Ветки голы. Месяц тонок.
Поздней осени пора.
Ветер плачет, как ребенок
В люльке каменной двора
(В ет ки голы. М есяц т онок...)
Осень, осень — торопливый график,
Ты наносишь темные штрихи,
И кладут косую тень на гравий
Буков лиловатые верхи...
435
Торопливый рисовальщик — осень,
Ты опять тоской меня обдашь,
Вот он — нелюдим и грандиозен —
Твой речной, твой ветряный пейзаж.
(Осень, осень — торопливый гр а ф и к ...)
В стихах поэта луна то «небесный подкидыш», то «по капле
стекает с весел», то «зеленым ножом перерезает крышу», лужи­
цы дождя сравниваются с цинковыми мисками, а сам дождь «бе­
жит по улице на цыпочках».
Уже в первых своих стихах поэт чувствовал себя демиургом,
свободно управлявшим луной, землей, звездами, закатом, вет­
ром: «Я золотой закат переплавляю в слитки»; «Я не знаю, где
выпросить краску, чтоб ветер выкрасить»;
Я вывеску приколотил:
— Лавка ночных светил —
Я нанизал как бусы,
Луны на все вкусы...
Эго чувство усилилось в позднем творчестве поэта. Сборник «В
зале Вселенной» открывается стихотворением «На площадях танцу­
ют и казнят», где поэт приглашает читателя в «театр своей души»:
Я там веду с собою разговор,
В моем театре я распорядитель,
И композитор я, и осветитель,
И декоратор я, и режиссер,
И драматург я, и актер, и зритель...
И хотя Елагин отчетливо понимает, что поэту не дано преодо­
леть смерть («Мы — тоненькая пленочка живых Над темным не­
избывным морем мертвых... А мертвых — большинство, и к боль­
шинству Необходимо присоединиться»), в поздних стихах поэта
все чаще присутствует стремление преодолеть бренность бытия:
Обнадежь меня, время, скажи,
Что я вставлен в твои витражи.
Одно из ведущих мест в творчестве Елагина занимает тема
поэта и поэзии. Уже в раннем творчестве поэта звучала убежден­
ность в праве на свои, только ему принадлежащие мысли и сло­
ва. Елагин здесь намечает одну из основных «болевых точек»
своего творчества: гордость художника и творца, делающего дело
не как все.
Я уже по-иному слышу,
По-иному глаза сильны.
Эта ночь раскроила крышу
Оловянным кастетом луны.
(Я уж е по-ином у слы ш у...)
436
Впоследствии поэт скажет это более четко:
И написано строго
Было мне на роду,
Что торжественно в ногу
Я ни с кем не пойду.
( Сам я т олком не зн аю ...)
В сборнике «Отсветы ночные» была опубликована неболь­
шая поэма «Льдина» — гимн независимости художника, аполо­
гия свободы творчества:
Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!..
Без мавзолея и без капитолия,
Льдину, которой милее приволье,
Льдину, куда не опустится летчик,
Льдину мечтателей и одиночек!
Эта поэма наделала много шуму в кругах русской эмиграции
в США. Даже самые близкие друзья поэта восприняли знак ра­
венства между мавзолеем и Капитолием как неуместную и недо­
пустимую метафору. Сопоставление режима, унесшего миллио­
ны жизней, расстрелявшего их близких, и демократического строя,
вырвавшего их из надвигавшихся лагерей и давшего возможность
свободно жить и писать, — для бывших «ди-пи» было немысли­
мо и кощунственно. Однако смысл поэмы не в сопоставлении
режимов. Елагин остается верен своей идее «самостояния»: поэт
не должен ни от кого зависеть, он должен быть не таким, как
все, должен быть на обочине.
Поэтическое призвание воспринимается им как тяжелая
участь:
Колоссальнейшее неудобство
Человеком быть, а не мопсом!
Ну а я так в квадрате влопался, —
Быть поэтом — сверхнеудобство.
В другом стихотворении Елагин называет сочинение стихов
«полетом с нераскрывшимся парашютом».
Впоследствии, уже незадолго до смерти, Иван Венедиктович
написал стихи, во многом навеянные Н.Гумилевым, но в чем-то
и полемизирующие с ним:
Сам я толком не знаю,
Что от жизни я жду.
На подножку трамвая
Я Ъскочил на ходу.
Я, рассеянно глянув,
Примечал на ходу
437
Карусели каштанов
И домов чехарду.
Блестки звездных колючек,
Пляс осенней трухи...
Но, пожалуй, и в этом
Биография вся:
Оставался поэтом,
На подножке вися.
(С ам я т олком не зн а ю ...)
Во всех американских сборниках поэт по-прежнему разры­
вался между временами и странами. Живя в Соединенных Шта­
тах, он чуть ли не в каждом стихотворении вновь и вновь возвра­
щался в Киев, в Москву, подчеркивал неестественность своего
пребывания в Америке:
И всплывает нью-йоркский рассвет
Прямо в белую ночь над Невой...
( Я сначала заш ел в гардероб...)
Но память не дает мне спуску,
Переставляя то и это
По собственному произволу.
Вот по Андреевскому спуску
Мчит скорой помощи карета
По направлению к Подолу...
Мы выезжали из Чикаго.
Мы не заметили, что в трансе
Мы очарованно застыли,
Что мы не сделали ни шагу,
Что едем в том автомобиле
Во времени, а не в пространстве.
(Н аплы в)
Елагин называл себя «человеком в переводе». Перевод этот
был не только с другого языка, но и с другого времени и другой
страны, в которой он жил:
Чучелом в огороде
Стою, набитый трухой.
Я человек в переводе,
И перевод плохой.
Оригинал видали, —
Свидетели говорят, —
438
В Киеве на вокзале,
Десятилетья назад.
(Чучелом в огороде...)
Поэт даже открещивался от принадлежности к эмигрантской
литературе, в чем другие изгнанники поневоле не видели ничего
зазорного. Он никак не хотел признать свою оторванность от
русской речи и русской поэзии:
Привыкли мы всякую ересь
Читать на страницах газет.
Твердят, с географией сверясь,
Что я эмигрантский поэт...
Художника судят по краскам,
Поэта — по блеску пера.
Меня называть эмигрантским
Поэтом — какая мура!
(П ривыкли мы всякую ересь...)
В своих поздних сборниках, среди которых особо следует упо­
мянуть «В зале Вселенной», поэт вновь обращается к кровавой
истории родной страны, к памяти о загубленных писателях и
трагической истории русской литературы XX века. Теперь эти
события воспринимаются как шекспировские трагедии, как часть
Вселенской истории.
Разъятость, расщепленность современного человека поэт стре­
мится преодолеть красотой. «И мне теперь от красоты не спится
Как не спалось когда-то от тоски», — скажет Елагин в стихотво­
рении «Проходит жизнь своим путем обычным...».
...Незачем жалеть о том, что тратим,
О том, что каждый миг мы отдаем
Садам, дроздам, друзьям, стихам, объятьям.
Что временем за красоту мы платим
Пока нам вечность не построит дом.
(О гни горят оранж ево, б агрово...)
В 1986 году врачи, следуя американской медицинской этике,
сообщили Елагину о его неизлечимой болезни: рак поджелудоч­
ной железы. Это известие поэт, по свидетельству знавших его
Людей, принял с удивительным мужеством.
Перед смертью он успел взять в руки большой том в красивой
синей обложке, изданный на средства его друзей Леонида и Аг­
нии Ржевских, Татьяны и Андрея Фесенко и оформленный его
старым товарищем Сергеем Голлербахом. Книга называлась «Тя­
желые звезды». В нее вошли почти полностью сборники «По до­
роге туда», «Отсветы ночные», «Косой полет», «Дракон на кры­
439
ше», «Под созвездием топора» и «В зале Вселенной». Книгу завер­
шал раздел «Новые стихи»:
Вот на последнем мосту на границе России
Осатанелый вагон прогремел колесом.
Я с той поры только ОТСВЕТЫ вижу НОЧНЫЕ,
Только кружусь по вселенной в ПОЛЕТЕ КОСОМ.
(Нынче я больше уж е не надеюсь на чудо...)
Так поэт вставил названия своих книг в новые строки.
Здесь же было опубликовано и стихотворение «Памяти Сер­
гея Бонгарта» (художника, очень близкого к Елагину), ставшее
во многом автореквиемом самого поэта:
Мы выросли в годы таких потрясений,
Что целые страны сметали с пути,
А ты нам оставил букеты сирени,
Которым цвести, и цвести, и цвести...
И ты не забудешь, на темной дороге
Как русские сосны качают верхи,
Как русские мальчики спорят о Боге,
Рисуют пейзажи, слагают стихи.
Иван Венедиктович Елагин умер 7 февраля 1987 года в Пит­
сбурге, едва успев встретить свой шестьдесят восьмой день ро­
ждения. Он и похоронен в Питсбурге.
А перед смертью он написал четверостишье, которое завешал
опубликовать после своей кончины:
Здесь чудо все: и люди и земля,
И звездное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя —
Нет в мире ничего обыкновенней.
Сегодня его стихи возвращаются на родину, как он сам это
предсказал в стихотворении «Завещание»:
Пускай сегодня я не в счет,
Но завтра, может статься,
Что и Россия зачерпнет
От моего богатства.
Пойдут стихи мои, звеня,
По Невскому и Сретенке,
Вы повстречаете меня,
Читатели-наследники.
440
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Елагин И. [Стихи] //Н е в а . - 1988. - № 8. - С. 103-105.
П одборка из 8 стихотворений, в том числе таких ш едевров, к ак «В
Гринвич Вилидж», «Я сегодня прочитал за завтраком » (о п оэте в XX
веке), «М не н езн ак о м а горечь ностальгии». П одборка сопровож дается
«Словом о поэте» Д .Г р ан и н а (с. 105-106).
Елагин К Тяжелые звезды / / Н овы й м ир. — 1988. — № 12. — С. 127131.
К ром е поэм ы «Звезды», публикую тся стихотворени я 60-7 0 -х годов.
П убли кац и я предваряется статьей Е .В итковского, содерж ащ ей п одр о б­
н ы е сведения о би ограф ии п оэта (125-127).
Елагин И\ Нет в мире ничего обыкновенней: Последние стихи //Н о в ы й
мир. - 1990. - № 3. - С. 188-190.
П убли кация содерж ит стихи 80-х годов, в том числе «Ч ернобы ль» и
последнее стихотворение п о эта «Гоголь». Заверш аю т п одборку во сп о ­
м и н а н и я друга п о эта В .С и н к ев и ч « П о сл ед н и е д н и И в а н а Е лаги н а»
(с. 190-192).
Елагин И. Тяжелые звезды: Избранные стихотворения. — Tenafly: Э р ­
м итаж , 1986.
Н аиболее репрезентативны й сб орник и зб ранны х стихов поэта, и зд ан ­
н ы й н а средства его друзей незадолго перед см ертью И .Е лаги н а.
Самарин В . Иван Елагин. //С о в р е м е н н и к . Т оронто. — 1965. — № 12.
О бстоятельная статья о творчестве поэта.
Казанский В . Два лика поэзии Елагина //Л и т . соврем ен н и к. М ю нхен. —
1951. — N9 1.
О дна из первы х статей, отм етивш ая п о явл ен и е в р у сск о й п о э зи и
больш ого писателя.
Ржевский Л . О поэзии Ивана Елагина //Р ж е в с к и й Л. К вер ш и н ам
творческого слова: Л итературоведческие статьи и отк л и ки . N orvich U n i­
versity Press, 1990. — С. 212-230.
Статья из «Н ового ж урнала» (1977, № 126), содерж ащ ая п одроб н ы й
ан ал и з творчества поэта.
Раин Е. Иван Елагин. По дороге оттуда //Н о в ы й ж урнал. — 1950. —
№23.
Гуль Р. Иван Елагин. По дороге оттуда //Н о в ы й ж урнал. — 1954. —
№36.
Иваск Ю . Иван Елагин. Отсветы ночные //Н о в ы й ж урнал. — 1963. —
№ 74.
Глинка Г Иван Елагин. Косой полет //Н о в ы й ж урнал. — 1967. — № 88.
Р ец ен зии н а отдельны е к н и ги поэта. С одерж ат одн о в р ем ен н о и о б ­
щ ие характеристики худож ественной индивидуальности И .Е л аги н а.
НИКОЛАЙ МОРШЕН (МАРЧЕНКО)
(род. 1917)
«ЧТОБ ПЛЫТЬ И ПЛЫТЬ, ЗАХЛЕБЫВАЯСЬ
В ЗВЕЗДАХ...»
Н и ко л ай М орш ен н азы вает себя «истинны м ровесн и ком О к ­
т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и » : о н р о д и л с я 8 н о я б р я 1917 г о д а в К и е в е и
п р о ш ел все и сп ы тан и я , к о то р ы е в ы п ал и д етям и н те л л и ге н ц и и в
р ев о л ю ц и о н н о й Р о сси и . С ам п о э т п и сал о б этом так:
О н п р о ж и л м ал о: т о л ь к о с о р о к л ет.
В т а к и х сл о в ах н и с л о в а п р ав д ы н ет.
О н п рож и л две во й н ы , п ереворот,
Т р и г о л о д а , ч е ты р е с м е н ы в л а сти ,
Ш е с т ь го су д ар ств, д в е н а с т о я щ и х страсти .
С ч и т а т ь н а годы — б у д е т л е т п ять со т.
В 1944 го д у в м е с т е с о т ц о м Н и к о л а е м В л а д и м и р о в и ч е м М а р ­
ч е н к о , ставш и м вп о сл ед стви и и звестн ы м р о м ан и сто м (п сев д о ­
н и м Н .Н а р о к о в ) , о к а з а л с я в Г е р м а н и и . М о р ш е н о м , п о с о б с т в е н ­
н ом у о б ъ я сн ен и ю п о эта, о н стал п о сл е во й н ы в лагере д л я п ер е­
м ещ ен н ы х л и ц , «чтобы и зб еж ать р еп а тр и а ц и и , я бы л р у м ы н о м —
п о д о к у м ен там , к о н еч н о . Ф а м и л и ю я вы брал загадоч н ую , п о
ко то р о й н ел ьзя бы ло оп ред ели ть н ац и о н ал ьн о сть. В это врем я я
стал п еч ататься, и т а к к ак всегда бы л п р о ти в п севд о н и м о в, то
стал п еч атать сти хи п о д той ф а м и л и е й , к о то р ая , к а к я п о л агаю ,
о с т а н е т с я с о м н о й н а в с ю ж и з н ь » . С 1950 г о д а ж и в е т в К а л и ф о р -
442
нии (США). О своей жизни поэт предпочитает не рассказывать:
«Все, что я хотел бы сказать читателям, я говорю в стихах. Ос­
тальное не важно», — написал он составителям сборника «Со­
дружество» в ответ на их просьбу прислать автобиографию.
Печататься начал в 1948 году. Он выпустил четыре авторских
сборника: «Тюлень» (1959), «Двоеточие» (1967), «Эхо и зеркало»
(1979) и «Собрание стихов» (1996). Всего 175 стихотворений, что
свидетельствует о большой самовзыскательности поэта.
Разумеется, за двадцать лет поэт не мог не измениться. Сти­
хи первой книги более автобиографичны, лиричны. Здесь совер­
шенно четко ощущаются традиции Н.Гумилева. Вторая проник­
нута философскими раздумьями, Моршен находится здесь под
явным влиянием антропософии и теософии Тейяра де Шардена
и поэзии Б. Пастернака и О. Мандельштама. Третья отражает сфор­
мировавшиеся взгляды писателя и отличается значительно боль­
шим новаторством формы. Итоговая, четвертая, включает в себя
стихи трех предыдущих и новый цикл «Умолкший жаворонок» —
философские раздумья поэта об искусстве и жизни. Тем не ме­
нее все они объединены тематической общностью. Многие сти­
левые новации последней книги поэта намечены уже в первой.
Автор предисловия к ней известный поэт и критик Владимир
Марков писал, что стихи Моршена отличает «острая мысль, внут­
ренняя страсть, а иногда и увлекательная Hipa смысловых кон­
трастов и точек зрения».
Это видно уже в стихотворении, обусловившем название пер­
вой книги поэта. Протокольно сухой рассказ о человеке, кото­
рый вынужден вместе со всеми голосовать за чью-то казнь, о
душной атмосфере этого собрания переходит в лирически взвол­
нованный рассказ об этом человеке после собрания:
И папироску в зубы. И — в сады...
И здесь бродить. Сперва — томясь, потом —
Уйдя в покой туманных размышлений
О постороннем; в частности о том
По детским книжкам памятном тюлене,
Который проживает там, где лед
Намерз над ним сплошным пластом снаружи.
Тюлень сквозь лед отдушину пробьет
И дышит, черный нос с усами обнаружа.
Среди ранних стихов Моршена лишь несколько однозначно
трагических. В том числе написанное под влиянием гумилевско­
го «Заблудившегося трамвая» «На Первомайской жду трамвая...»,
где рефреном проходит стих «Трамвай подходит, но не мой» и
рождается страшное ощущение: «Ты, вы, они, мы опоздали!».
443
Жутковато звучит и другое стихотворение первого сборника «Как
круги на воде, расплывается страх...»:
Как круги на воде расплывается страх,
Заползает и в щели и норы,
Словно сырость в подвалах — таится в углах,
Словно ртуть — проникает сквозь поры.
Олицетворение, яркие, по-бытовому понятные сравнения
превращают политический текст в подлинно поэтический:
А вдали, где полгода (иль более) мрак,
Где слова, как медведи косматы:
Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг...
Как терновый венец или Каина знак —
Круг полярный, последний, девятый.
«Об утраченном равновесии» говорят стихотворения «Хиро­
сима» и «Гроза». Скепсис и ирония порой звучат и в третьей
книге поэта:
Красна девица сделалась синим чулком,
Сине море — зеленою скукой.
Синей птицей мерещится красный петух,
Белый свет — семицветною грязью.
(Воспаление зрительного нерва)
...Из девицы-красавицы,
Душеньки-девушки, певшей в церковном хоре,
Получается вскоре
Прекрасная пиковая дама с собачкой,
Приятная во всех отношениях.
(Н орма брака)
Соединение блоковских и чеховских героинь с их высокой
духовной жизнью с пушкинской ведьмой и гоголевским ирони­
ческим образом дамы, приятной во всех отношениях, — свиде­
тельство частичной принадлежности Моршена и к постмодер­
нистской традиции.
Вместе с тем через все творчество поэта проходит мысль о
свободе, о противостоянии фатуму, «страшному миру» XX века.
Моршен даже вступает в полемику со своими предшественника­
ми, поэтами «парижской ноты», обвиняя их в слабости:
А ты, бедняк, я вижу, заново
Поешь о том, что мы умрем?
А ты бы загадал желаньице,
Да помечтал бы, загадав:
«Хочу, чтоб создавало творчество
Из бунта храмы, а не храмики,
444
Чтоб побеждало смертоборчество
Второй закон термодинамики...».
( Ответ на ноту)
Скрытая полемика с О.Мандельштамом звучит в стихотворе­
нии «Не убежишь! Хоть круть, хоть верть...» Дословно повторив
мандельштамовские строчки «И сам себя несу я, как жертва па­
лачу» («Я наравне с другими...»), обращенные к возлюбленной, и
даже усилив их сравнением «как бык к тореадору», поэт тем не
менее скажет:
Казнь и убой! А я хочу —
Как два бойца, как два клинка.
И чтобы шанс, и чтобы спор,
И — даже — смертью смерть поправ!
Тема эта настолько дорога Моршену, что он с юношеской
дерзостью отваживается оспаривать самого Пушкина, провозгла­
сившего в стихотворении «Из Пиндемонти» мысль, будто только
внутренняя свобода составляет смысл человеческого бытия. Поэт
сталкивает это утверждение с написанными в* том же 1836 году
стихами американского поэта Р.У.Эмерсона, славящего фермеров,
с оружием защищавших свои политические свободы, и пишет:
Свобода тайная? Бог с ней!
Я славлю явную свободу
И для зверей и для людей.
(П ослание к А .С .)
Морщен настойчиво ищет антитезу «веку-волкодаву», как
называл его О.Мандельштам. Так уже в раннем стихотворении
«Вечером 7 ноября» поэт не ограничивается картиной казенных
празднеств и противопоставляет им
Ночной и рассудочный воздух,
Рябины прогоркшие кисти,
Звезды запоздалой пробег.
Сперва осыпаются звезды,
Потом осыпаются листья,
За листьями сыплется снег.
Природа, по Моршену, прекрасна, одушевлена:
Пахнет липой и бензином воздух:
По ночам все запахи слышны.
Птицы спят, попискивая в гнездах:
Вероятно тоже видят сны.
(О ст ы ваю т кам ни ...)
Как и у Б.Пастернака, перед читателем раскрывается поисти­
не космическая картина обычной природы. Хотя, быть может,
еще более противоречивой, чем у предшественника.
445
Противопоставление и сосуществование добра и зла, олицет­
воренных в образах «лучистой, в белоголубом» церкви и «низко­
лобых домов с прищуренными глазницами черных окон», со­
ставляет лирический конфликт стихотворения «Андреевская цер­
ковь». Маяк, традиционно символизирующий спасение, жизнь,
может нести смерть разбивающимся о него чайкам («У маяка»).
Мир и человек у Морщена противоречивы, безобразие и
красота взаимосвязаны. Эта мысль присутствует и в стихотворе­
нии второй книги «Только руками кусты раздвину», где поэт,
любуется паутиной:
Пятиугольник
Из паутинок,
Из бусинок-росинок
Замысловатый рисунок.
Ветви налево, травы направо
Шепчут согласно: «Слава! Слава!»
И облаков белоперых стая,
Перелетая... летая... тая,
Вдруг синевой изнутри окрасится.
И вдруг замечает, что в этой «храмине синей муха звенит и зве­
нит в паутине» и звук ее, «как глас вопиющего» в пустыне.
Но наиболее полное воплощение эта мысль получит в книге
«Эхо и зеркало»:
В небытии есть быть,
А в глухоте есть ухо,
В любить таится бить,
В аду — кусочек духа.
У каждой из частиц
Есть собственное анти-,
У лестницы есть ниц,
И Данте скрыт в педанте.
(Д иалект ика природы)
Слова сближаются, дыша
Простой и сложной симметрией:
Как Л и Я, как ши ш ,
Или как Марфа и Мария.
В весеннем — сень, в томленье — лень,
В распаде — ад, в сближенье — жженье...
(Двоичное счисление)
Стихотворение «Такие в мире есть пути...» имеет второй стро­
кой «Что их кривее не найти», а заканчивается повтором первой
и противоположным: «Что их прямее не найти».
446
Уже в сборнике «Тюлень», несмотря на неостывшую нена­
висть поэта ко многому в минувшем, все чаще звучит мысль, что
...надо лишь порог перешагнуть,
Чтоб плыть и плыть, захлебываясь в звездах.
(Н апрасно я со страхом суеверны м ...)
Эта мысль получит отчетливое выражение в более позднем
стихотворении поэта «Балерине»:
Забыть, что зори пахнут кровью,
Что ночи прячутся в груди,
Что мы живем в межледниковье —
Льды сзади, холод впереди.
Одно из последних стихотворений первой книги называется
символически «Исход». Лирический герой призывает пойти «на
самый дальний край земли, Забыв, что нет такого края» и там
Мы сядем рядом на обрыв
И свесим ноги непременно,
Их до колена пофузив
В поток несущейся вселенной.
Мы будем верить тишине,
Вдыхать космические ветры,
Следить летящие вовне
Секунды, звезды, киломефы.
В соединении несоединимого (прозаически свешенных ног
и вселенной) видно влияние Б.Пастернака с его «за тын перейти
нельзя, не топча мирозданье». Эту связь подчеркивал и сам поэт:
Я не горжусь своим стихом.
Неточен почерк мой. Однако
Есть у меня заслуга в том,
Что я читатель Пастернака.
(Т кань двойная)
Книга «Тюлень» завершается стихотворением «1943», один
из персонажей которого крестьянин-торговец на рынке оккупи­
рованного Киева подходит к букинисту, «выбирает наугад» то­
мик с надписью «Тютчев»
И, приподняв усы живые,
С фудом читает то впервые,
Что кто-то подчеркнул до дыр:
«Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты ро-ко-вые...»
Так в поэзию Моршена входит тема космоса, судьбы вселенной.
Среди орбит, среди лучей
Среди отсутствия вещей,
447
Среди космической глуши,
Среди кладбищенской тиши,
Среди молчанья мирового,
Летит, кружит, поет Земля,
Окутанная дымкой Слова.
И мнится мне, что ей одной
На долю выпал звонкий жребий:
Быть первой клеточкой живой,
Стать Вифлеемскою звездой
В еше бездушном, косном небе.
(Среди туманностей цепных)
Верный своему принципу рассматривать все явления в диа­
лектике, Моршен ведет сам с собой спор о смерти и бессмертии,
о соотношении смертного человека с вечным космосом. Он по­
нимает, что от смерти не убежишь «хоть круть, хоть верть», что
«нахлынет смерть из темноты» («Осенний жалуется норд...»). Поэт
даже доходит в своих сомнениях до богохульства, утверждая, «что
страх, что Божьим ты зовешь, продукт физиологии». Но тут же
на примере Елены Келлер утверждает, что можно «свой пере­
шагнуть предел»:
Растет в кромешной тишине
Нащупанное мирозданье.
И, как цветок из темноты,
Ей раскрывается навстречу.
В соответствии с антропософской теорией, вобравшей в себя
и понятие кармы (перевоплощения душ), поэт, обращаясь к
«Душе», говорит: «Ведь оба мы не умираем». Исчезает тело, а
душа идет «назад за новым пилигримом». Несколько позже Мор­
шен разовьет эту мысль, сказав, что и поэтическая строфа в от­
личие от живой клетки имеет свой «код иль ход», который «как
бы над временем живет»:
Он вхож и в высший, в райский план,
И в маломерные пространства,
И в отвлеченные миры
Для продолжения игры.
Осознание пути человечества как постоянного движения к
совершенству, присущее и антропософии, и учению Тейяра де
Шардена, передано и в стихотворении «Клубились ночи у реки»,
перекликающемся с мандельштамовским «Ламарком». Писатель
обращается мыслью к своему еще «пресмыкающемуся пращуру»:
Нет, он предугадать не мог
Разлив грядущих поколений,
Неиссякающий поток
448
Взаимосвязанных явлений,
Меня в цепочке появлений,
Мой мир, где рядом Планк и Блок!
Мысль о пращуре уводит поэта к размышлению о потомке:
...как мне предугадать того,
Чьим скромным пращуром я буду[...]
Он явится. Пройдут века...
Да что века — мильонолетья!
И вспомнит нас из далека
Таинственный потомок третий.
И в рай сознания его
Мы прорастем своим сознаньем.
Проявятся из серой мглы,
Вещественны и непреложны,
Все, как бы ни были малы
И как бы ни были ничтожны.
В свете этой мысли писателя становится понятно название
его второй книги:
Я смерть трактую не как точку —
Как двоеточие.
(Шагаю путаной дорогой...)
Еще одной темой, пронизывающей все творчество Н.Мор­
щена, является тема личности, ее выбора и свободы.
«За каждой гранью свое мирозданье», — утверждает поэт в
одном стихотворении. «Все непохожи друг на друга», — говорит
он во втором. Неприятие унифицированности людей даже во
имя самых, казалось бы, благородных целей звучит в парадок­
сальном на первый взгляд выводе стихотворения «Цветок»:
Бог знает, сколько радостей,
Приносит эгоизм,
Черт знает, сколько гадостей
Наделал альтруизм.
Однако, эгоизм и «свое-волье» у Морщена не несут традици­
онного смысла. Эгоизм-индивидуализм чужд поэту, о чем он
прямо говорит в стихотворении «Поиски счастья», интересного
еще и своим графическим построением:
Где Я выходит на первый план
Там только скука, туман, обман
рождение — Яйцеклетка
жизнь — Ярмо
любовь — Яд
смерть — Ящик
15— 1662
449
А там, где я на заднем плане,
Есть или счастье, иль обещанье:
Рождение — воля
Жизнь — стихия
Любовь — семья
Смерть — вселенная.
Другими словами, под эгоизмом Моршен, как и его люби­
мый Пастернак в «Докторе Живаго», видит духовное богатство
человека. В стихотворении «Свое-волье» поэт, играя словами,
говорит, обращаясь к революционерам: «нашеволье — для веры,
Вашеволье — чтоб править». Более того, в «Эхе и зеркале» на­
стойчиво утверждается, что каждое глубоко индивидуальное яв­
ление жизни одновременно несет в себе черты рода, играет об­
щественную роль:
...я — это не я, а мы:
Скромный Град друзей.
...................% ......................................................................................................................................
И каждое я — это мы,
И каждая былинка — это поле,
И каждое дерево — это лес,
И каждая особа — это вид.
А все, что называют
Полем, лесом, нацией...
Это сверхорганизмы, сверхособи,
Образующие в свою очередь
Под лазурно-серебряно-огненным куполом
Сверхград друзей, над которым вьется
Зелено-желто-белое
Знамя природы.
Можно спорить, насколько художественно выражена здесь
русская идея соборности, общности человека и природы. Воз­
можно, Моршен, как это порой присуще его философским сти­
хотворениям, излишне рационалистичен, но сама мысль чрез­
вычайно важна для понимания его творчества.
Начиная со стихотворения «Раковина» первой книги поэта,
тема включенности человека в природу сопрягается у Морщена
с темой поэта и поэзии. Возможно, что и здесь на художника
оказал влияние О. Мандельштам, стихотворение которого под тем
же названием очень близко к моршеновскому. Нельзя сбрасы­
вать со счетов и связь «Раковины» с пастернаковским «Опреде­
лением поэзии»:
Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
450
Это — ночь, леденящая лист,
Это двух соловьев поединок...
И уж совершенно очевидно под влиянием статьи О.Мандельштама написано стихотворение «Былинка». В его основе — на­
чало статьи О.Мандельштама «Слово и культура»: «Не метропо­
литеном, не небоскребом измеряется бег современности: ско­
рость, а веселой травкой, которая пробивается из-под городс­
ких камней». У Моршена былинка пробивает бетон:
Упираясь вершинкой тоненькой
В землю влажную, как ногой,
Под стотонной плитой бетонною
Выгибает себя дугой.
И оковы ее, которые
Не стащить и пяти юлам,
Как в классической аллегории,
Разрываются пополам.
Прямое указание на аллегорию позволяет Моршену завер­
шить эпизод неожиданно двумя энергичными стихами:
Есть примеры тому в истории.
А недавно и Мандельштам...
Образ погибшего поэта, преодолевшего стихами тяжесть земной
оси и победившего время, олицетворяет у Моршена искусство.
Эта тема развивается в стихотворении «Волчья верность».
Поэт, утверждает Моршен, как и волк, «уходит от любой дресси­
ровки, как велит генетический долг»,
Ковылял с холодеющей кровью,
С волчьим паспортом, волчьей тропой
Из неволи в такое безмолвье,
Где хоть волком в отчаянье вой.
В стихотворении «Многоголосый пересмешник», открываю­
щем сборник «Эхо и зеркало», пение птиц сравнивается с поэ­
зией: «Есть птица — ямб, есть птица — дактиль, но птица-риф­
ма — только он». В «Юродивом» лирический герой утверждает:
То рифмы из травы беру
И, как дрова, их разбираю...
То, ветер слушая, пишу,
То — реполова-краснобая,
То просто рифмами дышу,
Их выдыхая и вдыхая.
В стихотворении «Все то, что мы боготворим...» Моршен срав­
нивает строку с вихрем, пламенем, рекой и утверждает, «что в
ней, в одной из строк, Б е с с м е р т ь я , может быть з а л о г » .
15*
451
Поэт, утверждает Моршен в триптихе «Недоумь-слово-заумь»,
связующее звено живой природы и вечности. В первой безымян­
ной части стихотворения идет перекличка поэта и дятла:
Мы с ним спелись для дуэта:
Отбивал он так и ток,
Я проворно в схему эту
Подключал за слогом слог.
Вторая часть «Поэт» говорит, что
На человеческий язык
Речь духа переводит лира,
На недоумь — звериный рык,
На заумь
СОТВОРЕНЬЕ МИРА.
Появляется упомянутый еще в «Двоеточии» образ «сезама»
(«Шагает как военнопленный»):
Крутой замес еще бродил в сезаме.
Змеясь, жило в нем словопламя,
Формировался звукоряд,
И проявлялись буквосвойства:
Сезам
АЗ ЕСМь
АЗ Е = МС2
Сезаумь, откройся!
Предпоследняя строчка — формула теории относительности
Эйнштейна: ключом к человеку, пространству и времени, может
и должно, по Моршену, стать слово. Другое дело, что художни­
ку в его стремлении остановить мгновенье приходится постоян­
но состязаться с природой, стремящейся к бесконечному разви­
тию. И это вечное состязание и сотворчество жизни и поэзии —
одна из любимых тем поэта.
В одном из последних стихотворений Моршен, рассказав о
внезапно умолкнувшем на высокой ноте жаворонке, говорит
Так умолкнуть бы и мне —
На воздушной вертикали
В достижимой вышине.
Не сползать с зенита чтобы,
А кончину встретить в лоб
Песней самой высшей пробы,
Самой чистой... Хорошо б!
(Умолкший жаворонок)
После этого стихотворения, написанного в 1987 году, поэт
умолк почти на 10 лет. И лишь в канун своего 80-летия создал два
новых, говоря его словами, самой высокой пробы: «Подражание
452
Р.Фросту» и «Поэтов увлекали прорицанья...». В последнем Моршен вступает в философский спор со своими великими предшес­
твенниками Лермонтовым, Пушкиным, Есениным, Гумилевым,
Достоевским, чьи слова о смерти включены в текст стихотворе­
ния, С их трагическим мировосприятием, выдвигая иную жиз­
ненную установку, державинскую, слова которого вынесены в
эпиграф моршеновского текста («Утром раза три в неделю С милой
Музой пересплюсь, Там опять приду в постелю И с женою обоймусь»):
Поэтов увлекали прорицанья
Внезапной смерти, яростной притом,
В полдневный жар долины в Дагестане
Или в зеленый вечер под окном.
Тянуло их писать, как на дуэли
Поэт на снег роняет пистолет,
Предсказывать, как вышло и на деле,
Умру не на постели, в дикой щели
Твердить: «Пора творцу вернуть билет*.
Но быть пророком, даже знаменитым
И мудрым звездочетам не дано.
А словом опрометчивым накликать
Несчастья на себя не мудрено.
Не отогнать накликанные беды,
Хоть можем вспомнить об иной звезде:
Минут пяток всхрапнуть после обеда
И побродить уже во сне по следу
Державина в зеленой Званке, где
Струилась жизнь певца подобно чуду
Подробно, бегло, но не впопыхах.
Была жена в постели, Бог повсюду,
И вкус бессмертья длился на губах.
Характерно, что последние сборники поэта завершаются об­
ращением к языку, к русской речи.
Моршен стремится включить в свою речь все богатство жи­
вого языка, повторяя вслед за А.Пушкиным, что учиться языку
поэт должен у московских просвирен:
Скорее к родимому дому:
К просвирням, на рынок, в стихи!
На говор иди человечий,
Катись на простор просторечий,
Хиляй в воровские жаргоны,
Ныряй без плацкарты в вагоны,
В объятья вались к подмастерьям,
Под перья ложись к мастерам,
Но — кукиш ученым материям
И их очумелым пирам!
(К русской речи)
453
Демонстрируя виртуозное владение высоким стилем, поэт
тем не менее отдает предпочтение живому слову.
Колико росские пииты
В дни оны жили на земли,
Толико гласно,- сановито
Они высокий штиль блюли, —
начинает Моршен рассказ об И.Баркове. Заслугу автора «Луки
Мудищева» поэт видит именно в том, что тот
... вздыбил стих неукрощенный,
Еще не обращенный в штамп,
Дабы заржал весь мир крещеный
И жеребцом дымился ямб.
(Иванушка)
Поэзия, по Моршену, — единственное, что преодолевает хаос
и соединяет быт и бытие:
Себя являя в поиСках — чего?
Ловя преданья гоЛоса — какого?
Она вливает в хаОс волшебство,
Водой живой взвиВая вещество,
Она и хаос претворяет в СЛОВО.
Сложнейшая и виртуозная форма акростиха в середине стро­
фы и в ее конце позволяет поэту графически выделить ключевое
понятие его творчества.
Несокрушимый оптимизм, редкий для поэзии русской эмиг­
рации, вызвал к жизни и особые художественные формы поэзии
Морщена.
Ритмику Морщена при всей ее традиционности отличает
динамическая энергия, создаваемая четкими повторами ударе­
ний в параллельных стихах, короткими фразами, нарастанием
от сборника к сборнику использований тире, вопросов, воскли­
цаний.
Живая жизнь передается у поэта олицетворениями и мета­
форами: «месяц — мамонт со светящимся клыком», «тростник
отточен словно сабля», «уходит осень по тропинке», «оставляют
метели свою канитель», «земля под дождем от страха мякла»,
«созвездья ночью искры мечут», «ручей — поэт подпочвенный»,
«галки вьются, как слова», «закат, сраженный на бегу, окровавил
сосульки», «луна, разжиревшая задень», «тускнеют звезды, словно
запотев», «сердца запевают соловьями из клетки», «повержен снег
и день убит», «река и ночь струятся вдохновенно и торжествен­
но, как старые стихи», «Хиросима — город, обнаженный для
распятья», «тень — кошка», «облако — кипящая медь», «парчой
тропу одели огнелистые дубы», «клены перелистывали много­
454
томный свод небес». Во всех этих олицетворениях и сравнениях
природа, человек, поэзия слиты воедино.
Стремление раскрыть диалектику явлений, заставить звучать
заново привычные слова приводит поэта (и чем дальше, тем боль­
ше) к разделению слов на слоги (свое-волье; под - над - без- внесверхсознанье; под-снежник, боли-голов, чаро-действо, благо-даря,
оче-видным и т.п.) или образованию необычных новых словосо­
четаний («не водопад — а водокап, не травостой — а траволяг»;
«дух птициановый»). Классическим примером мастерства слово­
образований Моршена является стихотворение о снеге «Белым по
белому», где слова «зима» и «снег» используются в сочетаниях:
зима в снежливости; белым-бело, мелым-мело; снеголым-голо;
стежка снегладкая, сугробная; дубы снеголые; на елочке снегвоздики, снеголочки; сугробовая тишина; снеграфика, снеготика.
Иронический, но отнюдь не скептический оттенок придают
стихам поэта использованные им в своеобразном соединении
технические термины XX века («сокровищница генная», «элек­
тромагнетизм», «термодинамика») и просторечия типа «ахи-охи»,
«тары-бары», «фигли-мигли»; «тру-ля-ля и те-те-те».
Оживляют стихи и придают им динамику звукоподражания
птицам, эху («зин-зи-вер» и «чьи-вы, чьи-вы» и «питть-питьпить» и «спать-пойдем»).
Радостность, светлость придают стиху Моршена и виртуоз­
ные рифмы (искусница-златокузница, рассказывай-топазовый,
ерепенится-смиренница, на зиму-празелень, озером-прозелень,
такт-смарагд, изумруд-не замрут), и фонетические повторы внутри
одной строки или строфы.
Выше уже приводились примеры игры словами, когда буквы,
входящие в одно слово, превращались в другие слова, в матема­
тические формулы. Другим примером прозрения в обычных сло­
вах скрытого смысла является стихотворение «Приметы». В слове
«атанде-с» из эпиграфа шестой главы пушкинской «Пиковой дамы»,
Моршен услышал фамилию убийцы поэта — Дантес. Так вновь
чисто языковыми средствами писатель доказывает основную мысль
своего творчества: искусство — эхо и зеркало мира, или (что то же
самое) мир — зеркало и эхо человеческих чувств и эмоций.
В отклике на первый сборник Моршена известная русская
поэтесса Ирина Одоевцева написала, что автор «Тюленя» «молод
и здоров, гораздо моложе душевно своих сорока лет». Эту моло­
дость и здоровье поэт сохранил и в пятьдесят, когда писал «Дво­
еточие», и в шестьдесят, когда создал «Эхо и зеркало», и в канун
восьмидесятилетия.
Поэзия Моршена — светлая жизнерадостная струя в литера­
туре русского зарубежья.
455
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
М орш ен Н. (Подборка стихов) //Новый мир. — 1989. — № 9. —
С. 65-67.
В публикацию вошли стихотворения Моршена «Генетический долг:
волчья верность», «В отходящем, уже холодеющем дне...», «Я свободен,
как бродяга...», «Иванушка», «Русская сирень», «Повисла ива у обрыва...».
Моршен Н . (Подборка стихов) //Вернуться в Россию стихами...: 200
поэтов эмиграции. Антология —М.: Республика, 1995. —С. 331-333.
В книгу вошли два стихотворения поэта: раннее —«Тюлень» и отно­
сительно позднее «Многоголосый пересмешник».
Моршен Н. Тюлень: Стихи. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1959.
П ер вая к н и га п о эта содерж ит 37 сти хотворен и й .
В предисловии Владимира Маркова выделены 3 основные темы ран­
него творчества Моршена: страшный мир; мир как источник радости и
абстрактный мир («рассудочный воздух»). Мысль критика, что у Мор­
шена «преобладает тоска», была оспорена И.Одоевцевой в статье «О Нико­
лае Моршене» («Новый журнал» — 1959. —№ 58. — С. 116-121).
Моршен Н . Двоеточие. — Вашингтон. — 1967.
Включает 49 стихотворений, написанных в 60-е годы. Перекличка и
даже влияние Б. Пастернака и О. Мандельштама не лишают стихи само­
бытности и оригинальности.
Моршен Н. Эхо и зеркало (Идеоподражание и дееподражание) — Ber­
keley, 1979.
Включает 54 стихотворения, преимущественно опубликованных до
этого в периодической печати («Новый журнал» и др. издания).
Моршен Н . Собрание стихов. — Berkeley, 1996.
Наиболее полное издание стихов поэта. Наряду с произведениями
всех трех предыдущих книг включает в себя новые стихи поэта, объеди­
ненные в цикл «Умолкший жаворонок». Дана краткая биография поэта
и сведения о первых публикациях стихотворений, не входивших в сбор­
ники.
Витковский Е. Дань живым //Новый мир. — 1989. —№ 9. — С. 59.
Крупный знаток поэзии русского зарубежья и публикатор стихов
Моршена, Е.Витковский долгое время находился в переписке с поэтом.
В статье приводятся некоторые факты биографии Моршена. Сообщает­
ся, что его поэзию первым высоко оценил Г.Иванов (в 1950 году).
Н арциссов Б . Под знаком дифференциала: Поэзия Н.Моршена. —
Новый журнал. - 1979. - № 125. - С. 135-144.
Наиболее подробная статья о всем творчестве поэта. Ряд ее положе­
ний вошел в настоящую главу.
Вайль И . Николай Моршен и мы или ритм и стих (о книге «Эхо и
зеркало») — Новый журнал. — 1986. — № 165. — С. 207-231.
Филологическое исследование ритма и слова в поэзии Моршена. В
основном внимание обращено на формальное новаторство поэта.
K arlinsky S . Morshen after Ekho i Zerkalo //Культура русского модер­
низма. — M, 1993.
В статье известного американского ученого анализируются стихи по­
эта, составившие позднее цикл «Умолкший жаворонок».
456
ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ (СУРАЖЕВСКИЙ)
(1905-1986)
ДВЕ СТРОЧКИ ВРЕМЕНИ
С фотографий на обложках его двух последних книг на чита­
теля смотрит благородное лицо аристократа: пушистые седые
волосы, задумчивое лицо много повидавшего на своем веку че­
ловека, высоко поднятая (но без малейшего знака высокомерия)
голова.
Он и бьш аристократом: по рождению и по духу.
Леонид Денисович Суражевский родился 8 (21) августа 1905
года в имении его деда по матери С.В. де Роберта Лацерда под
Ржевом (соединение названия этого города и его собственной
фамилии он в будущем использует в качестве псевдонима). Среди
его далеких предков король Франции Людовик IX Святой (12261270); более ближних — ученые, генералы, революционеры. Мно­
гие в роду занимались литературной деятельностью. В том числе и
бабушка будущего писателя Любовь Филипповна Нелидова (Короливна), чья первая книга «Девочка Лида» вызвала восторг Н.Некрасова. Приятельница И.Тургенева, жена В.Слепцова, ставшая
позже мачехой известного русского юриста, министра внутренних
дел в царском правительстве и последнего русского посла в Пари­
же В.Маклакова, именно она благословила внука на литературный
труд, напутствовав его грубоватыми словами: «Так пиши! С таким
лбом стыдно не создать себе имени».
457
Детство и юность Суражевского прошли в Москве. Москва
будет неизменно присутствовать в его будущих книгах. Одной из
них он даже даст подзаголовок «Московские повести».
Учился юноша в Третьей московской гимназии на углу Лу­
бянки и Фуркасовского переулка, довольно часто посещая вече­
ра женской гимназии Шписса в здании бывшего страхового об­
щества «Россия», ставшего затем внутренней тюрьмой ГПУ.
Будущий писатель принимал самое активное участие в бур­
ной культурной жизни Москвы 20-х годов: играл в театре и
ходил по контрамаркам на самые знаменитые спектакли; сочи­
нял пьесы; увлекался художественным чтением (декламацией)
и даже заслужил одобрение самой О.Книппер-Чеховой. Судь­
ба сводила его с В.Маяковским и С.Есениным, с АЛуначарским, Н.Крупской и сестрой В.Ленина — А.Елизаровой-Ульяновой.
В 1930 году Л.Д.Суражевский закончил литературно-лингвис­
тическое отделение Московского педагогического института име­
ни В.И.Ленина. В 1932 году он вместе с двумя другими молоды­
ми учеными публикует учебник «Русского языка», а чуть позже
становится аспирантом МГПИ. Среди его учителей был и акаде­
мик В.В.Виноградов, уже тогда травимый бездарями (отзвуки
институтских баталий зазвучат в «Сентиментальной повести»
Ржевского 1954 года).
По словам писателя, «воспоминания о тридцатых годах (об
общем и личном)» у него «самые мрачные». Семейная жизнь не
удалась, а «добывание средств к жизни требовало огромного на­
пряжения сил. Случались дни, когда у меня бывало по двенадца­
ти лекций». Кроме лекций (вузовских и публичных) молодой
ученый подрабатывал рецензиями в Гослитиздате, а по ночам
писал кандидатскую диссертацию о языке комедии Грибоедова
«Горе от ума». 28 июня 1941 года он защитил диссертацию, а уже
1 июля ушел на фронт в звании лейтенанта.
На фронте был сначала переводчиком, затем — помощником
начальника разведки дивизии. Выводя из окружения автоколон­
ну дивизии, попал на мину и очнулся уже в немецком плену.
1941-1942 годы провел в лагерях для военнопленных, где по­
лучил язву желудка и туберкулез. В 1943 году ему предложили
работать с учителями русских школ под Смоленском: немцы хо­
тели снова открыть народные школы. Это было спасение, и плен­
ный согласился. Но темы выбирал исключительно общеметоди­
ческие: «Как прорабатывать книгу», «Как готовиться к докладу».
Впрочем, и эта деятельность длилась недолго: в конце 1944 года
туберкулез обострился, пропал голос. Чудом удалось попасть на
лечение в Германию. Сначала в Дрезден (как раз, когда город
458
бомбили американцы), затем в больницу недалеко от Мюнхена.
Несмотря на приговор врачей о двух-трех неделях жизни, боль­
ной выжил. Как он сам считает, этому способствовала разыскав­
шая его вторая жена Агния Сергеевна Шишкова (ставшая ему
другом, помощником и опорой на всю оставшуюся жизнь). Час­
тично эти события легли в основу повести «...показавшему нам
свет» (1960).
До 1950 года супруги живут в Германии, перебиваясь самой
различной работой, в том числе и литературной (статьи о языке,
обзоры советской литературы).
В 1949 году в «Гранях» была опубликована первая повесть
Ржевского «Девушка из бункера», позднее отредактированная им
и переименованная в «Между двух звезд». Его лингвистическую
работу «Язык и тоталитаризм» (1951) публикует Мюнхенский
институт по изучению СССР. С 1950 года Ржевский сотрудник
литературно-художественного журнала «Грани», а с 1952-го —
его главный редактор.
В 50-е годы состоялось знакомство писателя с русским ли­
тературным Парижем, где еще жили писатели первой волны
русской эмиграции. Ржевский понравился самому И.Бунину,
известному своей строгой оценкой окружающих и трудно схо­
дившемуся с людьми. Состоялось знакомство с Б.Зайцевым,
А.Ремизовым, МАлдановым, ГАдамовичем, Тэффи, В.Макла­
ковым.
С 1953 по 1963 год писатель-ученый читает лекции по исто­
рии русского языка и русской литературе в Лундском универси­
тете (Швеция). Здесь написаны «Сентиментальная повесть», «Двое
на камне», исследование «Язык и стиль романа Б.Пастернака
«Доктор Живаго» и многие другие лингвистические статьи.
С 1963 года и до своей кончины 13 ноября 1986 года Ржевс­
кий с женой жил в США. Преподавал в Оклахомском и НьюЙорском университетах, присвоивших ему соответственно зва­
ния Почетного доктора и Заслуженного профессора. Здесь им
написаны романы «Две строчки времени» (1976), «Дина» (1979),
«Бунт подсолнечника» (1981) и завершена повесть «Звездопад»
(1963-1983).
Перу Ржевского принадлежат несколько литературоведчес­
ких книг: «Прочтение творческого слова: Литературоведческие
проблемы и анализы» (1970), «Творец и подвиг» об А.Солжени­
цыне и «Три темы по Достоевскому» (обе — 1972), «К вершинам
творческого слова: Литературоведческие статьи и отклики» (1990),
множество статей и рецензий. Предметом его постоянного' науч­
ного интереса были произведения А.Пушкина, Ф.Достоевского,
Л.Толстого, Б.Пастернака, АСолженицына, И.Бабеля. Писал он
459
и о своих современниках: Д.Кленовском, Н.Моршене, В.Синкевич, В.Максимове.
На родине книги Ржевского почти неизвестны. Лишь в
1991 году в журнале «Север» (№ 1-2) был опубликован роман
«Две строчки времени», практически незамеченный критикой.
Тематика произведений Ржевского во многом характерна для
творчества писателей второй волны русской эмиграции.
Начиная с повести «Девушка из бункера», писатель постоян­
но возвращается к теме войны и плена. Страшные картины быта
военнопленных, увиденные главным героем повести Заряжским,
дополняются попавшим к нему в руки дневником некоего Ко­
жевникова: «Недавно прибыла партия из орловского окруже­
ния. Везли их в теплушках и не кормили. Подъезжая к нашему
городу, подвернулась неободранная гречка. Все навалились на
гречку, как была, сырьем. Она в них разбухла и кишки закупо­
рила пробкой. Приехали в лагерь и стали погибать. Человек трис­
та, не то больше. Выползали из бараков, старались опрастаться
— не могли. Ногти в кровь обдирали о снег в потугах. Мы с 3.
сунулись к врачам. 3. агитировал их долго, но без толку...» «В
лагере начали есть человечину. Вырезают у покойников мягкие
части. А вчера ночью в санбараке шестерым вспороли животы и
вытащили печёнку. Видать живьем резали. А печёнку — потому
что торговать ею безопасней, не различишь — чья». Эти страш­
ные сцены генерализируются цифрами: из 2 тысяч пленных только
в одном лагере за зиму умерло 500.
Тема войны звучит в рассказе «Клим и Панночка», отзвуки
войны составляют содержание повести «...показавшему нам свет»
о чудесном выздоровлении бывшего военнопленного Вятича.
Характерно, что во всех этих произведениях появляется тема
Бога. В юности, рассказывает писатель о Заряжском, «Библия,
Евангелие, Апокалипсис показались такими нереальными, то
наивными, то противоречивыми, и всегда туманными, что он
надолго потерял интерес к такого рода чтению». И лишь позже
героя «поразила жертвенная страстность отдельных вер среди
неистовых гонений на свободу человеческого духа. Как-то вне­
запно возникла охота верить, и, снова взяв Евангелие, он вдруг
почувствовал его величественную, покоряющую глубину». В бе­
седах героев повести о России возникает слово « в о с к р е с е ­
ние», выделенное писателем разрядкой.
Вера в Бога помогает Вятичу из повести «...показавшему нам
свет» обрести силы и выжить всем смертям назло. О Боге и бес­
смертии рассуждает герой рассказа «За околицей» Батулин. «Бог
460
и есть гармония», — высказывает заветную мысль писателя ге­
рой-рассказчик из романа «Две строчки времени». (Впрочем,
эта мысль — уже сугубо индивидуальное мнение Ржевского, не
объединяющее его с другими писателями второй волны, а при­
дающая его богоискательству глубоко своеобразный оттенок).
Из повести в повесть переходит так же характерная для пи­
сателей второй волны тема репрессий 20-40-х годов в СССР и
порожденного ими страха. Страх удерживает героя «Сентимен­
тальной повести» выступить в защиту своего учителя талантли­
вого лингвиста. Страх заставляет молодого писателя из повести
«Двое на камне» искажать правду жизни и подменять сцену
ареста отца любимой девушки его болезнью, а свои и ее терза­
ния изображать как проявление недостойной советского чело­
века рефлексии и индивидуализма. Страх за мать и понимание
своей беззащитности толкают героиню повести «Сольфо Миредо», носящую чеховсковское имя Мисюсь, в объятья пьяни­
цы и насильника. Арест родителей возлюбленной и стремление
спасти ее самое толкает рассказчика из «Двух строчек времени»
и рассказа «За околицей» на компромисс с НКВД и своей со­
вестью. (Сам факт настойчивого обращения к этому сюжету —
свидетельство устойчивой памяти писателя.) Боязнь толкает
героиню романа «Дина» на сотрудничество с органами. Страх
за Таню вынуждает героя «Звездопада» пойти на страшную ложь
во спасение.
Присутствуют в книгах Ржевского и тема ностальгии, и изо­
бражение эмиграции. Одни его герои находят в себе силы, тос­
куя по России, все же радоваться жизни. Другие — так и не
находят себя, мечутся и страдают.
Однако эта типологическая общность тематики и характеро­
логии персонажей не лишает произведения писателя глубокой
индивидуальности.
Этому в первую очередь способствует автобиографизм повес­
твования. «Моя творческая проза, — признавался писатель во
вступлении к книге «За околицей», — частенько сплетается с
живым бытием в таком атлетическом рукопожатии, что слышен
хруст пальцев».
Неповторимость книгам Ржевского придает и проходящая
через все творчество писателя тема любви; любви всепоглощаю­
щей и воскрешающей; любви, проходящей через все времена и —
более того — объединяющей разные поколения. Чаще всего
любовь эта несет трагический оттенок (суровое время или жиз­
ненные обстоятельства разлучают возлюбленных), но, как и у
любимого Ржевским И.Бунина, она живет в памяти рассказчика
(все произведения писателя написаны от первого лица), неиз­
461
бежно побеждая разрушение личности или даже воскрешая к
жизни не только рассказчика, но и описываемых им людей, в
том числе еще в недавнем прошлом циников и сластолюбцев
(тот же Батулин из рассказа «За околицей»; Пьер из повести «Звез­
допад»).
Ржевский любит сопрягать времена. Название его повести
«Две строчки времени» отражает композиционное построение
многих его вещей: действие разворачивается в настоящем, а про­
шлое всплывает в сознании героев, рассказывается во вставных
новеллах (мемуарах героя, воспоминаниях других персонажей,
фрагментах чьих-то дневников, письмах).
Наиболее характерными для раннего творчества писателя
являются «Сентиментальная повесть» и «Двое на камне».
Уже начало первой из них проникнуто щемящей ностальгией
по давно ушедшему времени: «Эту повесть я начал в Москве!
Москва! Когда, зажмурившись, произношу я это имя, я слышу
московский воздух. Один мой друг и земляк, объехавший мир,
уверял, что любую столицу узнает с закрытыми глазами, если
высадят его в ней, скажем, с самолета. По запаху. Воздух Моск­
вы, говорил он, необыкновенно тонко пахнет свежераспплен­
ным деревом и юфтью. По веснам — сиренью и юфтью. Пахнет
чисто, свежо, как ни в одном другом из городов — громадин
мира. Не знаю, прав ли он в отношении других городов, но
именно такой воздух вдыхаю я, вспоминая Москву. И вижу ее —
Москву того времени, когда начинал писать эту повесть. Была
эта Москва майская, предвоенная. То есть, значит, почти совсем
безночная, когда на поздних вечеринках последняя бутылка ка­
берне распивалась под шепот (чтобы не вышло скандала с сосе­
дями), а кофе за ней подавали уже — при сиреневой щели в
гардине, в раскрытую форточку вываливался дым и втекала не­
жная россыпь приглушенных утренней сыростью звонков пер­
вого трамвая. Потом гости уходили. И, замечал я, если они охот­
но уходили гурьбой в другое время года, — в эти весенние зори
уходили непременно поодиночке: каждому хотелось надышать­
ся московским рассветом вдосталь, без разговоров и суеты. И я
уходил один и вбирал в себя рассвет, его сиреневую свежесть,
его тающую сизость, шипенье заспанного еще дворницкого
брандспойта, шорохи растекавшейся по тротуару водяной струи
и мчащихся в стороны водяных капель, закутавшихся в пыль и
песчинки, липкий трепет и причмокивание попавших под струю
недавно высаженных вдоль тротуаров липок. А воздух! воздух!
Он срывался со всех семи московских холмов, лился в проку­
ренное горло вдохновительно пестрый и пьяный, как коктейль:
с Кремлевского — прохладный, торжественно-бронзовый, от
462
Нескучного — березовый, от взлетающих над рекою мостов —
влажно-рыбный с зеленой гранитной плесенью...»
Герой-рассказчик вспоминает историю своей молодости, лю­
бовь к студентке-максималистке Жене, порвавшей с ним после
того, как он вопреки ожиданиям девушки не выступил в защиту
справедливости, да еще и придумал множество оправданий сво­
ему малодушию.
Выразительно, по-бунински точно, описана сцена их объяс­
нения, в которой девушка готова облегчить любимому покая­
ние, а он тупо продолжает настаивать на своей правоте:
«Я хотел вам неприменно изложить свою позицию...
— Какую... позицию? — спросила она, глядя теперь уже не в
сторону, а вниз, на свои тапочки — резиновые, с желтой полос­
кой спортивные тапочки, надетые на босу ногу. Как они напря­
жены были, эти тапочки! Особенно — одна, под круто выкруглившимся, с голубой жилкой подъемом, растиравшая носком
песок — мелкими, упрямыми полукружьями-толчками: раз, дру­
гой, еще... До чего запечатлелись они в памяти, эти тапочки,
ожидающие, что я скажу.
— Позицию в этой истории Радова. Тогда, на совещании...
— Не стоит об этом сейчас...
— Почему? Я целую повесть задумал. На этот сюжет. Обяза­
тельно хочу показать вам понагляднее, почему я был прав.
Трудившаяся на песке тапочка стала вдруг на всю ступню,
застыла.
— Прав? — переспросила Женя. — Вы был прав?
Откуда взялось у нее это нелепое единственное число? И от­
куда у меня, хоть я чувствовал, что решается что-то главное, —
откуда у меня достало холодного внимания, чтобы отметить про
себя эту ее ошибку? Спрашивая, Женя взглянула мне в глаза, и
теперь не ожидание было в них или неловкость, а почти отчуж­
дение. — Глаза в глаза, — и я первый отвел свои.»
Все последующие годы, в том числе на фронте и в плену,
герой-рассказчик «сентиментально» вспоминал Женю и свое раз­
рушенное счастье, все более и более упрекая себя за предатель­
ство и сочиняя различные счастливые концы этой истории. То
он встречал Женю в Большом театре и там, на «Травиате», при­
ходило счастье взаимопонимания; то их поезда встречались под
Наро-Фоминском: она возвращалась в Москву, он — ехал на
фронт — и за несколько минут обретал «якорек» для дальнейшей
жизни. В реальности была только телеграмма на фронт от сест­
ры рассказчика; телеграмма, в расплывшихся буквах которой
«Была ...ня ...луем» рассказчику хотелось прочитать: «Была Женя.
Целуем».
463
Повесть заканчивается сентиментальным оправданием иллю­
зии: «Верить в то, что те т а м , кого мы любили, живы еще и
помнят о нас, даже ж д у т — иллюзия. Но так — легче.
Милая Женя, я дописал эту повесть для тебя!»
Гораздо трагичнее судьба главного персонажа повести «Двое
на камне». Молодой талантливый литератор Саша Лишин в уго­
ду нормативам социалистического реализма «удушил личный
мотив» и вместо подлинной драматической истории своей люб­
ви к прекрасной энергичной девушке Вике («капитану», как он
ее зовет), создал рассказ «Не в одиночестве», где Вика, переиме­
нованная в Веру, толкует индивидуалисту-герою Алексею о пользе
работы простым учителем, «затем Алексей, как на крыльях, уже
почти исцеленный от опасного индивидуализма, возвращается в
Москву, дает комсоргу соцобязательство провести на «отлично»
пробный урок и сделать доклад «Горький и интеллигенция» — в
кружке по изучению марксизма-ленинизма». Переживания де­
вушки, связанные с арестом ее отца, юный писатель заменил
мелодраматичным повествованием о тяжелой болезни старика,
о подвигах врачей, его спасших, и всеобщем ликовании по это­
му поводу.
Много лет спустя волей судьбы автор рассказа «Не в одино­
честве» оказался на Западе и незадолго перед смертью переделал
свой прежний рассказ в трагическую историю «Двое на камне»,
куски («звенья») которой, как и первого варианта, Ржевский вклю­
чает в текст повести.
По сравнению с предыдущей повестью в «Двоих на камне»
усложняется структура повествования: усиливается роль рассказ­
чика, тоже писателя. Именно он связывает два времени — про­
шлое и настоящее; ему принадлежат оценки творений Лишина;
он дает подлинную картину того далекого времени и, как и в
«Сентиментальной повести», завершает повесть лирико-элеги­
ческими размышлениями о сути жизни: «Теперь, когда все улег­
лось, когда не за горами уже то единственное, чего миновать не
может никто, — стало как-то яснее, что проходить мимо, увы! и
значит, собственно, жить...»
Тема преобразующей любви составляет содержание рассказа
«Рябиновые четки» (1958) и поздней повести «Дина» (1979).
В экспозиции рассказа настойчиво создается портрет нека­
зистой девушки, по сути дела лишенной всего женского: «Эту
Ульрику, воспитанницу нашей хозяйки, мы воспринимали, глав­
ным образом, как шум: счесть немыслимо, сколько раз на дню
оттопывала она вверх-вниз по нашей скрипучей лестнице кожемитовыми от вечной босоногости пятками. Должно быть, из-за
этого грохота мы с женой ощущали и видели Ульрику, начиная
464
именно с ее шумных подростковых ног, нескладно-тонких, словно
перевязанных узлами в коленках, с острыми, в синяках, лодыга­
ми, цеплявшими одна за другую на ходу. Оно, если смотреть и
выше, не было ничего складного: одни узости и впалости и блед­
ное вытянутое личико с принудительной улыбкой на тонких гу­
бах; были, впрочем, густые, словно наклеенные, ресницы над
диковато потупленным взглядом и толстые косы, маячившие,
когда она бегала».
Писатель развивает этот портрет, используя емкие сравнения
(в эмигрантской критике не раз указывалось, что Ржевский —
мастер портрета): Ульрика, идущая в воскресные дни в церковь,
похожа на «церковную брошюрку в темной обложке»; Ульрика,
загорающая под рябиной, напоминает «компасную стрелку, вер­
тящуюся по движению солнца».
И вдруг однажды рассказчик и его жена увидели иную Уль­
рику. Нанизанные на нитку ягоды легли ожерельем ей на шею,
кисточки рябины стали серьгами, а лицо ее сияло радостью. «Ни­
чего от былой угловатости, колючести плеч и движений! Какой
ювелир и когда отшлифовал вдруг эту девчонку, сыскал неожи­
данные пропорции, где подточил, где прибавил овала, глазури,
свечения». Взрыв красок, пишет Ржевский, был «неповторим,
как рождение, как запах лопнувшей почки, развертывающейся в
листок, а радость принадлежала сюда же».
«Повод» для этой метаморфозы «звался Альбертом». И хотя,
по описанию рассказчика, не было в этом батрачонке «с ломким
баском и застенчивой косолапостью» ничего особенного, для
Ульрики это была первая и великая любовь, «первое цветение».
После первого свидания с юношей «в горячем, искаженном лице,
смотревшем мимо, в закат, ни следа не осталось от прежних
бледномочных черт. Оно казалось прелестным, несмотря на искаженность, светилось непонятной какой-то силой и радостью,
несмотря на мокрые ресницы, а растекшиеся от слез губы были
похожи на слово «целую» в конце письма, неосторожно промокнутое промокашкой...»
Чувство любви, по Ржевскому, не знает возрастного предела.
Ему все возрасты покорны. Пожилой художник, герой романа
«Дина», ощущает прилив творческих и физических сил, встре­
тившись с молоденькой русской эмигранткой Диной. Его не ос­
танавливает ни разница в возрасте, ни ее замужество, ни увере­
ния друзей в том, что она осведомитель КГБ (что, кстати, оказы­
вается правдой). Впрочем, и ее перерастающее в любовь обще­
ние с духовно богатым человеком, каким является рассказчик —
художник Пьер — Петр Петрович; ее знакомство со священни­
ком о.Андреем, сестрой рассказчика Моб и ее другом Буровым,
465
смешными в своей «зацикленности» на шпиономании, но в це­
лом добрыми и хорошими людьми, воскрешает Дину к новой
жизни. Как говорит Моб, «радиация добра оказалась сильнее
радиации ненависти».
Как это часто бывает в финалах произведений Ржевского,
герои расстаются. Может быть, ненадолго, может быть — на­
всегда. Но в сознании рассказчика последняя встреча с воскрес­
шей к новой жизни Диной становится сакральной. Минуты мол­
чания рассказчик воспринимает как разговор, но не друг с дру­
гом, «а с неким — Третьим, в руках которого триптих времени,
наше вчера, сегодня и завтра. Они невероятно и непредвиденно
вдруг смыкаются, зажигая вокруг проникновенный свет, в кото­
ром значительны одни только непроизнесенные слова, а прочие,
какими все-таки обмениваемся, не нужны и ничтожны».
Встреча времен и вечность чувств составляют и содержание
романа «Две строчки времени» (1976).
Сюжет романа составляет встреча рассказчика бывшего мос­
квича, интеллигента, а ныне эмигранта с современной полурус­
ской девятнадцатилетней девушкой Ией Шор, имя которой на­
вевает герою воспоминания о другой Ие (дома ее знали Ютой)
из его юности. В роман включены главы из мемуаров рассказчи­
ка о довоенной жизни в России. Как это часто бывает у Ржев­
ского, в романе развивается не только мысль писателя о том, что
«за вещным устройством жизни стоит сам человек», высказан­
ная им в предыдущей книге (повести «...показавшему нам свет»),
но и буквально воспроизводится, расширяясь, сцена из этой по­
вести о чаепитии с блюдечка в доме Юты, о прелести и чистоте
отношений мирного дома, нарушенных арестом родителей де­
вушки. Во имя спасения самой Юты герой должен идти на нрав­
ственный компромисс, писать в НКВД, что девушка не чета сво­
им старорежимным родителям, что она, «выросшая в благотвор­
ных условиях советской школы, является здоровым и сознатель­
ным членом нашего советского общества, нашей молодежи».
Рассказ о целомудренности Юты-Ии, единственную ночь
проведшую с любимым и сдержавшей данное матери перед арес­
том слово «не стать любовницей, но только женой», а позднее
изнасилованной и зараженной сифилисом в лагере, куда она всетаки попала, вызывает сначала непонимание, а затем произво­
дит нравственный переворот в душе слегка циничной и живу­
щей сексуально свободной жизнью американской тезки Ии.
Впрочем, по ходу развития сюжета выясняется, что и путь
современной девушки не устлан розами. Иные, но тоже суровые
жизненные испытания подстерегают современную молодежь, чем
и вызван ее нигилизм, самоуверенность, идущая от растерян­
466
ности. Приятельница рассказчика Моб (книги Ржевского — еди­
ный художественный мир, герои переходят из повести в по­
весть, из романа в роман: Моб, ее брат Пьер, эстет Сергей Сер­
геевич, знакомые читателю по роману «Дина», действуют и в
«Двух строчках времени», Пьер появляется в последнем произ­
ведении писателя — повести «Звездопад») говорит об Ие: «Заме­
чательная натура, одареннейшая, но — тот же (что у Раскольни­
кова — В.А.) надлом души! В четырнадцать лет ее обесчестил
один мерзавец, и эта личная травма как-то переплелась в ней с
их теперешним отрицанием, желанием разрушить все решитель­
но Домострой, с эмансипацией, ну с этой, как у Раскольникова,
крайностью самоутверждения... Она умна, красива, умеет под­
чинять себе многих и хочет быть всех впереди, а экстремизм у
нее в крови...»
Между пожилым писателем и Ией возникает на какое-то время
взаимопонимание и любовь, описанная по-бунински эротично и
вместе с тем благородно: «Что-то околдовало меня. Я бродил
губами по раскаленному телу, вонзал их в шелковистую плыву­
честь живота, в бархатистую влажность под упругой щекотью волос
и — медлил, задыхаясь, медлил оторваться для нового вздоха и
нового касания». Рассказчик сравнивает их любовный порыв с
хрустом, вкусом, глотком яблока, дающими «жизнь, жизнь,
жизнь».
Ия, еще вчера считавшая мораль предрассудком старого писа­
теля, отрицавшая «старомодную» классическую музыку, к финалу
Шестой симфонии «включается почти целиком в эту почти мис­
тическую мозаику звуков — я вижу, как поводит ее кряду не­
сколько раз в такт скрипичным пронзительным взлетам и отжи­
мает краску со щек. «Страшно! — говорит она полушепотом. — И
знаете: это словно обо мне!..»
В финале романа Ия вновь испытывает неудовлетворенность
жизнью и исчезает. Любовь и ответственность за ее судьбу гонит
рассказчика на ее поиски. «В любом многолюдье — в театре или
кино, в уличном спертом потоке, в подземке либо в автобусе —
шарю глазами по лицам с нелепым уж почти бездыханным упо­
ением: а вдруг! Как где-то в чьих-то стихах:
Ищу на тебя похожих —
И нет на тебя похожих...»
Финал романа — типичный для прозы Ржевского. После оче­
редной неудачной попытки обнаружить девушку герой испыты­
вает физическую боль:
« — Господи! — повторял я снова. — Что же это было? Что?.,
неужели не суждено мне дознаться обо всем до конца?
Или это и был — конец?..»
467
Очевидно, что речь идет не только об Ие, но о жизни, о
вечной ее тайне, о невозможности существования без любви и о
силе самой любви.
Роман «Две строчки времени» с образом мятущейся героини
лишь завершает галерею русских персонажей писателя, порой
мучительно, порой трагикомично ищущих и не находящих свое
место в жизни. Тема эта развивается в рассказах «Полдюжины
талантов» (1958), «Через пролив» (1961), «Малиновое варенье»,
в повести «Паренек из Москвы» (1957) и романе «Бунт подсол­
нечника» (1981).
Вслед за Ф.Достоевским писатель показывает противоречи­
вость человеческой личности, рисует мятущиеся характеры рус­
ских людей в эмиграции.
Тщетно уверяет себя герой рассказа «Полдюжины талантов»,
успевший побывать и художником, и актером, и химиком, и сту­
дентом филфака, и лектором, что теперь, став просто Теодором
Шустером и мужем молодой женщины Эрики (Кикиморки, как
характеризует ее автор), он обрел главный талант: «гармонически
жить». В возлюбленной для пожилого эмигранта «слились воеди­
но разум, воля, энергия, привязанность, женственность». В страс­
тном монологе Шустер уверяет, что ему удалось «расширить», «ос­
тановить» время, избавиться от суеты и стать созерцателем.
«Монолог звучал живо, что и говорить, — замечает рассказ­
чик. — Но, странным образом, несмотря на патетику, снова ощу­
щал я в нем какую-то трещину, делавшую его больше разгово­
ром с самим собой, вслух...»
В финале повествования сомнения рассказчика находят под­
тверждение: Шустер, брошенный Кикиморкой, покинул свой
уютный домик, и ему вновь предстоят духовные поиски. Верный
себе, писатель заканчивает рассказ на неопределенной ноте,
философским раздумьем:
«...не состоялось продолжение разговора об «укрощении вре­
мени» и «таланте гармонически жить». На самом деле чувствовал
он в себе этот талант или только примыслил? — думал я, возвра­
щаясь к купальням. Где-то у Горького: люди, искавшие подо льдом
утонувшего мальчика, начинают вдруг сомневаться: «Да был ли
мальчик? Может мальчика-то и не было?» Не так ли и тут?.. А
вера в Кикиморку и гармоническое начало в ней была у него на
самом деле? Любовь, кажется, была, и потому, когда я, бывало,
вспоминал их обоих, такая жестокая развязка ни разу не прихо­
дила мне в голову. Где теперь станет искать он замену?...
Пошел дождь...»
Вполне возможно, что это и спор автора с самим собой: мо­
жет ли русский человек обрести гармонию? Не случайно Ржевс­
468
кий вернется к шустеровским утверждениям, теперь уже от лица
основного рассказчика, в романе «Две строчки времени».
Большинству героев писателя это не удается, и, неудовлетво­
ренные, они бросаются в поиск (подобно Биму из рассказа «Ма­
линовое варенье» и Андрею из новеллы «Полукрылый ангел»)
или становятся угрюмыми анахоретами. Именно такова судьба
ученого-литературоведа из рассказа «Через пролив», эмигранта,
чьи блистательные лекции по русской литературе слушают дватри чудака. Все это в совокупности с неудачной семейной жизнью
(женитьба на иностранке, далекой от нравственных поисков мужа
и ставшей затем инвалидом, что не позволяет совестливому ге­
рою бросить ее) приводит к трагедии одиночества.
В этом рассказе Ржевский использует характерный для него
прием палимпсеста (переклички с другим литературным произ­
ведением, его переосмысления)*. Более того, двойного палим­
псеста. Цитаты из «Доктора Живаго», приводимые на лекции и
включенные в рассказ, говорят «о теме трагедии человеческой
души в обстановке тяжкого бытийного катаклизма», тем самым
характеризуя и собственную трагедию лектора. Вместе с тем вни­
мательный читатель заметит, что в отличие от Живаго герой
Ржевского потерял нравственный стержень. Это подчеркивается
введением второго палимпсеста. Рассказчик обнаруживает на
полке у героя повесть Л.Толстого «Люцерн» о непонятом обыва­
телями музыканте. Однако тут же показывает и разницу между
персонажами своего и толстовского произведений. Герой Ржев­
ского не захотел увидеть в одной из своих слушательниц едино­
мышленницу, равнодушно прошел мимо человека.
То, чего часто не хватает объективизированным персонажам
Ржевского, в избытке у рассказчика. Именно это обстоятельство
позволяет говорить не о служебной, а о функциональной роли
повествователя, предельно сближенного с автором.
Носящий разные имена (кажется, только в «Климе и Пан­
ночке» рассказчика зовут Леонидом), повествователь в книгах
Ржевского является одновременно и активным действующим
лицом.
* Л итературное образование н алож ило особ ы й о ттен о к и н те л л и ге н ­
тности н а все п рои звед ен и я писателя. Р ж евски й охотно и сп о л ьзу ет э п и г ­
раф ы (цитаты и з О видия, А .П уш кина и К .Б атю ш кова, И .Б у н и н а и М .В о ­
л о ш и н а, и з соврем енны х авторов). Е го п ерсонаж и часто всп о м и н аю т те
и ли ин ы е п р о и зв е д е н и я русской к л а сс и ч е ск о й литер ату р ы . В тексты
вводятся скры ты е или п рям ы е цитаты , в том числе п о эти ч ески е. И н о г­
д а стихи п ринадлеж ат сам ом у писателю , чаш е — други м авторам . П р и
этом щ еп ети л ьн ость литературоведа заставл яет Р ж ев ск о го в с я к и й р аз
указы вать автора тех ил и ины х строк.
469
В поздней прозе писателя это «задумчивый старикан» (такое
название носит завершающий книгу «За околицей» рассказ),
философ-созерцатель, с высоты прожитой жизни и перед лицом
мудрой старости (постоянная тема последних произведений
Ржевского) чувствующий ответственность за судьбу окружаю­
щих его людей и — шире — за судьбу будущего.
Именно он в отличие от друга-филолога увидел в посетив­
шей лекцию девушке «энтузиаста неведомой родины и всего рус­
ского, известного лишь понаслышке и зароненного в душу» («Че­
рез пролив»). Именно он пожалел одинокого паренька, брошен­
ного своей спутницей, и, введя в ткань повествования сказоч­
ный рассказ о старом и уродливом кактусе и кокетливой каме­
лии, придал этой истории философский смысл (рассказ «В би­
нокль»). Именно рассказчик неравнодушен к поколению «волосатиков»-нигилистов XX века и в то же время страдает за сло­
манную жизнь своих сверстников (рассказ «Задумчивый стари­
кан», романы).
В прозе Ржевского последних лет рассказчик все чаще не­
посредственно обращается к читателю, вводит его в тайны писа­
тельского мастерства, рассуждает (но не морализирует), отвлека­
ется, использует притчевое повествование. При этом писатель
склонен гармонизировать жизнь, принимать ее сложность и не­
однозначность. В статье о А.Чехове Ржевский писал: «Мироощу­
щение Чехова было удивительно синтетично, целостно и гармо­
нично в самом себе, то есть ... он чувствовал сложную противо­
речивость жизни, слиянность в ней до нерасчленимости светло­
го и мрачного, улыбки и отчаяния, блаженства и смертного горя;
и этот синкретизм мироощущения — главное в поэтике Чехова».
Эта оценка может быть полностью отнесена и к самому Ржев­
скому.
Единственное, чего не может принять писатель и соответ­
ственно его повествователь, — нравственный цинизм. Никакие
таланты и никакой ум не оправдывают в его глазах «Паренька из
Москвы», во имя карьеры пожертвовавшего своими друзьями и
живущего двойным миропониманием: одно — трезвое (в разго­
ворах со старым эмигрантом за границей), другое — лицемерно­
фанатичное и деляческое (на родине и при возвращении туда из
загранкомандировки).
Будучи лингвистом по образованию, филологом по призва­
нию, Ржевский большое внимание уделял языку своих произве­
дений.
Выше уже говорилось о его мастерстве в создании портретов
персонажей. Не менее емки и выразительны его беглые характе­
ристики, замеченные детали: «пастор, приехавший хоронить на
470
мотоцикле»; «собачонка, похожая на выкусанный початок»; «учи­
тельницы, увядшие от педагогики, но все еще алчно, как промо­
кашка, впитывающие в себя разные бесполезные знания»; «бледнонемочные черты», «сиротская колючесть лодыжек»; «говорил
он много, гудя вполголоса»; «дверь, чмокнув клеенчатой кром­
кой, открылась»; «клеенка на двери полопалась и сопрела; в про­
рехи ползли клочья ваты; было похоже на перевязку, забытую
уже на безжизненном теле».
Не менее выразительны и пейзажные зарисовки писателя:
«Околица была в ветре и листе — звонком, желтом, широколо­
пастном — с каштанов, и мелкоузорчатом — от какой-то пови­
тели по стенам, похожей на пенки с вишневого варенья»; скину­
тое деревьями «листвяное богатство грудилось в кюветах сугро­
бами, пузырящимися на ветру, как желтая пена»; «одуванчики
взрывались летучей щекотной картечью под взмахи альпийско­
го ветра»; в конце февраля снег «лежит с предсмертно-серым
конопатым лицом, раздумывая, вероятно, о превратностях судь­
бы», у кактуса были «как подагрой раздутые бугры, морщины и
колючки».
Пользуясь в основном московским литературным языком,
Ржевский умеет по мере необходимости включать в повествова­
ние народные словечки и выражения: «растеплев»; «загорячело в
груди»; «утекать» из памяти; «вычинить» белье; «быт, припаяв­
ший к месту».
Среди излюбленных писателем слов-лейтмотивов — «звез­
ды» (не случайно свою последнюю повесть он назвал «Звездо­
пад»), «фэн» (теплый сухой ветер в горной стране) и «пока». Два
первых несут символическое значение счастья, вечности, обре­
тенной гармонии. Последнее служит знаком неустойчивости бы­
тия. Герои разных поизведений произносят его как кратковре­
менное прощание («до завтра»), не подозревая, что рок может
разлучить их на годы или навечно.
АННОТИРОВАННЫЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рж евский Л . М еж ду двух звезд. — N ew York: и эд -во им . Ч ехова, 1953.
Д о п о л н ен н о е и п ерераб отанное изд ан и е повести «Д евуш ка и з б у н ­
кера» («Грани». — 1950, № 8,9; 1951, № 11). П ервое кр у п н о е п р о и звед е­
ни е писателя о плене, трагедии войны и драм атическом п о л о ж ен и и п атр и ­
ота между советским тоталитаризм ом и н ем цам и.
Рж евский Л . ...показавш ему нам свет (оптимистическая повесть). —
Frankfurt am M ain: Possev-V erlag, 1960.
С о ц и ал ьн ая идея п овести вы раж ена в ее тексте в о п р ед ел ен и и ж а н ­
ра: «Х роника н аш и х д н е й о двух п яти кон еч н ы х звездах, белой и к р а с ­
ной, между которы м и мятутся тысячи трагических судеб». П о словам Р ж ев­
477
ского, в нее вош ло «кое-что автобиографическое и з переживаний той поры»,
н о «только «кое-что» («Про себя самого»). Л ейтм отивом повести проходит
тем а всеп оглощ аю щ ей лю бви к ж е н щ и н е и к ж и зн и .
Рж евский Л . Д ве строчки времени: Р ом ан. F rankfurt am M ain: PossevVerlag, 1976.
П ер вы й ром ан писателя. См. ан ал и з в тексте главы.
Рж евский Л . Д ина (Записки худож ника): Р ом ан. — Н ью -Й о р к: Н о ­
вое русское слово.
С м . ан ал и з в тексте главы.
Рж евский Л .Буиг подсолнечника (ром ан) — А нн Арбор: Э рм итаж , 1981.
М н о го сю ж етн о е п овеств о ван и е и з 17 глав, соед и н яю щ и х р азн ы е
вр ем ен а и отличаю щ ихся весьм а слож н ой худож ественной ф орм ой: н ар я­
ду со вставны м и главам и «Тамбола» (ром ан н ек оего С ергея С ергеевича —
п о сто ян н о го п ерсонаж а к н и г Рж евского) вводится повесть соврем ен н ого
ю н о ш и Д и м ы (П одсолнечника) «Кеш а» (о его лю бви к ф абри чн ой девуш ­
к е, н о ся щ ей это им я) — палим псест «Б едной Л изы » Н .К ар ам зи н а.
Х арактеры основны х п ерсонаж ей отличаю тся услож ненностью , склон ­
н остью к р еф лекси и и н ап р я ж ен н ы м н р авствен н ы м поиском .
Рж евский Л . Звездопад: М осковские повести. — А нн Арбор: Э р м и ­
таж , 1984.
В к н и гу вош ли ш есть повестей п исателя, опубли кован н ы х, за и с­
к л ю ч ен и ем откры ваю щ его сб о р н и к «Звездопада» (1963-1983), в п ер и о ­
д и ч ес к о й печати: «П аренек и з М осквы » (1957), «С енти м ен тальн ая п о ­
весть» (1954), «Двое н а камне» (1956), «К лим и П анночка» (1977) и «Сол ьф а М иредо» (1968).
Рж евский Л З а околицей: Р ассказы разных лет. — А нн Арбор: Э р м и ­
таж , 1987. — 178 с.
П о с м е р т н о е и з д а н и е о с у щ е с т в л е н о в д о в о й и д р у го м п и с а т е л я
А .С .Р ж евск о й . К н и га вклю чает в себя автоб иограф и ю п и сателя «П ро
себя самого» (1962) и 8 рассказов, часть и з которы х публикуется вп ер ­
вые: «М алиновое варенье», «Через пролив», «П олукры лы й ангел», «За о ко ­
л и ц ей » , «П олдю ж ины талантов», «Р яби н овы е четки», «В бинокль», «За­
дум чи вы й старикан».
Рж евский Л П рочтение творческого слова: Литературоведческие про­
блемы и анализы. — N ew York U niversity Press, 1970.
Р ж ев ск и й Л. в 1963-1964 годы бы л п р о ф ессором ун иверситета О кл а­
хом ы (Н о р м ан ), с 1964 — п роф ессором русской литературы Н ь ю -Й о р к ­
ского университета.
Н аряду с теоретической статьей «П рочтение творческого слова» кн и га
содерж и т работы : «Бабель-стилист» (с. 61-82), «Р ом ан «Доктор Ж иваго»
Б .П астер н ака. «Смысл и замысел» (с. 83-193), «П илатов грех (о тай н о п и си
в р о м ан е М .Булгакова «М астер и М аргарита»)» (с. 193-218), «Творческое
слово С олж еницы на» (с. 219-236), «О браз рассказчи ка в повести А .С олж е­
н и ц ы н а «О дин ден ь И ван а Д енисовича» (с. 237-252) и «О творчестве Б ел ­
л ы А хмадуллиной» (с. 253-275).
Рж евский Л . К вершинам творческого слова: Литературоведческие статьи
и отклики. П редисл. Е .Э ткинда «Б лагородство объединителя». — N orvich
U niversity Press, 1990.
П ервы й раздел «Век девятнадцаты й» вклю чает в себя работы о А .П уш ­
472
к и н е, Ф Д о с то ев ск о м (особенно спорна «М отив ж алости в п о эти к е Д о сто ­
евского»), Л .Т олстом и А Л е х о ве («Творческое ж и зн еощ у щ ен и е Чехова»).
Раздел «С оврем енность» повторяет во м ногом первую кн и гу (статьи о
И .Б аб еле, Б .П астер н ак е, М .Булгакове). О собы й и нтерес представляю т
статьи «О п о эзи и И ван а Елагина» (с.212-230), «П оследн и й акм еи ст. О
творчестве Д м итрия Кленовского» (с. 231-237). Разбираю тся к н и ги В .С и н кеви ч («Ц ветенье трав»), В .М аксим ова («П рощ ание из ниоткуда»), А .С е­
ды х («К ры м ские рассказы »). О тдельная статья п освящ ен а прозе Р.Гуля.
И м еется сп и со к к н и г и статей Л. Ржевского.
Д ан ал ф ави тн ы й указатель им ен.
Гуль Р . Л .Рж евский. «М ежду двух звезд». Р ец ен зи я. — Н о вы й ж у р ­
нал. - 1953. - № 4.
Гуль Р. Л .Рж евский. «П оказавш ему нам свет». Р ец ен зи я. — Н о вы й
журнал. — 1961. — № 65.
Крыжицкий С. Л .Рж евский. «Две строчки времени» Р ец ен зи я. — Н о ­
вы й журнал. — 1978. — № 130.
Р ец ен зи и н а к н и ги писателя содерж ат и общ ие характер и сти ки тв о р ­
чества Л. Рж евского.
«ПЛЕМ Я МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМ ОЕ...»
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИТЕРАТУРЕ
ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Третья волна эмиграции существенно отличалась от двух пер­
вых тем, что ее представители (за крайне редким исключением)
родились уже в годы советской власти, их детство и юность про­
шли в условиях так называемого социалистического общества со
всеми его достоинствами (а их нельзя отрицать) и всеми порока­
ми. Большинство будущих эмигрантов были свидетелями побе­
ды советского народа над мировым фашизмом, испытали гор­
дость за свою страну и боль утрат. Многих из них коснулись
сталинские репрессии.
Они с надеждой встретили XX съезд КПСС, развенчавший
культ личности Сталина, и последовавшую за ним хрущевскую
«оттепель».
Именно в годы «оттепели» начали писать и сложились те, кто
составил костяк третьей волны эмиграции. Исключение состав­
ляет лишь Виктор Некрасов, повесть которого «В окопах Ста­
линграда» была написана сразу после Великой Отечественной
войны.
На первых порах ни о какой эмиграции никто не помышлял.
Да, пожалуй, кроме А.Солженицына никто и не собирался ни­
звергать советское общество. Поколение «шестидесятников» свято
верило в ленинскую правоту, или, как тогда говорили, «ленинс­
кие нормы партийной и государственной жизни», якобы иска­
женные И.Сталиным.
В произведениях остававшихся до конца советскими писате­
474
лей и будущих эмигрантов равно утверждалась идея самоцен­
ности человеческой жизни («Судьба человека» М. Шолохова, по­
вести В.Аксенова, Г.Бакланова, В.Белова, Ю.Бондарева, В.Бы­
кова, В.Васильева, А.Солженицына, рассказы В.Шукшина, СДовлатова), нерушимость нравственных ценностей (Ф.Абрамов, В.Астафьев, Г.Владимов, Ф.Горенштейн, П.Нилин, В.Распутин,
В.Тендряков, Ю.Трифонов). Писатели бесстрашно и искренне
пытались разобраться в недавнем прошлом, предостеречь от его
повторения (С.Залыгин, КХимонов, А.Солженицын, Г.Влади­
мов, В.Максимов, В.Шаламов и многие другие). Возродились
все виды и жанры поэзии: социальная (поэмы А.Твардовского,
лирика Я.Смелякова, Б.Ручьева, Е.Евтушенко, Р.Рождественско­
го, В.Цыбина), философская (книга поэм ВЛуговского, стихи и
поэмы Л.Мартынова, Е.Винокурова, А.Вознесенского, Ю.Кузнецова, С.Маршака, Д.Самойлова, А.Тарковского, И.Бродско­
го), народно-поэтическая (Н.Рубцов, А.Яшин), интимная (Б.Ахмадулина, В.Соколов, Р.Казакова, Н.Коржавин, Н.Матвеева),
песенная (Н.Доризо, В.Высоцкий, А.Галич, Б.Окуджава). Воз­
обновились формальные поиски как в области прозы и поэзии,
так и живописи, театра, кино. «Десятилетием советского донки­
хотства» назвал эти годы В.Аксенов в предисловии к «Золотой
нашей железке».
Однако уже к началу 60-х годов стало очевидным, что корен­
ного изменения в политике и жизни народа не будет. Посеще­
ние Н.Хрущевым выставки художников в Манеже и его встреча
с писателями и деятелями искусства в 1963 году положили нача­
ло свертыванию свободы в стране, в том числе свободы творчес­
тва. Двадцать последующих лет стагнации стали тяжелым испы­
танием для творческой интеллигенции. Если маститым писате­
лям еще удавалось пробиваться через препоны цензуры, хотя,
как теперь стало известно по публикациям первоначальных тек­
стов, не без потерь, то для большинства честных художников
дорога к читателю была закрыта. Однако не совсем. Как ни про­
тиводействовали органы госбезопасности, писатели передавали
свои произведения на Запад, где они издавались различными
журналами или даже отдельными книгами, а затем возвращались
в страну («тамиздат»). Выдающаяся роль здесь принадлежит из­
дательству «Ardis». В «Новом журнале» были опубликованы сти­
хи Б.Пастернака и главы из его «Доктора Живаго», регулярно
печатались «Колымские рассказы» В.Шаламова, опубликованы:
рассказ АСолженицына «Правая кисть»; «Моя маленькая лениниана» В.Ерофеева; стихи БАхмадулиной, И.Бродского, ДДудко,
Ю.Кашкарова (с 1990 по 1995 годы он был редактором журнала);
лагерные песни; обзоры и рецензии книг, запрещенных в СССР
475
и изданных на Западе. Многочисленные любители литературы
распечатывали их затем на пишущих машинках, ксероксах, ро­
таторах, и эти затрепанные самодельные книги ходили по рукам
(«самиздат»). Широко бытовали встречи писателей андеграунда
(полузапрещенной непечатаемой литературы) с читателями в
различных НИИ, клубах любителей поэзии, вузах, кафе. Остано­
вить этот процесс власти были не в силах.
Начались гонения на А.Солженицына (после 1966 года ни
одно его произведение не было издано на родине) и В. Некрасо­
ва (писателя исключали из партии, КГБ устраивало обыски на
его квартире). Был арестован и сослан на принудительные рабо­
ты И.Бродский (не помогло заступничество А.Ахматовой, С.Маршака, К. и Л.Чуковских, Ф.Вигдоровой). Запугивали в КГБ В.Аксенова, А.Галича, СДовлатова. Был арестован и осужден А.Синявский. Даже если художник не писал на актуальные темы, а
лишь занимался формальными поисками, ему чинились непри­
ятности. Потребовалось личное обращение канцлера Австрии
Бруно Крайского к Л.Брежневу, чтобы разрешить Саше Соколо­
ву воссоединиться с женой-австрийкой.
Следствием этого стал пересмотр наиболее гонимыми писа­
телями многих ранее бесспорных ценностей, обида (если не обозленность) на родину и вынужденная эмиграция. Одной из форм
такой эмиграции стало лишение гражданства деятелей культуры,
выехавших за пределы страны для чтения лекций или других твор­
ческих целей.
Первым, кому официально было разрешено в 1966 году вы­
ехать за границу, был писатель и журналист Валерий Тарсис (19061983), проведшему несколько лет в психиатрических лечебницах
КГБ, что нашло отражение в его рассказе «Палата № 7» (1965).
Созданный им многотомный роман «Рискованная жизнь Вален­
тина Алмазова» рисует повседневный быт в СССР и интересен
больше как документ, нежели как художественное произведение.
Вслед за В.Тарсисом оказались за границей Василий Аксе­
нов, Юз Алешковский, Андрей Амальрик, Иосиф Бродский, Ге­
оргий Владимов, Владимир Войнович, Александр Галич, Сергей
Довлатов, Александр Зиновьев, Лев Копелев, Наум Коржавин,
Юрий Кублановский, Владимир Максимов, Юрий Мамлеев,
Виктор Некрасов, Саша Соколов, Андрей Синявский, Александр
Солженицын, Илья Бокштейн, Феликс Кандель, Александр Вер­
ник, Игорь Губерман, Дина Рубина и многие другие литераторы.
Единственное, что сближало их с эмигрантами двух первых
волн, было полное неприятие советской власти и советского го­
сударства. В остальном они были совершенно непохожи на сво­
их предшественников. У них не было религиозного воспитания,
476
они в основном понаслышке знали творения писателей, худож­
ников, музыкантов Серебряного века, у них не было носталь­
гии, они не знали жизни русской диаспоры и по существу про­
должали то, чем занимались на родине.
О коренных отличиях культуры русской диаспоры и метро­
полии наглядно свидетельствует такой факт: в начале 70-х годов
эмигрировавшие во Францию супруги Синявские решили поз­
накомить нескольких оставшихся в живых из первой волны рус­
ской эмиграции интеллигентов с записями песен В.Высоцкого.
«Пленку вежливо прослушали и сказали, что Шаляпин пел луч­
ше, «потому что не хрипел и не кричал», да и язык в песне
какой-то корявый, безграмотный» («Одна или две русских лите­
ратуры?»).
«На разных языках», — так озаглавила свое выступление на
Женевском симпозиуме «Одна или две русских литературы?» жена
и издатель А.Синявского Мария Розанова. Старая русская эмиг­
рация создала «Волшебный заповедник русского языка» (там же),
бережно сохранила потомкам чудесную русскую речь. Но она не
могла понять тех языковых изменений, что произошли за 70 лет
советской власти в метрополии. Бесспорно, что описанный Д.Оруэлом НОВОЯЗ, прижившийся у нас, далеко не способствовал
развитию национальной культуры. Можно, как это сделал А.Сол­
женицын, создать словарь «Языкового расширения» или, как то
стремятся делать писатели-«деревенщики», возвращать языку его
первозданный колорит. Но было бы странно, если бы литература
не отражала того реального состояния, в каком живет общество.
Сила и слабость писателей «третьей волны» заключалась имен­
но в том, что они привезли в эмиграцию язык советского общес­
тва и связанные с ним жизненные понятия (пусть даже отверга­
емые ими). В их книгах многие стилевые традиции советской
литературы причудливо соединились с опытом мировой литера­
туры XX века, ставшей известной в СССР в годы хрущевской
«оттепели». Речь идет в первую очередь о книгах Э.М.Ремарка,
Э.Хемингуэя, Ф.Кафки, Г.Г.Маркеса, вызвавших в 50-60-е годы
целую волну подражаний. Третьим источником влияния на но­
вую волну будущей эмиграции были произведения Б.Пастернака, О.Мандельштама, М.Цветаевой, И.Бабеля, Б.Пильняка,
Ю.Олеши, Д.Хармса, частично А.Платонова. Лишь немногих
привлекал бунинско-шмелевский реализм (неореализм). Внима­
ние к авангарду и поставангарду, едва затронувшее писателей
первой и второй волн эмиграции (Б.Поплавский, Н.Моршен,
Б.Нарциссов и некоторые другие), составляло особенность третьей
волны литературной диаспоры.
Это хорошо видно из оглавлений выходивших в 70-80-е годы
477
журналов и альманахов. Если один из старейших эмигрантских
журналов «Грани» (Франкфурт-на-Майне, выходит с 1946 года,
к 1997-му выпушено 182 номера) на первых порах публиковал
преимущественно неореалистов (И.Бунин, Б.Зайцев, И.Елагин,
В.Завалишин, Л.Ржевский, Б.Филиппов), то начиная с 60-х го­
дов он, наряду с остро социальными произведениями А.Солженицына, В.Максимова, В.Солоухина, А.Гладилина, все чаше пред­
оставляет свои страницы экспериментаторам: Г.Айги, А.Вознесенскому, Г.Сапгиру, Ю.Домбровскому, А.Синявскому, В.Сосноре; публикует неизвестные произведения Д.Хармса, А.Введенского, А.Платонова, М.Цветаевой. Эта же тенденция прослежи­
вается в казалось бы сугубо религиозно-философском журнале
«Вестник РХД». Из опубликованных в 60-70-е годы авторов лишь
А.Солженицын и В.Тендряков относятся к реалистическому на­
правлению, а Г.Айги, И.Бродский, Ю.Кублановский, О.Мандельштам, Б.Пастернак, М.Цветаева при всей глубине их религиоз­
ных поисков тяготеют к искусству авангарда. Свою привержен­
ность к традициям Б.Пастернака один из первых альманахов
третьей волны «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1960-1967, вышло
5 книг) декларировал не только названием (так называлась одна
из книг автора «Доктора Живаго»), но и публикуемыми в нем
произведениями: «Поэма без героя» А.Ахматовой, стихотворе­
ния О.Мандельштама, рассказы и письма И.Бабеля, поэма «Пе­
рекоп» М.Цветаевой. В еще большей степени указанная тенден­
ция появляется в журнале «Стрелец» (издается с 1984 года снача­
ла во Франции, затем в США, последние годы на родине). Хотя
его издатель А.Глезер и стремится представить все направления
современной отечественной и зарубежной русской литературы
(в частности, в журнале печатались сугубые реалисты В.Максимов
и В.Некрасов), большинство авторов принадлежат к поставан­
гарду: поэты В.Бетаки, Ю.Кублановский, В.Кривулин, Г.Сапгир;
прозаики Ю.Алешковский, Ю.Мамлеев, Ю. Милославский, В.Нарбикова. Даже «Литературный архив» «Стрельца» сориентирован в
первую очередь на авангардную литературу. Здесь печатались А.Бе­
лый, 3.Гиппиус, А.Мариенгоф, А.Платонов, А.Ремизов. Пол­
ностью постмодернистским был и журнал «Эхо» (Париж, 19781980, вышло 12 номеров). Начиная от издателя Владимира Марамзина, автора сюрреалистической повести «Блондин обеего
цвета» и сборника «Тяни-толкай», и находящегося на грани реа­
лизма и поставангардизма Сергея Довлатова и кончая эпатирую­
щим натуралистом Эдуардом Лимоновым и абсурдистом Юрием
Мамлеевым, почти все авторы журнала не принимали реалисти­
ческий метод. Поставангардистские тенденции отчетливо просле­
живаются в журнале «Время и мы» (Тель-Авив/Иерусалим —
478
Париж — Нью-Йорк, выходит с 1975 года, к 1996 году вышло 134
номера), постоянными авторами которого выступают Ю.Алешковский, Б.Вахтин, СДовлатов, З.Зиник, Ф.Кандель, Б.Хазанов,
Д.Бобышев, Л.Владимова, Н.Коржавин, И.Лиснянская, из кото­
рых лишь двое последних могут быть отнесены к реалистам. Боль­
шое место отдает постмодернистам и иерусалимский журнал «22»
(издается с 1978 года). Экспериментаторский, подчеркнуто эстет­
ский прозападный характер носит издаваемый с 1978 года в Па­
риже А.Синявским и М.Розановой журнал «Синтаксис».
Легче установить связь произведений писателей третьей во­
лны с советскими или зарубежными авторами, нежели с худож­
никами русского зарубежья.
Именно это обстоятельство и привело 3.Шаховскую к выво­
ду, что они «не могут быть причислены к эмигрантской литера­
туре... Ничего специфически эмигрантского в книгах, здесь поя­
вившихся, не успело проявиться» («Одна или две русских лите­
ратуры?» — с. 59. Выделено нами. — В.А.).
По сути дела анализ литературного процесса третьей волны
эмиграции требует иных подходов, нежели те, что применялись
в предыдущих главах.
. Это позволяет нам лишь кратко охарактеризовать те книги,
что созданы русскими писателями-эмигрантами третьей волны
после их отъезда с родины, и иногда вслед за Джоном Глэдом,
автором книги «Беседы в изгнании» (М.: Книжная палата, 1991),
а иногда в полемике с ним обозначить несколько стилевых на­
правлений их поисков.
Крупнейшим и, пожалуй, стоящим вне всяческих направле­
ний, писателем третьей волны русской эмиграции является бес­
спорно Александр Солженицын (вернулся на родину в 1994 году),
хотя сам он упорно отказывается считать себя эмигрантом, вся­
чески подчеркивая насильственный, вынужденный характер сво­
его отъезда из России.
Главной и по существу единственной художественной кни­
гой А.Солженицына, созданной за рубежом, является эпопея
«Красное колесо», хронология событий которой обозначена за­
головками первого и последнего романов цикла: «Август Четыр­
надцатого» — «Апрель Семнадцатого».*
Верный своему принципу давать не хронику событий, а
наиболее существенные узлы истории, Солженицын делает
* Ром аны ц и к л а «К расное колесо», кром е продолж аю щ егося отдель­
ного издан ия, полностью напечатаны в журналах: Звезда, 1990, № 1,3,4,612; Наш со в р ем ен н и к , 1990, № 1-7, 9-12; Н ева, 1990, № 1-6, 1991, № 612; Волга, 1991, № 4-11; Звезда, 1991, № 4-8; Н овы й м и р , 1992, № 10-12.
479
центрами своих романов катастрофу 1914 года в Восточной
Пруссии и судьбу Столыпина, октябрьские волнения 1916 го­
да в России и ленинские действия этого периода, Февральскую
революцию с ее парадоксами и, наконец, приезд Ленина в ап­
реле и последовавшую за этим подготовку Октябрьского пере­
ворота.
Огромное количество документов соединяется с кинематог­
рафическими приемами. В том числе многозначной метафорой
огненного колеса: «КОЛЕСО! — катится, озаренное пожаром!
самостийное! неудержимое! все давящее!». Биографии и жизнео­
писания реальных исторических лиц соседствуют с рассказом о
жизнедеятельности вымышленных персонажей, среди которых
наиболее близкие автору бывший студент Саня Лаженицын и
офицер-интеллигент Воротынцев.
Критика неоднозначно оценила «Красное колесо». Извест­
ный зарубежный литературовед, автор книги о Солженицыне
Ж. Нива считает ее грандиозной и талантливой неудачей писате­
ля. Бытует и мнение, что современный читатель не дорос до
понимания новаторского характера художественного мира пос­
леднего романа Солженицына. Но так или иначе, все признают
огромную эрудицию автора «Красного колеса», самобытность его
Трактовки истории России, оригинальность предлагаемых им
путей ее «обустройства».
Тема истории, раздумья о русском народе характеризуют и
роман Георгия Владимова (род. 1931) «Генерал и его армия».*
Ее идея, по определению Л.Аннинского, «расплата личности
за независимость». В 1977 году Владимов вышел из СП и возгла­
вил Московскую секцию «Международной амнистии».
Эмигрантом писатель стал в 1983 году. Перед этим в 1975-м
опубликовал в ФРГ повесть «Верный Руслан» о служебной соба­
ке, в 1984-1986 годы редактировал журнал «Грани». С конца 80-х
публикуется вновь на родине.
Через весь роман «Генерал и его армия» проходят две взаи­
мосвязанные толстовские темы: народной войны и русского на­
ционального характера, не приемлющего войну и утверждающе­
го высокую нравственность.
Немецкий боевой генерал Гудериан, сидя в Ясной Поляне за
столом Льва Толстого, не может понять поступка Наташи Росто­
вой, как не может понять и того, что русские люди защищают не
Сталина и сталинский режим, а родину и независимость. Клю­
чевой является в романе авторская фраза о том, что после па­
мятной речи Сталина 1941 года Гитлеру «противостояла уже не
* З н ам я. — 1994. — № 4-5 (п р ем и я «Триумф » 1995 г.).
480
Совдепия с ее усилением и усилением классовой борьбы, проти­
востояла Россия» (выделено мной — В.А.). Не менее знаменате­
лен припоминаемый Гудерианом (факт этот взят писателем из
подлинных воспоминаний немца) его разговор с бывшим царс­
ким генералом, вопреки ожиданиям немца не радующимся при­
ходу оккупантов: «Мы только начали оживать, а вы пришли и
отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда вы уйдете, мы
должны будем все начать сначала. Не обессудьте, генерал, но
теперь мы боремся за Россию, и в этом все едины».
Образ этой России воплощен в фигуре генерала Кобрисова
и его ординарца Шестерикова. В период коллективизации они
находились на разных полюсах: Кобрисов, одержимый идеей
всеобщего насильственного счастья, раскулачивал; семья Шес­
терикова была раскулачена. Война причудливо соединила этих
двух русских людей, выявила лучшие их черты: храбрость, от­
сутствие всяческой рисовки, верность народной морали, бли­
зость к простым людям. Беспощадно показывая, что и в войну
сталинский-тоталитаризм продолжал свое антигуманное дело,
Владимов утверждает, что светлооковым (обобщенный образ
аморального «особиста») удается нравственно развратить толь­
ко слабых духом, а такие люди, как Фотий Кобрисов, Шестери­
ков и многочисленные эпизодические персонажи из народа со­
храняют свою высокую духовность, обеспечившую в конечном
счете победу.
Одной из лучших сцен романа является предфинальная, когда
Кобрисов, узнавший из радиосводки о присвоении ему звания
Героя Советского Союза, приглашает к столу встреченных им
женщин-окопниц и поднимает стакан «За ореликов» (солдатгероев). В финале этой сцены неожиданно бешеная русская
пляска и удалая песня сменяются осознанием горечи понесен­
ных потерь, и генерал «одиноко стоит под ревущим репродук­
тором, опустив голову без фуражки». «Бедненький, как за сы­
нов убивается», — по-своему поняли генерала окружившие его
женщины.
Именно эту ведущую философскую мысль романа Владимова проигнорировал писатель В.Богомолов, подвергший ро­
ман сокрушительной критике в статье «Срам имут и живые, и
мертвые, и Россия» с характерным подзаголовком «Новое ви­
дение войны», «новое осмысление» или новая мифология?»
(«Книжное обозрение», 1995, 9 мая, — с. 14-19). Вместе с тем
в статье В.Богомолова указан