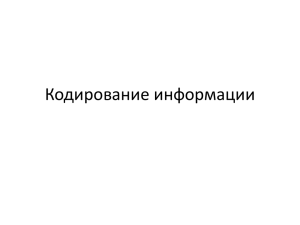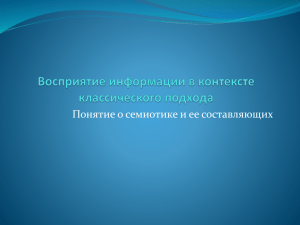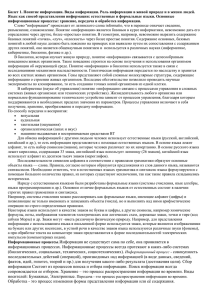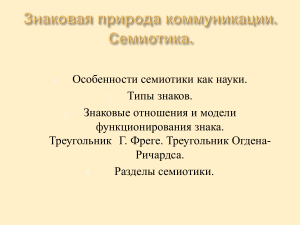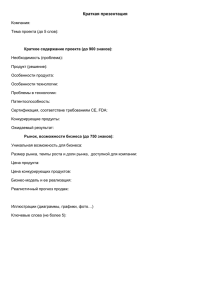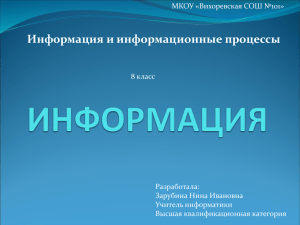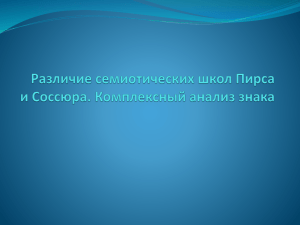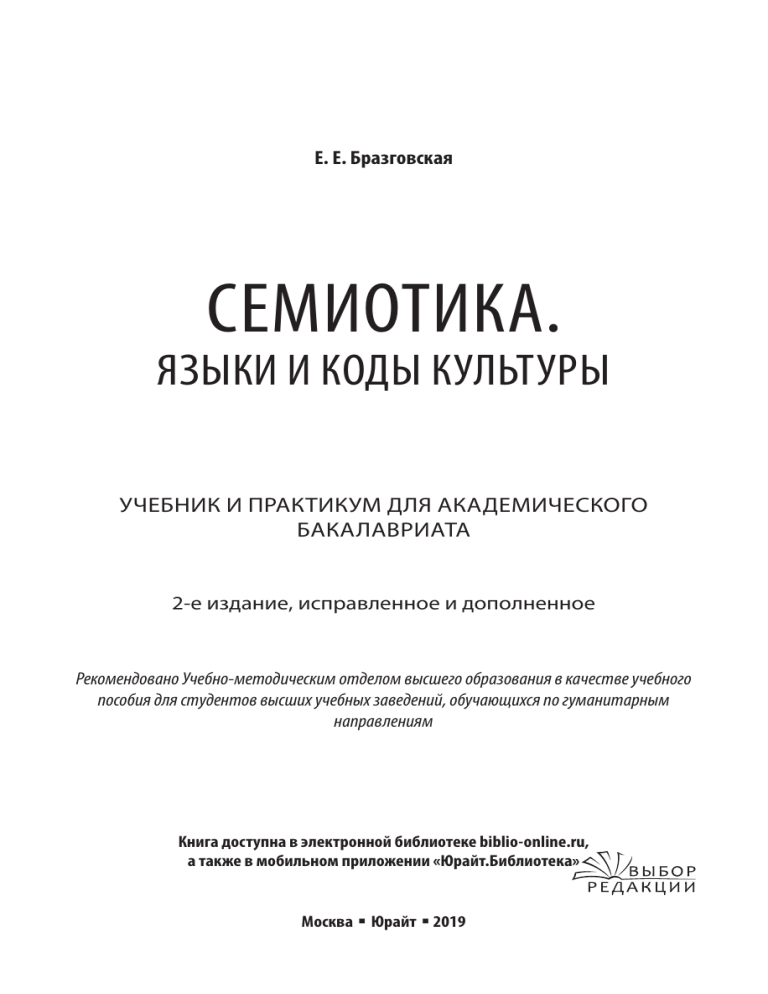
Е. Е. Бразговская
Семиотика.
Языки и коды культуры
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
2-е издание, исправленное и дополненное
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям
Книга доступна в электронной библиотеке biblio-online.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»
Москва Юрайт 2019
УДК
ББК
Автор:
Рецензенты:
Бразговская, Е. Е.
Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Бразговская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
ISBN 978-5-534-11201-6
УДК
ББК
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».
ISBN 978-5-534-11201-6
© Бразговская Е. Е.,
© Бразговская Е. Е., 2019, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2019
Содержание
Предисловие......................................................................................... 5
Часть первая.
ОСНОВАНИЯ СЕМИОТИКИ: ОТ ЗНАКА К СЕМИОЗИСУ
Что такое семиотика?......................................................................... 11
Сущность знака и его структурные модели.......................................16
Вопросы и задания...........................................................................................22
Расширение базовой теории знака: парадоксы семиотики............ 23
Вопросы и задания...........................................................................................30
Классификации знаков...................................................................... 31
Классы знаков с точки зрения материи их знаконосителей..........................31
Знаки естественные и искусственные............................................................31
Имена и предикаты: логико-семантическая классификация знаков............33
Индексы, иконы и символы: классификация знаков по способу
замещения референта..............................................................................37
Вопросы и задания...........................................................................................46
Репрезентативный потенциал индексов, икон и символов............ 48
Вопросы и задания...........................................................................................55
Семиозис как пространство инерпретаций..................................... 59
Вопросы и задания...........................................................................................63
Кодирование информации и классификации кодов культуры....... 66
Вопросы и задания...........................................................................................73
Часть вторая.
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ ЯЗЫКОВ КУЛЬТУРЫ
Систематизация знаковых систем.................................................... 77
Языки как первичные и вторичные моделирующие системы.......................77
Систематизация языков по материи их знаконосителей..............................78
Классификация языков по степени конвенциональности знаков
и онтологической природе референтов: «твердые» и «мягкие»
системы.....................................................................................................80
Вопросы и задания...........................................................................................85
Универсалии языков культуры.......................................................... 86
Вопросы и задания...........................................................................................92
3
Репрезентативный потенциал языков культуры и языковые
картины мира .................................................................................... 94
Вопросы и задания.........................................................................................102
Принцип дополнительности разносемиотических систем ...........105
Вопросы и задания.........................................................................................112
Семиотика визуальности: как читаются визуальные тексты....... 114
Вопросы и задания.........................................................................................120
Музыка как язык культуры.............................................................. 122
Вопрос о «лингвистичности» музыки...........................................................122
Когнитивно-семиотические механизмы восприятия музыки:
что мы видим, когда слышим...........................................................131
Вопросы и задания.........................................................................................142
Confusio linguarum: проблема «совершенного» языка.................. 144
Вопросы и задания.........................................................................................154
Часть третья.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СЕМИОТИКИ КУЛЬТУРЫ
Семиосфера как семиотическая модель культуры.........................157
Вопросы и задания.........................................................................................161
Человек в ситуации двух реальностей. Проблема истинности
семиотического отображения..........................................................162
Вопросы и задания.........................................................................................174
Заключение.
Еще раз о границах семиотики....................................................... 175
Основные термины и понятия курса............................................. 178
Список литературы...........................................................................181
Словари и энциклопедии..................................................................186
Новые издания по дисциплине........................................................187
Предисловие
Семиотика — это достаточно молодой университетский курс. В российских и западных университетах его можно встретить под именами
«Общая семиотика», «Лингвистическая семиотика», «Философские
основания семиотики», «Семиотика культуры», «Семиотика литературы», «Семиотика искусства», а в последнее время и «Когнитивная
семиотика». Такое множество относительно автономных дисциплин
отражает систему объектов семиотических исследований. Но одновременно за этим стоит и обоснованное стремление разделить теоретический и прикладной аспекты исследований в пространстве семиотики как таковой. В свою очередь, это позволяет говорить о семиотике
не только как о науке, но и как об универсальном (всеобщем) методе
исследований, которым может пользоваться любая научная область.
Семиотический подход к проблемам наук о человеке и культуре
может способствовать преодолению концептуальной разобщенности
гуманитарных дисциплин, представленных в учебных программах
современных университетов. Именно этот взгляд на семиотику как
на метод, выявляющий универсальные алгоритмы мышления и смыслопорождения, представлен в данном курсе лекций. В каждой из его
тем подчеркивается когнитивное измерение науки о знаках и знаковых
системах.
Непосредственный предмет внимания в рамках данного курса — это
многообразие языков описания мира. Цель наших занятий — семиотический анализ языков культуры и ее текстов — предполагает разговор
об отношениях между человеком, знаковыми системами и внеязыковой реальностью. На этом исследовательском поле возникают вопросы
о референции, структуре и видах знаков, истинности языкового отображения мира. Одним словом, вопросы о семиотическом потенциале
языков культуры и степени их креативности.
Условно книга делится на три части. Первая обращена к аксиомам
и одновременно неочевидностям семиотической теории. Последние становятся видимыми именно сейчас благодаря кумулятивному эффекту,
который производит само пространство семиотических исследований.
Так, еще недавно «очевидные» аксиомы теряют свою категоричность
в ходе сопоставления данных о природе и восприятии знаков в рамках
континентальной лингвоцентричной семиологии, восходящей к концепции Фердинанда де Соссюра, англосаксонской логико-философской
семиотики Чарльза Пирса и современной когнитивистики.
5
Вторую часть курса («Вавилонская башня языков культуры») я рассматриваю как начало реализации захватывающей идеи о возможности обнаружения атомов, лежащих в основании всего языкового
многообразия культуры. Отправные точки здесь — положения Ноама
Хомского о врожденных грамматических структурах, предшествующих
вхождению в любые вербальные системы, и параметрическая теория
языков Марка Бейкера. «На каком-то уровне, — пишет Бейкер о вербальных языках, — все они являются одинаковыми»1. Современный
уровень когнитивно-семиотических исследований позволяет говорить
не только о лингвистических универсалиях, но, шире, о наличии универсальных алгоритмов для систем вербальной и невербальной коммуникации (языка жестов, искусств, систем программирования и др.).
Этим, в частности, объясняется и сама возможность овладения этими
языками. Неслучайно последняя лекция этой части посвящена поискам
«совершенных» языков в истории человеческой культуры.
В третьей части учебника представлены общие вопросы семиотики
культуры: теория семиосферы Ю. Лотмана и вопросы истинности семиотического отображения (вероятностной природы языков культуры).
По словам Умберто Эко, семиотика является не столько наукой,
сколько особым модусом мышления, игрой в знаки и жизненным приключением. Надеюсь, что для кого-то из моих молодых читателей
эта книга тоже станет окном в интеллектуальное пространство, где
мы учимся читать мир как открытую книгу.
Несколько формальных замечаний по поводу технических деталей
оформления учебника и стилистики изложения. Поскольку речь идет
об учебной литературе, здесь очень важно не перегружать текст ссылками: позволить глазу читателя свободно двигаться по странице. Вот
почему я использую систему постраничных сносок. В библиографическом списке литературы представлены наиболее значимые источники
не только на русском, но и английском языках, ведь чтение англоязычных текстов уже не является для современного студента такой непосильной задачей, как это было до недавнего времени. В структуру
каждого раздела лекционного курса включены вопросы и задания,
позволяющие преподавателю выстраивать траектории практических
занятий, а студенту — выйти на уровень осмысления прочитанного.
В изложении материала я стремилась не столько представить его
в форме «от А до Я», сколько очертить границы современной семиотики, то есть обозначить проблемы, которые пока не получили устойчивой интерпретации. Такой подход соотносим с представлением
о семиотике, которое я принимаю вслед за Умберто Эко: семиотика
есть особый модус мышления, игра в знаки, а жизнь — приключение,
состоящее в их расшифровке.
1 Бейкер М. Атомы языка: грамматика в темном поле сознания : пер. с англ. / под
ред. О. Митрофановой. М. : Издательство ЛКИ, 2008. С. 21.
6
В тексте учебника частично воспроизводятся материалы моих
ранее изданных работ: учебного пособия «Языки и коды» и монографии «В лабиринтах семиотики: очерки и этюды по общей семиотике
и семиотике искусства»1.
1 Бразговская Е. Языки и коды. Введение в семиотику культуры. Пермь :
изд-во ПГПУ. 2008. 208 с.
Бразговская Е. В лабиринтах семиотики: очерки и этюды по общей семиотике и семиотике искусства. М.-Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. 224 с.
Часть первая.
ОСНОВАНИЯ СЕМИОТИКИ:
ОТ ЗНАКА К СЕМИОЗИСУ
Никто не должен бояться, что наблюдение
над знаками уведет
нас от вещей: напротив, оно приводит нас
к сущности вещей.
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Что такое семиотика?
Наиболее общее определение семиотики — наука о знаках (греч.
sēméion — признак, знак) и языках. Семиотика изучает знаки и знаковые системы в качестве инструмента создания, передачи и хранения
информации, то есть в качестве медиума, связывающего в единую
цепь наше сознание, языки и реальность, в которой мы существуем.
Как область науки и учебная дисциплина семиотика продолжает находиться в стадии становления и самоопределения. Это подтверждается
рядом проблемных вопросов.
В «Энциклопедическом словаре культуры ХХ века» В. Руднев определяет семиотику как одну из наиболее специфических междисциплинарных областей нашего времени1, не проясняя, впрочем, суть этой
специфики. С моей точки зрения, особенность семиотики проистекает из онтологически неопределенного исследовательского предмета
и абсолютно необозримых границ, не позволяющих точно очертить
сферу ее интересов. Поясню это положение.
Предмет семиотики — это знаки и знаковые системы, которые,
на первый взгляд, выполняют функцию посредников между человеком
и миром. На самом деле языки — не столько передаточный информационный механизм, сколько феномен нашего сознания — пространства,
в котором происходит рождение, трансляция и восприятие информации. Если тело человека принадлежит физическому миру, то в качестве
мыслящего субъекта он «живет» в языке. Подобно лингвистике, семиотика сталкивается с тем, что языки, будучи предметом научного внимания, одновременно являются средой существования самого исследователя, то есть не могут быть внеположены тому, кто их изучает.
Трудно однозначно ответить на вопрос, является ли семиотика наукой. Возможно, как это звучит у У. Эко, мы говорим об универсальной
методологии, которую может использовать любая исследовательская
практика. В качестве научной дисциплины семиотика занимается теоретико-эмпирическими исследованиями знаковых систем и процессов
их функционирования. И это в равной мере позволяет относить ее как
к гуманитарным, так и к точным наукам (с одной стороны, семиотика
исследует отношения между человеком, его языками и миром, с другой, занимается алгоритмами языковой репрезентации мира). Однако
в обоих случаях возникает проблема с количеством аксиом, или тео1 Руднев В. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. М. : Аграф, 2009. С. 360.
11
ретических принципов, необходимых для подтверждения статуса семиотики как науки. По существу, к собственно семиотической теории
относятся только положение о знаковой природе языка, классификация
знаков и учение о семиозисе, где выявляется характер функционирования знаковых систем. Современная семиотика немыслима без понятий
«референция», «коммуникация», «сообщение» (message), «код», «значение» и «смысл», «синтактика», «прагматика», «шум» и др. Однако без
них не могут обойтись также и теория информации, коммуникации,
когнитивные исследования, теоретическая лингвистика, психология
восприятия и др. Это не позволяет провести демаркационную линию
между собственно семиотикой и множеством других научных областей. В таком контексте семиотика может рассматриваться как теоретико-методологическое «приложение» любых наук.
«Какой бы подход мы сейчас ни взяли — логический, лингвистический
или психологический, — в каждом семиотика мыслится как простое расширение предмета соответствующей науки, как приложение ее понятий
и методов к новой области объектов»1.
Или, наоборот, семиотика воспринимается как некая «наука наук»,
посвященная исследованиям любого рода знаковых процессов: производству текстов культуры или даже физико-биологическим процессам,
также понимаемым как «сообщения». Так, семиология Ф. де Соссюра
была задумана как наука о функционировании знаков в социальной
жизни. Транслингвистическая семиология Р. Барта рассматривает
культуру как поле текстов, произведенных посредством различных
языков. Среди этих текстов: литературные, мода, визуальные сообщения, музыка и др. Учение Ч. Пирса основывается на пансемиотическом
взгляде на универсум, из которого следует, что человеческие познание
и мышление имеют семиотическую природу. Э. Тарасти вводит в этом
контексте понятие «экзистенциальная семиотика»: пространство изучения знаковой природы мира и человеческого бытия. Согласно Т. Себеоку, семиотика изучает когнитивные возможности человека — различные виды игр в создание картин мира, прочитываемого человеком
как своеобразная книга2. Из этих положений однозначно следует, что
в мире не остается ничего, что не могло бы стать предметом семиотического анализа3, и здесь семиотика обращается в «общую теорию всего»
(С. Лем).
1 Щедровицкий Г. П. Знак и деятельность. В 3 кн. Кн. I. Структура знака: смыслы,
значения, знания: 14 лекций / сост. Г. А. Давыдова. М. : Восточная литература, 2005.
С. 25.
2 Sebeok T. A. Signs: an introduction to semiotics / 2nd ed. Toronto: University of Toronto
Press Incorporated, 2001. P. 3.
3 «Мы вынуждены говорить о семиотике как теории текстуальности, теории производства текстов, теории субъекта, производящего тексты». Eco U. A Theory of Semiotics
(Advances in Semiotics). Bloomington : Indiana University Press, 1979. P. 312—313.
12
Как ни парадоксально, но статус «общей теории всего» резко понижает
шансы семиотики занять место отдельной научной дисциплины. Но если
оставить попытки очертить границы семиотики на научном олимпе,
посмотрев на нее как на исследовательский инструмент, тогда окажется,
что мы имеем дело с универсальным методом анализа любых коммуникативных практик. Все, что нас окружает, может быть описано как знаковая система и информационное сообщение. Например, картина, архитектурное сооружение, симфония, роман, карточные игры, жесты людей
и животных, произведения кулинарного искусства, религиозные обряды,
бытовые ритуалы, социальные группы, поведение насекомых и многое
другое. Таким образом, семиотика превращается в особый модус мышления: способ видеть мир исключительно как знаковую систему и читать
реальность как книгу. Семиотика становится нескончаемым приключением, происходящим с нами на пути от означающих к означаемым.
В частности, в таком ключе прочитываются все романы У. Эко.
Совмещая обозначенные точки зрения на семиотику (самостоятельная дисциплина, «теория всего», универсальная методология1), я буду
говорить о ней как об общей теории знаков, которая позволяет выработать универсальный алгоритм интерпретации текстов на различных
языках культуры. Среди этих текстов — вербальные и невербальные
сообщения: вещи, прочитываемые нами как «послания», произведения
искусства, жесты, пейзажи и др. Для познающего субъекта все феномены культуры рассматриваются как факты коммуникации — тексты,
для интерпретации которых используется определенный код, или правила «упаковки» значений и смыслов в знаки. Не содержится ли здесь
какого-нибудь сообщения? Вот первый вопрос, который обязательно
задает тот, кто считает себя семиотиком2.
Семиотика обращена к тому:
• каким образом форма, данная нам в эмпирическом опыте, замещает другой объект и этим сигнализирует о присутствии значений
и смыслов;
• какова степень конвенциональности этих значений;
• насколько семантика сообщения предзадана дискурсом и предсказуема для интерпретатора;
• поддается ли текст формализации или, напротив, семантически
размыт (энтропиен) и др.
Трудность общения по поводу семиотических проблем заключается в отсутствии единого метаязыка. Недостаточная выверенность
терминологического аппарата (вернее обозначить это состояние как
1 «Semiotics is both a science, with its own corpus of findings and its theories, and
a technique for studying anything that produces signs». Sebeok T. A. Signs: an introduction
to semiotics. Р. 5. Об этом же и У. Эко: «Мы можем рассматривать семиотику и как некую
междисциплинарную науку, в которой все феномены культуры изучаются под знаком
коммуникации, и как технику, метод анализа любых феноменов». Эко У. Отсутствующая
структура. Введение в семиологию. СПб. : Симпозиум, 2006. С. 491.
2 Этот вопрос актуализировал Милорад Павич в романе «Звездная мантия».
13
лабиринт терминов и понятий) — отличительная черта пространства,
где говорится о языках и кодах. В его структуре переплетаются две
ветви — континентальная лингвоцентричная семиология, восходящая
к концепции Ф. де Соссюра, и англосаксонская логико-философская
семиотика, корни которой связаны с работами Ч. С. Пирса и Ч. У. Морриса1. Каждая из двух ветвей предлагает свой взгляд на природу, структуру и характер функционирования знаков, основания их классификации, выводит различные представления о природе значений и смыслов.
В итоге в этих пространствах возникают терминологические омонимы.
Например, соссюровское представление о сущности знака и его структуре не тождественно пирсовскому пониманию. В частности, означаемое и означающее (Соссюр) — не то же, что референт и носитель знака
(Пирс).
Как систематизировать понятийный лабиринт семиотики? Кто
предоставит нам нить Ариадны? Можно надеяться на то, что в «науке
всего» возникнут генералисты, которым удастся создать единую парадигму, расставив на всех перекрестках указатели для тех, кто видит
и изучает мир как пространство знаков. Речь идет о необходимости
сближения различных пониманий через обнаружение общих инвариантов, а не о навязывании некоторой системы единственно верных
понятий. В свою очередь, этот процесс неизбежно будет связан с переосмыслением, казалось бы, незыблемых семиотических аксиом. Таким
образом развитие семиотики в XXI в. в немалой степени будет определяться не только научными генералистами, но и научными еретиками,
умеющими, по словам Даниила Гранина, подвергать сомнению самые,
казалось бы, прочные догмы и «думать оттуда, откуда никто не думал»2.
Однако пока я вынуждена определиться с выбором магистрального
направления для своего курса: семиотика или семиология? В ходе
этих лекций я буду постоянно ориентировать читателей на семиотику
Чарльза Пирса и Умберто Эко как пространство мысли о человеке homo
significans, истинное существование которого состоит в производстве
и интерпретации знаков.
Изучение семиотики не похоже на прямую дорогу, и, казалось бы,
у достаточно целостного интеллектуального пейзажа все чаще обнаруживаются черты вывернутого кармана3. Некоторые положения
1 Семиотические трактаты Роджера Бэкона, Франсиско Суареса и др. опровергают общепринятую точку зрения, согласно которой до Ч. С. Пирса, Ч. У. Морриса
и Ф. де Соссюра не существовало развитых и универсальных учений о знаках. См.: Вдовина Г. В. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII века. М. : Институт
философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. 648 с.
2 «Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы вразрез. Он умел подвергнуть сомнению самые незыблемые положения. Он не боялся оспаривать какие угодно авторитеты — Дарвина, Тимирязева, Тейера
де Шардена, Шредингера… Всякий раз доказательно, неожиданно, думал оттуда, откуда
никто не думал». Гранин Д. Эта странная жизнь. URL: http://www.t-z-n.ru/archives/
granin74.pdf.
3 У пейзажа — черты вывернутого кармана. Бродский И. Ария. 1987.
14
настолько очевидны, что, казалось бы, не требуют обсуждения. Несомненно, знак указывает на предметы и понятия, замещая их. Но только
зачем и что из этого следует? Каждая освоенная аксиома вдруг начинает иронично подсмеиваться над тобой и грозит трансформироваться
в серию парадоксов. Это совсем не разрушение уже построенного
интеллектуального знания, а путь, позволяющий освоить (и, может
быть) достроить его. Таков, с моей точки зрения, и должен быть путь
познания: от аксиом — к сомнениям в их незыблемости.
15
Сущность знака и его структурные модели
Давайте оттолкнемся от априорного факта: знаковые системы
(языки и тексты) стоят между человеком и миром. Мир не дан нам
непосредственно: возможность его познания обеспечивается переводом реальности в знаковую форму выражения, прежде всего в словесную. То есть мы «входим в мир уже после его знаковой явленности»1.
Отсюда процесс семиотического означивания — это процесс обретения
реальности. Чарльз Пирс высказался по этому поводу самым определенным образом: быть — значит быть знаком. Знак — это универсальный
инструмент адаптации человека к реальности, это «единственное, чем
располагает человек, чтобы ориентироваться в этом мире»2. Свидетельствуют ли эти положения об изученности знака как феномена и концепта культуры? С точки зрения французского теолога Жана Маритена,
для гуманитарных исследований нет проблем более сложных и более
важных, чем проблемы, связанные со знаками3. И хотя эта мысль была
высказана в 1939 г., она по-прежнему не теряет своей актуальности.
Знак (лат. signum) — это материальный, а значит, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в качестве заместителя другого
предмета. В формулировке схоластов — aliquid stat pro aliquio (одно
возникает на месте другого) — знак функционирует как некая «вещь»,
которая замещает что-то другое вне самой себя и, соответственно,
заставляет нас думать о том, что находится вне зоны непосредственного восприятия. Так, отпечатки кошачьих или птичьих лапок на снегу
свидетельствуют о недавнем присутствии этих существ в этом локусе
(рис. 1).
Рис. 1. Следы птиц и зверей на снегу
1
Мамардашвили М. Кантианские вариации. М. : Аграф, 2000. С. 140.
Эко У. Имя розы / пер. с итал. Е. А. Костюкович. СПб. : Symposium, 2000. С. 612.
3 Вдовина Г. В. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII века. С. 22.
2
16
Так, слово «кот» может вызвать серию воспоминаний о домашнем
тепле и уюте.
Важнейшие характеристики знака могут существенно отличаться
в зависимости от того, говорим мы о нем в рамках семиотики Чарльза
Пирса или континентальной семиологии Фердинанда де Соссюра. Так,
для Ч. Пирса однозначно, что знак:
• указывает на нечто вне себя самого, при этом объект указания
всегда отсутствует в непосредственном опыте коммуникации. Чтобы
говорить о пеликане, не нужен сам пеликан. Достаточно, что слово (звуковая или графическая материя) замещает для собеседников его образпонятие;
• немыслим вне употребления и понимания. Природа не знает знаков. Полураскрытая чашечка цветка — не знак, а вещь, просто цветок.
И только человек способен увидеть его как свидетельство времени года
(весна или лето), знак раннего утра или символ рождения, торжества
жизни и др.;
• обладает материальной выраженностью. Человек воспринимает
знаки эмпирически, органами чувств: капли воды (как знак дождя,
например) мы видим, чувствуем кожей, слышим. Идея, не получившая
выражения, теряет смысл, поскольку оказывается недоступной для восприятия.
Последователи Ф. де Соссюра настаивают на абстрактности языкового (вербального) знака, который существует исключительно
в системе языка и не связан с объектами внешнего мира.
Но при каких условиях вещь перестает быть собой и становится
знаком, информационным сообщением, текстом? Как происходит
превращение вещи в знак? И более парадоксальный семиотический
вопрос: существуют ли в реальности вещи? Вещь воспринимается
как знак только тогда, когда мы, по существу, смотрим «сквозь нее»,
видя за ней присутствие чего-то иного. В детективе вещь, найденная
на месте преступления, — это, несомненно, вещь. Но если нам удастся
предположить или установить ее обладателя, вещь указывает на того,
кому она принадлежит, и кто, возможно, имеет отношение к преступлению. В этой ситуации вещь — лишь оболочка, носитель значения.
Поскольку человеческое мышление имеет исключительно знаковую
природу, мы никогда не можем воспринимать объекты мира в качестве
исключительно вещей. Их оборотной стороной обязательно станет значение, связанное с другим объектом или ситуацией. Причем это может
быть множество значений.
Рассмотрим пример с одеждой. С одной стороны, это материальная вещь, которую мы воспринимаем органами чувств, — видим ее,
ощущаем пальцами и кожей. Также мы слышим шуршание шелка, чувствуем запах старого свитера. Но одежда непременно прочитывается
как знак, отсылающий к чему-то, чем сама она не является. Например, ассоциируется с теплом (утилитарная функция одежды), эпохой,
стилем. Одежда может выступать знаком определенного модельера,
17
бренда, социального статуса человека, возраста, гендера, географического локуса, национальной культуры и др. В качестве упражнения
предлагаю определить круг возможных значений вещей, представленных на следующих фотографиях (рис. 2).
Живя в мире, мы не переключаемся с вещей как таковых на вещи
в качестве знаков, но сразу прочитываем предметный мир как сообщение. И это одна из причин, почему невозможно провести четкую границу между двумя мирами — онтологической реальностью и пространством знаков.
Для семиотики и семиологии различны представления и о структурной модели знака. Прежде всего это касается вопросов о степени структурной сложности и онтологической природе знака (является ли он абстрактной или материальной сущностью).
У Ф. де Соссюра модель знака выглядит как двухкомпонентная
структура, где означаемое (предмет означивания) определяется через
означающее (то, посредством чего происходит означивание). Соссюр
определяет лингвистический знак
как неразрывное единство означающего и означаемого (бином),
сравнивая их отношения с двумя
сторонами листа бумаги: нет означаемого без означающего, подобно
тому, как невозможно существование нижней стороны листа без
верхней.
Платье Кристиан Диор
Рояль в интерьере
Рис. 2. Вещи как знаки
И означаемое, и означающее обладают абстрактной природой.
Означаемое — это не вещь, но понятие: означаемое «кот» — это не тот
кот, которого изучает зоология, но представление о том, как выглядит
кот, понятие о коте. Означающее «кот» — это совсем не ряд произносимых звуков или последовательность графем, но представление
о том, как звучит это слово (то есть речь идет о последовательности
18
фонем — абстрактных единиц языка). Связь означающего и означаемого в знаке (единство акустического образа и понятия) произвольна,
ведь мы не можем объяснить причины ее возникновения (например,
почему кот зовется котом). Значение «навязывается» нам языком,
и говорящий не может его изменить, подчиняясь правилам, коду, конвенциям системы.
Ч. Пирс визуализирует свое представление о структуре знака с помощью геометрического образа — треугольника, вершины которого соотносимы с результатами операций указывать (to refer to), замещать
(to substitute), интерпретировать (to interprete). В этой трехкомпонентной структуре А — знаконоситель, или «тело» знака; В — его референт,
или тот объект, который знак замещает, с которым он связан в мире;
а С — интерпретанта, или смысл знака, зависящий от способа отображения референта (рис. 3).
А
В
С
Рис. 3. Трехкомпонентная структура знака по Ч. С. Пирсу:
А — «тело» знака, информационный носитель (модус первичности);
В — референт, объект замещения (модус вторичности); С — смысл,
интерпретанта (модус третичности).
Подробно представлю характеристики всех составляющих этой
модели.
Говоря о носителе знака как носителе его семантики (А), мы имеем
в виду материальную форму — «вещь», посредством которой транслируется представление о другой «вещи». Материальная оболочка знака
анализируется Ч. Пирсом в рамках категории первичности, поскольку
все существующее должно обладать параметром эмпирической доступности, то есть быть воспринимаемым (еsse est percipi).
Как ни парадоксально, но в большинстве случаев непосредственный
носитель значения можно выделить только условно. Вот пример подобной ситуации. Я близко подошла к птицам, которые клюют пшено. Они
взлетают, из чего я делаю вывод, что испугала их. Но что выступает знаком именно этого значения? Не сами птицы, а то, что они взлетают:
их внезапное перемещение в пространстве выражает идею ухода от опас19
ности. При этом, находясь высоко в небе, птица может символизировать
идею свободной души. Но в обоих случаях мы понимаем, что полет как
атрибут неотделим от самой птицы. Сложность выделения непосредственного носителя значения объясняется в этих примерах тем, что носитель информации должен обладать не только атрибутом материальности,
но и дискретности, тогда как в этом примере он, являясь характеристикой вещи, не обладает автономной природой: способность летать неотделима от птицы. В итоге мы используем один и тот же знаконоситель для
замещения различных референтов, создавая знаки-омонимы.
Еще один пример, показывающий неавтономность и недискретность любых носителей информации. В силу полилингвальности человека и культуры в целом информация никогда не кодируется на одном
языке. Читая или слыша, что дождь лил всю ночь, мы одновременно воспринимаем не только вербальный знак-высказывание, но и сопряженные с ним ментальные образы: визуальный (ночной мрак за оконным
стеклом) и звуковой (несмолкаемый шум дождя, стук капель по стеклу). С большой долей вероятности к ним присоединится и ощущение
зябкости в час рассвета, а также запах свежести. Этот пример показывает, что один носитель информации дан в актуализированной форме
(здесь это словесный текст), а другие сопровождают его в качестве ментальных образов, неотделимых от основного носителя.
Для того чтобы обрести значение, знак должен, прежде всего, выполнить заместительную функцию: указать интерпретатору на тот объект,
вместо которого он далее будет функционировать. Для Ч. Пирса референт знака, или замещаемый им объект (В), соотносим с модусом вторичности. Действительно, на первом этапе расшифровки знака человек воспринимает органами чувств носитель информации, или «тело»
знака (это модус первичности), а только потом прослеживает направление референции (от англ. to refer — относиться, ссылаться), выясняя,
на какой же объект знак указывает (А → В). Таким образом, референт
знака всегда существует вне языка, то есть в реальности — физической
или ментальной.
Если знаконоситель всегда материален, то референтом замещения
могут быть объекты различной онтологии. В следующих примерах,
произвольно взятых из текстов И. Бродского, референты высказываний
выделены курсивом:
• площадь пустынна — отдельный физический объект;
• меловые холмы Сассекса — класс объектов реальности;
• запах сухой травы — недискретные вещи физического мира;
• будущее вообще — абстракции и ментальные объекты.
Между этими классами нет непроходимых границ. Ведь если я стану
вспоминать, насколько площадь была пустынна, то этот возникающий
в памяти объект относится уже к классу ментальных.
Знак не просто указывает на свой референт, но отображает его с точки
зрения отдельного человека или конвенций культуры и широко понимаемого дискурса. Воспринимая, казалось бы, одно и то же, мы можем
создавать различные образы-представления. Так, И. Бродский видит
20
воду в качестве беглеца с места. Способ отображения референта — это
инструмент, позволяющий наделить знак смыслом (С). Чарльз Моррис,
говоря о ситуации «иного способа представления того же самого объекта», употребляет термин «интерпретанта», поскольку отображение референта действительно есть процесс его интерпретации.
В современных гуманитарных исследованиях широко используются
обе структурные модели знака — соссюровский бином и пирсовская
триада. Сопоставлю их познавательный потенциал.
Основная причина расхождений между моделями Ч. С. Пирса
и Ф. де Соссюра лежит в области представлений о сущности языка.
Для Соссюра вербальный язык — это в достаточной степени статичная
система ментальных знаков, автономная от внешней действительности. Тогда как у Пирса язык есть система, существующая в неразрывном
динамическом единстве с интерпретатором и отображаемым миром.
Соссюровскую модель знака не интересует способ указания на какойлибо объект в мире. Концепция значения здесь является чисто структурной, выводимой из системы языка. Несмотря на то что двуплановая
модель по-прежнему остается влиятельной для многих лингвистов, для
семиотики культуры и культурной антропологии она явно несовершенна. Бинарную дополнительность означаемого/означающего нельзя
использовать как инструмент для анализа отношений между человеком, языком и миром.
Схема пирсовской триады несравнимо богаче. Знак здесь наделен
обязательной физической оболочкой, что позволяет человеку воспринимать его органами чувств. Знак направлен вовне — на объект, внеположенный языку. Смысл знака рождается в процессе отображения
референта, и этот процесс связан исключительно с человеком. Отображение выступает оборотной стороной референциального указания.
Так обеспечивается прагматика, или участие субъекта в акте высказывания. Таким образом пирсовская модель связывает воедино язык,
человека и реальность, то есть обладает бóльшим, по сравнению с соссюровским, эвристическим потенциалом.
Вводя в структуру знака носитель физической природы, референт
и способ его отображения, мы получаем возможность:
• передавать информацию от субъекта к субъекту;
• анализировать связь между языком и внеязыковой реальностью;
• говорить о степени истинности языкового отображения мира,
асимметрии языка и реальности, вероятностности языкового отображения;
• анализировать, как язык конструирует новое ви́дение реальности, или возможные миры.
Как ни странно, но между моделями Соссюра и Пирса все же нет
непроходимой границы. В частности, у Пирса есть замечания о том,
что знак функционирует (воспринимается и получает свой смысл)
совсем не в результате прямых связей с референтом и знаконосителем.
Видя птицу, мы понимаем, что это птица, но только потому, что опираемся на сформированное ранее представление — понятие о птицах,
21
их образе жизни и др. Визуальный образ птицы (то, что я вижу сейчас)
соотносится со словом «птица», понятием «птица как таковая» и ментальным образом ранее виденных птиц. Получается, что понимание
того, чтó именно мы видим, предуготовано когнитивной операцией
категоризации. Вот почему соссюровский бином и триада Чарльза
Пирса могут успешно соединиться в пятистороннюю модель языкового
знака, где даны:
• представление о физическом теле знака;
• само физическое тело знака, информационный носитель;
• представление о референте отображения;
• сам референт отображения, объект мира;
• и, наконец, смысл как результат способа отображения референта.
Несомненно, что в эту модель можно включить и самого интерпретатора, выбирающего и использующего все ее составляющие.
Вопросы и задания
1. Существуют ли знаки в мире без человека? Прокомментируйте положение Ч. С. Пирса: «Ничто не становится знаком, пока не интерпретируется как
знак, замещая нечто иное, лежащее вне себя самого». Подготовьте небольшое
рассуждение на эту тему.
2. Объясните, как вы понимаете два логически связанных высказывания:
«Мы всегда входим в мир уже после его знаковой явленности» (М. Мамардашвили) и «Существовать — значит быть знаком» (У. ван Куайн). Подготовьте
рассуждение на эту тему.
3. Сопоставьте когнитивный потенциал двух моделей знаков — бинома
и триады.
4. Используя модель знака Ч. С. Пирса, определите структурные составляющие (знаконоситель и его материя, референт, область значений) для следующих знаков: автопортрет, фотография дома, флюгер на крыше, стук дождя
по крыше, цифра «3», надпись «Осторожно, окрашено».
5. Рассмотрите фотографию инсталляции Джозефа Кошута «Один и три
стула» (рис. 4). Что выступает референтом для изображений, висящих на стене
(фотографий стула и словарной статьи Chair)?
6. Классический детектив традиционно использует ситуацию так называемых ложных знаков. Один и тот же знаконоситель, например вещь, обнаруженная
на месте преступления, одновременно
указывает на нескольких персонажей как
потенциальных преступников. Так, в пьесе
Агаты Кристи «Мышеловка» под атрибуты убийцы (человек в темном пальто,
светлом шарфе и фетровой шляпе) подходят сразу два человека, присутствующие
Рис. 4. Джозеф Кошут. Один
в гостинице. Проанализируйте ситуацию
и три стула (1965)
с ложными знаками с точки зрения семиотического механизма. В этой ситуации
читатель имеет дело с одним знаком или несколькими знаками? Приведите
свои примеры.
22
Расширение базовой теории знака:
парадоксы семиотики
Рассмотрим серию вопросов, которые расширяют представление
о структурных составляющих знака и его функционировании.
• Знак замещает референт, но что стоит за этой функцией?
• Знаконоситель всегда материален, но о какой материи идет речь
в случае с нулевыми и ментальными знаками?
• Действительно ли референт знака никогда не присутствует в акте
коммуникации непосредственно?
• Почему знак рассматривается как доказательство существования
своего референта?
• Можем ли мы допустить существование в мире вещей, для которых в наших языках пока нет знаков?
• Как быть с симулякрами, или знаками без референтов? Существуют ли они?
• Почему знак становится «другим телом» своего референта? Как
знак противостоит физическому исчезновению вещей?
• Действительно ли знаконоситель — это в прямом смысле носитель семантики знака?
Кажется, что заместительная функция знака — это примитивно
просто. Например, если мы видим дым, то он непременно следствие
огня. Однако сто́ит задуматься вот о каких обстоятельствах. Замещая
собой нечто другое, знак работает (не больше не меньше!) как машина
времени. Человеческое тело одномоментно может пребывать только
в одной пространственной точке. Тело привязано к пространственновременнóй координате. Однако мышление, основанное на механизмах замещения, позволяет человеку оказаться в прошлом, будущем
и в, казалось бы, реально не существующих мирах. Мы вспоминаем подробности вчерашнего дня, и этот день возникает как ментальная картина. И хотя на самом деле мы живем в моменте сейчас, прошлое может
переживаться нами как реальность: не просто обретать черты реальности, но быть реальностью. Мы помним ушедших людей, и потому
они с нами. Замещая события прошлого знаками, которые интерпретируются в настоящем, мы оживляем эти события. Это позволяет человеку иметь память, историю, прошлое, в которое можно вновь и вновь
возвращаться. Также человек «создает» и свое будущее, рассматривая
его в виде ментальных образов — знаков того, что еще не наступило.
Не исключение и так называемые возможные миры, которые человек
вполне может (хотя бы на время) переживать как существующие:
23
<…> фавны, наяды, львы,
взятые из природы или из головы, —
все, что придумал Бог и продолжать устал
мозг, превращено в камень или металл.
И. Бродский. Торс
Одно из обязательных условий функционирования знака — материальность его носителя. Но о какой материи идет речь в случае
с ментальными знаками и знаками нулевыми? Помысленное слово,
вспомненная музыка, картина, увиденная внутренним зрением, — это,
несомненно, знаки, замещающие нечто иное1: «вспоминая твой голос,
прихожу в возбужденье» (И. Бродский). Но в каких терминах определять природу их знаконосителей? Специфика ментальных объектов
состоит в том, что, с одной стороны, сложно говорить о наличии у них
физических свойств: массы, пространственной протяженности, объема,
ведь речь идет об умственных образах. С другой стороны, представления о том, что ощущают пальцы, погруженные в прохладную воду, или
о запахе и цвете яблоневого сада весной, не менее реальны для нас, чем
непосредственно воспринимаемые физические формы. Ментальные
образы мы представляем как полилингвальные сообщения, которые
мы прочитываем одновременно по нескольким каналам, что и создает
эффект реальности (это прочтение основано прежде всего на памяти
тела, телесных ощущений). Как и нулевые знаки (пауза в музыке, остановка движения в танце, нулевая морфема в вербальном языке), они
распознаются нами в ситуации актуального отсутствия их материальной выраженности, которая, однако, мыслится нами как потенциально
возможная.
Действительно ли референт знака никогда не присутствует
в акте коммуникации непосредственно? Будучи замещенным,
референт никогда не включен в акт коммуникации непосредственно.
Он всегда внеположен носителю знака и дан в отображенном представлении. Именно эта идея актуализирована в картинах Рене Магритта
«Это не трубка», «Это не яблоко» и др. «Это не трубка», — категорично
утверждает введенный в картину вербальный текст. И зритель оказывается в ситуации когнитивного диссонанса, поскольку он видит курительную трубку. Но видит ли? Это действительно не трубка, как гласит надпись, а лишь ее знак: реалистически достоверное изображение
трубки (рис. 5).
Та же ситуация происходит и с любым автопортретом. Имитируя
присутствие самого художника, он на самом деле позволяет, по И. Бродскому, воспринять лишь «форму его отсутствия».
1 О том, что помысленное слово относится к знакам, размышляла еще семиотика
XVII в. Эти знаки определялись как «умственные образы». См. : Вдовина Г. В. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII века. С. 187—199.
24
Рис. 5. Рене Магритт. Это не трубка (1929)
А теперь более сложная ситуация. На столе лежит курительная
трубка, и, указывая на нее, я произношу: «это трубка». Как в этом
случае утверждать, что референт (трубка как вещь) не включен в акт
коммуникации, если слово и, возможно, мой жест указывают именно
на него? Строго говоря, слово «трубка» замещает, прежде всего, понятие
«трубка». Для того чтобы употребить это слово по отношению к вещи,
я должна априорно знать, как выглядят трубки, для чего используются,
то есть я должна иметь представление о курительной трубке как таковой. И только на этом основании я смогу ту вещь, что лежит передо
мной, включить в соответствующий класс трубок. Так работает механизм категоризации.
Отсюда аксиома Ч. Пирса ,что знак указывает на нечто вне себя
самого, неочевидным образом утверждает, что вне — это действительно
вне тела знака, однако не за пределами языка. Все знаки, взятые автономно, вне контекста высказывания, являются «чистыми знаками»,
то есть verbum mentis, поскольку соотносят нас не с самой вещью,
но с ее идеей-понятием. Об этом У. Эко в «Имени розы» рассуждает
устами Вильгельма Баскервильского: за словом «конь» стоит только
конь как таковой.
Почему знак рассматривается как доказательство существования своего референта? Вернусь к формуле Esse est percipi: существовать — значит быть воспринимаемым. Из ментальной связи между
знаком и его референтом с неизбежностью должно выводиться существование объекта, на который знак указывает, каким бы парадоксальным данный объект нам ни казался. Пусть это даже будут круглый
квадрат, или борхесовская единая вовеки роза роз, или универсалии,
о которых пишет Чеслав Милош:
«Платон и его идеи: на земле существуют — бегают и сменяют друг друга
поколения зайцев, лис, коней, а где-то там, наверху, вечно длятся идеи зайцости, лисости, идея коня и идея треугольника <…>»1.
1 Plato i jego idee: na ziemi biegają i przemijają zające, lisy, konie, ale gdzieś tam w górze
trwają wiecznie idee zajęczości, lisowatości, koniowatości, wespół z ideą trójkąta <…> (выделено мной. — Е. Б.). Miłosz Cz. Abecadło. Kraków : Wydawnictwo literackie, 2010. S. 105.
25
Указывая на вещь и называя ее, знак тем самым подтверждает
ее присутствие в мире, вводит в акт мышления и этим обеспечивает
ее существование. О механизме семиотической достоверности речь
идет практически в каждом романе У. Эко:
Роберт де Ла Грив «воссоздает Госпожу на бумаге, дабы не утратить ее»1.
«Если существует отпечаток, значит, существует то, что его отпечатало», — утверждает Вильгельм Баскервильский2.
«Если я провозглашал, что видел сирену в море, то <…> люди верили в эту
сирену и нахваливали меня за правдивые рассказы. <…> Что бы я ни сказал,
все всегда воспринималось как истина, так как было сказано мною. <…>
Если наш рассудок может вместить нечто, превыше чего нет на свете, то, следовательно, это нечто реально. <…> (Так я) явил миру святого Баудолина.
Сочинил сен-викторскую библиотеку. Пустил Волхвоцарей гулять по свету»3.
«Как можно не верить в существование маркиза Карабаса, если кот свидетельствует, что служит у него?».
Опираясь на эту аксиому, герои «Маятника Фуко» показывают,
насколько легко допустить реальность таких «исследовательских»
направлений (а следовательно, и объектов изучения), как «История
хлебопашества в Антарктиде», «Современная шумерская литература»,
«Ассиро-вавилонская филателия», «Иконология изданий Брайля»,
«Фонетика немого кино»4.
Вопрос об онтологической природе подобных референтов — один
из самых спорных в интеллектуальной истории. Для средневековых
реалистов (от лат. real — реальный) и их последователей (например,
Уильяма Блейка) универсалии составляли оборотную сторону реальности и обладали собственным бытием, тогда как философский номинализм (лат. nomina — имена) говорил об их ментальной природе: универсалии — это вещи, созданные разумом. Каждый из нас, как пишет
Х. Л. Борхес, рождается реалистом или номиналистом5. Для одних
слово «роза» отсылает к реально, то есть вне нас существующей идее
розе роз, для других оно лишь слово, связанное с понятием о розе. Интересно, что речь никогда не идет об абсолютной невозможности этих
странно-чудесных вещей, и в обоих случаях последовательно проводится в жизнь семиотическая аксиома о связи знака и референта: если
есть слово, то непременно где-то существует то, что оно замещает.
1
С. 15.
2
Эко У. Остров накануне / пер. с итал. Е. А. Костюкович. СПб. : Symposium, 1999.
Эко У. Имя розы. С. 390.
Эко У. Баудолино / пер. с итал. Е. А. Костюкович. СПб. : Symposium, 2003. С. 42,
241, 247.
4 Эко У. Маятник Фуко / пер. с итал. Е. А. Костюкович. СПб. : Symposium, 1998.
С. 94.
5 Борхес Х. Л. От аллегорий к романам // Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы. Эссе.
М. : НФ Пушкинская библиотека, 2003. С. 530.
3
26
Знак утверждает для нас ту вещь, которая стала его референтом. Так
знак наделяет вещь атрибутом существования. Esse est percipi — существует только то, что воспринимаемо, что названо и заключено
в форму знака. Отсюда верно и обратное: нет знака — нет и референта, то есть той вещи, которую он не заместил. Но как это понимать?
Можем ли мы допустить существование в мире вещей, для которых
в наших языках пока нет знаков? Теоретически — да. Но практически — нет, поскольку никто не засвидетельствовал в знаках их присутствия. Нет знака — нет вещи. Scripta manent — не исчезает лишь написанное, обращенное в знак.
Говоря о неразрывной ментальной связи знака и его референта,
затрону вопрос о том, можно ли допустить существование знаков без
референтов: ни на что не указывающих и отсылающих в никуда симулякров (Ж. Бодрийяр). Созданием подобных «пустых форм» увлекался,
в частности, Станислав Лем. Так, в «Четырнадцатом путешествии» его
«Звездных дневников» встречается первое упоминание о сепульках.
С одной стороны, Лем определенно говорит о существовании референта этого слова (sepulki), цитируя статью о сепульках из «Космической энциклопедии»:
«СЕПУЛЬКИ — элемент цивилизации андритов, играющий значительную
роль в их существовании и связанный с сепулькариями (см. СЕПУЛЬКАРИИ).
СЕПУЛЬКАРИИ — объекты, предназначенные для сепуления (см. СЕПУЛЕНИЕ).
СЕПУЛЕНИЕ — регулярное действие, процесс производства сепулек, совершаемый андритами, живущими на планете Энтропия (см. СЕПУЛЬКИ)»1.
С другой стороны, интерпретация этого слова дана как псевдонаучное определение: объяснение слова через круг однокоренных слов
не позволяет увидеть, что же именно знак замещает. К тому же в одном
из более поздних рассказов «Звездных дневников» Лем упоминает, что
«Космическая энциклопедия» — это выдумка, обман, из чего следует,
что фиктивны также и сепульки, о которых она говорит.
Кажется, что, указывая в никуда, симулякр становится знаком, обращенным только к себе самому. Нереферентность превращается в самореференцию — процесс, в котором выражение, указывая само на себя,
одновременно выполняет функции и знаконосителя, и референта. Так
рождается самореферентная «петля», которая подобна змее, кусающей
свой хвост2, или отражениям в последовательном ряде зеркал: «роза
есть роза есть роза есть роза» у Гертруды Стайн. Или вот фрагмент
из Х. Л. Борхеса о том, насколько опасно попасть в круг самореферентных знаков:
1 Lem S. Podróż czternasta // Lem S. Dzienniki gwiazdowe. Kraków: Wydawnictwo
literackie, 1982. S. 131.
2 Лат. autoreferentis — самовоспроизведение.
27
«Я-Борхес бреду по Буэнос-Айресу и везде сталкиваюсь с Борхесом:
его имя в библиографическом словаре, в списках преподавателей университета, на обложках книг. Но кто пишет эти книги — я или он? Я-Борхес
целиком отдавал себя ему-Борхесу и теперь тщетно пытаюсь освободиться
от него. <…> Я не знаю, кто из нас двоих пишет сейчас эту фразу»1.
Так как же семиотически решается ситуация с сепульками? Каждый
знак (включая те, что производят впечатление автореферентных) возникает в процессе отображения внеположенного ему референта: знак
указывает на нечто вне самого себя. Я более чем уверена, что Станислав
Лем, несомненно, представлял, что такое или кто такие сепульки: существуют ли они как неделимый организм или можно говорить о каждой/
каждом из сепулек/сепульков в отдельности. Другое дело, что читателям не остается ничего другого, как верить, что за этим словом стоят
некие объекты или субъекты, прекрасно известные Лему и обитателям
галактических пространств.
Как знак противостоит физическому исчезновению вещей? Знак
функционирует как другое тело своего референта. Именно под таким
углом зрения можно прочесть одноименный роман Милорада Павича.
Любая вещь — физическая или ментальной природы — подвержена воздействию времени и потому конечна. Перевод вещи в знаковую форму может сделать ее жизнь бесконечной. Но это будет другая
жизнь — существование в теле языка, материи его знаков. В пространстве романа обсуждаются различные формы знаковых воплощений
того, что подвержено физическому исчезновению. Прежде всего, это
возможность получить другое тело после смерти (как это произошло
с Иисусом). Однако телесное воплощение возможно и в иных формах.
Павич пишет о терракотовой армии китайского императора Цинь
Шихуанди, воссоздавшего в глиняных скульптурах всю свою империю:
«Из обожженной глины была сделана в натуральную величину копия
огромной армии царя, от конюха до сокола на рукавице гонца. Было создано своего рода другое тело армии»2.
Другое тело получил каждый из воинов, коней, птиц. Но через них
и сам император получил свое другое тело. Его терракотовая армия
стала текстом, посланием, «бескрайним словарем жизни властелина
и жизни на земле в целом». И Тот, кому было предназначено послание,
мог прочесть его, как Ему будет угодно.
В этом же романе Павич говорит и о своем другом теле. Им станут
его книги:
1
Борхес Х. Л. Я и Борхес // Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы. Эссе. С. 304.
Павич М. Другое тело / пер. с сербск. Л. Савельевой. СПб. : Азбука-классика, 2007.
С. 170.
2
28
«Мы твое другое тело. Мы, твои книги. <…> И чем дальше заходит твоя
жизнь, чем ближе ты к концу, тем больше твоих радостей, твоего прошлого,
твоих растраченных сил, твоих бывших любовей и ненавистей остается
только в книгах, в нас»1.
В итоге человек, вещь, идея могут исчезнуть окончательно, только
потеряв второе тело, например, «если нас (знаки) не будут читать».
Замещая свой референт, знаковые репрезентации (образы вещей,
их «другие тела») обретают автономность и живут в культуре собственной жизнью. Об этом у Милана Кундеры:
«Образ: Рубенс давно знает, что это значит. Прячась за спину одноклассника, сидящего на передней парте, он тайком рисовал карикатуру на учителя.
Потом оторвал глаза от рисунка; лицо учителя в непрерывном мимическом
движении на рисунок не походило. И тем не менее, когда учитель исчез из его
поля зрения, он не мог представить его (ни тогда, ни теперь) иначе, чем в виде
своей карикатуры. Учитель навсегда скрылся за своим образом.
На выставке одного знаменитого фотографа он видел снимок человека,
поднимающегося с тротуара с окровавленным лицом. Незабываемая, загадочная фотография! Кто был этот человек? Что случилось с ним? Вероятно,
банальное уличное происшествие, думал Рубенс: споткнулся, упал, а тут
откуда ни возьмись фотограф. Ничего не предполагавший в ту минуту человек поднялся, обмыл в ближайшем бистро лицо и пошел восвояси, к жене.
А в этот момент, упоенный своим рождением, его образ отделился от него
и двинулся в противоположную сторону, чтобы пережить собственные приключения, собственную судьбу.
Человек может скрыться за своим образом, может полностью отделиться
от своего образа, но он никогда не бывает своим образом». (Милан Кундера.
Бессмертие)2.
Еще одна калиточка в область, где возникает сомнение в очевидности прежних представлений о знаке, приоткрывается в связи с внутренней формой самого термина «знаконоситель». Действительно
ли он несет в себе семантику знака? Ведь из этого следует, что каждый знак априорно содержит в себе значения. Этот вопрос неизбежно
ставит нас перед следующим: что есть значение, дано ли оно интерпретатору до знака, вместе со знаком или значение есть результат закрепленного употребления языков культуры (значение как употребление
в итоге). Поскольку знак возникает исключительно в операциях замещения референта, то для семиотики значение становится функцией
использования одной «вещи» в качестве индекса, иконы или символа
другой «вещи». Таким образом семиотический носитель значения функционально не тождественен носителям информации (уже ушедшим
в прошлое дискетам и лазерным дискам, сменившим их флешкам, или
1
Павич М. Там же. С. 183.
Кундера М. Бессмертие / пер. с чеш. Н. Шульгиной. СПб. : Азбука-классика, 2005.
С. 342—343.
2
29
USB-флеш-накопителям), которые в определенном смысле действительно содержат ее в себе.
Вопросы и задания
1. Напишите небольшое эссе, посвященное заместительной функции знака.
Что стоит за этой функцией? Почему наше мышление, имеющее исключительно
знаковую природу, подобно машине времени?
2. Объясните заместительную функцию знака на примере картин Рене
Магритта «Это не яблоко» и «Это кусок сыра» (рис. 6 и 7).
3. Приведите примеры нулевых знаков в вербальном языке, музыке, танце,
живописи и других знаковых системах. О какой материи идет речь в случае
с нулевыми и ментальными знаками?
4. Согласны ли Вы с утверждением о том, что знак рассматривается как
доказательство «существования» своего референта? Прокомментируйте следующие высказывания, опираясь на модель знака Ч. Пирса:
«Как можно сомневаться в существовании маркиза Карабаса, если кот
утверждает, что он у него на службе?» (У. Эко, Маятник Фуко)
«Если существует отпечаток, значит, существует то, что его отпечатало».
(У. Эко. Имя розы)
5. Действительно ли знаконоситель несет на себе значения и смыслы? Что
такое значения и смыслы с точки зрения семиотики? Можно ли говорить о бессмысленных знаках? В рассуждении опирайтесь на следующий текст:
«Середина одного манускрипта была безвозвратно утрачена. В подобном
виде текст не годился для продажи. Недолго думая, я разыскал среди свитков
в пыли обрывок, подходящий по формату, и вклеил его в середину. В результате получился цельный манускрипт». (Иржи Грошек. Реставрация обеда)
6. Читаем у И. Бродского, что «от великих вещей остаются слова языка».
Доказывает ли это существование знаков без референтов?
7. Существуют ли знаки без референтов и вещи, для которых в наших языках
пока нет знаков?
8. Как знаковые системы противостоят физическому исчезновению вещей?
Рис. 6. Рене Магритт. Это не яблоко Рис. 7. Рене Магритт. Это кусок сыра
30
Классификации знаков
Все многообразие знаков может быть упорядочено по четырем основаниям. Мы можем отталкиваться от:
— материи знаконосителя;
— происхождения знаконосителя;
— онтологической природы референта;
— способа отображения референта.
Эти параметры напрямую соотносятся с составляющими пирсовской
триады — носителем информации, референтом и смыслом как способом отображения референта.
Классы знаков с точки зрения материи их знаконосителей
Знак обращен к интерпретатору прежде всего своей материей, которая воспринимается органами чувств. На этом основании выделяются
знаки аудиальные, визуальные, тактильные, обонятельные, вкусовые.
Уже упоминалось, что материя, которая использована для воплощения информации, во многом предопределяет интерпретацию текста.
Так, например, восприятие скрипичных концертов А. Вивальди отлично
от восприятия их клавирных переложений, выполненных И. С. Бахом.
Есть разница между восприятием бумажного издания книги и чтением
того же текста на экране монитора.
Не менее важен здесь и такой параметр, как степень устойчивости знаконосителя. Человеку легче работать с интерпретацией знака,
зафиксированного в пространстве и времени, поскольку зафиксированность позволяет воспринимать знак многократно. Невозможность
создания словаря конвенциональных значений запахов, особенно
сложных ароматов, объясняется их летучестью, способностью растворяться в воздухе.
Знаки естественные и искусственные
Казалось бы, семиотика может классифицировать знаки с точки
зрения происхождения их знаконосителей, выделяя так называемые
естественные (природные) знаки (грозовая туча на небе) и знаки
искусственные (флюгер, созданный руками человека). Такая классификация действительно существует и описана в большинстве учебников
по семиотике. Однако можно высказать сомнение в возможности описания знаков по этому основанию. Но не буду забегать вперед.
31
Обозначая знаки как «естественные»/«искусственные», мы имеем
в виду происхождение вещи, употребляемой в качестве знака: принадлежит ли она физическому миру, то есть имеет естественное происхождение, или, напротив, создана человеком. Естественные знаки позволяют
читать мир как книгу. Об этом У. Эко говорит в «Имени розы» устами
Вильгельма Баскервильского: «Добрейший Адсон… Всю поездку я учу
тебя различать следы, по которым мы читаем в мире, как в огромной
книге». Эко описывает ситуацию, когда Вильгельм Баскервильский,
ни разу не видя сбежавшего из монастыря коня, по следам на снегу
абсолютно точно описал не только его местонахождение, но и внешний
вид и даже назвал имя. Правила чтения естественных знаков использовались и продолжают использоваться человеком в навигации на море
и в воздухе, в медицине, в геологической разведке и т. д. Однако
в истории культуры интерпретация объектов мира в качестве знаков
не всегда позволяла приходить к правильным заключениям. Так, вывод
о том, что солнце движется вокруг земли, делался на основании визуально воспринимаемых фактов: солнце движется по небосклону, а день
сменяется ночью.
Кажется, что выделение естественных и искусственных знаков
достаточно обоснованно и непротиворечиво. Однако не так просто
провести границу между этими классами. В том же романе «Имя розы»
Вильгельм Баскервильский говорит, что для ориентации в лабиринте
можно, встречая очередной поворот, ставить на стенах знаки-крестики.
Крестик — однозначно искусственный знак. Но как расценить, например, намеренно сломленную человеком ветку? Ветка принадлежит
природе, но сломали ее с определенной целью, чтобы оставить: а) для
других знак своего присутствия; б) знак для себя самого, позволяющий
не заблудиться на обратном пути и др.
Из этого следует вывод, что даже в случае со знаконосителями природного происхождения мы никогда не имеем дело с вещами как таковыми, но только вещами, которые мы рассматриваем как знаки других
вещей. Распускающиеся почки говорят о начале весны, и почки как
физический объект имеют природное происхождение. Однако, с точки
зрения здравой логики, почки ничего не говорят нам, а распускаются
в силу биологических необходимостей и законов. Повторяющиеся
результаты наблюдений за природой позволяют создать устойчивую
ассоциацию: почки — значит весна.
В итоге не важно, произведена ли вещь человеком или природой,
поскольку только в нашей власти сделать вещь знаком и носителем
значений. Соответственно, приходится сомневаться в существовании «чистых» естественных знаков. Знаки создаются человеком
и для человека, а значит, намеренно. Вещи могут иметь естественное происхождение могут иметь только вещи, тогда как знаки создаются культурой. Только человек назначает вещь выполнять функцию
знака, но тогда человек не имеет дело с вещами, а интерпретирует
знаконосители.
32
Имена и предикаты: логико-семантическая классификация знаков
Основанием для этой классификации становится ответ на вопрос,
какого рода объект замещается знаком, то есть выполняет функцию
референта. Поскольку вопросами приложения языка к объектам мира
занималась сначала логика, эта классификация носит название логикосемантической. В зависимости от природы объекта указания знаки подразделяются на имена (индивидуальные и общие) и предикаты. Эта
классификация не относится к собственно семиотической, но я представлю ее, чтобы еще раз подчеркнуть, что: а) отношения между человеком, его языками и миром — это общенаучная проблема; и б) в данном случае трудно провести отчетливую границу между семиотикой
и логическим анализом языка.
Сначала определим, что именно может выступать для знака в качестве объекта референциального указания. При ответе на этот вопрос
мы сталкиваемся с философской проблемой онтологической относительности мира. «Чистая» лингвистика не интересуется онтологической природой референта отображения. Для семиотики и философии
языка, напротив, этот вопрос очень важен, поскольку речь идет о репрезентативном потенциале языков — их возможностях отображать существующий и возможные миры.
В мире, в котором мы живем, выделяется несколько видов объектов
с различным онтологическим статусом:
• дискретные объекты, доступные эмпирическому наблюдению
(кот);
• дискретные объекты, наблюдаемые только в сознании, существующие в виде ментальных, визуальных и другого рода образов-представлений (гном, единорог);
• классы предметных объектов (деревья, звезды);
• непредметные объекты, также существующие в виде представлений (пространство, гармония);
• свойства или атрибуты всех выше названных объектов (зеленый,
лететь).
Соответственно, в языке должны существовать знаки для актуализации столь различных вещей.
Имена предназначены для номинации (называния) предметов.
В определенном смысле «имя вещи подобно прикрепленному к ней
ярлыку» (Л. Витгенштейн). В зависимости от того, замещает ли знак
один объект или класс объектов, имена определяются как индивидные
и общие.
Индивидные имена соотносятся с единичными объектами. Можно
говорить о том, что такие знаки стремятся быть собственными именами своих объектов. Не вызывает сомнения, что в высказывании
«я проснулся от криков чаек в Дублине» (И. Бродский) Дублин — это
имя собственное города, позволяющее идентифицировать его в акте
33
речи. Но, с точки зрения логического анализа языка, в высказывании
«свет проникает в окно, слепя» (И. Бродский) номинация окно — также
индивидное имя соответствующего объекта, если речь идет именно
об этом окне и контекст помогает выделить его из класса подобных
объектов. То же в примере из Чеслава Милоша: «Такого трактата молодой человек не напишет». Этой фразой Милош открывает свой «Теологический трактат», и слово трактат становится именем того самого
сочинения, на которое в данный момент обращено внимание читателя.
Индивидные имена можно рассматривать как знаки, обеспечивающие устойчивые отношения между языком и миром, ведь их носитель
стремится обладать конвенциональной связью с одним единственным
референтом. Однако эта устойчивость иллюзорна. Нет такого имени
собственного (даже в более привычном, нежели логическое, понимании), которое бы во всех случаях употребления «держало» бы при себе
только один референт. Так, строка Владимира Карпова «Где твой Фауст,
Маргарита, Маргарита, где твой Мастер?» обращена к классу Маргарит,
у каждой из которых свои Фауст и Мастер. В строгом смысле индивидные имена становятся таковыми только в контексте, где происходит
выделение одного объекта из класса тождественных.
Общие имена замещают класс объектов, а не единичный референт:
«Деревья ночью шумят на берегу пролива» (И. Бродский);
«<…> почему таков, а не иной порядок сотворения — пытались ответить
герметики, каббалисты, алхимики, рыцари Розы и Креста» (Ч. Милош);
«<…> меня высмеивали за Сведенборгов и прочие небылицы» (Ч. Милош).
Наличие в вербальном языке общих имен отражает способность
человека к обобщению, категоризации, что является основанием
мышления и адаптации к миру. Категоризация — одно из сущностных
свойств математической репрезентации. Так, в высказывании (х){а,
в, с…} — существует класс объектов {а, в, с…}, обладающих свойством
х, — знаки а, в, с функционируют как имена классов объектов, то есть
общие имена. Здесь а есть общее имя класса объектов {а′, а", …}.
Знаки, предназначенные для обозначения свойств отдельных объектов / классов объектов и отношений между объектами, носят название предикаты. В зависимости от характера своего референта предикаты подразделяются на так называемые внутренние, указывающие
на свойства вещей, и внешние, репрезентирующие отношения между
объектами. В высказывании И. Бродского «мир сливается в длинную
улицу» слово «сливается» функционирует как внешний предикат, тогда
как длинная — это индексация качества, принадлежащего собственно
улице вне ее отношений с другими объектами, то есть внутренний предикатный знак.
В математической записи (х){а, в, с…} х выполняет функцию внутреннего предиката, поскольку является свойством каждого члена
класса объектов {а, в, с…}. В выражении а + в знак «+» определяется
как внешний предикат, говорящий о слиянии объектов а и в.
34
Из внешних предикатов наиболее абстрактным по значению является предикат со значением существования. В высказывании И. Бродского «Частная жизнь. Рваные мысли, страхи» функцию неактуализированного (нулевого) знака бытия выполняет сам контекст, которым
подтверждается, что жизнь, мысли, страхи существуют.
Далеко не всегда в лингвистических исследованиях предикаты признаются знаками, ведь их референты (свойства и отношения) не обладают статусом самостоятельного существования: свойство лететь
не существует в отрыве от того, кто/что летит. Средневековые мыслители-номиналисты на этом основании утверждали несамостоятельность знаков, предназначенных для обозначения свойств и отношений.
Напротив, платонисты и средневековые реалисты допускали существование абстрактных универсалий, а соответственно, и знаков для
их обозначения.
Несколько замечаний о роли предикатных знаков в языковых
системах.
1. Предикаты дают возможность употребить общее имя в качестве
индивидного. Так, птица станет именем конкретного объекта только
в том случае, если мы скажем, какая она, что она делает, т. е. совершим операцию приписывания к имени предикатов. Чем больше предикатов будет приписано, тем определеннее мы будем представлять
именно эту птицу. При отсутствии предикатов имя останется общим,
приложимым к классу птиц. То же и в живописи. Схематичный набросок птицы, где рисунок позволяет узнать птицу как таковую, воспринимается как имя общее. Если изображение будет детальным (а предел
детализации — фотографическое изображение), то визуальное сообщение (знак) будет стремиться перейти в разряд индивидного имени.
2. В ходе операции приписывания к имени предиката создается
высказывание о предмете, т. е. запускается механизм языка. Это происходит даже в тех случаях, когда предикатным знаком утверждается
только сам факт существования предмета: «вот бабочка» (она есть).
Причина в том, что высказывание нельзя произвести хотя бы без одного
предиката — бытийного, который может иметь форму нулевого знака.
Эта особенность характерна для грамматики русского языка («я в Венеции»).
3. Посредством операции приписывания предикатов создается
эффект достоверности вымышленных (возможных) миров. Пожалуй,
очень трудно отрицать существование хоббитов, если их «атрибуты»
представлены так зримо:
«Пожалуй, стоит рассказать о хоббитах подробнее <…>. Сами они низкорослый народец, примерно в половину нашего роста и пониже бородатых
гномов. Бороды у хоббитов нет. Волшебного в них тоже в общем-то ничего
нет, если не считать волшебным умение быстро и бесшумно исчезать в тех
случаях, когда всякие бестолковые, неуклюжие верзилы вроде нас с вами,
с шумом и треском ломятся, как слоны. У хоббитов толстенькое брюшко; оде35
ваются они ярко, преимущественно в зеленое и желтое; башмаков не носят,
потому что на ногах у них от природы жесткие кожаные подошвы и густой
теплый бурый мех, как и на голове. Только на голове он курчавится. У хоббитов длинные ловкие темные пальцы на руках, добродушные лица; смеются они
густым утробным смехом (особенно после обеда, а обедают они, как правило,
дважды в день, если получится». (Дж. Р. Толкиен. Хоббит, или туда и обратно).
Границы между именами общими и индивидными, именами и предикатами, предикатами внешними и внутренними в языках очень подвижны. Прежде всего, языки стремятся не иметь в своем арсенале знаков, которые являлись бы именами «только вот этих» объектов. Даже
если имя возникает как действительно собственное (Адам как имя
первого и некоторое время единственного человека), потом оно неизбежно становится именем класса, переходя в разряд общих. Именно
так языки обеспечивают нам возможность научного познания мира,
ведь посредством общих имен происходит систематизация объектов
реальности — их категоризация и объединение в классы. В формальных языках, где референты отображения — это не конкретные объекты, а классы и отношения, вообще нет имен единичных объектов.
В тех же языковых системах, где индивидные имена теоретически есть,
границы между ними и общими именами проходят, напомню, только
через операцию приписывания к имени предиката. Имя с предикатным
знаком/знаками индивидуализирует объект номинации, а без предиката воспринимается как имя класса объектов.
Языки балансируют между установкой на номинацию индивидного
или общего. Во всех языках имеется тенденция к преобладанию обобщающего способа отображения мира — к типизации. В этой тенденции
есть свои плюсы и минусы. Положительная сторона номинации через
обобщение — возможность категоризации мира, мышления, научного
познания. Отрицательная сторона — в отсутствии уверенности, что
даже в случае самого детального описания знак будет соотноситься
именно с этим объектом и ни с каким другим:
Мне снится тигр…
Безгрешный, мощный, юный и кровавый <…>
Я вижу сквозь бамбуковый узор узор на шкуре <…>
<…> понимаю, что хищник, вызванный моей строкой, —
Сплетенье символов и наваждений,
Простой набор литературных тропов… создание искусства,
А не идущий луговиной зверь. Порождение сознанья, конструкция из слов.
(Х. Л. Борхес. Тигр)
Новелла Х. Л. Борхеса «Фунес, чудо памяти» посвящена проблеме
выбора приоритетов в способах отображения мира. В центре повествования — Иренео Фунес, обладающий необычайной способностью
помнить не просто каждый ранее виденный им объект, но и каждое
36
мгновение существования этой вещи. Он помнил, например, все конфигурации каждого облака на небе или каждую из несметных частиц
пепла. Стремление видеть мир сквозь призму собственного опыта
заставляло Фунеса «не соглашаться» с тем, что язык изначально направлен на обобщение:
«Ему не только трудно было понять, что родовое имя «собака» охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм; ему
не нравилось, что собака в три часа четырнадцать минут (видимая в профиль) имеет то же имя, что собака в три часа пятнадцать минут (видимая
анфас)»1.
Фунес желал, чтобы в языке «каждый отдельный предмет, каждый
камень, каждая птица и каждая ветка имели бы собственное имя».
Но и этого мало — ведь каждый миг жизни этих предметов также индивидуален и, соответственно, вновь требует отдельного имени! Гнет
реальности, обрушившийся на Иренео, оказался несовместим с жизнью. Борхес замечает, что Иренео на самом деле был лишен мышления,
поскольку не мог «забывать о различиях, обобщать, абстрагировать»2.
Что касается границ между именем и предикатом, то исходя из принципа экономии один и тот же знак может функционировать то в качестве общего имени, то в качестве предиката. Это определяется его
синтаксической позицией в высказывании. Так, в строке И. Бродского
«взгляни на деревянный дом» лексема «дом» воспринимается как индивидное имя объекта, тогда как у Ч. Милоша («польский язык есть мой
единственный дом») это же слово становится предикатным знаком.
Индексы, иконы и символы: классификация знаков по способу
замещения референта
Классификация знаков может быть основана на способе замещения референта как способе «зацепить высказывание за мир» (Н. Арутюнова). Любой знак не просто употребляется вместо референта, но,
отдаляясь от того, что замещает, создает его образ с точки зрения человека, традиции, культуры. Сущность этого процесса визуализируется
внутренней формой латинского глагола repraesentare — представлять,
репрезентировать, где praesens — уже наличный в мире, а re- — воспроизведение этого существования в знаках любого языка культуры.
Один и тот же референт может быть актуализирован непосредственным указанием на объект речи или отображен в образе-представлении. Знак — это не просто метка референта. Знак представляет его как
текст. Вот почему у И. Бродского:
1
2
Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы. Эссе. С. 168.
Там же. С. 169.
37
Прижавшееся к стене
дерево и его тень.
Тень интересней мне.
(Сад в тени)
Тень дерева (его знак) действительно интереснее самого дерева,
поскольку дает возможность посмотреть на него под другим углом зрения: например, увидеть человека с поднятыми к небу руками или согбенного старца. В эссе «Набережная неисцелимых» И. Бродский говорит
об отражениях дворцов Венеции в ее каналах. Отражения не просто
повторяют дворцы, но преумножают красоту Венеции, поскольку в зеркале воды красота обретает живую подвижность.
Рассмотрим, как способ репрезентации референта становится основанием для категориального распределения знаков (индекс, икона,
символ), выступая инструментом генерирования смыслов.
Индексы (лат. index, указательный палец) — это так называемые
жестовые, или дейктические, знаки, замещающие свой референт простым указанием. Так, слово «он» привлекает наше внимание, например,
к субъекту, не принимающему непосредственного участия в разговоре,
но никак не описывает этого человека.
Индексальные знаки могут интерпретироваться как следствие или
симптом некоторой причины (референтной ситуации): за бледностью
или сжатыми кулаками стоит внутреннее напряжение, поворот флюгера свидетельствует об определенном направлении ветра, а распускающаяся почка — о приходе весны.
По Ч. Пирсу, индексы дают нам уверенность в том, что объекты,
на которые мы указываем, обладают реальностью существования. Указательный жест (в прямом или переносном смысле этого слова) создает
эффект непосредственного присутствия референта в акте речи: если
я пишу о тебе, то ты (хотя бы в качестве ментального образа) уже
здесь, «на том конце невидимого жеста» (Б. Ахмадулина). В свою очередь, и «ты узнаешь меня по почерку» (И. Бродский). Таким образом,
у нас есть два критерия, позволяющих делать заключение об индексальном характере знака: его указательная функция, а также физическая
природа референта, ведь указательный жест понятен только по отношению к тем объектам, которые мы воспринимаем органами чувств.
Семантика индексов может быть описана только через ту же функцию отсылки-указания. Действительно, как определить значение слова
«вот»? Им говорящий привлекает внимание собеседника к тому, кто/
что станет предметом речи. За словом «я» стоит человек, который употребляет этот знак применительно к себе, однако абсолютно каждый
из нас человек использует этот знак автореференции. То есть вне контекста «вот» не значит ничего. Вернее, словарь фиксирует в качестве
значения этого знака некую потенциальную отсылку. По существу,
индексы — это знаки без конвенционального значения, ведь их пони38
мание определяется только функцией указания: И все же индексы
нельзя считать «примитивными» знаками. Во всех языках культуры они
локализуют высказывание относительно точек времени и (или) пространства, самого говорящего или слушающего, то есть в буквальном
смысле прикрепляют наши тексты к миру1. Так, в музыке индексами
(нотами, ключами, паузами) кодируются звуковысотные (пространственные) и временны́е (имеющие отношение к длительности звучания) характеристики звуков (рис. 8).
Рис. 8. Начальный фрагмент фортепианной сонаты В. А. Моцарта C-dur
В этом же примере:
— альбертиевы басы (разложенные аккорды в левой руке) не только
являются индексальным знаком определенной эпохи (ими пользовались барочные композиторы и венские классики), но напрямую связаны с именем итальянского композитора Доменико Альберти, которому приписывают авторство этого приема;
— пауза индексирует молчание (нулевой знак музыки);
— вертикальными чертами звуковая ткань размечена на такты,
а после скрипичного ключа указывается размер — четыре четвертных
ноты в такте и др.
Традиционно состав индексов сводится к собственно указателямдейктикам: в вербальных языках это, например, указательные местоимения и наречия (он, там, вчера и др.), а в визуальных сообщениях — стрелочки на планах и картах. Однако класс индексов намного
шире. Так, запах мяты выдает ее присутствие. В романе Милорада
Павича «Другое тело» иеромонах Гавриил по запаху переплетного клея
и чернил с безошибочной точностью определял цвет чернил, переплета
и обложки, так что ему не нужно было открывать саму книгу, чтобы
убедиться в этом2. Индексальную функцию имеет и отблеск костра.
Например, он станет знаком того, кто зажег огонь, и тогда «отблеск
костра ночью на берегу, вниз по реке скользя, выдаст тебя врагу»
(И. Бродский). Имя собственное выделяет своего обладателя из социума (в определенном контексте это делают и общие имена), а обозначения места или температуры воздуха направляют на эти объекты луч
нашего внимания:
1
2
Sebeok T. A. Signs: an introduction to semiotics. Р. 10.
Павич М. Другое тело. С. 236.
39
В холодную пору, <…>
Младенец родился в пещере <…>.
(И. Бродский. Рождественская звезда)
Для выделения вот этого младенца или именно этой пещеры
используется сам контекст речи, связанный с Рождеством, что однозначно позволяет понимать, о каком младенце и какой пещере говорит поэт. Забегу вперед: в языках культуры нет автономного класса
индексальных (а также иконических и символических) знаков. Один
и тот же знаконоситель может использоваться в функциях индекса или
символа, например. Так, слово «младенец» можно прочитать и как символ, отсылающий к понятию «Спаситель».
Иконические знаки (англ. icons, греч. eikǿn — изображение, образ)
воспроизводят ряд свойств, присущих тому объекту, который они замещают. Рисунок кота, выполненный в реалистической манере, похож
на самого кота, а звукоподражание мяу-мяу воспроизводит звучание его «речи». Иконизм происходит из отношений подобия — имитации — мимесиса: знаку, с точки зрения Чарльза Пирса, «случилось
быть похожим» на свой референт. Иконические знаки обладают рядом
свойств, присущих обозначаемому им объекту, независимо от того,
существует этот объект в действительности или только в воображении.
Так, вербальное описание хоббита Бильбо Беггинса и его изображения,
представленные в виде иллюстраций, несомненно, относятся к иконическим знакам.
Простейший вид иконических знаков в естественных языках — это
звукоподражательные слова, имитирующие звуки природы (мяу, чивчив). Иконический характер носят и многие грамматические способы
формообразования. Например, формальное удвоение (редупликация)
создает семантический эффект усиления признака: мало-мало, чутьчуть. Или формы множественного числа всегда «длиннее» форм единственного (кот — коты).
Как иконические воспроизведения рассматриваются также явления звукописи («под раскидистым вязом, шепчущим “че”, “ше”, “ще”»
у И. Бродского), поэтической метафоры («жизнь, откатывающаяся
волной от берега» — М. Павич), а также намеренное воссоздание автором стилистической манеры другого текста (стилизация). В художественном тексте сюжет, следующий за фабулой, иконически отображает
ход событий, происходивших в «жизни», во внетекстовой реальности.
От иконического воспроизведения отталкиваются такие жанры живописного искусства, как портрет, пейзаж. Примерами иконических знаков в литературе являются различного рода описания — пейзажные,
портретные, психологические, интерьерные.
В языке музыки достаточно редко обнаруживается отчетливый иконизм. Программно-изобразительная музыка (например,
пьеса П. И. Чайковского «Баба-Яга» из «Детского альбома») уступает
40
в степени иконизма визуальным текстам с изображением этого персонажа. В системе музыкальной увеличение высоты звуков отмечается движением графем (нот) вверх по нотному стану, понижение
высоты — движением вниз.
В зависимости от степени подобия знаконосителя и референта среди
иконических знаков можно выделить образы и схемы.
Иконические образы, по сравнению со схемами, дают несопоставимо более полное представление об объекте изображения. К иконамобразам относятся фотографии, скульптурные и живописные изображения (рис. 9).
Рис. 9. Фотография Зальцбурга
Сюда же включаются и образы, создаваемые в музыке. Например,
пьесы из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса построены на воспроизведении достаточно узнаваемых движений, характерных для
соответствующих персонажей: маленьких птичек в вольере, рыбок
в аквариуме, лебедя, ослика, курицы и др. В класс иконических образов смело можно включить вербальные метафоры, все виды художественных дескрипций: описания интерьеров, психологических состояний, пейзажей, экфрасисы картин и др. Это уточнение необходимо,
поскольку, вслед за Ч. Пирсом и У. Моррисом, вербальные метафоры
традиционно составляют отдельный вид иконических репрезентаций.
К иконам-схемам относятся диаграммы, схемы, чертежи и другие
виды «нефигуративных» изображений, представляющие нам системноструктурные свойства объекта (рис. 10).
Карандашный набросок дерева, детские изображения солнышка как
круга с исходящими из него линиями — это тоже иконические схемы.
В отличие от икон-образов схематические наброски позволяют узнать
не «вот это» дерево, но дерево как таковое.
«Представление об иконических знаках, — отмечает У. Эко, — практически не менялось со времен Пирса, видимо, из уважения к нему»1.
1 Цит. по: Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск : Пропилеи, 2000. С. 85.
41
Рис. 10. План метрополитена Вены
Уточнения Эко о природе иконизма сводятся к тому, что этот знак призван обеспечивать когнитивные функции узнавания знаконосителя
и того, что за ним скрывается, — референта. Узнавание предуготовано
хранимыми в памяти пресуппозициями — стереотипными образами
знакомых объектов. Это позволяет, например, распознать, чьи движения воспроизводят тотемические танцы шамана: утки, вóрона или
змеи. Для узнавания зебры важны лишь две наиболее характерные
черты: четвероногость и полосатость.
Код узнавания работает лишь в том случае, если в «энциклопедии»,
или памяти интерпретатора, хранятся ментальные картинки референтов (их визуальные образы), знания о структурных особенностях объектов отображения и другие сведения. Если предположить, что некто
никогда не видел плавающих в аквариуме рыб, то пьеса К. Сен-Санса
«Аквариум» из цикла «Карнавал животных» не позволит такому слушателю визуализировать эту музыку. Точно также изображение лошади
«вид сверху» (даже самое реалистичное!) далеко не всегда позволит
нам узнать, что это лошадь. Соответственно, оно не выполняет функцию иконического знака (рис. 11).
Иконизм в искусстве напрямую связан с созданием семиотически
достоверных и семиотически условных образов. Степень достоверности иконического знака определяется характером отображения (иконаобраз или схема), а также материей знаконосителя. Так, визуальные
иконы распознаются легче, нежели звуковые.
В определении и понимании символических знаков (symbols) семиотики единодушны только в одном: это знаки по «соглашению и установлению», ничем не похожие на то, что замещают1. В качестве символов семиотика рассматривает разнородные носители значений: здесь
1 «A symbol is a sign that stands for its referent in a n arbitrary, conventional
way». Sebeok T. A. Signs: an introduction to semiotics. P. 11.
42
А
Б
Рис. 10. Фотографии лошади
А. Вид лошади сверху. Б. Фотография, не вызывающая сомнений в том,
что это лошадь
и слова, эмблемы, визуальные изображения и вещи физического мира.
К категории символов относятся обозначения, принятые в формальных
языках: Cu — как медь, v — как скорость, a + b — как операция слияния двух классов некоторых объектов.
Определим более точные (нежели «соглашение») критерии, на основании которых знак определяется как символический. Прежде всего,
символы — знаки абстрактных референтов: идей, представлений,
понятий. В отличие от индекса или иконы, референт символа не воспринимается органами чувств. Знаком S в геометрии замещается представление о площади, а в логике — идея субъекта, сфера же (геометрическая форма и слово) символизирует Бога и бесконечность — объекты,
также недоступные эмпирическому познанию.
Рассмотрим неоднозначную ситуацию с вербальными знаками (словами), которые Ф. де Соссюр и его последователи включают в класс
символических1. Естественно, это не касается звукоподражаний (бух,
чирк, мяу-мяу), для которых характерен иконический способ репрезентации. С одной стороны, действительно, слово соотносится с понятием
как идеальным объектом, и на основании этого критерия должна интерпретироваться как символ. Так, «холодный» ни формой, ни звучанием
не репрезентирует тактильное ощущение холода, а только отсылает
к идее холода. Однако не все так просто. В акте речи нет слов как таковых, а есть актуализированные слова, соотносимые с ситуациями. Вербальный знак можно употребить в качестве заместителя идеи, но в другом контексте он обнаружит стремление индексировать конкретную
вещь. Так, борхесовский кот хранит в себе недосягаемость, незыблемую
тишь зеркал и загадку отчуждения, с бесстрастием смотря на человека
из вечности2. Слово «кот» выполняет функцию символа обозначенных
1
2
«Words in general are symbolic signs». Там же. P. 11.
Борхес Х. Л. Кот // Борхес, Х.. Л. Стихотворения. Новеллы. Эссе. С. 73.
43
вещей. Но разве тот же самый тип репрезентации мы используем, произнося: «смотри, какой чудесный серый кот во дворе»? Каждая лексема
в этом высказывании индексальна, поскольку направляет наше внимание на отдельный аспект реальности: знак «этот» тождественен жесту
руки, «серый» указывает на цвет вот этого кота, а за словом «двор»
стоит вид пространственного локуса. В итоге я не могу согласиться
с Ф. де Соссюром, что знаки вербального языка функционируют только
как символы, поскольку способ репрезентации определяется намерением говорящего.
Если символ как каждый знак и заключает в себе некий жест,
то мы не в силах его проследить. Отсюда семантика символа возникает
как результат «соглашения» и предполагает знание конвенции.
Но далеко не каждый символ произволен в отношении соглашения
о его использовании. Но если символы формальных языков действительно относятся к немотивированным конвенциональным знакам
(v ничем не напоминает идею скорости; впрочем, и слово «аист»
не похоже на аиста), то этого нельзя сказать о так называемых символах культуры. Они не просто замещают метафизическую абстракцию,
но стремятся сделать ее значимой для сообщества. А для этого следует
«убедить» культуру в том, что идея заслуживает внимания. Проблема
в одном: как показать абстракцию? Ведь
«все, что не облечено в “подобие телесности”, то есть не изображено в образах,
остается умонепостигаемым»1. Вот почему
символы культуры включают в структуру
носителя обязательный иконический
компонент. Это позволяет нам представить интеллектуальную абстракцию в схематичном, но все-таки чувственном иконическом образе, который в каких-то
Рис. 12. Колесо Фортуны
свойствах представляет замещаемую идею.
из иллюстрированной
Так, дерево, рост которого связан с разветэнциклопедии «Сад утех»
влением
ствола и корня, становится симво(Hortus deliciarum, XII в.)
лом истории и организации человеческого
опыта, знаком определенного способа освоения мира: генеалогическое
древо, древо познания, древо жизни, мировое дерево и др. Древоподобная
организация мышления и культуры отразилась в ведущем понятии
философии ХХ в. — ризоме Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
Покажу этот механизм aliud dicitur, aliud demonstrantur (одно говорится, другое показывается) на двух визуальных примерах (рис. 12).
Колесо, которое вращает Фортуна, символизирует идею непредсказуемой случайности человеческой жизни. В любой момент человеку может
выпасть любой вариант из «буду царствовать» (regnabo), «царствую»
1
44
Махов А. Е. Эмблематика: макрокосм. М. : Intrada, 2014. С. 32.
(regno),» царствовал» (regnavi), «утратил царство» (sum sine regno)1.
Культура воплощает и в буквальном смысле показывает эту идею в иконических образах: богиня вращает колесо Жизни, и человек претерпевает взлеты и падения Судьбы. Иконический компонент, включенный
в структуру символического знака, направлен на актуализацию идеи,
которая без картинки не может стать частью физического мира. Восприятие визуального текста происходит как переключение иконического
кода на символический. Тот же механизм используется и при восприятии
вербального символа «колесо Фортуны», когда это или подобное изображение возникает в качестве ментального образа.
Актуализация ветхозаветного символа «лестница Иакова» совершается через иконический образ лестницы, помогающий увидеть ее как
мост, соединяющий Небо и земное пространство,
как монолог Бога, обращенный к человеку. Христианский богослов и византийский философ
Иоанн Лествичник расширил семантику этого
знака: лестница символизирует сложный путь
самосовершенствования человека (восхождение
по ступеням Добродетелей), а также движение
научного познания и самопознания. Вся система
значений этого символа актуализирована в нарративной структуре романа Людмилы Улицкой
«Лестница Якова» (2015) (рис. 13).
Таким образом символы искусства — это знаки
Рис .13.
со скрытой мотивацией, занимающие маргинальВетхозаветная
лестница Иакова
ное положение в классе конвенциональных знаков. В этом их отличие от символов формальных
языков, где связь с референтом обусловлена исключительно конвенцией употребления, а не его иконической репрезентацией. Интерпретация символа в произведениях искусства подобна археологическим
раскопкам. Первичная форма рефлексии (восприятие знаконосителя)
тождественна снятию верхнего слоя: здесь совершается узнавание
референта, стоящего за визуальным изображением, вербальной номинацией, музыкальной формой и др. Иконический код становится основанием символической конструкции, которая теперь успешно «выговаривает неочевидное».
В заключение разговора о символах подумаем над вопросом: зачем
культуре символизация? Почему и целые эпохи (Средневековье,
барокко), и отдельные индивиды настроены на символическое мышление? Вот что говорит У. Эко об эпохе XVII в., где символы составляли
не просто риторический фон жизни человека, но мыслились им как
истинная реальность:
1 Нестеров А. Колесо фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века. М. : Прогресс-Традиция, 2015. С. 14.
45
«Люди того столетия считали обязанностью преобразовывать мир в чащу
Символов, Маскарадов, Живописностей. Всё должно было отражать тайные связи, быть сокровищницей смыслов, рассказывать много, но нешумливо, утаивать более, нежели открывать. Тайна символа (предел пределов) летуча, подобно голубке, ускользает, и никогда не известно, где она.
Но грезить о том, что заведомо не дается, не вершина ли это наиблагородных желаний?»1
Почему человек смотрит сквозь вещи физического мира, воспринимая их как символические «иероглифы и эмблемы Бога, подлинные
слова его подлинного языка»2? Об этом у А. Королева: в саду «краснели
не цветы, а капли крови Христовой, лилейно белела не плоть лепестков, а сама непорочность»3. Это вопрос не только семиотический,
но и антропологический. Когда кажется, что человек заключил в знаки
все, что его окружает, у него возникает непреодолимое желание расширить границы освоенного мира: выйти за пределы физического в метафизическое. А совершить это возможно только через символизацию.
Символический знак пропускает реальность через зеркало и тайну
иносказания (per speculum et in aenigmate), где цветок, дерево и река
становятся знаками сотворившего их Творца, где каждая малая вещь
говорит о несказуемой благости Сотворившего, а каждая жалкая роза
принимает значение глоссы нашего жизненного пути4.
В этом контексте становится понятной причина, почему У. Эко
не считал символы отдельным видом знаков (!), а рассматривал их как
модусы мышления-интерпретации: например, за изображением льва
следует распознать Христа или Дьявола5.
Вопросы и задания
1. Систематизируйте основания всех возможных классификаций знаков.
2. Поддерживаете ли Вы разделение знаков на естественные и искусственные? Объясните свою точку зрения.
3. О каких семиотических проблемах говорит следующий диалог
из романа У. Эко «Баудолино»? Охарактеризуйте вербальный знак «Гипатия»
в рамках логико-семантической классификации. О каких коммуникативных
проблемах говорит Умберто Эко?
«— Кто ты?
— Гипатия.
— Да, вы — гипатии, по имени той Гипатии (первой женщины-философа
в Древней Греции), это понятно. Но тебя-то как зовут?
1
Эко У. Остров накануне. С. 331—341.
Махов А. Е. Эмблематика: макрокосм. С. 27.
3 Королев А. Genius loci : повесть-эссе. М. : РА Арсис-Дизайн (ArsisBooks), 2014. С. 13.
4 Эко У. Имя розы. С. 340.
5 Eco U. Сzytanie świata / Tłum. M. Woźniak. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. S. 203.
2
46
— Гипатия.
— Нет, я спрашиваю, как зовут именно тебя, в отличие от твоих товарок.
Как тебя окликают остальные?
— Гипатия.
— Ну, ты вот вечером вернешься и встретишь какую-нибудь гипатию. Как
к ней обратишься?
— Счастливый вечер, о, Гипатия!
— Так что же, у вас всех зовут Гипатия?
— Ну разумеется, всех гипатий зовут Гипатиями, и ни одна не отличается
от прочих, иначе она не была бы гипатией.
— Но если тебя начинает разыскивать какая-то гипатия, как ей надо спрашивать у других гипатий о тебе? Не видел ли кто-нибудь ту самую гипатию,
которая ходит с единорогом по имени Акакий?
— Именно так. (У. Эко. Баудолино)
4. Функцию каких знаков в рамках собственно семиотической классификации выполняют следующие знаконосители? Для ответа на этот вопрос следует
определить референт, замещаемый знаком, и способ его отображения:
— прижизненная фотография Ивана Бунина;
— буква «д», буква «а»;
— пожелание доброго утра в высказывании: «Доброе утро! — произнес
Бильбо, желая сказать именно то, что утро доброе: солнце ярко сияло и трава
зеленела». Дж. Р. Толкиен;
— поддельный документ;
— фотография, сделанная как селфи;
— нота как графема в музыке;
— v как обозначение объема;
— карандашный набросок дерева.
5. Как объяснить, почему лев — это символ Христа и одновременно символ
Дьявола?
6. Как, с точки зрения семиотики, строятся загадки? Покажите это на следующем примере: «Не увидать ее корней, вершина выше тополей, все вверх и вверх
она идет, но не растет» Дж. Р. Толкиен. Туда и обратно. Загадка Голлума. Ответ:
гора.
7. С каким типов знаков связаны понятия «семиотическая достоверность»
и «семиотическая условность»? Покажите это на примерах.
8. О каком способе репрезентации говорит Р. М. Рильке: «Подсказать вещам
сокровенную сущность, не известную им?» Если человек видит мир подобным
образом, то на какой вид знаков настроено его мышление?
9. Почему языковые системы не предусматривают наличие знаков в «чистом»
виде? Какие здесь открываются возможности для репрезентации мира?
Репрезентативный потенциал индексов,
икон и символов
Рассмотрим вопрос о репрезентативном потенциале различных видов
знаков. Познание мира можно очень упрощенно представить в виде
серии ментальных процессов. За эмпирическим восприятием (я вижу
предмет или воспринимаю его другими органами чувств) следует выделение предмета: вербальная номинация, телесный жест позволяют
индексировать воспринятое. Одновременно мы создаем иконическое
повторение предмета в виде ментальной картинки, а далее работаем
с категоризацией — сравниваем картинку с прототипом (похож ли воспринимаемый объект на образец). Так происходит наша адаптация
к миру, основанная на индексальном обозначении объектов реальности и аналогическом видении (ср. у А. Тарковского: «я учился траве»).
Далее посредством знаков человек начинает символизировать то, что
выходит за границы физического мира, вступая в пространство идей.
Репрезентативный потенциал знаков (что именно и как мы можем
ими заместить) выводится из основного семиотического закона знаковых систем: чем ближе знак находится к своему референту (речь о степени условности, мотивированности знака), тем меньше в нем заряд
абстракции и тем меньше возможностей использовать его для трансляции собственной точки зрения на мир.
Индексальный знак стремится максимально сблизиться с тем объектом, на который он указывает, но происходит это только в непосредственном употреблении знака. Визуальный указательный знак — стрелочка, изъятая из конкретного плана или чертежа, сама по себе
не в силах направить наше внимание на что-то определенное. Указательность для внеконтекстного индекса — только потенция. Работать
стрелочка начинает в пространстве схемы. Так же и с вербальными указателями. «Вот» — это знак, с помощью которого говорящий привлекает внимание собеседника к объекту, о котором пойдет речь. Но вне
контекста (в словаре) слово «вот» лишено семантики, и его значение
описывается только через функцию.
Иконический знак в силу своей подражательной природы позволяет узнать тот объект, который он замещает. Однако если за реалистическим портретом или фотографией стоит вот этот референт,
то за карандашным наброском дерева или изображением дома у художника-примитивиста возникают дом и дерево как таковые, как представители класса объектов.
48
Иконический язык стал универсальным языком современной культуры: в отличие от национальных (естественных) языков, разделенных
барьером переводимости, визуальное иконическое сообщение может
быть и вненационально. Визуальная коммуникация в современном
мире если и не доминирует над вербальной, то стоит с ней вровень
(комиксы и фильмы вместо книг, использование визуального ряда
в рекламе и т. д.). Станислав Лем рассматривал эту тенденцию как
очень опасную для человечества:
«Усиленная зрелищная “безъязыковость” в медиа представляет своего
рода отступление от действий центральной нервной системы, в результате
чего человек добровольно отдает труд мышления машинам и искусственному
интеллекту, сам же при этом — смотрит картинки»1.
Парадоксальность и удивительность иконического знака состоит
в том, что в случаях максимальной достоверности изображения (предельного иконизма) мы забываем о том, что знак-икона и сам изображаемый объект — это разные вещи, которые принадлежат различным реальностям: знак (реальность семиотическая) воспринимается
как объект онтологической реальности, знак стремится стать самой
вещью. История магических и религиозных практик основана на нивелировании различия между двумя реальностями: так, протыкание
иголкой портрета некоего человека предполагает нанесение вреда уже
живому, а не изображенному человеку. Поклонники (фанаты) какоголибо актера или поп-звезды не проводят границы между их сценической и реальной жизнями.
Возможно ли довести знак до предельной степени иконизма? Казалось бы, да: степень воспроизведения референта теоретически можно
приблизить к некоторой абсолютной величине. Кажется, что чем выше
степень подобия, тем совершеннее знак. Однако приближение к абсолютному иконизму приводит к утрате оппозиции знак vs вещь, создавая
эффект «обманки» (trompe l’oeil): иллюзию восприятия вещи, а не знака.
На игре с обманом зрения (это изображение или все-таки сама реальность?) построен, например, цикл работ Рене Магритта «Пойманная
пленница» (рис. 14).
В картине, стоящей на мольберте (картине в картине), художник
достигает не просто высокой, но абсолютной степени иконического
подобия (семиотической достоверности). И это приводит к тому, что
для зрителя изображенное неотличимо от изображаемого. Кажется,
что небо, дома, повозка, лошадь, дерево не нарисованы, а реальны,
и мы видим их сквозь пустую раму картины. Отображение сливается
с отображаемым, знак воспринимается как референт, то есть как вещь,
исчезая в итоге как знак. В искусстве предельно возможная иконичность (т. е. достоверность) приводит к ситуации, когда человек перестает понимать, в какой же реальности он находится. Известный при1
Лем С. Молох. М. : Транзиткнига, 2005. С. 165.
49
мер: на заре кинематографа люди в зале в страхе вскакивали, поскольку
на них, как им казалось, с экрана двигался поезд. Поверив в действительность происходящего, мы испытываем страх, смотря фильмы ужасов, детективные истории.
Рис .13. Рене Магритт. Пойманная пленница
Со времен Средневековья остается неразрешенным спор о том,
является ли иконическим знаком зеркальное отражение. Знак ли это
того, кто стоит перед зеркалом? Кажется, что отражение удовлетворяет нашим представлениям об иконическом воспроизведении: отражение прочитывается как носитель, отсылающий к референту (тому,
что стоит перед зеркалом) и повторяющий его. Однако анализ этой
ситуации приводит к прямо противоположному заключению: отражение — не икона и даже вообще не знак. Чтобы объяснить это, сравним
отражение с фотографией и портретом — иконическими знаками, природа которых не вызывает сомнения.
Рисунок, фотография, портрет, — это знаки, замещающие свои референты. Например, людей, которых они представляют. Для восприятия
этих изображений нам не требуется сам изображенный (первая аксиома, позволяющая определять вещь как знак). Даже если мы зададимся
целью сравнить в режиме реального времени, насколько верна фотография или насколько велика степень похожести портрета, то и в этом
случае знак и референт не совпадают (вторая аксиома означивания).
Оригинал портрета присутствует в минуте «сейчас», тогда как сам портрет зафиксировал для позировавшего человека минуту его прошлого.
Напротив, зеркальное отражение существует только в одновременности
с тем, кто стоит перед зеркалом. Когда мы отходим от зеркала, наше
отражение также покидает его пределы. Мы не можем послать другу
зеркало со своим отражением, поскольку в полученном зеркале он увидит только самого себя. Отражение функционирует аналогично местоимению «я»: вне субъекта ни отражение, ни семантика этого слова (кто
именно этот «я»?) не возникают.
50
Следующий параметр, по которому следует сопоставлять отражение
и рисунок на предмет их иконизма, связан с операцией категоризации.
Даже самый реалистический портрет не воспроизводит абсолютно все
характеристики своего референта. Рисунок выделяет наиболее значимые, с точки зрения художника или интерпретатора, черты объекта
изображения. Одновременно иконическое воспроизведение сопровождается обязательной редукцией менее существенных признаков референта. Но даже в случае максимального сходства с тем, кто позировал
художнику, портрет всегда прочитывается как знак, замещающий класс
людей, то есть типизирующий знак. Напротив, зеркальное отражение
«безразлично» к тому, кого оно повторяет: зеркало не выделяет сущностных признаков в том, кто в нем отражается.
Семантика портрета как иконического знака определяется
тем, что и как он отображает (категоризирует, редуцирует). Зеркало же не переводит, не интерпретирует, а лишь запечатлевает то, что
в него попадает:
Вмещает все зеркальный мир глубокий,
Но ничего не помнят те глубины.
(Борхес Х. Л. Зеркала)1
Даже если, на первый взгляд, действительно кажется, что отражение
есть знак, на самом деле оно не удовлетворяет признакам, позволяющим давать ему такое определение. Отражение:
• не замещает свой референт, а возникает только в одновременности с ним;
• не способно функционировать в отсутствие того, кто отражается
в зеркале;
• не совершает по отношению к своему объекту операций моделирования, категоризации, типизации и редукции.
Но при этом мы не можем отрицать, что зеркало (отражение) включено в процесс коммуникации, который является процессом обмена
знаками! Получается, что отражение — не знак, но включено в знаковый процесс. Тогда что же оно такое?
У. Эко считает, что отражение следует считать своего рода протезом.
Если у нас плохое зрение, мы используем очки — искусственный глаз,
посредник между нашим собственным глазом и рассматриваемым объектом. В этом контексте зеркало — также всего лишь протез, позволяющий видеть то, чего наши глаза увидеть не в состоянии, например,
себя. Зеркало — это инструмент перцепции, но не означивания2.
И все же, как мне кажется, У. Эко не договаривает до конца. Соглашаясь с тем, что зеркало есть «протез», я не совсем разделяю способ его
1 Борхес Х. Л. Сочинения в трех томах. Т. 3. Стихотворения. Устные выступления.
Интервью. Рига : Полярис, 1994. С. 43.
2 Eco U. O zwierciadlach // Eco U. Cztanie świata. Kraków : Znak, 1999. S. 74—77.
51
рассуждений. Говоря о прагматике зеркал, Эко выходит из пространства семиотического анализа в бытовой дискурс, вынося за скобки рассуждений природу зеркальных отражений: как именно они включены
в процесс коммуникации?
Мой вариант решения этой проблемы находится в стадии «вопрос —
ответной» кристаллизации. Семиотическая ситуация, в которой принимает участие зеркало (отражение), может быть описана следующим
образом. За вопросом «как я выгляжу?» стоит объект моего познания:
визуальная сторона своего «я». Поскольку этот референт недоступен
для непосредственного восприятия (нельзя увидеть свое лицо), я прибегну к помощи зеркала. Именно оно предоставит мне «картинку»
моего облика.
И вот здесь самое интересное. Разве нельзя сказать, что истинным
референтом в этом процессе становится отражение? Обращаясь к отражению как к референту, человек создает представление о себе, выстраивает собственный образ как ментальный знак.
Полученное значение (какой/какая я?) всегда отлично от того,
какие мы «на самом деле» (как видят нас другие). И это полностью
согласуется с семиотической аксиомой: знак не совпадает со своим
референтом. Таким образом,отражение в зеркале — действительно
не знак, не икона, а референт, позволяющий родиться другому знаку
(иконическому или символическому ментальному образу). Этот вывод,
в отличие от вывода У. Эко, позволяет зеркалу остаться составляющим
семиотического процесса (семиозиса).
И, наконец, о когнитивном потенциале символов. С их помощью
человек, опираясь на объекты физического мира, преодолевает его
границы и выходит в пространство абстракций, универсалий, архетипов. Символы кодируют абстрактные представления-идеи. Конвенция
их употребления возникает благодаря присутствию в структуре знака
иконического компонента: образа, позволяющего актуализировать
замещаемую абстракцию — запустить процесс размышления о ней.
В процессе прочтения символа мы балансируем между зыбкой формой
универсальной идеи (verbum mentis) и представлением о том, как она
может выглядеть, облачившись в материальные формы. Так, сфера становится символом бесконечности мироздания, поскольку «началом»
шара можно выбрать любую точку, тогда как «конец» его пребывает
в нигде.
С функцией знаков (прямое указание на референт, повторение его
или актуализация абстрактного понятия) и их репрезентативным,
а значит, и когнитивным потенциалом тесно связана такая семантическая характеристика, как степень энтропии, или семантической неопределенности, каждого знака. Высокая степень неопределенности значений и, значит, вероятностности и вариативности интерпретаций, как
правило, сопровождает символы культуры. Например, круг значений
символа «бабочка» включает: душу, бессмертие, возрождение, смерть,
52
метаморфозы жизни (способность к трансформациям), беззаботность
и легковесность молодости, красоту, неосознанное стремление к свету.
Степень энтропии символических знаков возрастает еще и на том
основании, что они существуют и интерпретируется через другие символические знаки. Так, корпус текстов Х. Л. Борхеса объединен сетью
символолических знаков (библиотека, книга, лабиринт, книга книг,
сад расходящихся тропок и др.), где значение каждого определяется
через другой/другие символы. Зрелость каждой культуры, по Ю. Лотману, определяется наличием развернутой структуры взаимопереводимых друг на друга символов.
Самая низкая степень энтропии свойственна иконам-образам, ведь
чем точнее знаконоситель воспроизводит референт, тем однозначнее мы прочитываем текст. По этому параметру противопоставлены,
например, следующие изображения (рис. 15 и 16).
Рис. 15. Василий Кандинский.
Импровизация
Рис .16. Дэвид Грей.
Натюрморт
Если «Импровизация» Василия Кандинского относится к текстам
с высокой степенью семантической неопределенности, то натюрморт современного американского художника Дэвида Грея позволяет
в начальной стадии интерпретации однозначно опознать изображенное: яйцо, синее перо, бокал, сосуд для воды.
И в завершение несколько слов о семиотических метаморфозах
знаконосителей. Может сложиться впечатление, что индекс, икона,
символ — это три независимые категории знаков. Однако языковые
системы устроены столь мудро, что в них практически не встречается знаков в чистом виде. Жизнь знака есть серия перевоплощений,
когда, например, в одном и том же сообщении индексальный код переодевается в иконический, а потом оборачивается еще и символической стороной. Отыскав через много лет «в песке босиком свой след»
(И. Бродский), мы прочитываем его как индексальный знак самоидентификации, но также и как символическую метку круга времени: прошлое, соединенное с минутой настоящего. А в качестве ментального
образа — это уже иконический знак, воспроизводящий очертания
нашей стопы.
Или автопортрет есть знак, который позволяет художнику, совершая, по И. Бродскому, «шаг в сторону от собственного тела», произвести
53
операцию самоидентификации. Но одновременно автопортрет иконически воспроизводит художника в качестве модели себя самого, а также
символизирует концептуально значимые представления о своем «я».
Еще один пример связан с интерпретацией картины У. М. Харнетта
«Старая скрипка» (рис. 17).
Рис .17. Уильям М. Харнетт. Старая скрипка (The Old Violin, 1886)
Фотографически достоверный знак (икона-образ) одновременно
символизирует и хранит в себе ушедшее время: отзвучавшие мелодии
и, может быть, образы тех, кто исполнял их, внимал им. Но тот же знак
может прочитываться и в контексте символики pars pro toto, часть
вместо целого. Тогда скрипка есть музыка как таковая — язык, наиболее созвучный человеческой душе, способный передавать всю человеческую сферу «пред-»: предчувствий, предощущений, предвидений.
А в чем символический смысл дверцы старого шкафа? Закрытая дверь,
как и конверт, хранит тайну, прошлое, старательно скрытое от глаз
настоящего. Тайна самоценна сама по себе, и знающий это будет
любить ее, никогда не сделав попытки найти ключ от двери1.
Переход между семиотическими метаморфозами одного и того
же носителя размыт и неотчетлив. Столь же трудно сделать конечный вывод о том, один ли это или все же разные знаки. Если исходить
из того, что в каждом моменте означивания носитель может заместить только один референт и только одним способом, тогда речь идет
об омонимии форм, и не более того. Однако реальность коммуникации
намного сложнее. Каждый знак непременно включает в себя индексальный компонент, поскольку он так или иначе указывает на свой референт. Любой достоверный (иконический) образ позволяет интерпрета1 Павич М. Звездная мантия. Астрологический справочник для непосвященных /
пер. с сербского С. Савельевой. СПб. : Азбука-Классика, 2005. С. 17.
54
тору узнать объект, стоящий за знаком. Но иконический знаконоситель
непременно становится типическим представителем класса, позволяя,
как это происходит на картине М. Харнета, передавать информацию
о скрипке, дверце как таковых. И тот же иконический образ может
повернуться к нам символической стороной. Возможно, именно благодаря способности знаков трансформироваться друг в друга человек,
взрослея, расширяет пространство своего существования: от точки
«здесь и сейчас», в которой живет тело, до мира идеальных сущностей,
куда способны проникать разум и чувство.
Но возможен еще один взгляд на ситуацию с семиотическими метаморфозами одного и того же носителя. Вместо серии знаков-омонимов
можно говорить о знаках сложного образования (подобно гиперфонеме
в фонологии). Конечно, это приведет к необходимости иного распределения знаков на классы: вместо индексов, икон и символов получим
классы индексально-иконических и индексально-символических знаков,
а также небольшую группу собственно индексальных указателей.
Думаю, что выбор ответа (серия знаков или знак сложного образования) полностью определяется тем, как работает со знаками конкретный интерпретатор. Вернее, насколько разделены у него во времени
восприятия разнофункциональные прочтения знака.
Вопросы и задания
1. Какова роль иконических знаков в мышлении? Что такое абсолютный
иконизм? К каким семиотическим последствиям он приводит?
2. Определите круг семиотических метаморфоз знаконосителя «отпечаток
стопы» на следующем изображении (рис. 18). Опишите значения знака в качестве индекса, иконы и символа.
3. Функцию какого знака выполняет следующее изображение? Как отличается репрезентативный потенциал икон-схем от икон-образов (рис. 19)?
Рис .18. Следы на песке
Рис .19. Карла Жерар. Акрил, холст
4. Распределите знаки по степени возрастания энтропии: иконаобраз, символ, икона-схема.
5. Роб Гонсалвез — современный канадский художник (1959—2017), который работает в стиле магического реализма. Опираясь на репрезентативный
потенциал иконических знаков (образов и схем) объясните идею двух следующих
картин (рис. 20 и 21).
55
Рис. 20. Роб Гонсалвез. Башни знаний (Knowledge Tower)
Рис. 21. Роб Гонсалвез. Создавая волны (Making waves)
6. Очертите репрезентативный потенциал и круг семиотических метаморфоз
знака «кружок» в стихотворном фрагменте И. Бродского:
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него, и потом сотри
(И. Бродский. Горение).
7. Согласны ли вы с утверждением Вильгельма Баскервильского, персонажа
романа У. Эко «Имя розы»: «Существуют знаки, притворяющиеся значимыми,
а на самом деле лишенные смысла, как тру-ту-ту или тра-та-та»? Можно ли описать репрезентативный потенциал этих знаков?
8. В чем Вы видите плюсы и минусы энтропии?
9. Подготовьте сообщение об иконизме как репрезентативной практике
культуры. Отталкивайтесь от следующих вопросов:
56
• опознавание как функция иконических знаков;
• иконы-образы и иконы-схемы. Степень их энтропии, степень семиотической достоверности и семиотической условности;
• иконические знаки в вербальном языке, визуальных искусствах, архитектуре, музыке, языках танца, жестов, запахов;
• мимесис, серийность, повторительное искусство, «бродячие сюжеты»
в культуре как иконические практики;
• иконизм и зеркальные отражения;
• абсолютный иконизм и превращение знака в вещь.
10. Что такое фальсификация? Пользуясь данными таблицы, подготовьте
семиотическое сообщение с примерами из литературы и других видов искусств,
бытовых ситуаций на тему «Фальсификация как иконическая практика».
Таблица 1
Фальсификация как иконическая практика
Механизм фальсификации
Вид фальсификации
Подмена референта
Возникновение двойников и копий как
носителей, якобы соотносимых с прежним референтом
Подмена знаконосителя
Копии, оттиски, подделки текстов. Плагиат и стилизация
Создание ложного знака,
не отсылающего к какомулибо референту
Упоминание названий несуществующих
текстов (создание псевдотекстов). Фальсификация существования: описание
несуществующего как существующего
Намеренное приписывание
знаку значения другого знака
Возникновение знака с не своим значением
Фальсификация субъекта
(авторства знака)
Мистификации, намеренное приписывание своего текста другому автору
(псевдоавторство, псевдоперевод)
Фальсификация процесса
означивания
Отражение объекта в зеркале
Намеренное соотнесение
знака с несколькими референтами и создание энтропийной
ситуации
Ложные знаки в детективе
11. Подготовьте сообщение «От иконизма — к символизму», посвященное
метаморфозам иконических знаков в культуре: их трансформациям в символические. Опирайтесь на следующий круг проблемных вопросов.
• Что замещает иконический знак и что — символический? Символ как знак,
выводящий человека из физического пространства в пространство абстракций.
Когнитивный потенциал символов.
• Иконический знак как предпосылка восприятия символического смысла.
• Почему для У. Эко символ — не знак, а определенный способ
репрезентации?
• Замена иконических знаков символическими в антропогенезе и интеллектуальной истории человека. Прочтение иконических знаконосителей в качестве
символических.
57
• Как процессы сворачивания информации связаны с символизацией?
От трехмерного изображения к двухмерному рисунку и далее к иероглифу
и записанному (графемами) слову. Когнитивные процессы абстрагирования,
категоризации и сворачивания информации.
• Религиозные практики. Икона как изображение чего?
• Можно ли визуально изобразить абстракцию?
• Отличие символов в формальных языках и языках искусств: Семантическое пространство символа.
• Проблема категоризации слов как символических знаков. Точки зрения Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса.
Семиозис как пространство инерпретаций
До этого момента нас интересовала структура отдельно взятого
знака. Однако изолированный знак — лишь необходимое теоретическое допущение, позволяющее вводить представление о способе отображения референта и на этом основании выстраивать классификации
знаков. На самом деле описать семантику знака (область его значений
и смыслов) можно только путем объяснения его через другие знаки.
Так, для И. Бродского вода есть само время, и медленное движение
лодки сквозь ночь напоминает проход связной мысли сквозь подсознание1.
Но что именно следует из того, что любой знак существует только
в процессе перевода в другой знак? То, что автономность знака невозможна, поскольку то, с чем мы имеем дело, является процессом, в котором объясняемое и объясняющее составляют неразрывную целостность. То же можно сказать и о языках, поскольку существование
каждого из них опосредовано другими знаковыми системами.
Процесс, в котором знак, замещая референт, сам становится референтом для другого знака, а тот, в свою очередь, для следующего, следующих и так до бесконечности, определяется как семиозис2. Этот термин
использовался еще греческим врачом Галеном из Пергама (139—199):
семиозис как интерпретация симптомов болезни. Семиозис — центральное понятие семиотики Чарльза Пирса. В контексте семиозиса как
бесконечного процесса означивания становится очевидным тот факт,
что знак как объект, как некое что не существует. Есть только функция
быть знаком и процесс, когда нечто становится знаком другого. Термин
«знак» (sign) морфологически не адекватен этому процессу, поскольку
форма существительного соотносима только с пространством статичной семиотики, тогда как все сущностные характеристики знака имеют
отношение к движению. Структурные модели знака (бином Соссюра
или триада Пирса), несмотря на свою кажущуюся статичность, должны
прочитываться процессуально. Так, пирсовская триада (рис. 22) есть
трехступенчатый процесс, в котором «автор» знака или его интерпретатор выбирают референт, отображают его и воплощают смысл в материальном знаконосителе. Однако этот процесс (назовем его условно
1 Бродский И. Набережная неисцелимых. Эссе / пер. с англ. Г. Дашевского. СПб. :
Азбука-Классика, 2006. С. 106.
2 Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика: антология / сост. Ю. С. Степанов. М. : Академический проект, 2001. С. 47
59
рождением знака А продолжается на следующей ступени, поскольку
знаконоситель А становится референтом (объектом интерпретации)
для знака В.
Кто управляет этим процессом? Субъект, интерпретатор, который
воплощает рождающийся смысл в форму следующего знака. Семиозис — это бесконечный и неостановимый процесс означивания, где нет
и не может быть ни начального знака, ни конечного. Именно об этом
вопрос молодого Адсона в «Имени розы» У. Эко:
«Значит, я всегда могу рассуждать только о чем-либо, указывающем мне
на что-либо, и так далее до бесконечности, и при этом что-то окончательное,
то есть истинное и верное, вообще не существует?»1
Интенция означивания
и выбор референта
Воплощение смысла в знаконосителе А
Отображение референта 1 по типу индекса/
иконы/символа и рождение смысла
В
А
Отображение-интерпретация знака А как
референта 2
Рождение знака В
Рис. 21. Означивание, или рождение семиозиса
Из этого следует, что семиозис как процесс интерпретации отдаляет
человека от некоего начального объекта отображения:
— отображая референт, знак сообщает о нем информацию,
но при этом принадлежит иной, нежели референт, реальности. Референт — объект внеязыкового мира, тогда как знак — часть языковой
системы, семиотической реальности;
— знаконоситель (не что иное, как материализованный смысл референта) неизбежно сам становится референтом для следующего процесса интерпретации-отображения.
1
60
Эко У. Имя розы. С. 391.
Вот почему начальный референт Пирс рассматривает как динамичный, или недостижимый для интерпретатора, объект отображения,
а сам семиозис считает неограниченным. Это сближает семиотику
Пирса с семиологией Соссюра, где знак также не автономен от системы
и только в ее рамках получает значимость. Об этом и один из частотных
мотивов Х. Л. Борхеса: как пробиться к реальности, если мы заключены
в бесконечное пространство ее знаковых репрезентаций — в частности, текстов искусства, не отличимых от сновидений? Что остается?
И видеть в бодрствованье — сновиденье,
Когда нам снится, что не спим.
(Искусство поэзии)
«Конец» семиозиса (дохождение до такого знака, который уже
не интерпретируется посредством других) У. Эко представляет концом человеческого бытия, молчанием смерти. На последней странице
«Имени розы» читаем:
«Я погружусь в божественные сумерки, немую тишину… где утратится
и всякое подобие и всякое неподобие. <…> И будут забыты любые различия, я попаду в простейшее начало, в молчащую пустоту… в ненаселенное,
где нет ни дела, ни образа»1.
Семиозис есть пространство неограниченных интерпретаций, где
невозможно помыслить ни первый референт, ни последний знак. Изучая любые, даже бесконечные процессы, мы прибегаем к формализации, то есть выводим их алгоритм. Традиция анализировать семиозис
в рамках трех измерений — семантики, синтактики и прагматики,
рассматривая отношения знаков к своим референтам, к другим знакам и к интерпретаторам, связана с именем американского философа
Чарльза Уильяма Морриса (1901—1979).
Семантика — это измерение семиозиса, предметом которого становится отношение знака к отображаемому объекту. Содержание знака
(пространство его значений и смыслов) определяется способом отображения референта — индексальным указанием, иконическим воспроизведением или символизацией абстрактных сущностей. Однако
семантика знака выявляется только в процессе его использования —
употребления: интерпретацию знака через другие знаки и включение
его в высказывание. Отсюда необходимость вводить измерение, предметом которого является отношение знака к другому знаку.
Синтактика занимается комбинаторикой, или правилами и алгоритмами соединения знаков, то есть, в широком смысле, грамматикой
и системами кодирования информации.
1
Эко У. Имя розы. С. 623.
61
Неизбежность третьего измерения семиозиса — прагматики —
объясняется тем, что знак возникает только тогда, когда человек рассматривает нечто в качестве заместителя другой вещи или идеи. Прагматика изучает знаки в отношении к их «хозяевам» — создателям
и интерпретаторам, рассматривая интенцию текстопорождения, условия возникновения и интерпретации сообщений, степень их коммуникативной успешности и другие аспекты.
Функционирование любого знака и знаковой системы (языка, текста) предопределяется их развитием одновременно в трех указанных
направлениях: отображая референт, знак вступает в комбинации с другими знаками, обретая на этом пути смысл. Эти процессы обусловлены
интенцией того, кто управляет знаками, порождая высказывание.
Знаки всегда «стоят в очередях за смыслом» (И. Бродский). Мы выбираем объект мира, посредством которого представляем некоторую
идею, понятие:
В пустыне, подобранной небом для чуда
(И. Бродский).
Создатель знака наделяет пустыню значением. Но этот процесс
принадлежит не только ему. Речь направлена вовне. Наш собеседник
совершает «распаковку» знака — соотнесение носителя с той идеей, что
стала его оборотной стороной, и выражает эту идею посредством другого знака. Это семиозис бесконечности. Он не допускает возможности бессмысленных знаков. И если Вильгельм Баскервильский считает,
что «существуют знаки, притворяющиеся значимыми, а на самом деле
лишенные смысла, как тру-ту-ту или тра-та-та»1, то обязательно отыщется тот, кто сможет наделить их смыслом.
Однако из положения об обязательности всех аспектов семиозиса
не следует вывод о том, что во всех текстах семантика, синтактика
и прагматика представлены в равных пропорциях. Так, прагматический компонент текстов интерпретатор может с достаточной уверенностью описывать только по отношению к самому себе: какова
моя система ожиданий от этого текста, почему я интерпретирую его
подобным образом и др. А вот интенцию отправителя (сакральное «что
хотел сказать автор?») можно только предполагать. Или в языке классической музыки комбинаторика знаков может явно доминировать над
их семантикой.
Еще один пример связан с текстами, формально представленными
только одним знаком. Например, вот это послание, состоящее из смайлика ☺. Есть ли у этого сообщения синтаксическое измерение? Иконический характер знаконосителя (икона-схема) позволяет говорить
о том, что он однозначно замещает радость, удовольствие. Но для кого?
Интенция отправителя может быть описана в нескольких вариантах:
1
62
Эко У. Имя розы. С. 131.
он сам испытывает радость и делится ею с получателем или он говорит
получателю о том, что все будет в порядке (с отправителем, с адресатом, с ними обоими). Реакция получателя еще более энтропийна: это
может быть как радость за своего собеседника, если адресат ожидал
сообщения об исходе какого-либо события, так и удивление, если пресуппозиция послания ему неизвестна. Таким образом, комбинаторика
знаков в письме из одного знака ☺ все-таки представлена, но неявным
образом, в потенции. Текст из одного смайлика мы разворачиваем
в вербальное сообщение, где уже в актуальном режиме присутствует
комбинаторика знаков.
Вопросы и задания
1. Объясните, почему знаковая система не может состоять из одного знака.
Покажите на примерах, как знак одного языка интерпретируется через знаки
этой же системы и знаки других языков культуры.
2. Можно ли рассматривать текст, созданный компьютером, как знак, обладающий семантикой, синтактикой и прагматикой?
3. Являются ли для Вас знаками ® или ?ػПочему? Как это связано с принципом семиозиса?
4. Опишите измерения семиозиса на примере следующих вербальных текстов:
• «Книги всегда говорят о других книгах» (Умберто Эко);
• «Роза есть роза есть роза есть роза» (Гертруда Стайн).
План анализа.
• Семантика высказывания — система референтов, типы знаков, их значения и смыслы.
• Комбинации знаков. Можно ли говорить о явлениях серийности и рекурсии?
• Прагматика высказывания. Определите степень энтропийности сообщения и возможности его интерпретации. Какова роль конвенций языковой
системы и прагматики субъекта в интерпретации высказывания?
5. Опишите измерения семиозиса для следующего визуального текста
(рис. 23).
• Почему данный текст с полным правом можно именовать знаком? Что выступает его референтом? Какой способ отображения референта использован в этом тексте?
• Определите преобладающий тип иконичности: образ-изображение или схема? Отметьте степень абстрактности/условности знаков.
Поворачиваются ли иконические знаки к зрителю символической стороной?
• Присутствуют ли в данном тексте некие конвенции значения?
Как это связано с возможностью узнавания и интерпретации?
• Опишите синтаксис (композицию) знаков. Как посредством знаковых комбинаций происходит отображение времени, пространства
(перспектива, n-мерность изображения), точки зрения субъекта?
63
Рис. 23. Братья Лимбурги. Иллюстрации к часослову герцога Беррийского.
Времена года. Январь (1410—1411)
• Присутствует ли в тексте выраженная позиция автора или текст
несет коллективную (какую?) точку зрения на мир?
• Стремится ли стилистика текста к уменьшению энтропии (неопределенности передаваемой информации)?
• Определите репрезентативные возможности этого текста.
Можно ли данное визуальное сообщение адекватно перевести на вербальный язык?
6. Сделайте семиотический анализ отрывка из романа У. Эко «Маятник Фуко», опираясь на вопросы, приведенные после текста:
«Я прикрыл глаза и снова воззрился перед собой. В фокусе оказалась старая гравюра. Семнадцатый век, типичнейшая для того времени розенкрейцерская гравюра, полная шифрованных сигналов-обращений к законспирированным собратьям по ордену. В середине был несомненный розенкрейцерский
Храм — башня, увенчанная куполом, вариация иконографического канона
эпохи Возрождения, как христианского, так и иудейского, согласно которому
иерусалимский храм изображался по подобию мечети.
Ландшафт вокруг этой башни был разорван и заселен странно, как в тех
ребусах, где нарисованы дворец, жаба на первом плане, мул с вьюком,
король, получающий дар от пажа. В левом углу гравюры какой-то слуга вылезал из колодца. В середине картины — всадник и пешеход, справа — коленопреклоненный пилигрим, опирающийся на якорь, как на посох. На правой стороне на уровне верха башни — скала, с которой валится вниз человек, туда же летит его шпага. На противоположной стороне — гора Арарат,
64
и к ее вершине причаливающий ковчег. В небесах по углам гравюры — два
облака, каждое озарено звездой, испускающей лучи, в которых парят существа: голый, обвитый змеей, и лебедь. В самом верху в середине — нимб, увенчанный словом Oriens (восток, восход), из нимба выходит длань Господня, держащая нить, на которой подвешена башня.
Из двух круглых окон башни торчали: слева — несуразно огромная рука,
которая могла принадлежать разве что втиснутому внутрь башни гиганту,
чьи руки были одновременно и торчащие крылья; а справа — таких же масштабов труба».
• Опишите как семиозис систему последовательно означиваемых
референтов: вербальный текст — гравюра — представления розенкрейцеров о мире — сама реальность. Какие составляющие можно добавить
в эту систему знаков?
• Какую информацию о визуальном тексте (гравюре) мы получаем
через вербальное метаописание? Каким видом знака является вербальный текст по отношению к своему референту?
• Какой тип знаков преобладает в визуальном тексте? Опишите
их семантику. Какую знаковую функцию выполняет на гравюре отсутствие цвета?
• Каков характер синтактики — комбинации знаков в визуальном
тексте? Как моделируется в тексте гравюры время и пространство?
• Опишите характер синтактики в вербальном отрывке.
Можно ли говорить о преобладании в отрывке двусоставных высказываний (S есть P)? Определите причины семантической несочетаемости
простых предложений (неподготовленность контекстом предшествующего и последующего высказываний и др.).
• Прагматика живописного сообщения. Чем обеспечена его энтропийность?
7. По этому же плану сделайте семиотический анализ отрывка
из романа Олдоса Хаксли «Контрапункт»:
«Третья и лучшая картина из серии “Купальщицы” Джона Бидлейка
висела над камином в столовой. Это была веселая и радостная картина,
светлая по тонам, чистая и яркая по колориту. Восемь полных купальщиц
с жемчужной кожей расположились в воде и на берегах речки, образуя
телами нечто вроде гирлянды, замыкавшейся сверху листвой дерева. Внутри этого кольца перламутровой плоти (потому что их лица были только
смеющейся плотью: никакой намек на духовность не мешал созерцать гармонию красивых форм) виднелся бледно-яркий пейзаж — нежно-круглые
холмы и облака».
Кодирование информации и классификации
кодов культуры1
В основании успешной коммуникации лежит код, или правила языковой системы, согласно которым происходит «упаковка» информации
в текст и восприятие сообщений. Код каждого языка включает классы
знаков, систему их значений и правила комбинаторики, а также алгоритмы создания текстов. Таким образом, код имеет непосредственное
отношение к синтактике, обеспечивая функционирование семиозиса.
Со стороны передающего информацию код функционирует как шифр,
который вскрывается адресатом. Для успешной коммуникации адресант и адресат в идеале должны пользоваться одним и тем же кодом.
Код априорно задан системой. Это значит, что правила комбинаторики знаков оговорены по предварительному соглашению2. Говоря
о кодах, мы неизменно выходим на понятие конвенции, или предварительного соглашения, обеспечивающего их стабильность. Так, грамматика русского языка делает невозможным некоторые звуковые сочетания, например прлд, или комбинацию словоформ «я идти мой школа».
А при записи музыкального текста невозможно одновременное указание басового и скрипичного ключей.
С одной стороны, код возникает как результат конвенции и потому
должен обладать высокой степенью стабильности. С другой стороны,
он все же достаточно пластичен. Его изменение во времени может быть
обусловлено историческими и социокультурными причинами. Например, в кинематографе Голливуда белая шляпа означала когда-то хорошего ковбоя, но со временем эта конвенция исчезла. Пластичность
кодов, особенно в искусстве, связана с авторским способом употребления языка, то есть объясняется созданием своего языка со своими правилами кодирования сообщений.
Несомненно, что каждая, например, вербальная метафора при
своем возникновении вступает в противоречие с нормами лексической сочетаемости. О. Мандельштам считает возможной ситуацию, где
«цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь», поскольку
солнечный луч, преломленный хрусталем в полумраке комнаты, создает эффект воскрешения к жизни: переход стекла из состояния сна
1 В данном разделе частично используются материалы книги Бразговская Е. Языки
и коды. С. 47—56.
2 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. С. 57.
66
в явь. Но кто-то не поддержит такой код и обязательно скажет, что
ваза — не живой субъект, следовательно, не может заснуть и проснуться.
Незнание кода может побудить адресата:
— отказаться от интерпретации. Так, например, происходит с теми,
кто не рассматривает визуальные тексты К. Малевича и В. Кандинского
как знаки, замещающие референты и имеющие круг значений. У таких
зрителей возникает стойкое представление о том, что линии, точки
и квадраты являются только линиями, точками и квадратами и ничем
больше, а следовательно, не значат ничего;
— сделать попытку реконструировать код и справиться с информационной энтропией. Такая попытка может оказаться удачной, а может
привести интерпретатора к неверным выводам:
«Я никогда не сомневался в правильности знаков, Адсон. Это единственное, чем располагает человек, чтобы ориентироваться в мире. Чего я не мог
понять, это связей между знаками. Я вышел на Хорхе, ища организатора
всех преступлений, а оказалось, что в каждом преступлении был свой организатор или его не было вовсе. Я дошел до Хорхе, расследуя замысел извращенного и великоумного сознания, а замысла никакого не было». (У. Эко.
Имя розы)
Подобные семиотические ситуации У. Эко определяет как аберрантное декодирование, или интерпретацию текста с использованием кода,
отличающегося от того, что был заложен в текст отправителем сообщения. Причиной схожих ситуаций становится и межъязыковая омонимия. Так, звучащее слово «ta» русскоязычный говорящий воспримет
как индекс пространственно отдаленного предмета, тогда как носитель
польского языка услышит в этом знаке указание на предмет, находящийся рядом (ta książka — эта книга). В польском языке слово uroda
замещает понятие «красота», но в контексте русского языка возникает
отчетливая связь со знаком «урод», которым замещают полное отсутствие красоты.
В процессе восприятия сообщений возможны случаи, когда адресат занимается излишней семиотизацией и видит знак, код там, где,
по мысли автора, есть только вещи, не являющиеся знаками чеголибо. Избыточная семиотизация также создает эффект энтропийности.
Вопросам «семиотической шизофрении» и связанной с ней опасностью
посвящен роман У. Эко «Маятник Фуко».
Перейду к проблеме систематизации семиотических кодов. Они
могут описываться (классифицироваться) по следующим основаниям.
1. По степени распространенности кодов в социуме (и в этом смысле
их доступности) можно говорить о кодах всеобщих и ограниченного
употребления. Если нормы грамматики естественного языка в достаточной степени известны всем говорящим на этом языке, то ограниченный код предназначен для более узкого круга лиц и требует специ67
ального образования. Так, к сожалению, в современную эпоху тексты
классической музыки часто воспринимаются как сообщения, основанные на коде ограниченного употребления.
К кодам ограниченного употребления относятся и те, которые намеренно используются для сокрытия информации. Это, например, шифры
тайнописи. Одна из первых профессиональных разработок в этой
области принадлежит легендарному аббату Тритемию (1462—1516).
Он использовал шифровальные цилиндры, с помощью которых было
удобно кодировать и декодировать сообщения. В круги цилиндров
были вписаны буквы алфавита, и вращением кругов устанавливалось,
что буква «А», например, шифруется как «С» и т. д. Примеры подобных
средневековых кодов встречаются и на страницах «Имени розы» У. Эко:
«Например, замещать одну букву другой, писать слова задом наперед,
менять порядок букв: писать их через одну, а потом все пропущенные. Кроме
того, вместо букв подставляются другие знаки, к примеру тут — зодиакальные. Нумеруются буквы алфавита, потом буквы секретной азбуки, потом
соотносятся порядковые номера <…>»1.
Примеры крайне редких кодов приводятся в романах М. Павича. Эти
коды известны лишь избранным и не основаны на всеобщей конвенции:
«Есть разные способы читать книги. Некоторые из них — тайные. К ним,
в частности, относится и… чтение крест-накрест. <…> Это означает, что
на странице следует прочесть сначала среднее слово верхней строки, затем
нижней, а после этого первое и последнее слово средней строки. Так получается крест. <…>. И если вот так перекрестить каждую страницу, поймешь
скрытое послание, которое в своей книге хотел передать автор»2. (Звездная
мантия)
«— Ты умеешь читать поцелуи? Поцелуи похожи на любовные письма.
Их можно прочесть, а можно выбросить непрочитанными. Поцелуй может
означать — «здравствуй»! Или «спокойной ночи», или «прощай», или «доброе
утро»! Он может означать «до свидания», может нести предательство и смерть
или болезнь, сказать «добро пожаловать», «вспоминай меня» или «счастливого
пути»! Поцелуй — это залог счастья, воспоминания, ложь, обещание или долг
под проценты. Он вестник радости или беды»3.
Ограниченные коды, как правило, имеют односторонний характер,
ведь автор сообщения не делится шифровальным ключом с потенциальными читателями.
2. В зависимости от материальной природы знаконосителей коды
могут определяться как вербальные, визуальные, аудиальные, теле1
Эко У. Имя розы. C. 201.
Павич М. Звездная мантия. С. 20—21.
3 Павич М. Другое тело. С. 20—21.
2
68
сные, обонятельные. Таким образом речь идет о кодах, согласно
которым производятся тексты на различных языках культуры. О существовании базовой конвенции кодов можно говорить по отношению
к языку живописи (правила композиции и перспективы, например),
языку музыки (правила гармонии — это грамматика музыки), языку
тела1. Существуют коды, позволяющие читать запахи и ароматы как
тексты. Так, в Средневековье запах серы устойчиво ассоциировался
с дьяволом.
3. С точки зрения отношения кодов к различным дискурсам можно
выделить:
• поведенческие коды, которые предписываются нам протоколами,
ритуалами, ролевыми и спортивными играми;
• массмедиа коды, включающие коды фотографии, телевидения,
кинематографа, радио, газет и журналов;
• регуляторные коды (правила дорожного движения, профессиональные коды различных сфер деятельности и т. д.);
• эстетические или жанрово-стилистические коды, используемые в области художественного творчества. Они выступают как конвенции создания текстов и исполнительских практик. Для их понимания необходима принадлежность к определенной культуре. Неслучайно
сборник образцов английской клавирной музыки XVI—XVII вв. (Фицуильямова верджинельная книга. М. : Музыка, 1988) открывается предисловием, в котором описаны стилистика текстов, алгоритмы расшифровки мелизмов (украшений), жанровая принадлежность текстов,
доминирующий принцип композиционной техники (варьирование
темы, граунд — композиция на опорном басу) и т. д. Именно знание
кодов позволяет здесь приблизить исполнение к аутентичному.
4. По структуре коды определяются с точки зрения их простоты
или сложности. Речь идет о характере алгоритма, используемого для
порождения высказываний: воспроизводимая формула может включать только один шаг (абсолютная простота кода), а может и большее
количество шагов. При этом не всегда срабатывает зависимость: простой код — простота понимания.
Начнем с примитивно простых кодов, используемых, например,
детьми. Создание зашифрованных сообщений часто основано на одношаговом правиле: к каждому произносимому слову, включая служебные,
следует прибавлять любой слог или, наоборот, начинать каждое слово
с этого слога. И тогда сообщение «я не люблю ее» может звучать как
яКИ неКИ люблюКИ ееКИ
или
КИя КИне КИлюблю КИее.
1 См., напр.: Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских
жестов. Москва-Вена : Языки русской культуры; Венский славистический альманах,
2001. 256 с.
69
Навык быстрого произношения подобных сообщений делает
их непростыми для восприятия на слух, тогда как визуальное восприятие позволяет быстро и безошибочно вскрыть этот «шифр».
Предельно простой код выбран Гертрудой Стайн для поэтической
строки Rose is a rose is a rose is a rose (роза есть роза есть роза есть
роза). Алгоритм сообщения основан на иконическом повторении одной
и той же формулы, выражающей тождественность объекта себе самому:
А есть А, роза есть роза. Этот механизм можно обозначить и как автореференцию: первый знаконоситель (rose) выступает референтом для
второго знака (rose), а тот, в свою очередь, становится референтом
для третьего. Этот семиозис может продолжаться до бесконечности,
и в нем все знаки/референты имеют одно и то же фонетическое или
графическое тело. Однако понимание формального механизма, основанного на имитирующем повторении, не помогает прояснить семантику этой строчки. Что именно значит «роза есть роза есть роза есть
роза», решает для себя каждый читатель.
Примером одношагового повторяющегося кода является и уже упоминавшийся прием чтения методом «перекрещивания» каждой страницы.
Об одношаговом имитирующем коде текстопорождения можно говорить и по отношению к сочинению современного эстонского композитора Арво Пярта Cantus in Memoriam Benjamin Britten (Cantus памяти
Беджамина Бриттена, 1977). Сочинение написано в форме канона,
априорно предполагающего имитацию одной темы различными голосами. Темой у Пярта служит нисходящий звукоряд, или гамма, которую
последовательно воспроизводят пять участников струнного ансамбля:
первые и вторые скрипки, альт, виолончель, контрабас. Однако в механизм воспроизведения темы здесь заложены усложнения, касающиеся
ее пространственно-временнóго расширения. При каждом проведении
(с интервалом в такт) нисходящий звукоряд охватывает все бо́льший
диапазон. Увеличиваясь на тон, он расширяет свои пространственные
границы. Одновременно каждая его следующая копия спускается в два
раза медленнее, раздвигая временнýю составляющую звукового континуума. В итоге последовательное расширение звукоряда в пространстве
и во времени может восприниматься как символ человеческой жизни:
движение вперед, замедление времени вплоть до остановки1.
При переводе на формальный язык линейная последовательность
вариантов темы, видоизменяемой каждым из вступающих друг за другом голосов, выглядит как рroptia tripla — cовершенная закономерность:
1 Такой вид канона носит название мензуральный, или пропорциональный. Технически он наиболее сложный для написания. Возникновение мензуральных канонов связывают, прежде всего, с Нидерландской полифонической школой XV—XVI вв. — творчеством Йоханнеса Окегема (1425/30—1497), Якоба Обрехта (1450—1504), Жоскена
Депре (1440—1521), Филиппа де Монте (1521—1603), Орландо Лассо (1532—1594).
70
an 1 ( t ) ; an + 1 2 ( t : 2 ) ; an+2 3 ( t : 4 ) ; an + 3 4 ( t : 8 ) ; an+ 4 5 ( t :16 )
.
В этой формуле а — тема, надстрочный знак n показывает число звуков темы при каждом ее проведении, а подстрочными знаками кодируется информация о порядковом номере воспроизведения темы (включая ее саму) и длительности ее звучания (t).
В отличие от примера с розой, эту закономерность текстопорождения невозможно воспринять сразу, при прослушивании текста. Она
выявляется только в процессе визуального изучения партитуры. Но, как
и у Гертруды Стайн, простота кода лишь увеличивает степень энтропийности (сложности) сообщения.
Вот пример чуть в бо́льшей степени усложненного кода: составляй текст из каждого второго слова, взятого из каждой пятой строки
нечетной страницы определенной книги. Сложные многошаговые
коды могут включать различные способы упаковки сигнала, причем
на разных уровнях сообщения. Например, при интерпретации мессы
И. С. Баха «Страсти по Иоанну», исполняемой в готическом соборе,
используются знания о конвенциях барочной музыки, стилистике
композитора, символике Евангелия, семантике архитектурного стиля,
герменевтические толкования символов (роза, лабиринт, крест и др.).
И это далеко не полный перечень. При этом одна и та же символическая абстракция по-разному закодирована в языках, принимающих участие в создании полилингвального текста культуры. Так, крест как идея
Страстей Господних (распятие) закодирован в звуковой последовательности, которую Бах воспроизводит с вариациями во многих текстах,
например, нотная запись фамилии Бах (Bach), представленная в виде
аккорда, имеет форму креста. Эту монограмму композитор рассматривал как знак своей религиозной миссии (рис. 24).
Рис. 24. Нотная запись фамилии Бах
Как правило, в форме латинского креста построены готические
церкви. Помимо христианского символа страдания, крест (croix) есть
алхимическая идея горнила, испытания (creuset).
Все эти разноплановые примеры призваны показать, что семантическая сложность текстов может быть результатом использования как
примитивно простого, так и сложного способа кодирования информации.
71
С семиотической точки зрения, создание текста и его интерпретация
соотносимы с процессами кодирования и декодирования сообщения
и в идеале должны существовать как взаимные зеркальные отражения.
Идеальный читатель, согласно У. Эко, распознает или воссоздает код
идеального автора, то есть декодирует сообщение единственно верным
образом. Однако в практике текстопорождения и интерпретации процессы авторского кодирования и читательского декодирования всегда
находятся в асимметричных отношениях, поскольку осуществляются
в различных дискурсах (например, можно говорить о различных «текстах памяти» автора и читателя).
Согласно У. Эко, авторские коды определяют так называемые права
текста, защищая его от произвола и субъективности интерпретаций.
Однако насколько читатель может быть уверенным, что основания,
на которых базируется его интерпретации, тождественны авторским?
Можно не сомневаться в знании общеязыковых или нарративных
кодов, но далеко не всегда — в правильности прочтения индивидуально-авторских способов репрезентации. Более того, художественное
творчество отрицает текстуальный детерминизм, при котором правила декодирования неизбежно выводятся из правил кодирования.
В процессе интерпретации читатель не столько декодирует сообщение,
сколько создает свой текст о читаемом тексте. Так называемые закрытые тексты, в которых коды ограниченного употребления доминируют
над общеязыковыми, заставляют читателя искать свой собственный
путь интерпретации. Примеры таких текстов дает, например, герметично закрытая поэзия М. Кузьмина.
Погрешности в дешифровке информации преодолеваются за счет
избыточности сообщения. Избыточность есть код, предполагающий
дублирование информации на разных уровнях текста. Следствием избыточности передаваемых значений может стать предсказуемость интерпретации, когда для понимания целого достаточно его фрагмента. Так,
экзаменационная оценка в ведомости ставится цифрой и прописью,
а в высказывании «она мечтала» в обеих словоформах продублированы грамматические значения женского рода и единственного числа.
Избыточные коды можно обнаружить не только в ситуациях дублирования одного и того же значения, но также в сообщениях с «лишними» знаками:
— сюда можно отнести знаки, посредством которых транслируются
не основные, а так называемые фоновые значения. Здесь содержится
прямая аналогия с соотношением рисунка и фона в визуальных текстах. Фоновые знаки участвуют в «оформлении» сообщения, транслируя добавочные смыслы. Так, подарок сопровождается красивой упаковкой. Но, как и в живописи, «фон» в интерпретации может оказаться
важнее «рисунка»;
— я уже упоминала, что в процессе восприятия сообщения возможны случаи, когда адресат занимается излишней семиотизацией,
накладывая на сообщение добавочные коды, не предусмотренные авто72
ром. Опасностям «семиотической шизофрении» посвящен роман У. Эко
«Маятник Фуко».
Вопросы и задания
1. Каков семиотический код сообщения «роза есть роза есть роза есть
роза…»? В чем причина энтропийности сообщения? Можно ли это высказывание
перевести на визуальный язык?
2. Определите коды следующих сообщений:
• .водок ыдиВ;
• туда и обратно;
• <…> краснели не цветы, а капли крови Христовой, лилейно белела
не плоть лепестков, а сама непорочность (А. Королев);
• YOUПИТЕР (название жилого комплекса).
Какова степень сложности этих кодов? А какова степень энтропии высказываний?
3. Приведите примеры:
— аберрантного декодирования, или интерпретации текста с использованием
кода, отличающегося от того, что был заложен в текст отправителем сообщения;
— поведенческих кодов в различных национальных культурах.
4. Какие точки зрения на способ кодирования информации высказывают
Алиса и Хампти-Дампти (Шалтай-Болтай)?
«— When I use a word, — Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, —
it means just what I choose it to mean — neither more nor less.
— The question is, — said Alice, — whether you can make words mean so many
different things.
— The question is, — said Humpty Dumpty, — which is to be master, that’s all».
(Lewis Carroll. Through the Looking Glass)
5. Опишите семиотический код двух визуальных текстов. Какая информация
закодирована в этих сообщениях? Оцените степень сложности использованного
способа кодирования (рис. 25, 26).
Рис. 25. Время жизни
Рис. 26. Рене Магритт. Фальшивое зеркало
73
Часть вторая
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
ЯЗЫКОВ КУЛЬТУРЫ
Человек — homo loquens, человек говорящий. Но «говорить» в этой
аксиоме следует понимать метафорически. Рассматривая палитру знаковых систем, с которыми связано наше существование (ибо без языков
исчезает собственно человек), поражаешься ее многообразию, не сопоставимому с библейскими временами. Здесь и вербальные языки (включая искусственные), жестовые и мимические системы коммуникации,
языки искусств, формальные системы наук, знаковые системы информатики и даже мистические языки камней, огня, запахов. Вавилонское
пространство языков подобно расширяющейся Вселенной (рис. 27).
Рис. 27. Атаназиус Кирхер. Вавилонская башня (1679)
Современная семиотика, обращаясь к изучению языковых систем,
ставит перед собой две, казалось бы, взаимоисключающие цели:
1) очертить репрезентативные возможности каждого отдельного
языка;
2) обнаружить универсальное в многообразии знаковых систем.
Первая задача выводит нас на возможности, которые предоставляют человеку каждый из его языков: какие картины мира позволяют
они создавать? Реализуется ли и как именно аксиома Людвига Витгенштейна о том, что границы нашего мира определяются границами
используемых нами языков1?
Решение второй задачи позволит свести многообразие языков культуры к некоему общему знаменателю. Например, построить дерево
семиотических систем по аналогии с генеалогическими деревьями вербальных языков. Или обнаружить корни этого дерева — инвариантные
атомы любых знаковых систем.
Изучение семиотического потенциала отдельных языков культуры
можно уподобить знанию вглубь, тогда как изучение универсалий
позволяет охватить весь спектр знаковых систем, доступных человеку.
В конечном итоге только соположение этих векторов позволит доказательно говорить о триединстве человека, языков отображения мира
и реальности.
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007.
С. 89—90.
Систематизация знаковых систем
Систематизация языков культуры возможна в аспектах диахронии
(тогда речь пойдет об очередности их возникновения в филогенезе)
и синхронии (это классификации по природе материального носителя и онтологической природе отображаемых референтов). С одной
стороны, любой процесс упорядочивания или категоризации языков
лишает нас возможности наслаждаться своеобразием каждого из них,
с другой — позволяет выделить инварианты языка как такового.
Языки как первичные и вторичные моделирующие системы
Историю культуры Ю. М. Лотман рассматривал сквозь призму языков как систем, моделирующих представления о реальности в форме
картин мира. Первичными моделирующими системами являются вербальные языки, на базе которых происходит рождение многообразных
вторичных систем — мифологий, религий, языков искусств и наук.
В последних работах о семиосфере Лотман неоднократно говорил
о бинарной дополнительности как важнейшей характеристике любой
функционирующей системы, в том числе и самой культуры. В этом
контексте следует расширить представление о первичных языках:
это не только вербальные, но и жестово-мимические системы знаков,
сопровождающие любой акт говорения.
Соотношение первичных и вторичных моделирующих систем
во многом пропорционально отношению естественных языков к искусственным, то есть созданным непосредственно человеком.
Говоря о возникновении знаковых систем в онтогенезе (развитии
отдельного человека) и филогенезе (развитии человечества) и одновременно о степени близости языков к реальности, Абрам Соломоник
выделяет следующую последовательность языков:
• естественные знаковые системы, где в качестве знака используются вещи, имеющие природное происхождение. Такие знаки обладают преимущественно индексальным характером;
• образные языки, основанные на иконическом отображении мира
(например, танец шамана, первые рисунки ребенка);
• вербальные языки. Слово как их центральная единица кодирует
представления о мире, соотнося звучание с понятием, и в этом смысле
отдаляясь от вещного мира;
• формальные системы, возникающие на последней стадии, которые имеют дело с абстрактными представлениями. Например, о числе,
77
субъекте, массе и др. Единицами этих систем являются символы, благодаря которым формальные языки отдаляются от физической реальности еще дальше, нежели вербальные1.
Эта историческая последовательность не кажется мне совершенной,
поскольку становление систем вещных знаков, визуальных образов
и др. возможно исключительно при поддержке вербальных языков.
Систематизация языков по материи их знаконосителей
Как и отдельные знаки, языки могут описываться по материи своих
знаконосителей, что, естественно, связано с тем, какие органы чувств
задействованы в их восприятии. Один из первых опытов подобной
систематизации языков принадлежит английскому мистику, философу,
герметисту и врачу Роберту Фладду (1574—1637). Упорядочивая языки
по каналам восприятия, Фладд одновременно говорит о том, что наши
языки — не столько зеркало мира (speculum), сколько окна в различные
сферы реальности. Эти положения философ репрезентирует по типу
иконы-схемы в гравюре «Человек и макрокосм» (рис. 28).
Рис. 28. Роберт Фладд. Человек и макрокосм (между 1617 и 1621 гг.)
Карта мироздания, по Фладду, включает ряд упорядоченных пространств-мундусов (лат. mundus — земля, мир, вселен1
78
Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. Минск : МЕТ, 2002.
ная): Mundus sensibilis — физический мир, чувственная реальность, Mundus imaginabilis — мир рассудочных понятий и Mundus
intellectualis — пространство интеллектуально постигаемых сущностей.
Они изображены в виде концентрических кругов, то есть даны зрителю
как иконические схемы. С каждым из этих пространств человек связан
через органы чувств и интеллект, а в итоге через языки. Линии, расположенные в зоне Mundus sensibilis, показывают, как именно человек
вписан в физический мир (Terra). Каждый из органов чувств воспринимает отдельный вид материальных знаконосителей, которые далее
прочитываются в качестве знаков определенного языка: auditus — слуховой канал восприятия, visus — канал визуальной коммуникации,
odoratus — язык запахов, gustus — восприятие вкусовых ощущений,
tactus — язык тактильных ощущений.
Р. Фладд показывает, что на второй ступени познания «чувственные» знаки кодируются ментальными знаками — отображаются в словах-понятиях, образующих сферу Mundus imaginabilis. Слово функционирует как дополнительность звучания/написания и ментального
образа — чувственного визуального, слухового, тактильного и другого рода представлений о замещаемом объекте. Именно так рождаются собственно знаки, система которых способна репрезентировать
не только физические вещи, но и абстракции времени, Бога и др.
Для целого ряда знаковых систем характерны более сложные носители значений, воспринимаемые одновременно несколькими органами
чувств. Примером таких синтетических (полилингвальных) форм коммуникации уже во времена Р. Фладда был оперный спектакль. Также
следует учитывать, что в процессе своего развития и становления некоторые языки получают письменную форму существования. Таким образом они увеличивают число эмпирических каналов для восприятия
сообщений. Так, вербальный язык и музыка обладают и аудиальными
и визуальными знаконосителями (звучащая речь и графический текст,
звучащая музыка и нотная запись текстов). У языка танца (балета)
также есть своя «письменность»: система, позволяющая фиксировать
движения и их последовательность (рис. 29). Получается, что язык
балета имеет два автономных визуальных канала передачи информации.
Рис. 29. Пример записи элементов классического танца
За тактом; раз; два; три
79
Классификация языков по степени конвенциональности знаков
и онтологической природе референтов: «твердые» и «мягкие»
системы
Русский математик Василий Налимов, а вслед за ним и польский
фантаст-футуролог Станислав Лем представили языковое многообразие
мира в виде схематического иконического знака — шкалы, на концах
которой располагаются так называемые твердые и мягкие языки, а связующее положение между ними занимает вербальный язык (рис. 30)1.
Твердые языки
Вербальные системы
Мягкие языки
Рис. 30. Противопоставленность твердых и мягких знаковых систем
по В. Налимову
Термины «твердые» («жесткие») и «мягкие» понимаются как метафоры различного коммуникативного поведения языков, которое описывается и противопоставляется по следующим параметрам.
1. Прежде всего, знаковые системы противопоставлены по онтологической природе своих референтов. Одни языки обращены к отображению абстракций, среди которых универсалии, метафизические
конструкты (например, идеи класса, числа, скорости, бесконечности и др.), другие — к репрезентации физических реалий, имеющих
пространственно-временну́ю протяженность.
Твердые языки (языки формальных наук — математика, типовые
языки программирования, логика и др.) работают исключительно
с абстрактными референтами, которые в определенном смысле являются неизменными сущностями (в истории изменяется наше представление о них, но не они сами). Этим языкам, отмечает С. Лем, не надо
адаптироваться к бесконечно изменяющейся физической реальности,
поскольку они репрезентируют ее инварианты — идеи числа, скорости,
класса и др. Вот откуда определение «твердые». Референтами языка
математики выступают, например:
• классы объектов: a есть класс некоторых объектов (а1, а2, ав),
обладающих свойством «быть а»;
• метафизические конструкты (понятие бесконечности, обозначаемое знаком ∞);
• отношения между классами объектов сложение (+), приблизительное тождество (≈) и др.
Сама природа этих референтов создает абстрактность математического языка. Помимо собственно формальных языков, к твердым
1 Налимов В. В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков. М. : Наука, 1979; Лем С. Языки и коды // Лем С. Молох. С. 155—166.
80
системам можно отнести и язык классической философии, а также
визуальные тексты абстракционизма, где персонажами являются геометрические фигуры, точки и прямые, а предметом отображения становятся структурные отношения между объектами мира.
Мягкие же языки (реализм в различных видах искусств, импрессионизм в живописи и музыке, литература и музыка романтизма и др.),
напротив, вынуждены адаптироваться к постоянно изменяющейся
реальности. Физический мир, мир человеческих эмоций как реакция
на внешнюю действительность — вот их первичная референтная ситуация. Меняется мир (или представление о нем) — трансформируются
и способы репрезентации. В отличие от твердых языковых систем референтами мягких языков становятся, прежде всего, индивидные объекты: человек (для жанра «портрет»), вещи (для натюрморта и интерьерных изображений), свет и цвет данной минуты, эмоции данной
минуты и др. Однако следует учитывать, что в процессе восприятия
перечисленные иконические образы вот этих референтов неизбежно
переводятся в план типизации и таким образом референтами отображения становятся классы объектов.
Для сравнения покажу, что вербальные системы способны репрезентировать как абстрактные, так и конкретные референты. Так, у И. Бродского:
И по комнате, точно шаман кружа,
Я наматываю как клубок
На себя пустоту ее <…>.
Здесь индекс «комната», в бо́льшей степени обращен к конкретному
объекту мира (вспоминается именно эта комната), тогда как клубок,
шаман — имена классов объектов. Пустота — метафизический символ отсутствия как такового. Вербальный язык позволяет означивать
любые референты нашего и возможного миров, а следовательно, обладает наибольшим потенциалом в отображении мира. Конечно, возможности отображения столь различных объектов неравноценны. Если
абстракции получают лишь индексальное имя, то физические вещи
могут получать иконическое воплощение в описаниях-дескрипциях.
2. Преобладающие типы знаков. В твердых языках представлены индексально-символические знаки, обладающие зафиксированными значениями. Таковы в химии знаки таблицы Менделеева (Cu),
в физике — знаки для обозначения массы (m), скорости (v), времени (t)
и др. Так называемые математические операторы (∆; ≠; ≤; ≥) индексально указывают и символизируют отношения между классами и элементами.
Напротив, мягкие знаковые системы отталкиваются от иконического типа репрезентации. Так, живописный портрет иконически воспроизводит свою модель, но одновременно может прочитываться как
символ эпохи, знак психологического состояния человека, метафизи81
ческий текст о вечности и др. Соединяя и комбинируя в высказывании
знаки с различным когнитивным потенциалом, мягкие языки имеют
возможность подстраиваться под постоянно изменяющуюся реальность.
3. Степень контекстной зависимости значений стремится к нулю
в твердых языках и к бесконечности в мягких. Отсюда устойчивость
значений знаков твердых систем и размытость семантического спектра
в мягких языках. Так, в формальных языках знак ≠ вне зависимости
от контекста употребления всегда остается знаком неравенства. Однако
при переходе из одной научной парадигмы в другую знаки формальных
языков могут менять интерпретацию. Так, понятия «масса», «скорость»
обладают различными характеристиками в ньютоновской парадигме
и теории А. Эйнштейна.
Иная картина в мягких языках. Здесь интерпретация во многом
зависит от того, кто производит высказывание, отсюда и подвижность семантического спектра отдельных знаков и текстов в целом.
Для примера можно попробовать описать пространство значений слова
«ветер» в высказываниях «ветер в профиль» (И. Бродский) и «внутренняя сторона ветра» (М. Павич). В мягких языках число значений
знака так велико, что порой сам язык начинает регулировать число
контекстуальных приращений. Например, многозначное слово перестает существовать в качестве такового, распадаясь на отдельные омонимы: склонять к земле, склонять — изменять грамматическую форму
по падежам и склонять — в значении «перемывать косточки».
Твердые языки всеми силами стремятся избавиться от метафоричности. Мягкие — наоборот. Метафора помогает создавать альтернативные (научной, понятийной) категоризации мира, структурировать мир в антропоморфном направлении. Мы как бы «видим» то,
что познаем, вспоминая уже известное. Представить неизвестное как
знакомое — вот принцип такого познания. Так, И. Бродский размышляет о завязи архитектуры. В биологическом смысле завязь означает
потенциальную возможность развития растения. «Завязь архитектуры»
также предполагает мысль о потенции — стремлении архитектуры
преодолеть свою физическую природу (постоянство, происходящее
от зафиксированности здания в пространстве). Вот почему для поэта
«завязь архитектуры» понимается как «к бесплотному с абстрактным
зависть».
4. Зависимость интерпретации текстов от широко понимаемого
дискурса. Для интерпретации текстов, созданных на формальных языках, не требуется широкого контекста восприятия, включающего историко-культурные составляющие, экономико-политическую ситуацию,
возраст, пол, настроение говорящего и т. д. Напротив, тексты на мягких
языках не только возникают непосредственно в дискурсе, но и прочитываются в нем. При этом дискурс (контекст глобального прочтения)
автора не совпадает с дискурсом интерпретатора, что и становится причиной вариативных интерпретаций. Твердые языки вненациональны,
82
тогда как тексты языков искусств, как правило, несут в себе не только
авторскую, но и национально-языковую картину мира. А это может создавать определенный барьер восприятия для представителей различных культур.
5. Степень открытости словаря. Твердые языки с меньшим, чем
мягкие, желанием открывают свой словарь знакам новых понятий.
Вспомним дискуссии математиков и философов по поводу введения
в математику знаков для таких объектов, как классы, классы классов,
бесконечность и др. Мягкие языки, напротив, подстраиваются под бесконечно изменяющийся мир, и потому их словарь в бо́льшей степени
открыт для новых знаков (например, окказиональных лексем, неологизмов), а грамматика — для новых композиционных соположений
знаков. При этом мягкие языки не столько допускают новые единицы,
сколько идут по пути метафорического переосмысления старых.
6. Алгоритмы генерирования текстов. В формальных языках
правила создания текстов определены достаточно жестко. В математике это касается, например, порядка действий в выражениях со скобками или операций с применением правил сокращенного умножения. В мягких языках также существуют алгоритмы на всех уровнях
системы. Для живописи это, например, правила композиции и перспективы, для музыки — гармонические ограничения, для вербальных текстов — алгоритмы грамматики, правила лексической сочетаемости, ограничения в рамках функционального стиля и др. Однако
тексты, созданные на мягких языках, имеют сильную прагматическую
составляющую. Что именно и, главное, как будет написано определяется интенцией автора, степенью его владения языком, контекстом его
жизни, энциклопедией, — всем, что составляет глобальный дискурс.
Именно для текстов на мягких языках характерно такое понятие, как
«авторская стилистика», «идиостиль», то есть индивидуальный способ
означивания.
7. Степень энтропийности текстов. Тексты формальных языков
обладают бóльшими по сравнению с текстами на мягких языках «правами»: их знаки имеют зафиксированное значение во всех контекстах
употребления, а тексты создаются согласно алгоритмам. Это сводит
к минимуму степень семантической неопределенности и не позволяет интерпретаторам навязывать текстам свое собственное прочтение. Напротив, энтропийность текстов, созданных с помощью мягких
систем, может быть достаточно велика.
Возможность и необходимость перевода на вербальный
язык — это параметр, который объединяет твердые и мягкие знаковые системы. Являясь частью семиозиса, каждый невербальный язык
в нашем сознании существует при интерпретирующей поддержке, прежде всего, вербального языка. Насколько абсолютно это положение?
Казалось бы, можно представить следующие ситуации:
— несколько физиков в молчании, используя только записи на формальном языке, доказывают свои положения и опровергают чужие;
83
— музыкант, дающий мастер-класс, в течение часа обучает молодого коллегу, также не прибегая к помощи естественного языка
(к тому же он у них может быть разный!), а показывая особенности звукоизвлечения, фразировки, структуру произведения непосредственно
на рояле.
Однако и в этих случаях каждый из языковых субъектов вербализует
невербальные сообщения, только этот «перевод» происходит в форме
внутренней речи. Дополнительность языков как перевод — обязательный принцип семиотического пространства культуры. Трудно представить, что можно научиться языку программирования без объяснений
преподавателя, которые происходят посредством вербального метаязыка. Музыкальный и живописный текст, готический собор можно
воспринимать на уровне чувств, эмоциональных откликов, но и собственные чувства доступны нам в вербальном воплощении. А чтобы профессионально изучать любой невербальный язык, необходима помощь
посредника — естественного языка. Если представить, что существует
некоторый язык, устройство и тексты которого нельзя объяснить через
вербальный, то этот язык окажется вне пространства коммуникации.
Вербальный язык становится единственным метаязыком описания текстов на твердых и мягких языках, то есть языком их восприятия. Например, в ситуации интерпретации математического текста
сама математическая запись формулы сокращенного умножения (a+b)
ⁿ или уравнения выступает как язык элементарного (первого) уровня
по отношению к вербальному способу интерпретации этого сообщения
(метаязыку, или языку второго уровня). Как бы человек ни стремился
испытать состояние невербальности, оно недостижимо. Живя в языках,
репрезентируя мир в знаках/текстах различных семиотических систем,
мы в итоге через слово озвучиваем визуальные, обонятельные, аудиальные, тактильные картины мира.
Вопрос об адекватности переводов-вербализаций выходит за рамки
противопоставления твердых и мягких языков. Однако я приведу остроумный пример, демонстрирующий возможность использовать математическую запись в качестве метаязыка для вербального нарратива.
Этот пример принадлежит британскому философу — лорду Бертрану
Расселу. Вот исходное высказывание на вербальном языке:
«Когда вы встречаете человека, обладающего полуторным умом, то часто
считаете его полоумным. Но это происходит потому, что вы сами способны
воспринять его ум только на одну треть».
А вот математическое перевыражение этого текста:
3 :2 ×1 :3 =
1 : 2.
Кажется, что математическая запись достаточно адекватно отражает
вербальное высказывание: здесь 3 : 2 замещает человека с полуторным
84
умом, знак умножения функционирует как индекс встречи двух объектов, знак тождества есть индекс вывода (вы считаете) и др. Однако вне
данного вербального нарратива эта запись может с таким же успехом
относиться и ко множеству других ситуаций.
Вербальные системы — не просто связующее звено между твердыми
и мягкими системами, но основание их рождения. По структурному
образу и подобию вербальных языков создаются вторичные моделирующие системы — все виды искусственных вербальных языков, языков
искусств и наук, формальных систем. Почему? Вторичные языки, чья
история связана непосредственно с человеком, не могли возникнуть
из ничего. Интуитивно (реже — с определенной степенью осознанности) их создатель переносит сущностные механизмы репрезентации, уже освоенные им в вербальной и жестово-мимической сферах,
на новые знаковые системы.
Вопросы и задания
1. Очертите границы вавилонского многоязычия, которым отмечена современная культура. Представьте возможные классификации языковых систем
по происхождению, материи знаконосителей, референтам отображения и степени конвенциональности знаков.
2. Обоснуйте различия между первичными и вторичными моделирующими
системами. Почему в каждой категории моделирующих систем не может быть
представлен только один язык?
3. Представьте систему параметров, по которым языки разделяются на твердые и мягкие.
4. Дайте максимально полную характеристику языковой системы на примере
языка Тлена (новелла Х. Л. Борхеса «Тлен. Укбар. Орбис Терциус»). В анализе
опирайтесь на следующие параметры.
• Определите характер происхождения языка (первичная или вторичная
моделирующая система).
• Опишите материю знаконосителей (вербальный язык или невербальный).
• Каковы функции языка Тлена?
• Что в этом языке выступает в качестве референтов отображения?
• Определите особенности фонетики, словаря и грамматики языка Тлена;
• Что можно сказать об особенностях прагматики говорящего?
Можно ли на этом языке формулировать субъективную точку зрения на реальность?
• Каковы степень конвенциональности/энтропийности передаваемых
сообщений, степень контекстуальной зависимости знаков?
• К какому типу языков ближе язык Тлена — к твердым или мягким?
• Какова возможность переводимости высказываний на языке Тлена
на наши естественные языки?
Универсалии языков культуры
Мысль о возможности выделения инвариантов, лежащих в основании всей вавилонской «библиотеки» языков (не только вербальных),
крайне притягательна, ведь это позволит вывести наиболее общие
алгоритмы кодирования информации в культуре. Кажется, что задача
выведения общесемиотических параметров для всех знаковых систем
очень проблематична (вспомним, насколько отличны друг от друга
твердые и мягкие языки).
В лингвистике для описания всего многообразия естественных (вербальных) языков успешно разработана система параметров описания.
Например, это так называемые уровневые универсалии: фонетические,
морфолого-синтаксические и др. Однако эти параметры не являются
обязательными для всех невербальных систем без исключения.
Рассмотрим возможность описывать невербальные языки с точки
зрения фонетики как системы незнаковых технических элементов,
принимающих участие в формировании материи языка. Мы определенно можем говорить о фонетике, анализируя язык музыки. Звукоряд
включает основные тона определенной тональности и звуки, выступающие знаками потенциальной модуляции в другие тональности.
На этом основании можно вводить понятие звуковой оппозиции, которую составляет, например, интервальное расстояние между тоникой
и доминантой, тоникой и субдоминантой. А вот в визуальном тексте
(фотографии и др.) или языке формальной логики уровень сигналов,
не являющихся собственно знаками, не выделяется. В музыке в качестве грамматических парадигм можно рассматривать гармонические
последовательности и системы обращений трезвучий каждой ступени.
В визуальных же языках такие парадигмы не представлены, но, как
и в музыке, в качестве синтаксических построений возникают композиция и перспектива.
В итоге для всего многообразия носителей информации в культуре
остается практически один общий признак: они должны быть материальны, иначе их восприятие окажется невозможным. Поэтому поиск
общесемиотических универсалий следует связывать не с материей знаковых систем, а с характером функционирования языков в аспектах
семиозиса — прагматикой, семантикой и синтактикой:
— в прагматическом описании языков обнаружатся их общие функции и степень зависимости сообщения от субъекта речи и адресата;
— в аспекте семантики все языки потенциально обладают возможностями отображать свои референты по типу индексов, икон, симво86
лов и их комбинаций, создавая соответствующие значения. Для знаков любых систем характерна асимметрия между планами выражения
и содержания. Как одно понятие может выражаться через спектр знаков, так и один знаконоситель может отсылать к нескольким понятиям;
— в плане синтактики языки обладают кодом комбинаторики,
который, в свою очередь, предполагает наличие структурных отношений в системе (иерархии знаков, их парадигматики и синтагматики).
Семантический и синтаксический аспекты языка определяют его
операционные возможности. Среди них образование новых знаков
из субзнаков (например, морфем) или на базе уже имеющихся знаков;
правила сочетаемости знаков, семантический потенциал знаков и др.
Все языки культуры реализуют свой потенциал в форме текстов,
которые создаются кем-то, для кого-то и с определенными целями. Так
языки обретают жизнь, переходя от потенции к возможности.
Наиболее общие функции знаковых систем связаны с адаптацией человека к миру. Язык обеспечивает для человека «рождение»
и «присутствие» реальности, поскольку в операциях индексации (выделения и номинации) и иконического описания вещи предстают перед
человеком как существующие объекты познания. Единственно возможный доступ к миру человек получает через свои языки. Ю. Лотман неоднократно подчеркивал, что как языковое существо человек не может
воспринимать несемиотизированные (не ставшие знаком) феномены.
Реальность только тогда в прямом смысле становится реальностью,
когда она переводится на язык. Чеслав Милош пишет:
«Люди, города и целые страны исчезают только потому, что не были
“переведены” в знаки, что мы не нашли слов, способных остановить их уход
в небытие»1.
И у него же единственным доказательством существования панны
N является текст о ней. Это касается не только вербальных текстов.
Портреты, созданные художником и композитором, также подтверждают, что, например, некая панна N присутствует в этом мире. В итоге
реальность существует, только будучи зафиксированной в каком-либо
языке. И тогда владение языками тождественно обладанию миром2.
Одновременно все языки служат инструментами познания мира.
Многие и многие его черты так и остались бы для нас незамеченными,
не будь поэтов, художников, музыкантов, философов и ученых. Список
открытых искусством «подробностей» бытия бесконечен. Вот примеры
из Милорада Павича, который обнаружил существование «внутренней
стороны ветра», а также чудесные возможности «улыбаться на чистейшем иврите», «молчать на неизвестном языке» и «проснуться в языке,
похожем на русский».
1
Miłosz Cz. Ziemia Ulro. Kraków : Znak, 2000. S. 66.
Хайдеггер М. Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие : статьи и выступления /
пер. с нем. В. Бибихина. М. : Республика, 1993. С. 195.
2
87
Перевод вещного мира в знаки обеспечивает возможность его понимания. Именно потому мир читается нами как книга, где «все зримое
существует для обозначения и объяснения невидимого, и каждая малая
вещь говорит о несказуемой благости ее сотворившего»1. Механизм
семиотического перевода подобен химическим процессам. Клетка усваивает внешние химические вещества только в том случае, если они
трансформированы в биохимические структуры, свойственные самой
клетке. Оба случая — частные проявления одного и того же закона
адаптации к внешней среде2.
Разнообразие семиотических систем может объясняться необходимостью разноаспектного познания реальности. Это достаточно
непривычно для большинства людей, которые со школьной скамьи,
не задумываясь, автоматически связывают языки прежде всего с коммуникацией. В распространении этого «знания» принимают участие
даже учебники по лингвистике. Возможно, говорит Т. Черниговская:
«Стоит еще раз прислушаться к Хомскому, считающему, что язык для коммуникации не так уж хорошо приспособлен, а сформировался главным образом для структурирования мышления, то есть для процессов внутренних.
А внутренние — это мышление. Язык — для мышления, то есть для адаптации к миру; коммуникативная функция в этом случае является как бы побочным продуктом»3.
Вербальный язык возник как результат эволюционной адаптации4. Но в этом же контексте следует говорить и о жестово-мимических системах. Языки искусств и наук продолжают эту эволюционную
линию. И даже любой процесс перевода (внутриязыкового, межсемиотического, между вербальными языками) также надо рассматривать
как форму приспособления одной системы к другой.
Все знаковые системы производят категориальную разметку
мира, что, в частности, не позволяет им становиться зеркалами реальности. Это положение также можно отнести к числу универсальных. Языковая категоризация (важнейший инструмент адаптации
к миру) — это эффективное средство противостояния хаосу бесконечных сенсорных сигналов и впечатлений. Без их систематизации мир
уподобится борхесовскому саду расходящихся тропок. Используя аналогии и сходства, человек заключает все существующее в классы и парадигмы:
1
Эко У. Имя розы. С. 340.
Лотман Ю. М. О семиосфере // Лотман Ю. М. Чему учатся люди. Статьи
и заметки. М. : Центр книги Рудомино, 2010. С. 82—109.
3 Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание. M. :
Языки славянской культуры, 2013. С. 13; Об этом же и Кравченко А. В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. Иркутск : Изд-во ОГУП «Иркутская
областная типография № 1», 2001. С. 90.
4 Пинкер С. Язык как инстинкт / пер. с англ. Е. В. Кайдаловой. М. : Едиториал УРСС,
2004. С. 16.
2
88
«Ясно, что простейший путь ухватить реальность и хоть как-то ее организовать для внутреннего употребления — это оперировать множествами. Для
человеческого (NB!) употребления»1.
Языки помогают нам не потеряться также и в социальной действительности, поскольку их категориальные сетки — ключ к пониманию
собеседника. Эта мысль замечательно актуализирована в названии
одной из глав книги Николаса Эванса: Your Mind in Mine: Social Cognition
in Grammar («Твой разум — в моем: социокогнитивная грамматика»)2.
Мир — пространство, размеченное нашими языками. Разметки принимают вид географических карт, грамматических категорий, типизаций в литературе, стилистических парадигм, периодической системы
химических элементов, квинтового круга тональностей в музыке. Всё
это и многое другое — результаты разноаспектного познания мира.
Но одновременно любые систематизации работают как когнитивные
фильтры, сквозь которые мы видим реальность так, как позволяют
наши языки.
Разные языки по-разному «собирают» мир, продолжая увеличивать
число парадигм за счет альтернативных категоризаций. Так, в эссе
«Аналитический язык Джона Уилкинса» Х. Л. Борхес предлагает странную классификацию животных, которые делятся на:
а) принадлежащих Императору,
б) набальзамированных,
в) прирученных,
г) молочных поросят,
д) сирен,
е) сказочных,
ж) бродячих собак,
з) включенных в эту классификацию,
и) бегающих как сумасшедшие,
к) бесчисленных,
л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти,
м) прочих,
н) разбивших цветочную вазу,
о) похожих издали на мух3.
Как ни странно, но и такая классификация позволяет производить
категоризацию собак по каждому из параметров.
Все языки не обладают параметром автономности. Они показывают
различную степень зависимостей от субъекта, мира, других языков.
1
Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание. С. 22, 67.
Evans N. Dying words: Endangered languages and what they have to tell us. Malden,
MA : Wiley-Blackwell, 2010. 287 p.
3 Борхес Х. Л. Аналитический язык Джона Уилкинса // Борхес Х. Л. Стихотворения.
Новеллы. Эссе. С. 510. Эту классификацию неоднократно воспроизводит У. Эко, в частности, в книге «Поиски совершенного языка в европейской культуре».
2
89
В этом контексте интересно отметить, что степень панорамности мышления человека действительно определяется числом языков, которыми
он владеет. А вот мир как таковой не зависит от того, кто и на каких
языках его репрезентирует. По крайней мере, мы допускаем, что реальность существовала и существует до и вне репрезентаций. Правда, вне
репрезентаций мы ничего не можем сказать о ней.
В употреблении одних систем мы в бо́льшей степени ориентируемся
на их правила, и здесь зависим от языка. Так, в математическом нарративе а + в = с речь идет о возможности слияния двух классов некоторых объектов, результатом чего становится возникновение нового
класса с. Начало сюжета (а+в)2 имеет только одно продолжение: а2 +
2ав + в2. Правила системы не позволяют задать вопрос, кто такие или
что такое а и в? Подразумевается, что это непременно классы объектов, даже если теоретически они могут быть представлены одним членом. Но именно благодаря тому, что язык математики позволяет видеть
закономерности мира в отвлечении от конкретных вещей и вне чувственных образов, мы можем войти в состояние мистического благоговения перед совершенством круга, тайной √1, бесконечностью геометрической точки:
«Я знал, но и всякий ощутил бы под чарами мерной пульсации, что
период колебаний определен отношением квадратного корня длины нити
к числу π, которое иррационально для подлунных умов, перед лицом божественной Рацио неукоснительно сопрягает окружности с диаметрами любых
существующих кругов»�.
Замечательный математик и физик Роджер Пенроуз убежден, что
физический и ментальный миры в каком-то смысле являются актуализацией вневременны́х платоновских представлений о числе, круге
и других понятий чистой математики1. Таким образом здесь не только
человек (способ его мышления, картина мира), но и сама реальность
оказываются в зависимости от языка.
Рождение произведений искусства, наоборот, предопределяется
интенцией субъекта, и тогда алгоритмы языков и создание картин
мира (вернее, возможных миров) оказываются во власти человека.
Отступление от языковых правил или их преодоление — это предпосылка возникновения самого искусства. Как для образования жемчужины в раковине, лежащей на дне океана, нужна песчинка (инородная
неправильность)2, так и поэт, композитор, художник, балетмейстер
преодолевают гравитацию конвенций своих языков. Стихотворение
должно быть безукоризненно до неправильности. Неправильности
подобны родинкам на теле стихотворения, и по ним мы узнаем самого
1
Эко У. Маятник Фуко. С. 9—10.
Хокинг С. Большое, малое и человеческий разум / пер. с англ. А. Хачояна. СПб. :
Амфора, 2014. С. 16, 96.
2
90
творца1. Так, употребление деепричастного оборота, открыто нарушающее правило русской грамматики, позволяет О. Мандельштаму сказать
о легкости и эфемерности бытия, не произнося этих слов, ведь в «подвешенном», ни к чему не прикрепленном состоянии уже находится сам
деепричастный оборот:
Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.
(О. Мандельштам. Невыразимая печаль. 1909)
Тот же эффект достигает и композитор, который после блужданий
по тропинкам модуляций в конце сочинения так и не возвращается
«домой», в исходную тональность.
Уже обсуждался вопрос о том, онтологическая природа референтов влияет на структурные параметры языков, делая их твердыми или
мягкими. Так, система абстрактных величин и отношений, которая
репрезентируется формальными языками, может описываться как мир
неизменных сущностей. Вот почему и сами формальные языки становятся, в терминологии В. Налимова, «твердыми». Их знаки обладают
строгой конвенцией значений, их грамматика исключает альтернативные (авторские) категоризации, употребление системы подчинено
жесткой логике алгоритмов, текстопорождение определяется как бесконтекстное, поскольку напрямую не зависит от дискурса. Например, процедура упрощения алгебраического тождества не изменяется
в зависимости от гендерной принадлежности субъекта, его социального статуса и других характеристик личности. Напротив, если референтами отображения становятся вещи физического мира, то сам
факт постоянной изменчивости их атрибутов, а также невозможность
одновременно отобразить всю их систему приводят к тому, что языки
(например, визуальные искусства) вынуждены постоянно подстраиваться под ускользающую реальность — менять стилистические установки, совершенствовать инструменты репрезентации. Такой характер
функционирования искусств позволяет рассматривать их в качестве
мягких языков культуры.
Отличаясь друг от друга преимущественным способом означивания
референтов (индексальный иконизм или индексальный символизм),
все языки с разной скоростью идут по пути все бо́льшего сворачивания информации. Формально это проявляется в возможности
переключения индексального и иконического кодов на символическое
прочтение. Функционально связано с необходимостью расширить пространство отображения, включив в число потенциальных референтов
1 Шнитке А. Альфред Шнитке: беседы, выступления, статьи. URL: https://monocler.
ru/shnitke-besedi/.
91
абстрактные объекты. Так, за номинацией «лев» стоит не только сам
лев, но и идеи мужества, верности или, напротив, жестокости. В своем
эволюционном развитии языки, отдаляясь от мира, увеличивают степень своей абстрактности, а также дистанцию между миром и человеком. Следствием такого разрыва становится, например, возникновение
парадигм и рождение грамматики. Несомненно, тенденция сжатия
информации, общая для всех знаковых систем, связана также и с необходимостью увеличивать объем нашей памяти «вглубь». Но происходит
это не за счет увеличения числа знаков, а через метафоризацию — создание системы связей одного носителя с несколькими референтами.
Анализ функционирования каждого языка позволяет делать предположения о степени его семиотической сложности. На начальном
этапе она, естественно, определяется числом базовых знаков и грамматических алгоритмов, предписывающих их комбинации. Сложности
овладения языком / правилами порождения и интерпретации его текстов связаны не с формальным объемом словаря, а со степенью колебаний знаков между диктатом семантико-грамматических конвенций
и энтропийной неопределенностью, то есть случаями непредсказуемого
поведения системы. Как правило, языки не настроены на жесткость
алгоритмов, и «это может быть объяснено только запросами самого
когнитивного ментального пространства, если не сказать — самого
мира»1. Исключение, пожалуй, составляют формальные языки, ведь
мир, который они репрезентируют, неопределенен в меньшей степени,
нежели ментальная сфера человека.
Вопросы и задания
1. Все языки являются знаковыми системами. Но все ли знаковые
системы — это языки? Рассмотрите это положение на примере системы знаков
дорожного движения и системы смайликов.
• Что в этих системах выступает в качестве референта? Какую информацию
можно передавать посредством этих систем?
• Какой способ репрезентации использует система?
• Опишите степень креативности этих знаков.
• Обладают ли эти системы иерархической лестницей знаков?
• Оцените морфосинтаксическую оснащенность этих знаковых систем.
2. Очертите основные параметры, которые можно считать инвариантами
всех семиотических систем.
3. Покажите на примерах с использованием разносемиотических систем,
как одно понятие может выражаться через спектр знаков, а один знаконоситель
может стать знаком нескольких понятий.
4. Как Вы понимаете следующее выражение Станислава Лема: «языки нам
никогда не удается “до конца раскусить”, то есть однозначно формализовать»?
5. На примере вербального языка покажите, как в его системе реализуются,
казалось бы исключающие друг друга принципы экономии и избыточности,
линейности высказывания и континуальности смысла.
1 Гумилев Н. С. Жизнь стиха // Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М. : Современник 1990. С. 49.
92
6. В процессе своего развития языковые системы движутся в сторону все
бо́льшей рациональности, что увеличивает разрыв между человеком и миром.
Покажите это на примерах функционирования различных языков культуры.
7. Покажите на примерах, как человек использует инструменты, позволяющие создать альтернативную (знаковую) реальность:
• метафора и альтернативная категоризация реальности;
• создание новых знаков и индивидуальных правил их комбинирования,
расширение семантического спектра знака;
• локализация абстракций в точках физического времени и пространства
(операции индексальной номинации и иконического отображения);
• создание дискурсивного измерения текста (как следует построить текст,
повествующий, например, не о бабочке как классе, а именно об этой бабочке?).
8. Почему метатекстуальная функция является семиотической универсалией — обязательной характеристикой любого языка. В чем заключается
метатекстовая функция вербального языка по отношению к другим системам,
в том числе и вербальным?
Репрезентативный потенциал языков
культуры и языковые картины мира
Один и тот же объект может получить «удвоение» одновременно
в знаках нескольких языков. Так в кореферентных (относящихся
к одному референту) репрезентациях «размножаются камень, вещь, воздух» (И. Бродский). Дерево можно заместить фотографией, картиной,
вербальным описанием, танцем, пантомимой, ментальным образом.
Перечень вариантов — открытый список. При этом репрезентации могут
находиться в отношениях дополнительности, синонимии, быть противоположными друг другу. Семантика всех перечисленных кореферентных
знаков во многом зависит от репрезентативных возможностей языков,
выбранных (в нашем примере) для отображения дерева.
Репрезентативный потенциал любой системы (что и как с помощью
языка мы можем выразить?) напрямую связан с вопросом о степени
полноты и истинности знаковых систем:
«<…> можем ли мы доверять нашему мозгу и его языкам — от математики до искусства, включая, конечно, и язык вербальный? Можем ли мы адекватно описывать мир с помощью естественного языка — достаточно ли в нем
средств?»1
Действительно, насколько часто мы задумываемся о том, каков
конечный результат употребления языка — что именно нам удается
сделать в мире видимым и доступным?
В эссе «Тлен. Укбар. Орбис Терциус» Х. Л. Борхес дает контурный
абрис фантастического языка жителей Тлена. При полном отсутствии
существительных его первичной клеткой являются безличные глаголы.
Предметную ситуацию «луна поднялась над рекой» жители Тлена отображают через «вверх над постоянным течь залунело». Носители такого
языка воспринимают мир как «ряд ментальных процессов, развертывающихся не в пространстве, а во временнóй последовательности».
Живя в мире вещей, где есть, например, луна и деревья, они не подозревают об их существовании, поскольку эти объекты не зафиксированы в знаках в качестве предметов. Мир Тлена — это бесконечное
разнообразие процессов, но «не собрание предметов в пространстве»2.
Об этом же у Борхеса и в эссе «Бессмертный»:
1
2
331.
94
Черниговская, Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание. С. 15.
Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание. С. 12,
«Аргус ассоциирует все иначе…; и может, для него даже не существует
предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких
впечатлений»1.
Наше сознание фиксирует фрагменты опыта, замещенные относительно статичными образами и далее — именными формами. Получается, что субъекты, чьи языки априорно отрицают предметность,
живут в «мире без памяти». В отсутствие индексальных знаков системы,
подобные языку Тлена, не в силах зафиксировать вещи, «остановив»
для говорящего их движение во времени и пространстве. За плечами,
казалось бы, не более чем странных особенностей морфологии встает
страшная картина. Хотя Борхес и не упоминает об этом факте, но логика
анализа языка Тлена позволяет допустить, что этот язык запрещает
своим носителям не только называть (а значит, и видеть предметы),
но также идентифицировать в акте речи самих себя и других, ведь для
этого в языке должны быть личные грамматические формы (местоимения и глаголы). Нетрудно представить, что происходит с обществом,
где запрещается быть собой, где я не существует как автономная клеточка системы.
Влияние подобной грамматики распространяется далее у обитателей Тлена и на визуальное восприятие реальности. Борхес отмечает:
в отсутствие вербальных индексов у носителей языка создается впечатление, что, перемещаясь, они изменяют взглядом окружающие формы.
Это же приводит к невозможности счета предметов, и потому «основой
арифметики Тлена является понятие бесконечных чисел»2.
Таким образом количество того, что в мире для нас видимо
и доступно, напрямую зависит от языка, выбранного для репрезентации. Предлагаю проверить это положение в опыте, сопоставив результаты отображения одного и того же референта разносемиотическими
системами. Думаю, можно согласиться, что следующее стихотворение
Афанасия Фета:
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
(1842)
1 Борхес Х. Л. Тлен. Укбар. Орбис Терциус // Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы.
Эссе. С. 108—109.
2 Там же. С. 210.
95
И вот эта фотография (рис. 31) являются кореферентными по отношению к одной и той же ситуации «белая равнина, полная луна». При
этом вербальный и визуальный тексты обладают различным репрезентативным потенциалом.
Рис. 31. Зимний пейзаж
Каждый словесный знак у А. Фета употребляется как индекс предметов (луна, равнина) или их характеристик (равнина белая, небеса
высокие). На уровне всей синтаксической конструкции создается схематичная иконическая картина трехмерного пространства. Его разметка происходит в линейной последовательности: мы смотрим перед
собой (белая равнина), поднимаем глаза вверх (полная луна, свет небес
высоких), вновь опускаем глаза (блестящий снег) и переводим их вдаль
(одинокий бег саней вдали мы можем видеть, а можем только слышать
скрип полозьев и звон колокольчика).
Если восприятие вербального текста происходит в линейном движении от индексальности (фиксирования дискретных объектов) к иконизму (схематичному наброску трехмерной картины), то визуальный
текст (фотография) работает как цельный иконический образ, который
позволяет вычленять отдельные предметы.
Там, где вербальный знак называет атрибут и вещь (белая равнина),
визуальный знак одномоментно показывает форму, протяженность,
цвет и др. Одномоментно дана и вся композиция как пространственное соположение равнины, снега, неба, луны и деревьев. Но вот преимущество вербального языка: способность индексировать эмоции.
Сказано совершенно определенно: картина чудная, родная. А на фотографии тот же самый пейзаж может вызвать и прямо противоположные
чувства: холод, одиночество, страх, поскольку в этом пространстве нет
знаков присутствия человека.
Этот пример показывает принципиальные различия репрезентативных возможностей языков культуры (что именно из объектов мира
и как мы можем отобразить с помощью знаковых систем).
96
Семиотический потенциал языков (порог репрезентации, или границы отображения) определяется системой следующих факторов.
1. Прежде всего, он напрямую связан с материей знаконосителей1. Для восприятия знака важно, какова степень пространственной
стабильности носителя значения и обозримости его границ. Вот почему
визуальный смайлик или вещь в интерьере (дискретные знаки) прочитываются в бо́льшей степени однозначно, нежели летучая парфюмерная композиция или звучащая музыка.
2. Уровень семантической определенности знака в неменьшей степени зависит и от природы его референта: физическая это вещь или
ментальный концепт. Например, читая у И. Бродского «Не слышно
ни птицы, ни тем более автомобиля», мы соотносим эту строку с понятиями (визуальными и слуховыми образами) птиц и автомобилей.
Тогда как в процессе замещения абстрактного референта («сгустки
чужих, мне не внятных воспоминаний»2) представления о предмете
речи у говорящего и слушающего, как правило, вариативны и вероятностны. Оборотной стороной слов «птица» и «автомобиль» являются устойчивые представления о классах соответствующих вещей.
Но нельзя определить, какие именно образы возникают в виде сгустков
в памяти другого человека.
В идеале устойчивая конвенция значения создается постоянно воспроизводимой связью между дискретным знаконосителем и референтом физической природы. Однако реальная семиотическая практика
далека от идеальной ситуации. Кажется, что цвет — это характеристика
физического мира. Однако цвет «принадлежит» вещи и, значит, обладает
недискретной природой. Его восприятие зависит от освещения, индивидуальных особенностей зрения и многих других характеристик. Пытаясь
заключить вот этот цвет в слово, мы неизбежно попадаем в семиотическую ловушку, ощущая «недостаточность и неповоротливость» нашего
языка. Об этом Чеслав Милош в «Маленьком трактате о цвете»:
«Почему так убог наш язык, когда мы говорим о красках? Чем располагаем мы, чтобы обозначить великолепие цвета? Вот желтые листья, вот
красные, и это все? А листья березы — маленькие бледно-желтые монетки.
А ветки какого цвета? Лилового, сиреневого, фиолетового? То есть от lilias
сирени или от violette фиалки. Убогость сравнений. Чем отличается желтизна
березовых листьев от желтизны осины, сдобренной медью? А что конкретно
значит небесно-голубой?»3
Покажу это еще и на примерах из «упоительного языка камней»
и парфюмерных композиций, прочитываемых как сообщение. Сам
1 Борхес Х. Л. Тлен. Укбар. Орбис Терциус // Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы.
Эссе. С. 112.
2 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. С. 385.
3 Бродский И. Примечанье к прогнозам погоды // Бродский И. Малое собрание
сочинений. СПб. : Азбука-классика, 2010. С. 486.
97
камень, пусть даже носитель символических смыслов, — это пространственно стабильный и дискретный объект. Запах же имеет континуальную природу: обладая свойством летучести, он очень быстро растворяется в воздушной среде. Однако в качестве референтов в обоих языках
выступают абстрактные концептуальные представления, что приводит
к отсутствию твердой конвенции употребления знаков: невозможности
закрепить их значения в толковом словаре:
«Изумительнейший язык камней, правда? У разных отцов церкви камни
наделяются разными значениями. Для папы Иннокентия III рубин означал спокойствие и благостность, а гранат — милосердие. Для св. Брунона
аквамарин сосредоточивал в себе всю богословскую премудрость… хризолит — владения, сапфир — добродетели, оникс — власть, берилл — первенство, рубин — архангелов и изумруд — ангелов»1.
Вот почему интерпретация символов всегда определяется прагматикой — направлением и уровнем прочтения, которые мы выбрали или
которым подчиняемся:
«Язык драгоценностей многослоен, каждая из них отображает не одну,
а несколько истин, в зависимости от избранного направления чтения,
в зависимости от контекста, в котором они представляются. А кто указывает, какой необходимо избрать уровень толкования и какой нужно учитывать контекст? <…> Указывают начальствующие! Власть — самый уверенный толкователь, облаченный наивысшим авторитетом. <…> В противном
случае откуда бы мы получали объяснение многоразличных знаков, которые
мир представляет нашим грешным очам?»2
Производители парфюмерной продукции также вынуждены создавать «проспекты интерпретаций» для сложных ароматов. Так,
Chance — одна из композиций Chanel — это весенний этюд, парфюмерный портрет свежего апрельского утра, это аромат для женщин,
готовых впустить приключение в свою жизнь. За ароматом Contour
de lʼoeil Christian Dior для М. Павича стоит идея женского непостоянства и лжи:
«В это утро я снова лгала во сне, а ложь имеет запах. Она пахла capture
Contour de lʼoeil Christian Dior»3.
Такого рода дескрипции выполняют роль «мифологий», способствующих привлечению покупательского внимания. Невозможность
закрепить за каждым ароматом определенное значение и опознать его
1
Miłosz Cz. Piesek przydrożny. Kraków : Znak, 1998. S. 156.
Эко У. Имя розы. С. 559.
3 Там же. С. 559.
2
98
в восприятии приводит к тому, что потребитель чаще всего помнит
мифологию в отрыве от самого аромата.
В итоге от природы знаконосителя и референта в языках культуры
напрямую зависят степень энтропии (семантической неопределенности) сообщений, а значит, и возможность систематизировать исходный
репертуар знаков каждого языка, занимаясь составлением словарей.
3. Одна из обязательных универсалий языков культуры — возможность функционирования системы в рамках семантики, синтактики
и прагматики. Однако языки различаются тем, какой из аспектов
семиозиса доминирует в коммуникации. Так, для языков музыки,
живописи и фотографии характерно отсутствие системы дискретных знаков с конвенциональным значением. Зато в этих системах
в бо́льшей степени отчетливо может выделяться грамматический код
(композиционные правила сочетаемости знаков). Музыковеды описывают код музыкальных текстов в рамках теории музыки и гармонии,
искусствоведы говорят о грамматике визуальности, анализируя композицию и перспективу картины. А вот в языке драгоценных камней
и системе смайликов каждый знак функционирует как текст: за камнем, например, закреплена одна из добродетелей Пречистой Девы,
за смайликом — представление об эмоциональных состояниях: радости, печали и др. (рис. 32).
Рис. 32. Виды смайликов
Отсутствие грамматической комбинаторики (синтактики) резко
уменьшает коммуникативный потенциал подобных знаковых систем.
«Говорящий» здесь лишен возможности порождать бесконечное множество новых сообщений из различных комбинаций базовых знаков.
4. Знаковые системы культуры различны и по семиотическому
способу репрезентации, хотя все они обладают первичной настроенностью на индексальность, иконизм или символическое отображение.
Так, вербальные языки движутся от индексального выделения объектов
мира (собственно номинации) к их символическому переосмыслению.
Танец и визуальные тексты также развиваются в сторону символизации, но начинают этот путь от первичного иконизма (мимесиса).
В итоге разные языки по-разному «собирают» мир, то есть создают
его языковые картины. Стартовыми семиотическими характеристи99
ками языков культуры определяются их возможности для отображения
пространственно-временнóго континуума. Так, визуальные системы
коммуникации (живопись, фотография) делают акцент на пространственной составляющей, «останавливая» реальность в определенной
точке времени. Воспроизводя фрагмент пространства (переводя его
в режим знаковой реальности), художник создает для него рамки восприятия, определяет степень заполненности объектами, однородности/неоднородности среды и другие характеристики.
Живопись эпохи Возрождения научила нас видеть реальность
по канонам прямой перспективы. Глаз усвоил множество топологических аксиом: по мере отдаления от нас предметы становятся меньше,
теряют свою отдельность, изменяют форму (круглое видится овальным)
и становятся невидимыми за сплошной преградой. Знание того, что
в реальности вещи не подвергаются этим трансформациям, что стена,
загораживающая дерево, не изымает его из мира, что небо не граничит
с землей по линии горизонта, ничего не меняет в нашем восприятии.
Вот почему для глаза, воспитанного классическим искусством, произведения Рене Магритта, средневековые миниатюры или рисунки наивного реализма кажутся странными и неправильными, хотя они изображают вещи, которые просто «остались собой» и не подчинившись
конвенции восприятия (рис. 33).
Рис. 33. Рене Магритт. Препятствие пустоты
100
Музыка также предлагает нам свои картины мира, но уже звуковые.
Здесь мы воспринимаем реальность через слуховой канал и словно
с закрытыми глазами. Референтами отображения в музыке становится
все многообразие движений: звуки природы, пространственные перемещения объектов, смены эмоциональных состояний и др. Однако
слушатель воспринимает только их звуковой рисунок. Музыка создает
семантически неопределенные ситуации, когда при отсутствии визуального информационного канала за скобки непосредственного восприятия вынесены не только субъект движений, но и локус, в котором
он (субъект) существует.
Из освоения полифонических форм Баха вырастает образ пульсирующей Вселенной. Она рождается из темы фуги как первоосновы
и развивается одновременно в нескольких горизонтальных плоскостях
(регистрах) пространства. Барочная полифония транслирует идею упорядоченного мироздания. В движении от венских классиков к романтизму музыка, как и живопись, помогает различать в мире рисунок
(мелодию) и фон (гармонию). Однако они с успехом могут меняться
местами. Так, у позднего Ф. Шуберта гармонии обретают самостоятельность, выходя на первый план и занимая место мелодического
рисунка. Напротив, симфонизм конца ХХ в. отказывается от роли проводника, предлагающего картину реальности, и позволяет услышать
мир как сжатое неразмеченное пространство, в котором не представлен ни один из прежних результатов познания. Здесь нет постоянной
точки отсчета, нет центра и нет границ, нет рисунка, симметрии подобий, определенного персонажа. Есть только состояние соприсутствия.
Начиная от Г. Малера музыка предлагает нам концепцию мира как
самоорганизующейся структуры, которая отказывается от навязываемой симметрии, преодолевает сопротивление уже, казалось бы, закрепленных в искусстве композиционных форм.
С одной стороны, все сказанное подтверждает истинность положения Л. Витгенштейна о том, что границы и структура нашего мира
определяются возможностями тех языков, которыми мы владеем.
Однако вопрос о языковых картинах мира в гуманитарных исследованиях по-прежнему не имеет строгой доказательной базы. Нельзя отрицать их существование, но нет и системы положений, позволяющих
доказывать их наличие наподобие теорем в геометрии.
Приведу примеры с вербальными языками. Так, несомненна разница
в восприятии, которая стоит за номинацией дерева в современных
европейских языках (рус. дерево, пол. drzewo, англ. tree — везде лексема
в форме существительного) и, например, в ирокезском языке онондага,
где дерево именуется только глагольной формой. Там, где язык предлагает европейцу видеть дерево как статичную вещь, как «что», индеец
видит процессуальную картину «быть деревом». Получается, что языки
североамериканского ареала или Амазонии гораздо ближе к научной
репрезентации мира, поскольку в мире нет ничего статичного. В текстах на этих языках 80—90 % предложений состоит из одних глаголов,
101
что позволяет отображать неостановимую процессуальность жизни.
Однако наука возникла именно в Старом Свете, где грамматика языков
позволяет выделять и фиксировать объекты изучения из недискретного
пространства-времени.
Таким образом, картины мира все же существуют. Их разницу
мы особенно чувствуем при сопоставлении систем с несходным репрезентативным потенциалом. Например, при переводе между вербальными языками различных морфологических типов: флективными
и полисинтетическими. А еще это заметнее в практике межсемиотического перевода (термин Р. Якобсона). Так, мы имеем дело с различными картинами мира, стоящими за серией метатекстов к «Ромео
и Джульетте» Шекспира: среди них балет С. Прокофьева, опера Ш. Гуно
и увертюра П. Чайковского. При этом ни один из языков культуры
не способен создать истинные и полные репрезентации мира. Языковая картина — лишь конструкт, за которым всегда стоит автор сообщения / его получатель, дискурс порождения/интерпретации текста
и репрезентативный потенциал языка коммуникации.
Отсюда рождается гипотеза лингвистической относительности,
которая, как правило, связывается с именами Б. Уорфа и его учителя Э. Сэпира1. Идея языкового релятивизма неоднократно переживала взлеты и падения в ХХ в. Ее судьба более успешна за пределами
лингвистики. Например, в логике. Речь, например, о языковых каркасах Рудольфа Карнапа или известной формулировке польско-американского философа и логика Альфреда Кожибского «карта не есть территория». Писатели, поэты, художники, музыканты, исследователи, — все
они в определенном смысле картографы, осуществляющие описание
и разметку реальности в рамках своих парадигм анализа. Эту идею
актуализировал, например, сербский прозаик Горан Петрович в романе
«Атлас, составленный небом», где повествование идет от лица Картографа.
Репрезентативные ограничения языков культуры позволяют нам
увидеть мир исключительно как территорию, размеченную различными знаковыми системами. Что же из этого, с точки зрения семиотики, следует? Начало недостоверности наших знаний о мире.
Вопросы и задания
1. Определите понятие «языковая картина мира», связав гипотезу лингвистической относительности и семиотическое положение о репрезентативном
потенциале каждой знаковой системы культуры.
2. Сделайте семиотический анализ репрезентативного потенциала слова
«всё» на материале одноименного стихотворения Виславы Шимборской:
1 Павич М. Ящик для письменных принадлежностей / пер. с сербск. С. Савельевой.
СПб. : Азбука-классика, 2006. С. 19.
102
Всё
Всё —
Слово бесцельное и надутое гордыней.
Следовало бы писать его в кавычках.
Делает вид, что ничего не упускает,
Всё собирает, охватывает, содержит, вмещает.
А между тем всего лишь
Обрывок вихря.
(пер. с пол. Е. Бразговской)
Очертите референциальное пространство этого вербального знака и способ
отображения референта.
Почему, по мысли В. Шимборской, это слово следует писать в кавычках?
3. Очертите репрезентативные возможности вербального языка на примере
следующих текстов:
«Листья дуба похожи на кожу книжного переплета. Как еще сказать о них
в октябре, когда они буреют и становятся словно кожаными, будто только
и ждут, чтобы их оправили в золото. Почему так убог наш язык, когда мы говорим о красках? Чем мы располагаем, чтобы обозначить великолепие цвета?
Вот желтые листья, вот красные, и это все? Но ведь есть еще и желто-красные, и огненно-красные, и винно-красные (бордовые — нет, значит, ничего
лучше сравнения с вином bordeaux?). А березы? Их листья, маленькие бледножелтые монеты, кое-где еще свисающие с веточек, — а ветки какого цвета?
лилового? сиреневого? фиолетового? (То есть от lilas, сирени, или — если
фиолетовый — от violette, фиалки, опять эта убогость сравнений.) Чем отличается желтизна березовых листьев от желтизны осины, сдобренной медью,
которая проступает все отчетливее, пока не возьмет верх? Медный цвет? Значит, снова материальное сравнение — медь. Пожалуй, только зеленый и желтый глубоко укоренены в языке, а вот небесно-голубой взят у неба, червоннокрасный происходит от червца — краски для окрашивания тканей, которую
некогда делали из червей. Неужели язык так неповоротлив из-за того, что
глаз не различает мелких черточек природы, если от них нет практической
пользы? В октябре на долях желтеют тыквы, но на самом деле они оранжевого цвета. Почему от апельсина, orange? Сколько жителей северной страны
видели апельсины? Все это пришло мне в голову потому, что описать осенние
пейзажи в долине реки Коннектикут, описать точно и обыденно, не прибегая
к метафорам и сравнениям, оказалось необыкновенно трудно».
(Чеслав Милош. Небольшой трактат о цвете)
«За фонтаном цветет и благоухает лиловый сиреневый куст. Что-то теплое,
вкрадчивое в его аромате, но не созвучное нам. Мы окружаем сирень,
но только для того, чтобы искать «счастье» в ее пушистых гроздьях… Зато
рядом большая рассада ландышей с их девственной свежестью напоминает
нам о весне, и мы нюхаем их с восторгом. Удивителен аромат у этого тонкого цветка! И вдруг мы поднимаем головы. Что за новый запах? Над нами
в цвету деревья флердоранжа, переносящие нас в южное горячее лето. Как
фимиам стелется этот аромат по всему зимнему саду, сливается с влажным
воздухом земли, мхов, папоротников, пальм и лавров. Тут же цветут гиа103
цинты и, подобно ландышам, говорят о весне, и аромат их вливается в общую
гамму, общий букет. И вдруг новая благоуханность заслоняет для нас все другие. Перед нами соблазнительно краснеют зрелые пушистые плоды персикового дерева, притягивая нас своим ароматом. Вкусовая душистость его вливается в оранжерейную благоуханность, придает ей утонченную законченность и легкий, шаловливый вызов, мечту о чем-то осязаемом… Много-много
лет прошло с тех пор, а я все помню сложный и чудесный аромат зимнего
сада моего раннего детства. <…> Особенно ярко запомнился мне с времен
моего детства Jasmin de Corse. В ту пору это были дорогие духи, в которых
гениальный Коти сумел передать притягивающую чувственность и шарм легкой задорной душистости этого цветка, без эссенции которого нельзя создать
ни одних хороших духов.
(Константин Веригин. Благоуханность. Воспоминания парфюмера)
В анализе опирайтесь на следующие параметры.
• Какая семиотическая проблема стала темой этих текстов? Очертите
прагматические аспекты этих сообщений.
• В функции каких знаков употреблены отдельные лексемы/словосочетания/высказывания? Объясните механизм перехода от индексальной техники
(номинации) к иконизму и символизму.
• Может ли вербальный язык в итоге репрезентировать цвет? А вкус и запах?
4. Подготовьте сообщение о репрезентативном потенциале языка запахов.
В анализе этого языка определите:
• какова природа знаконосителя, степень его дискретности/континуальности, особенности эмпирического восприятия, степень пространственновременно́й зафиксированности знаконосителя;
• что выступает в качестве референтов этого языка;
• по какому типу возможна репрезентация референта (иконизм, символизм
запахов);
• какова степень конвенциональности и энтропии знаков;
• есть ли у этого языка словарь и грамматика?
• какой по структуре код текстовых сообщений на этом языке? Приведите
примеры простых и сложных кодов. Связаны ли они с национальной культурой;
• насколько адекватно можно осуществить вербализацию запахов;
• какова роль этого языка в познании, в создании картины мира?
Принцип дополнительности
разносемиотических систем
Гипотетический вопрос о существовании или несуществовании языковых картин мира в семиотике заменяется серией вопросов, связанных
с практикой функционирования знаковых систем. С помощью каких
языков создаются репрезентации реальности? Как характер семиотического картирования мира определяется репрезентативным потенциалом языков культуры? Почему каждый акт отображения реальности
происходит с использованием более чем одного языка?
Атомарным элементом семиотической системы не может выступать
некоторый изолированный знак. Семиозис не предполагает их автономного существования. Знаки неотделимы от субъекта — того, кто
их создает и воспринимает. Вспомним Ч. Пирса: ничто не возникнет
как знак, пока некто не «предложит» некоторому объекту стать знаком. Знак связан незримой нитью с внеязыковым референтом, который
он замещает. И знак функционирует только тогда, когда мы способны
определять его через другие знаки. Последнее положение разрушает
миф об отдельном слове или изолированном жесте как первоэлементах коммуникации.
Тогда что есть атом семиосферы — языковая система? Но ведь и она
должна подчиняться основному закону семиозиса: работать, объясняясь
через другие языки, ни один из которых также не является автономным
феноменом. Речь здесь не только о семиотическом переводе, но и о том,
что все языки, не являясь достаточно совершенными, должны дополняться другими языками. Вот откуда лотмановское положение о том,
что минимальной единицей семиосферы является бинарная структура,
то есть пара языков, связанных отношениями переводимости и дополнительности. Для создания бинарной структуры необходимо, чтобы
в отношения дополнительности вступали семиотически несхожие
языки — с дискретными и континуальными носителями значений. Так
образуется, например, пространство визуально-вербального восприятия, где зрительный образ имеет целостную континуальную природу,
а в словесном языке доминируют дискретные сигналы, позволяющие
создать пространственный каркас воспринимаемого образа. В рамках
этого канала коммуникации человек воспринимает картины, фотографии, природные ландшафты, телесные жесты.
Бинарная конструкция парадоксальна: отчетливо выделяя в ней две
составляющие, мы не в силах разъединить их. При восприятии картины
105
визуальный образ сразу же дополняется вербальным осмыслением,
например, возникших эмоций. Картина неотделима от вербального
сопровождения (что я вижу, как я это чувствую?), пусть даже оно существует только в форме внутренней речи, то есть внешне непроговариваемого сообщения. Также и обонятельное впечатление актуализируется
словесно: например, как таинственно-мистическое (знак присутствия
высших сил) или мерзкое (запах серы как знак дьявола).
Ю. Лотман доказывает неразрывность бинома, вводя в его определение понятие границы, которое и само предполагает бинарную дополнительность. С одной стороны, граница разделяет, с другой — соединяет,
но при этом в равной степени принадлежит обеим системам1. Оставаясь невидимой, она воспринимается как соединительное звено между
своим и чужим. Именно в этом локусе происходит рождение чудесного
семиотического феномена — дополнительности языков. Неактуализированный вывод Ю. Лотмана таков: черты «между», позволяющей
отделить один язык от другого, не существует, и о ней можно говорить
только в качестве формального конструкта, условно констатируя переход (перевод) с языка на язык, где конец одного есть начало другого.
Переход с языка на язык (мы читаем и «видим» то, о чем читаем) происходит лишь «внешне», и подобен наблюдаемой части айсберга. Покажу
это на нескольких примерах.
Когда мы читаем у И. Бродского, что зимний потусторонний свет
Венеции превращает ее дворцы в фарфоровую посуду (эссе «Набережная неисцелимых»), то этот итальянский пейзаж возникает в качестве
ментального образа, и мы видим то, что стоит за словесными знаками.
Вербальное и визуальное сливаются в неразрывном единстве, дополняя
друг друга: здесь слово называет (индекс), а ментальная картина показывает (икона). Если вербальные знаки даны в актуальном режиме восприятия (мы их видим или слышим), то ментальная картина скрыта
от глаз другого наблюдателя. А вот для самого поэта, наблюдавшего
в Венеции эффекты зимнего потустороннего света, визуальный образ
был доступен в реальном режиме: его глаз видел эту картину. Но одновременно визуальное прорастало в вербальное: во внутренней речи уже
проговаривалась будущая строка о камне, выглядящем словно тонкий
прозрачный фарфор. Отсюда у И. Бродского: глаз предшествует перу.
Мы постоянно пребываем в ситуации дополнительности языков,
которые попеременно меняют степень актуализации, но существуют
одновременно, расширяя возможности друг друга. Речь никогда не идет
о выходе из одной системы и вступлении в другую. Вот еще пример
из И. Бродского, где принцип дополнительности языковых систем
объясняет, почему восприятие текста (в данном случае вербального)
далеко выходит за границы интерпретации собственно словесных знаков:
1 Следует заметить, что, поддерживая идею о корреляции языка, мышления и поведения, на самом деле Б. Уорф и Э. Сэпир никогда не формулировали это положение как
научную гипотезу.
106
Удары колокола с колокольни,
Пустившей в венецианском небе корни <…>
(С натуры. 1995).
Референтная ситуация, к которой обращен текст (венецианский
городской пейзаж) репрезентируется через дополнительность слова,
неречевых звуков и визуальной картины. Читатель создает ментальный образ звука колокола, «слышит» его, поскольку звук индексирован
словом: удары колокола. Это звук достаточно сильный и плывущий над
головой (память подсказывает среднюю высоту колокольни). Подобно
морской волне, каждый следующий удар колокола наплывает на предшествующий, не давая ему угаснуть, раствориться в пространстве.
Но восприятие этого текста активно поддерживается еще и отчетливым визуальным образом. Наш глаз «наблюдает» шпили соборов.
Однако словесная формула («пустить корни в небо») заставляет нас
трансформировать привычную реальность: собор берет начало в небе,
там его корни, оттуда он произрастает к людям. Колокольня и деревья соединяют пространства земного и небесного. Правда, что теперь
«земля», а что «небо»? Корни ведь принадлежат истокам, началу. Значит, небо — начало человека? Можно не сомневаться, что многие,
впервые попав в Венецию, увидят ее глазами Иосифа Бродского.
Более сложный случай дополнительности языков включает попарное соотношение визуальной, вербальной и звуковой (несловесной)
систем. Рассмотрим визуальный текст художника-иллюстратора Андрея
Фереза, представляющий универсум звуков (рис. 34). Но как картина
может звучать, то есть репрезентировать звук?
Рис. 34. Андрей Ферез. Универсум звуков
107
Очевидно, что художник позволяет нам видеть изображенные вещи.
Но их восприятие у зрителя дополняется а) словесными знаками (как
эти вещи называются) и б) ментальными звуковыми образами (какие
звуки могут производить эти вещи):
• прежде всего, звучит орган. В производстве звуков задействованы
руки музыканта и ноги, управляющие педалью;
• некоторые из органных труб перерастают в собственно духовые
инструменты — в нечто между трубой и тубой. И можно представить
их звучание;
• под клавиатурой — связка ключей. Потенциально, если органист
их заденет, они зазвенят;
• шумит огонь в печке, которая снабжена трубой, а значит, гудит;
• можно представить бульканье воды в кипящем чайнике или его
шум перед закипанием;
• в «тело» органа, как в дом, можно заглянуть через открытые
дверку и окошко. Если горит свет, то «дом» обитаем, и это тоже звуки,
которые можно слышать;
• перед дверкой маленькая собачка, готовая залаять;
• каменные плиты, лестница, перила, — все это тоже «инструменты», наполняющие мир звучанием.
Таким образом каждый иконический знак (изображение огня, трубы,
органа, ключа и др.) сознание дополняет индексальным вербальным
знаком — соответствующим словом. А оно, в свою очередь, достраивается ментальным образом звука. Память хранит звуковые иконические
«картинки»: как гудит огонь, как звенят ключи, как звучит органная
фуга, как лает маленькая собачка, как «молчит» дом, в который еще
не вернулся хозяин и др.
Рассматривая сложную пространственную композицию, мы не
только видим, но и слышим ее. Причем звуки явно доминируют над
визуальным перечнем предметов, ведь на картине органист так пристально смотрит в ноты, что не замечает ночных кошмаров, заглядывающих в окна.
То, что словесный знак всегда дополняется образом, верно даже для
случаев с модусом отрицания. Американский антрополог и семиотик
Сол Уорт посвятил этой проблеме статью «Рисунки не могут сказать:
этого нет»1. Картина действительно не может передать информацию
о том, что нечто (единорог, например) не существует. Для того чтобы
отрицать, необходимо для начала показать то, что мы отрицаем. И если
единорог уже изображен, то мозг обрабатывает иконический знак соответствующим образом: если есть знак, то существует и его референт.
Изобразив единорога, мы подтвердили его существование. Но ведь
и в словесном тексте — все та же ситуация: произнеся, что единорога
нет, мы уже констатировали его присутствие в нашем сознании. У. Эко
1
108
Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 262.
неоднократно обращался к высказыванию Абеляра: nulla rosa est (розы
нет, роза не существует). Абеляр доказывает, что, отрицая бытие розы
(она отцвела, засохла, исчезла и др.), мы думаем о розе, то есть подтверждаем факт ее существования. Именно так творятся миры невозможного, которые на самом деле возможны. По крайней мере, для
нашего сознания-воображения.
Итак, если языки и автономны, то относительно и только как объекты описания. В актах коммуникации они, теряя самостоятельность,
образуют бинарные структуры, которые и становятся первичными
атомами семиотического пространства. Постулат о дополнительности
разноплановых систем пришел в семиотику из физики: его связывают,
прежде всего, с именем Нильса Бора. В соответствии с этим принципом, сформулированным в 1927 г., описание одного и того же объекта
микромира зависит от способа наблюдения. Объект существует как
атомарная структура, но в другой системе координат мы говорим о его
волновой природе. Он атом, но одновременно и волна. А вернее, нечто
третье, не равное простой сумме свойств волны и частицы. И эти описания не исключают, а дополняют друг друга, поскольку каждое из них
в отдельности дает неполное представление о реальности.
Универсальный (для всех форм передачи и получения информации)
принцип дополнительности известен науке и под другими именами.
Канадский психолог Алан Пайвио, говоря о симбиозе визуально-вербального, использует понятие «двойное кодирование» информации, Жиль
Фоконье — понятия «бленд», «блендирование», а В. Зинченко — представление о так называемых живых понятиях1. Во всех случаях имеется в виду, что за спиной слова стоит тень замещенного им объекта,
и тень имеет свойства визуальной картинки. Нечего и пробовать произнести слово «дерево» и не увидеть при этом дерево внутренним зрением. В случае «успеха» это будет означать одно: мы не знаем значения
этого слова.
Принцип дополнительности семиотически различных элементов обязателен для любых информационных процессов. Само понятие «дополнительность» подсказывает, почему. В бинарной структуре
репрезентативные возможности одного элемента расширяются за счет
потенциала другого элемента. Так рождается целое, больше суммы
своих членов: рай невозможен без ада; мужское дополняется женским;
вещь познается только в процессе ее отображения в знаке; он же,
в свою очередь, замещается следующим знаком. Отношения дополнительности возможны только для семиотически асимметричных элементов / знаковых систем: дискретное всегда дополняется континуальным.
Благодаря асимметрии бинарные структуры обретают подобие с мыслящими субъектами. Как и человек, каждый язык нуждается в собеседнике в лице другого языка. Читаю американского поэта Роберта Хасса:
1
185.
Worth S. Pictures Can’t Say Ain’t // Worth S. Studying Visual Communication. Р. 162—
109
А word emphasizes our separation from the particulars <…>
there is in this world no one thing
to which the bramble of blackberry corresponds,
a word is elegy to what it signifies <…>
desire is full of endless distances. <…>
Such tenderness, those afternoons and evenings,
saying blackberry, blackberry, blackberry.
(Robert Hass. Meditation at Lagunitas)
Слово отделяет нас от особенных черт того, о чем говорит. Нет
в мире вещи, с которой бы непосредственно соотносились последовательность звуков и линия графем «ежевика» (blackberry). Они бесконечно дистанцированы от самого растения. Слово — результат
конвенции, соглашения. Ситуация ненамного меняется от того, что
и в русском, и в английском языке это слово включает иконический
компонент «еж» — колючесть (рус.) и черный цвет ягоды (англ.).
И слово так и оставалось бы навсегда «элегией для своего означаемого», если бы не вступало в отношения дополнительности с визуальным (ментальным) образом референта: произнося «ежевика», я «вижу»
ее.
Но каков характер отношений паре из дискретного (слово) и континуального (образ) элементов: занимает ли какой-либо из языков
лидирующую позицию или они равны по функциональной нагрузке?
Приведу две точки зрения, которые, будучи извлеченными из своих
контекстов, кажутся различными, тогда как утверждают одно положение. Ю. Лотман и В. Налимов подчеркивали ведущую роль вербального языка в нашей коммуникации с миром1. Например, интерпретация любой формализованной записи или произведений искусства
происходит в процессе их вербального перевыражения. А вот позиция Р. Барта: «…отличие (между языками) не должно быть оплачено
никакой подчиненностью — ни за кем нет последнего слова»2. Так
отмечаются ли в структуре бинома лидер и ведомый? Или визуальное
и вербальное лучше назвать, как это звучит у американского поэта
Роберта Пински, «близнецами» (Is Vision the Twin of Speech?)?
Думаю, что и Р. Пински, и Р. Барт, и Ю. Лотман имели в виду примерно одно и то же. Разнокодовые системы с асимметрией репрезентативного потенциала (неодинаковыми возможностями отображения)
являются семиотическими братьями. Они предназначены для производства текстов и работают бок о бок, отображая один и тот же мир.
Дополняя друг друга, они не забывают о том, чем каждый отличен
от другого. Говоря о ведущей роли вербального языка, Ю. Лотман, как
мне кажется, подчеркивает только то, что этот язык является обяза1 Зинченко B. Π. Сознание и творческий акт. M., 2010. С. 269; Paivio A. Mental
Represenations: A Dual Coding Approach. Oxford, 1986. 322 р.
2 Лотман Ю. М. Семиосфера. 704 с.; Налимов В. Вероятностная модель языка. 303 с.
110
тельным компонентом любых бинарных структур. Через вербальный
язык интерпретируются все несловесные сигналы. Но не думаю, что
из этого можно сделать вывод о том, что семиотическое пространство
подобно гелиоцентрической системе, в которой все языки вращаются
вокруг вербального. Почему? Потому что его собственное существование определяется другими языками, потому что изучение первого вербального (материнского) языка происходит в тесном взаимодействии
с несловесными системами.
И в заключение раздела о дополнительности языков — два вывода,
касающиеся влияния этого семиотического феномена на культуру
в целом и самого человека.
Любые формы асимметрии (континуального и дискретного, актуального и потенциального) дают толчок развитию информационных процессов. Погруженность человека в языковую среду означает,
что он живет «внутри мыслящих миров»1. Дополнительность языков — ведущая ментальная операция, лежащая в основании производства значений, сжатия информации, создания ментальных образов,
работы человеческой памяти. Эта операция в процессе эволюции сделала человека тем, кем он есть, — мыслящим существом.
Семиотическое пространство не знает границ, и человек не может
его покинуть, не перестав быть homo loquens. Но можно ли представить ситуацию, что это пространство сводится к одному языку?
Существуют ли семиотические монолингвы? Большинство «наивных»
лингвистов готово ответить на этот вопрос утвердительно. Допустим,
человек владеет только одним из вербальных языков, не знает языков
искусств, не имеет представления о формальных системах и только
теоретически способен говорить, не прибегая к жестам и мимике.
Так ли это? Логика подобного рассуждения быстро рассеивается, если
мы, замыкая круг, вновь возвратимся к принципу дополнительности
языков и всему тому, что он включает. А это:
• бинарная структура есть матрица нашего мышления;
• между языками нет границы — водораздела;
• невозможно входить в новый язык из нулевой пустоты, не опираясь на какой-либо другой/другие языки.
Столь множественные по своим характеристикам языки существуют
в нашем сознании, опосредуя друг друга. Используя различные знаковые системы (формальные, языки искусств, словесные), человек расширяет границы данного ему мира. У нас есть системы, позволяющие
познавать вещи физической природы: предметы можно назвать, создать
их словесные дескрипции, воплотить вещи в фотографиях и натюрмортах. Но есть языки, способные открыть окно в мир абстракций и универсалий. Для отображения сущностей, составляющих «подкладку мира»,
в бо́льшей степени необходимы языки с континуальными носителями.
Так, музыка адекватнее, нежели слово, говорит об ощущении времени,
1
Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. М., 2012. С. 56.
111
движении состояний сознания. Немаловажно, что наши органы чувств
(слух, зрение и др.), настроенные на восприятие знаконосителей различной природы, совершенствуются в ходе постижения и использования языков культуры. В итоге все мы с неизбежностью полилингвальные существа, и наши языки работают по принципу дополнительности.
Слаженное взаимодействие разносемиотических систем американский музыковед и когнитивист Лоуренс Марк Збиковски своеобразно
определяет как «интимное когнитивное танго»1. Дополнительность
языков есть базовая ментальная операция — способ нашего мышления,
сделавший нас тем, кем мы есть2.
Вопросы и задания
1. Определите понятия репрезентация и репрезентативный потенциал
языковых систем культуры.
2. В чем заключается принцип дополнительности семиотических систем?
Как это связано с теорией семиозиса?
3. Объясните с когнитивно-семиотической точки зрения высказывание И. Бродского: «глаз предшествует перу». Можно ли рассматривать его как
истинное в рамках научной парадигмы?
4. Опишите работу принципа дополнительности языков на примере мультипликационного фильма для детей (например, «Котенок по имени Гав», реж.
Л. Атаманов). Для анализа репрезентативного потенциала каждого языка опирайтесь на следующие параметры, отмечая:
• материю носителя информации, степень дискретности/континуальности
знаков;
• природу референтов отображения;
• возможность выделять дискретные конвенциональные знаки;
• преобладающие виды репрезентации (индексальный иконизм, символизм);
• словарь и алгоритмы грамматики;
• доминирущий аспект семиозиса в практике употребления языка — семантика, синтактика, прагматика?
Сделайте выводы о том:
— сколько знаковых систем задействовано в восприятии мультфильма как
семиотического сообщения и каков режим их функционирования (актуализированный или ментальный);
— какой объем информации, как и с какой степенью энтропии передается
посредством каждого языка;
— как возможности одного языка дополняются возможностями другого;
— насколько успешен процесс когнитивной достройки образа? Это может
быть перевод невербального сообщения на язык слов или наоборот, сопровождение словесных знаков ментальной картинкой.
5. В романе современного сербского писателя Горана Петровича «Атлас,
составленный небом», представлен уникальный семиотический эксперимент:
1 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 151; 251. «Внутри мыслящих миров» — название
книги Ю. Лотмана, включенной в том «Семиосфера».
2 Zbikowski L. The Cognitive tango. In: The Atrful Mind. Cognitive Science and the Riddle
of Human Creativiti / M. Turner (Ed.). Oxford University Press, 2006. P. 132—133.
112
каждая из 51 иллюстраций к роману — это не что иное, как вербализация
соответствующего визуального текста, помещенная в раму. На примере одной
из иллюстраций сделайте заключение о степени адекватности межсемиотического перевода:
— какими знаками вводится представление о том, что перед нами визуальный текст;
— насколько точно по описанию можно представить сам визуальный оригинал;
— вся ли информация, представленная в вербальной форме, может быть
выражена визуально? Почему;
— сопоставьте репрезентативный потенциал разносемиотических систем;
— как читатель использует принцип дополнительности языков (и каких)
в процессе когнитивной достройки образа?
«Орел пролетел половину горизонта; он не знал, опускается ли вниз или
вверх, на заре небо слишком велико, чтобы помнить; одинокое бамбуковое
дерево в стороне, сквозь жар разгорающегося дня слышно, как решительно
оно тянется из земли; солнце в полдень вонзило в небо свои лучи, прикованные поля не могут шевельнуться; вода в реке поменялась несколько раз,
утренняя уже достигла сумерек в конце долины; луна появилась из-за горы,
оковала чистым серебром вечернее мычание буйвола; юноша посмотрел
на девушку, она лицом почувствовала легкую тяжесть жары».
Ил. 27. Неизвестный автор. Любовники. Ок. 1279. Иллюстрация медленного
способа существования. Препарированный шелк династии Сун. 28×10. Китайская коллекция Восточного института Чикаго.
6. Опишите принцип дополнительности языков на примере скрытой полилингвальной ситуации, описанной Милорадом Павичем в романе «Другое тело»:
«Теодор смотрит на Лизу тем мужским взглядом, который ей так хорошо
знаком и который она однажды очень точно мне описала. Это что-то среднее
между взглядом на пациентку врача-гинеколога и специалиста, оценивающего породистую кобылу.
Тумана не было, но на лагуну, как туман, опускалась тишина».
Семиотика визуальности: как читаются
визуальные тексты
Чтение герметических картин, как и книг,
имеет вкус Большого приключения.
Збигнев Херберт
В этой лекции мы обратимся к проблемам visual studies — анализу
визуальных текстов как знаковых систем. Несомненно, что мы читаем
визуальный текст. Отсюда и понятие visual literacy — визуальная грамотность как владение кодами и алгоритмами интерпретации изображений. Восприятие картин и фотографий считается более легким процессом, нежели, например, классической музыки или литературы.
Вопрос о том, как читаются визуальные тексты, предполагает определенное допущение их «лингвистичности». Обнаружение аналогии
между структурно-семантической организацией картины и вербального текста позволило бы анализировать визуальные тексты с использованием структурного и нарративного методов, детально разработанных лингвистикой и филологией в целом. Но поиски непосредственных
соответствий между визуальным и вербальным завели это направление семиотики в тупик. Структурный анализ вербального текста связан
с выделением единиц различных уровней системы (звуки, грамматические формы, лексемы, высказывания) и описанием их функционирования. Но в визуальном изображении отсутствуют подобные дискретные
элементы. Парадокс визуальных исследований связан с тем, что картина, несомненно, есть информационная знаковая структура, которая
создается и прочитывается как текст, однако ее язык выскальзывает
из объятий лингвистической методологии.
Для современных гуманитарных исследований visual studies — это
«пространство междисциплинарной турбулентности 1 : сказать,
что же на самом деле происходит на картинах, можно только в контексте когнитивных особенностей восприятия, обращаясь к вопросам
дополнительности знаковых систем и вербализации видимого»2.
К визуальным образам относятся двухмерные (плоскостные) изображения (картины, фотографии, иллюстрации, чертежи, географические
1 Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden
Complexities. N. Y. : Basic Books, 2002. 440 р.; Turner М. Compression and representation //
Language and Literature. 2006. No.15 (1). Р. 17—27.
2 Mitchell W. Showing seeing: a critique of visual culture // Journal of visual culture,
London : Thousand Oaks. 2002. Vol 1 (2). P. 165—181.
114
карты), а также трехмерные скульптуры и архитектурные сооружения. К этому классу примыкают также полилингвальные тексты, один
из носителей которых имеет визуальную природу: фильмы, драматические и оперные спектакли, реклама, электронные медиа. Визуальными
носителями обладают также вербальные письменные тексты, включая
пиктограммы и иероглифы, и нотные тексты музыкальных произведений.
Однако далее речь только о собственно визуальном способе кодирования информации. Как и любой знак, визуальный текст обретает значения и смыслы, замещая свой референт, позволяя прочитывать композицию элементов внутри своей структуры и выполняя определенные
задачи, связанные с интенцией своего автора и системой зрительских
ожиданий. Семантическое пространство визуального базируется
на иконических значениях. Картина воспринимается как знак, если
имеет сущностное сходство со своим референтом, то есть дает возможность опознать его через изображение. Степенью иконизма определяется уровень семиотической достоверности сообщения.
Восприятие картин викторианского живописца Джона Гримшоу
(1836—1893) настроено прежде всего на миметическое зрение, где
образ создает иллюзию реальности. Выполненная с фотографической
точностью «Сцена в лунном свете» позволяет зрителю ощутить болезненное одиночество на окраинной улице Лидса (рис. 35).
Свет в окнах старого особняка говорит о чьей-то чужой жизни.
Но глаз упирается в закрытую калитку и сплошной серый забор. Красота светлого ночного неба в перистых облаках и дороги в лунном свете
холодна и безжизненна и не обещает покоя и приюта.
Но как возникли значения «одиночество», «холод», «безжизненная
красота»? Ведь глаз зрителя воспринимает исключительно предметный ряд, цветовую гамму, формы — старый двухэтажный дом, деревья
на фоне ночного неба, свет луны сквозь облака, свет в окнах, следы
колес на дороге…
В тот момент, когда мы в полной мере насладились иллюзией вещности, начинается путь от иконизма к символизации, хотя при этом
мы имеем дело с одним и тем же носителем информации. Семантическая подвижность визуального знака становится причиной невозможности провести границу между состояниями семиотической достоверности и семиотической условности.
Понятие «достоверность» (семиотическая) занимает место в следующем ряду: похожесть на нечто существующее в реальности, узнаваемость, мимесис. Основанием семиотической достоверности этого изображения, или иллюзии присутствия того, что на самом деле лишь знак
реального, выступает высокая степень иконического подобия. Но подобия чему? Тем образам, которые хранит наша память.
Иконическое мышление основано на зеркальном принципе работы
мозга. Имитация, мимесис, способность к аналогии, повторению, — это
основа коммуникации, обучения, текстопорождения. Трудно назвать
115
Рис. 35. Джон Гримшоу. Сцена в лунном свете. Лидс (1881)
какой-либо языковой феномен, так или иначе не основанный на зеркальности. Из имитации возникают литературные стилизации и сиквелы. Зеркальность положена в основание таких музыкальных форм,
как канон, инвенция и фуга. Даже антонимы отражаются друг в друге,
ибо невозможно познать добро, не встретившись с проявлением зла.
Семиотически условным можно считать изображение, которое
«словно», «как будто», по договоренности замещает нечто существующее в реальности, но при этом на него не полностью похоже.
Простота этих определений обманчива:
— во-первых, уже шла речь о том, что иконические знаки не столько
повторяют свойства своих референтов, сколько создают условия для
их узнавания. Возможны случаи, когда даже самое реалистическое изображение, например зебры, выполненное как вид сверху, вряд ли позволит нам узнать ее на рисунке;
— во-вторых, степень похожести знака на свой референт зависит
от вида иконического отображения: использование иконы-образа или
иконы-схемы приведет к разным результатам. Так, фотография дерева
(икона-образ) заместит именно это дерево. И она будет в бо́льшей степени достоверна, нежели карандашный схематичный набросок дерева
(ведь здесь в качестве референта выступит какое-либо дерево);
— в-третьих, даже самые достоверные изображения — не что иное,
как результат условия, договоренности о том, что вот этот знак употребляется в коммуникации вместо этой вещи.
Отсутствие отчетливой границы между семиотической достоверностью и условностью визуальных текстов объясняется также возмож116
ностью прочтения одного и того же знаконосителя в качестве иконы
и в качестве символа. Визуальные образы-иконы могут восприниматься
и как знаки метафизических идей, то есть превращаться в символы.
Гравюра «Ньютон» английского поэта-мистика Уильяма Блейка
(рис. 36) представляет не столько самого Исаака Ньютона, сколько
визуализирует идею научного познания. Ньютон, подобно Богу-Геометру, Великому Архитектору, создает прообраз будущего мира. Циркуль
в его руках — знак совершенства, позволяющий Творцу очертить границы мироздания, задать параметры, предполагающие многообразие
и вариативность форм будущей жизни.
Рис. 36. Уильям Блейк. Ньютон (1795)
Но возможна и прямо противоположная интерпретация этого
образа. Ее исток — представление Уильяма Блейка о так называемом
мире Ульро — культуре низкого материализма, где потерян контакт
с божественной Вечностью, с поэзией как истинным двигателем мира.
К этому пространству, как считал Блейк, принадлежал и Ньютон. Соответственно, гравюра представляет тогда момент создания Ньютоном
Вселенной, устроенной согласно механистическому принципу («Ньютон разъял на части свет»). Отсюда застывшее напряженное лицо
Геометра. Камень, на котором он сидит, символизирует практически
ортодоксальную жесткость физических представлений о Вселенной,
а окружающая Ньютона чернота — отторжение, которое будущий мир
испытывает к Создателю, отвергающему сад вероятностных возможностей и решений, расходящихся из каждой точки времени.
Но что является предпосылкой переключения иконического кода
в символический? Прежде всего, недостаточная степень иконизма.
Какой бы из предложенных вариантов символизации мы не выбрали,
этот процесс будет запущен, поскольку название гравюры — «Ньютон» — звучит диссонансом по отношению к пейзажу и обнаженной фигуре мыслителя. И первый, и вторая не имеют никакой видимой связи с великим исследователем. Скорее возникает ассоциация
с античным героем или богом. И здесь берет начало немиметическое
117
ви́дение — мышление образами, которые получают статус идеи. Переключение иконического кода в символический можно объяснить
и состоянием достаточности узнавания. При восприятии натюрмортов
мы с легкостью узнаем изображенные вещи, но сознание не удовлетворяется этим процессом: это бокал, это цветок… и все? Изображение
дано только ради того, чтобы мы узнали предметы? И вот тогда символизация позволяет расширить границы картины, переключая внимание
на идеи, универсалии, состояния. Все эти вещи, несомненно, не поддаются изображению. Однако искусство художника состоит в том, чтобы
создать условия для переключения иконического кода в символический.
Постигаемость визуальных образов определяется также их синтактикой — способом состыковки базовых элементов изображения и соединением в ментальном пространстве интерпретатора этого образа
с другими визуальными и невизуальными текстами. С этим аспектом
анализа связан комплекс семиотических проблем. Кажется, что картина мгновенно воспринимается глазом как целостный знак — лишенное разрывов «непрерывное сообщение». Исходя из континуальной
природы визуального носителя, Р. Барт воспринимал фотографический
образ как парадоксальный семиотический объект, в котором невозможно выделить структурные знаки. Барт связывает ситуацию «нечленораздельности» с тем, что фотография, конечно, — не сама реальность, но ее точный аналог. В этом смысле фотография становится
сообщением без кода. Однако Барт допускает, что аналогическая точность, полнота и объективность фотографии — это миф, качества,
истинные только для тех, кто верит в силу отождествления фотографии
и реальности1. И поскольку в каждом знаке представлен определенный
способ отображения референта, семиотический анализ призван обнаружить код репрезентации, который неизбежно связан с состыковкой
отдельных элементов системы — их композицией, создающей глазу
перспективу наблюдения.
Неизбежность композиции — следствие того, что мы существуем
в пространственно-временнóм континууме. Время входит в визуальное
изображение не только через свои индексы (одежду, интерьер и другие знаки определенной эпохи). Репрезентация времени происходит
и в процессе восприятия картины. Глаз зрителя захватывает отдельные
предметы, собирая их в текст-высказывание.
Натюрморт «Композиция в белом» Дэвида Грея (рис. 37) можно прочитывать, отталкиваясь от раковины, скрывающей в себе тайну лабиринта. Кто жил в ней? Хранит ли раковина звуки моря? Фарфоровая
посуда — фон для этих тайн. Красота посуды функциональна, тогда как
совершенство раковины, лишенной прагматики (функции быть домом
моллюска), выходит за пределы повседневности. А если начать чтение картины с других персонажей — посуды? Тогда тональность этого
1
118
Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир / пер. с англ. Вильнюс: ЕГУ, 2010. С. 178.
натюрморта — белое в его чистоте, хрупкости и прозрачности. Белое
подобно некой исходной точке. Золотой ободок молочника, цвет раковины, стены, беж скатерти — все это производные белого, серия его
актуализаций в мире.
Рис. 37. Дэвид Грей. Композиция в белом (Still Life. Arrangement in White)
Сделаем некоторые выводы, касающиеся кодов и алгоритмов прочтения визуальных текстов.
1. Семиотическая риторика визуального основана на когнитивных
механизмах обработки информации. Возможность прочтения иконических образов непосредственно связана с настроенностью нашего
мозга на имитацию и отображение, категоризацию и семиотическую
полилингвальность — процессы, обеспечивающие адаптацию человека
к миру в форме текстовой репрезентации реальности.
2. Иконизм — это базовый семантический код интерптетации визуальных текстов, позволяющий зрителю узнать изображенное. В свою
очередь, узнавание возможно благодаря зеркальным системам мозга.
Именно они обеспечивают различные формы имитации — изображения людей, вещей, пейзажей, интерьеров, рефлексивное отображение
собственных мыслей и эмоций. Однако мимесис — это еще и основание всех адаптивных процессов. «Повторяя» видимое в знаках языков
культуры, мы «приспосабливаемся» к реальности и начинаем ее познание.
3. Прочтение иконического кода непосредственно связано с категоризацией узнанных объектов, то есть с соотнесением их с уже известным образцом, прототипом. Видимые объекты включаются в класс
ранее освоенных и благодаря этому опознаются как в различной степени типичные представители этого класса.
Оборотной стороной иконического кода выступает символизация,
которая позволяет человеку соотносить эмпирически наблюдаемые
объекты с абстрактными представлениями и в этом смысле усложнять
и расширять реальность своего существования. Одновременно символическое прочтение картины связано с процессами альтернативной категоризации. Например, изображение змей может включаться
119
в класс змей как таковых или альтернативный класс объектов и действий, связанных со злом, смертью или, напротив, добром, жизнью.
4. Интерпретация визуальных текстов совершается в форме их вербализации. Об этом процессе можно говорить как о межсемиотическом
переводе (разворачивании картины в повествовании) или рассматривать его в контексте принципа дополнительности разносемиотических
систем (оборотной стороной непрерывного визуального образа является его структурирование с помощью дискретных вербальных знаков).
Артикуляция визуального образа в словесном тексте никогда не тождественна некоторому зеркальному отражению картины. «Перевод» картины в словесный текст — это результат ее отображения с точки зрения
зрителя, его вербальной компетенции, канонов культуры и других дискурсивных параметров.
5. Визуальный канал — самый значимый для сбора первичной
информации о мире. Но всё ли мы видим? Ведь видеть можно то, для
чего в вербальном языке есть имя, что через слово соотносится с понятием, с категорией. Визуальный образ откликается, прежде всего, словесной концептуализацией1. Картина разворачивается в вербальный
нарратив. Но изображенное мы также можем слышать, ощущать тактильно. Именно так заполняются лакуны в поле видимого, расширяется
и уточняется пространство визуального образа. Было бы неправильно
сказать, что визуальный образ потенциально содержит знаки других
языков. Полилингвален не сам визуальный текст, а процесс его интерпретации.
Вопросы и задания
1. Поразмышляйте над утверждением В. Митчелла о том, что visual
studies — это «пространство междисциплинарной турбулентности».
2. Насколько «лингвистичны» визуальные тексты? В каком смысле Р. Барт
называет их «нечленораздельными»? Какую сложность это создает в процессе
анализа визуальных сообщений?
3. Сделайте семиотический анализ «ученого» натюрморта Уильяма Майкла
Харнета The old cupboard door (Дверца старого шкафа для чайных принадлежностей) (рис.. 38).
В ходе подготовки обратите внимание на следующие вопросы.
• Расскажите краткую информацию о художнике и направлениях его творчества.
• Этимология слова натюрморт (фр. nature morte — мертвая природа) чаще
интерпретируется как «спящая природа». Почему? Почему этот натюрморт имеет
жанровое уточнение «ученый»?
• Определите систему иконических образов, представленных на картине.
Как и на каких основаниях их можно систематизировать? Оцените степень подобия знаков своим референтам. Можно ли эту картину определять как обманку?
1 Барт Р. Фотографическое сообщение // Система Моды: статьи по семиотике культуры. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 380—381.
120
• Как происходит переход от иконы-обманки к символическому прочтению?
С помощью словарей символов определите символическое значение изображенных вещей. Насколько конвенциональны эти значения?
• Как читается изображение в плане синтактики? Например, это семантика
верха и низа? Определите семиотическую функцию рамы.
• Какие языки культуры имплицитно представлены на этом изображении?
• В строгом понимании натюрморт — это изображение вещей.
Но можно ли через вещные знаки увидеть здесь присутствие человека?
• Насколько жестки или подвижны границы интерпретации этого визуального текста?
Рис. 38. Уильям Майкл Харнет. The old cupboard door
Музыка как язык культуры
Музыка как язык, репрезентирующий мир в звуках, принадлежит
вторичным моделирующим системам. В этой лекции я буду говорить
исключительно об инструментальной академической музыке, лишенной поддержки слова (wordless music). Семиотика музыки — самая
герметичная из семиотик. Ее возникновение относится к концу ХХ в.
Сейчас эта исследовательская область по-прежнему пребывает в стадии
становления. Вот спектр ее основных обсуждаемых вопросов.
• Насколько музыка отлична от других семиотических систем —
прежде всего вербального языка?
• Каковы механизмы передачи и восприятия информации через
звуковые носители?
• Можно ли определить систему базовых знаков этого языка?
• Как описывать семантику музыки? Переводима ли музыка на другие языки?
• Каков когнитивный механизм понимания/сочинения музыки?
Можно ли слышать то же самое, что и другой человек?
• Следует ли говорить о музыке вне музыковедческой традиции?
Приносит ли это новые возможности для интерпретации самой музыки?
Число задаваемых на этой территории вопросов превышает количество (и степень полноты!) полученных ответов.
Думаю, что основная задача семиотики музыки связана с выявлением
когнитивных механизмов ее восприятия. Акцент, в отличие от музыковедческого анализа форм, ставится не на структурно-композиционных особенностях текстов и попытках словесно выразить их содержание, а на том, как именно музыка кодирует свои значения, почему
их столь сложно вербализовать, почему опыт восприятия музыки всегда
полилингвален. Здесь становится очевидным, что семиотика музыки
не может не быть междисциплинарным исследовательским пространством, где на равных взаимодействуют общая теория знаков Ч. Пирса,
генеративная лингвистика, лингвистика универсалий, когнитивистика, психология. Музыка больше, чем «узко» понимаемое искусство.
Она — интеллектуальная и чувственная практика познания мира, и когнитивно-семиотический ракурс «прочтения» ее текстов как раз и позволяет точнее определять репрезентативный потенциал этого языка.
Вопрос о «лингвистичности» музыки
Дискуссии о том, можно ли в прямом, а не метафорическом,
смысле говорить о музыке как языке — это интеллектуальный фон,
122
по-прежнему сопровождающий каждую работу в области музыкальной
семиотики. Главный довод хора сомневающихся — так называемая
нелингвистичность музыки, или непохожесть ее на вербальный язык.
Ведущие семиотики ХХ в. (А. Греймас, У. Эко, Ю. Лотман, Э. Бенвенист и в меньшей степени Р. Барт) старательно обходили музыку как
объект исследования. Нетрудно понять, что все они так или иначе были
связаны со структурной семантикой, а эта методология всегда заходила
в тупик, когда ее пробовали использовать для анализа классической
музыки. Причина невнимания этих исследователей к музыке объясняется также отсутствием профессионального музыкального образования
и исполнительской практики (хотя бы домашнего музицирования).
Исключение здесь составляют Ролан Барт — страстный любитель фортепианной игры и отчасти Умберто Эко, игравший дома виолончельные сюиты Баха на флейте.
Какие конкретно «претензии» предъявляли эти великие семиотики к музыке? Музыка — наименее репрезентативный и наиболее
абстрактный язык культуры. Это язык, у которого есть синтаксис как
последовательность знаков, но при этом нет семантики отдельных знаков. И потому он попадает в группу систем с неозначивающими единицами, которые, к тому же, очень проблематично выделить1. Вот лишь
два высказывания о несемантичности музыки, принадлежащих, как
ни парадоксально, самим музыкантам — композиторам и дирижерам:
«Музыка — искусственный язык, подчиненный строжайшей рациональной
регламентации, но как бы совсем внесемантический. <…> То ли это язык, где
семантика вся случайная и осколочная»2.
«Смешно рассуждать о смысле музыки. <…> Возьмем маленький Прелюд
Шопена. <…>. Это красивая музыка. Но о чем в ней речь? Ни о чем. Ее просто приятно слушать»3.
Насколько же музыка удовлетворяет требованиям языковой
системы? Можно ли считать ее языком культуры? Я буду опираться
на точки зрения, представленные в англоязычных работах по семиотике
музыки. Все эти работы включены в библиографию. Однако отдельно
хотела бы отметить Нортоновские лекции Леонарда Бернстайна, прочитанные им в 1973—1974 гг. в Гарвардском университете4. В рамках
этих лекций, получивших название «Вопрос без ответа», знаменитый
1 Гаспаров Б. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М. :
Новое литературное обозрение, 1996. С. 265, 270—279.
2 Бенвенист Э. Общая лингвистика / пер. с фр. Ю. Н. Караулова и др. М. : Прогресс,
1984. С. 80, 82. (Такой же точки зрения придерживался и Ю. Лотман.)
3 Шнитке А. Альфред Шнитке: Беседы, выступления, статьи.
4 Бернстайн Л. Концерты для молодежи / пер. с англ. Е. Ф. Бронфин. Л. : Советский
композитор, 1991. С. 68—69. (Однако после знакомства с работами Ноама Хомского
Леонард Бернстайн изменил точку зрения, заявив, что все-таки нет иного выхода, как
признать музыку языком.)
123
дирижер и популяризатор классической музыки представил студентамнемузыкантам как точки сближения музыки и вербального языка, так
и векторы их расхождения.
Итак, в качестве инструмента кодирования, генерирования и передачи значений (функций, инвариантных для любого языка) музыка
по определению семиотична1. Несомненно, музыка есть пространство
знаков, где знаконосители:
— воспринимаются, прежде всего, слуховым аппаратом. В случае
работы музыканта с нотным текстом / партитурой первичные носители значений имеют визуальную природу. В дискурсе концертного
исполнения носителями музыкальных значений становятся также
такие визуальные знаки, как жесты, мимика и даже одежда исполнителя/дирижера, освещение зала и сцены;
— замещают нечто, лежащее за пределами системы знаков;
— используют для этого определенный способ отображения (индексально-иконический, символический);
— передают посредством такого замещения прагматические установки «говорящего» (композитора и исполнителя).
Но для человека без специального музыкального образования,
хотя бы начального, этот язык кажется очень сложным и непонятным
(о чем эта симфония?). Как и каждая система, он требует знания своего
кода. Однако парадоксально, что, с точки зрения семиотики, музыка
во многом сходна с вербальным языком.
1. Пододобно тому, как мы имеем дело не с самим языком,
но с речью (его реализацией), музыка также живет только в исполнении. Исполнительская практика — речь музыки. И вербальный язык,
и музыка используют последовательности артикулированных звуков
для кодирования и передачи информации. В обеих системах звуки
артикулируются, или производятся человеком. Для этого используются
или речевой аппарат, или музыкальные инструменты, в том числе человеческий голос. Звуки определяются как имеющие / не имеющие отношения к музыке в рамках конвенции звукоизвлечения. Удар кулаком
по клавишам — не музыка. Однако этот же способ артикуляции «истинен» для Шестой сонаты С. Прокофьева, что и обозначено композитором в нотах: сol pugno (итал.) — удар кулаком.
2. Поскольку отзвучавший звук — фантом, призрак, то вербальный
язык и музыка используют технику «знак знака», позволяющую фиксировать тексты. В вербальном языке буква есть знак, замещающий звук
(фонетическое письмо) или фонему (фонематическое письмо). Графемы музыки, или ноты, — это знаки, референтом которых выступают
звуки и одновременно (для клавишно-ударных инструментов) соответствующие клавиши рояля. Следующий рисунок иконически представляет клавиатуру, где каждая нота на нотном стане соответствует своей
1 Bernstein L. The Unanswered Question: Six Talks at Harvard (The Charles Eliot Norton
Lectures). Harvard University Press, 1981. 440 p.
124
клавише. Ноты одновременно индексируют как высоту звука, так и его
длительность (на рисунке изображены четвертные ноты). Словесные
номинации нот (до, ре, ми) также являются индексами соответствующих нотных графем, звуков и клавиш (рис. 39).
Рис. 39. Звукоряд на нотном стане и клавиатуре фортепиано
3. Как и любой язык, музыка актуализируется в текстах, которые
структурно (композиционно) организованы и отмечены знаками некоторых общих (для стилистических эпох и направлений) принципов
использования языка. Одновременно композитор, как и поэт, может
обладать индивидуальным почерком — стилем. Поскольку первичное
восприятие музыки, как и вербальных текстов, связано с линейными
последовательностями знаков, в анализе музыкальных композиций
можно смело опираться на нарративную методологию.
4. Аналогии между обоими языками устанавливаются и в плане
структурного анализа. Так, в рамках музыкальной акустики изучаются физические характеристики звуков, влияющие на их восприятие:
высота, громкость, тембр и длительность, консонанс и диссонанс звучаний. Часто они используются композиторами и как инструмент символизации. Полный звукоряд включает 88 звуков, и каждый основной тон
может быть повышен или понижен. В вербальном языке количество
фонем также обозримо. Как и в вербальном языке, для музыки небезразличны артикуляторные характеристики звуков — способ звукоизвлечения. К основным относятся legato (связно), staccato (отрывисто),
non legato (не связно), marcato (отчетливо), glissando (скользя от звука
к звуку), portamento (удерживая звуки, но не связывая их) и др.
Аналогом грамматики вербальных языков в музыке выступает теория гармонии, в рамках которой многообразие интервалов, аккордов,
ладов и тональностей систематизируется в парадигмы-категории. Само
линейное развитие музыкального текста предуготовано возможностями синтактики — например, соединения отдельных звуков и гармонических последовательностей в гомофонное пространство или соположения мелодических линий в полифоническую структуру.
5. Однако болевая точка лингвистического анализа музыки — вопрос
о ее словаре. Если музыка — это действительно язык, где же ее словарь?1
С одной стороны, этот вопрос — следствие наивного перенесения знаний
1 Tarasti Е. Signs of Music: A Guide to Musical Semiotics. N. Y. : Mouton de Gruyter,
2002. Р. 4.
125
о вербальном языке на музыку. С другой стороны, в музыке действительно
отсутствуют дискретные (отграниченные от контекста) единицы, которые, подобно словам, обладали бы устойчивым ядром значений, уточняющихся в контекстах употреблений1. Это следствие того, что музыка,
как и визуальные тексты, относится к непрерывным системам — языкам
с преобладанием недискретных знаков, а значит, в пространство ее анализа нельзя механически переносить методы исследования, освоенные
по отношению к языкам с преобладанием дискретных знаков2.
И здесь я, наконец, перейду к самому важному: семиотическому
своеобразию музыки, ее инаковости в системе других языков культуры.
Когда речь идет о музыке, у нас нет четкого представления о том,
что же именно в этом языке может определяться нами как знак. Конечно,
это связано с континуальной природой звучащего текста. Практически
невозможно разделить мелодическую линию или гармонический фон
на дискретные информационные фрагменты. Тем более что в музыке
«романтиков» часто нельзя провести границу между мелодией и гармонией, а в музыке ХХ в. (например, симфониях Густава Малера) мелодические линии тонут в неразрывном континууме звучаний: «гигантские композиционные структуры строятся, достигают небес и внезапно
рушатся»3. В этом одна из причин того, что для неподготовленного
слушателя музыка воспринимается как очень сложный искусственный
язык4. Ведь человеку, как конечному существу, трудно воспринимать
бесконечный континуум пространства — времени (можно только мыслить бесконечность), но естественно — дискретные порции времени
и пространства.
Знаком в музыке, в этом нет сомнения, является весь текст. Но что
он отображает? Вопрос о референтах музыки и ее репрезентативном
потенциале — один из важнейших ключей к интерпретации музыкальных текстов. Референтами музыки являются абстракции различных
движений, среди которых пространственные перемещения физических
тел, звуки физического мира, эмоциональные процессы-состояния и др.
Трудности понимания музыки, ее семантическая неопределенность
объясняются в том числе тем, что звуковой рисунок движений («жестов»
музыки) дан слушателю в отрыве от того, кто их совершает: песня
птицы вне самой птицы, состояние грусти вне того, кому грустно.
1 Agawu K. Playing with signs. A Semiotic interpretation of classic music. Princeton :
Princeton University Press, 1991. P. 16.
2 Арановский М. Г. Дискуссионные проблемы современного музыкознания (о семиотическом методе исследования) // Музыка. Мышление. Жизнь. Статьи, интервью, воспоминания. М. : Государственный институт искусствознания, 2012. С 100—101.
3 Иванов Вяч. Вс. Границы семиотики: вопросы к предварительному обсуждению //
Современная семиотика и гуманитарные науки. М. : Языки славянских культур, 2010.
С. 35.
4 Росс А. Дальше — шум: слушая ХХ век / пер. с англ. М. Калужского и А. Гиндиной.
М. : АСТ-CORPUS, 2005. C. 34.
126
Музыка, несомненно, визуализирует мир, но визуализация имеет
исключительно аудиальный характер.
В актах восприятия музыки происходит когнитивная достройка
референта: по траектории и характеру мелодической линии человек способен конструировать образ того, что движется, что звучит.
Так, считается, что в программных текстах романтизма иконически
отображаются звуки природы: буря, ветер, шум
листьев, плеск воды, дождь, голоса птиц и др. Изобразительность в музыке возникла еще в эпоху
барокко. На иллюстрации Атанасиуса Кирхера
к труду Muzurgia Universalis референты нотных
записей — это звуковые дорожки, «исполняемые»
птицами (рис. 40).
Изобразительный характер носят и некоторые клавесинные миниатюры Франсуа Куперена
(«Курица» и др.). В музыке опознаются не только
голоса, но и пространственные перемещения
Рис .40. Атанасиус
живых существ: полет валькирий у Р. Вагнера,
Кирхер.
полет шмеля у Н. Римского-Корсакова, «Карнавал
Иллюстрация
животных» К. Сен-Санса. Ну и, конечно, слушатель
к труду Musurgia
воспринимает человеческие эмоции, напрямую
universalis (1650)
связывая их со звучащим текстом. Однако воссоздаваемые композитором звуки мира, ощущения и эмоции никогда
не соотносятся с конкретным человеком, конкретным локусом, именно
этим живым существом. Программная музыка только создает условия
для узнавания эмоций и звуков физического мира, побуждая слушателя
обращаться к пространству своей памяти.
Эту особенность музыки имел в виду С. Малларме, когда говорил,
что поэзия может учиться у нее обозначать, не называя. Об этой же способности музыки польский поэт, прозаик и музыковед Я. Ивашкевич:
«Знаешь ли ты, как восходит луна в ноябре, как пахнут ноябрем сливы,
как ветер своим дыханием прикасается к ветвям, оставившим свои листья
земле? Как можно это знать, как можно это выразить? Но разве не об этом
фортепианный концерт Шумана в исполнении Артура Рубинштейна?»1
Гораздо сложнее протекает процесс восприятия так называемой
абсолютной музыки, в которой символизируются ментальные процессы и универсальные представления о мироздании. Например, в оратории Й. Гайдна «Сотворение мира» и «Рождественской оратории»
И. С. Баха (BWV 248) репрезентируются идеи о сотворении мира из первобытного хаоса, рождении Спасителя. В собственно классической
музыке (венские классики) выражена чистая форма, сущность, но нет
1 Agawu K. Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music. Oxford University
Press, 2008. Р. 30.
127
следа «никакой сцены, никакого объекта, никакого факта», «никакого
буквального содержания»1. Размерность внемузыкального пространства очень велика: это и физическая реальность, и ментальная, и психическая. Однако, повторю, музыка воспроизводит абстракции движений, для опознания которых необходима большая интеллектуальная
работа — прежде всего, ментальное конструирование пространственных картин, сопровождаемое вербализацией и визуализацией образов.
Оборотная сторона звуковой репрезентации — семантическая неопределенность текстов. Фортепианная пьеса Э. Грига «Птичка», даже
если не сообщать слушателю ее название, позволяет по характеру звукового рисунка узнать именно птичку, а не большую птицу, увидеть
внутренним зрением, что птичка не летает высоко, а только подпрыгивает и порхает. Однако мы не можем сказать, какого цвета ее оперение, не можем ответить на вопрос, где она подпрыгивает, — на земле,
на песке, на дорожке, есть ли вокруг деревья и др. Музыкальные картины, даже иконические, никогда не могут достичь точности визуальных изображений.
Только благодаря тому, что музыка создает слуховые, а не визуальные образы, она обретает возможность говорить о том, что ускользает
от слова, фотографии, картины. Может, отсюда аксиома, приписываемая Гансу Христиану Андерсену: when words fail, music speaks — «когда
слова падают в тишину, говорит музыка». Печаль отдельных ноктюрнов Ф. Шопена можно сыграть, услышать, ощутить. Но слово «печаль»
(польское żal) не в силах отобразить состояние конкретного человека.
По существу, я уже перешла к вопросу о семантике музыки. Для семиотики важно не то, что именно значат музыкальные тексты, но какими
основаниями определяются их значения и на каком языке/языках
мы их актуализируем.
Еще раз вернусь к тому, что музыкальная ткань не позволяет выделять дискретные единицы, которые, подобно словам, будут обладать
некой конвенцией значений (что, несомненно, облегчило бы интерпретацию), и потому дискретным знаком становится весь текст.
Это утверждение верно, хотя не абсолютно. Риторические фигуры
в инструментальной музыке И. С. Баха, тесно связанные с хоралами
(протестантской традицией), неоднократно рассматривались в качестве относительно дискретных знаков с конвенциональной семантикой. Нисходящие фигуры — это знаки печали, умирания, положения
во гроб. Восходящие линии воспринимаются как символы вознесения
и воскресения, восхождения на Голгофу и др. Систематизация этих
фигур — своего рода словарь, позволяющий нашим современникам
прочитывать инструментальные тексты Баха в контексте Евангелия.
Как музыка «говорит» с нами? Вопрос, «что означает эта музыка?»
следует, скорее, заменить на «как она производит значения?» Рождение
1 Iwaszkiewicz J. Dziedzictwo Chopina i inne szkice muzyczne. Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. S. 270.
128
значений (ведь это мы вносим их в музыку) — результат работы с языком. Нет и не может быть значений собственно музыкальных1. Употребление языка, игра с языком происходят на основании кодов системы
и кодов, которые (что неизбежно для искусств) вносит интерпретатор.
Вот почему понимание музыкальных текстов балансирует между конвенцией (исторической, стилистической, социальной и др.) и субъективным представлением слушателя. Однако и субъективное представление
о том, что же мы слышим, возникает не вдруг, но всегда предуготовано,
поскольку произрастает из дискурса интерпретатора, текста его памяти.
У польского писателя и музыканта Ярослава Ивашкевича с Баркаролой Шопена связаны чудесные внемузыкальные ассоциации: вот дно
неба, отраженное в водной глади, воспоминания и тревоги молодости,
первое ощущение всесильности и всеохватности Бога. В Баркароле
лодка плывет по чернильной глади воды, а в это время наша душа обретает свободу от тела, и Смерть, или Ничто, перестает нас страшить2.
В автобиографической повести «Сады» (Ogrody) Я. Ивашкевич вспоминает о римском концерте уже очень пожилого Артура Рубинштейна:
«Он играл фортепианный концерт Брамса d-moll. Что было в этой великой музыке? Какое-то немыслимое самоотречение, молитвенная сосредоточенность, покой и закат солнца. И еще в ней была память о нашем знакомстве
с Рубинштейном после его киевского концерта 1912 года, летние дни, цветы
в вазах, и то, что я был молод, и Рубинштейн был молод. И именно об этом
он помнил в минуту такого самоотречения»3.
И об этом же концерте в «Путешествиях в Италию»:
«Рубинштейн, уже очень старый, играл ре-минорный концерт Брамса.
Играл, будто не было публики, в сосредоточенности, погружаясь в себя… Речь
даже не о том, как он играл. Я заплакал, когда он вышел на эстраду и сидел
во время длинного оркестрового вступления. В выражении его лица я увидел
всю нашу прежнюю жизнь. Что-то стояло перед его глазами, когда он играл
медленную часть, adagio. Но что? Молодость? Варшава, степи Тимошовки, воспоминания о былой любви, которая развеялась, стала сном, вздохом. Звук был
завуалирован воспоминаниями. Отречение от всего и одновременно согласие,
примирение со всем, принятие смерти, — все это было так проникновенно,
что слезы вновь навернулись на мои глаза. Играя, он, словно в лотерее, выбирал воспоминания, глубоко спрятанные и дремлющие под поверхностью звучания, и это было истинной сущностью Артура и музыки Брамса».
Warte nur, balde
Ruhest du auch…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты…4.
1 Лангер С. Философия в новом ключе. Исследование символики разума, ритуала
и искусства / пер. с англ. С. П. Евтушенко. М. : Республика, 2000. С. 187.
2 Cook N. Music, Performance, Meaning. Selected Essays. Aldershot : Ashgate Publishing
Ltd, 2007. Р. 214.
3 Iwaszkiewicz J. Dziedzictwo Chopina i inne szkice muzyczne. S. 10.
4 Iwaszkiewicz J. Ogrody. Warszawa : Czytelnik, 1974. S. 41.
129
Внемузыкальные значения могут быть связаны даже с локусом жизни
композитора. Так, Я. Ивашкевич слышал Клода Дебюсси и Мориса
Равеля в контексте света и воздуха Франции — дискурса художниковимпрессионистов:
«<…> вся французская музыка связана с легким свечением и дымкой,
которыми укрыты здешние пейзажи, с тем, что говорят эти деревья, со светом, который, отражаясь от земли, ломается облаками. Именно тогда понимаешь легкую грусть Дебюсси, не поддающийся определению цвет секунд
Равеля и то, что идет от французской песни у Пуленка»1.
Семантика музыки возникает как результат выбора референта и способа его отображения (индексальность, иконизм, символизм). Это
общесемиотические универсалии, на которых основана коммуникация
в семиосфере. Иконическая составляющая музыки первична для восприятия и особенно важна для понимания музыки: звучание должно
быть на что-то «похоже». Аналогия — результат обнаружения в памяти
парадигмы объектов (не только звуковых, но и визуальных, тактильных, обонятельных), которые в каких-то чертах аналогичны тому, что
мы слышим. Первичный иконизм определяет понимание даже явно символических фигур в риторике Баха: движение вниз — снятие с креста,
фрагмент из двух нисходящих звуков — вздох. Вот почему отправной
пункт интерпретации музыки, как и текстов на любом языке, — работа
с относительно автономными элементами (характером гармонии, текстурой, звуковой плотностью, метром, самой формой и др.) как носителями значений или «жестами» музыки, указывающими нам на то, чем
она сама не является.
Итог нашего рассуждения: музыка — это язык. Прежде всего,
во многом сходный с вербальным, но также во многом и различный
с ним. Различия касаются отсутствия в музыке дискретных знаков,
а значит, и возможности номинации объектов мира. Музыка не называет, но показывает. Вернее, через иконическую и символическую
техники репрезентации создает условия для того, чтобы мы сами
порождали ментальные картины, рассматривая их в качестве значений и смыслов музыки. Споры о лингвистичности или нелингвистичности этого языка — это всего лишь споры о методологии анализа его
текстов. Можно, как Э. Бенвенист, объявить музыку нелингвистической, поскольку здесь не работает структурный анализ, разработанный
применительно к вербальному языку. Но это как раз еще один довод
в пользу обращения к когнитивно-семиотической парадигме интерпретации, поскольку для культуры вопрос о структуре (что-вопрос), менее
значим, нежели вопрос о том, как происходит процесс передачи и воздействия-восприятия значений (как-вопросы).
1 Iwaszkiewicz J. Podróże do Włoch. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.
S. 111—113.
Когнитивно-семиотические механизмы
восприятия музыки: что мы видим, когда
слышим
Музыка воспринимается органами чувств (слух и глаз) только в качестве носителя значений. Ее структура и образы — это результат работы
мозга, языка, сознания. Мы «прочитываем» музыку, переводя ее знаки
в слова, одевая звуки в одежды других языков — жеста, цвета, запаха.
Перекодирование музыкальной ткани в знаки других семиотических
систем — широко понимаемый экфрасис — является обязательным условием восприятия любого текста культуры и «двигателем», запускающим
процессы смыслообразования и текстопорождения. Естественно, речь
не идет об адекватности такого перевода (прежде всего, вербализации).
Сравните с замечанием Ярослава Ивашкевича о Баркароле Шопена:
«То, что составляет сущность этого произведения, не может получить воплощение ни в каком другом языке. Слушая Шопена, мы размышляем, в чем его магия, и раз за разом вынуждены сказать себе: эта музыка
находится за границей словесных определений. Писать о музыке как таковой — безнадежное занятие. Ее надо просто слушать, так же, как и на картину — только смотреть»1.
Начнем разговор о механизмах восприятия музыки с, казалось бы,
явно вторичных для нее околомузыкальных визуальных сигналов.
Они крайне информативны для слушателей живых симфонических
концертов. Жесты, мимика, одежда, фигура исполнителя и дирижера,
их фотографии на афишах, степень освещенности зала и другие факторы не только создают контекст живого восприятия музыки, но и становятся «проводниками» в ее семантику. За внемузыкальными знаками
индексально-иконического характера часто стоит и непосредственное
отношение к музыке тех, кто ее исполняет. Исполнитель переводит
для слушателей музыку из графического (нотного) формата в звуковой план выражения, но также может визуализировать ее эмоциональный план, задавая этим определенный вектор восприятия. Такой особенный характер визуализации музыки присущ, например, Теодору
Курентзису — художественному руководителю Пермского театра оперы
и балета им. П. И. Чайковского и руководителю оркестра MusicAeterna.
1
Iwaszkiewicz J. Podróże do Polski. S. 57.
131
На произвольно выбранных фотографиях (рис. 41) — огромный спектр
эмоций, которые маэстро транслирует залу вместе с музыкой Моцарта,
Бетховена, Рамо́ и Малера. Здесь моцартовский трагизм и барочная
игра, философская медитация и взрыв первой секунды Творения, и даже
звучащее молчание. Предложение определить по фотографиям, что
именно исполняет Т. Курентзис, не кажется таким уж фантастическим.
Язык телесных движений, жесты, мимика — это не столько знаки
«присутствия» исполнителя в зале (начиная от поклона при выходе
на сцену), сколько выражение его собственного отношения к исполняемому сочинению. В качестве примера — фотографии китайской пианистки-виртуоза Юджи Ванг и французского пианиста Дэвида Фрая
(рис. 42 и 43). Семиотико-социологические исследования музыки
показывают неслучайность телесных жестов и мимики у музыкантов.
Так, в ситуациях модуляции (перехода в другую тональность) прямо
перед ожидаемым разрешением в тонику у исполнителей поднимаются
брови. И брови опускаются и сходятся при уменьшении динамики звучности и одновременном уходе в нижний регистр1.
А
Б
В
1
132
Iwaszkiewicz J. Dziedzictwo Chopina i inne szkice muzyczne. S. 10; 17.
Г
Рис. 41. Теодор Курентзис
Рис. 42. Юджа Ванг
Рис. 43. Дэвид Фрай
Замечу, что профессиональные музыканты очень неоднозначно
(чаще отрицательно) относятся к сценической визуализации музыки:
преувеличенным жестам, эмоциям, отражающимся в мимике лица.
Однако несомненно, что для непрофессиональных слушателей такие
знаки приоткрывают двери в пространство нового и еще не освоенного
ими языка.
Еще один визуальный знак, сопровождающий восприятие музыки, —
это одежда исполнителя. Как правило, мы привыкли к соблюдению
соответствия: академическая музыка — фрак, костюм, длинное кон133
цертное платье. Здесь одежда — обязательный индекс самой ситуации,
выводящей исполнение классической музыки за рамки повседневности.
Для большинства академических исполнителей и слушателей короткие платья ассоциируются с эстрадными выступлениями и вступают
в диссонанс с классической музыкой. Вот фотографии, которые представляют полярно противоположный внешний вид пианистов на сцене
(рис. 44 и 45).
Рис .44. Внешний вид исполнителей на сцене. Екатерина Мечетина
Рис. 45. Внешний вид исполнителей на сцене. Юджа Ванг
Функцию индексально-иконических знаков, «объясняющих» музыку
тем, кто только начинает путь в нее, выполняют также метафорические
дескрипции музыкальных форм и жанров. В «Жизнеописаниях Гайдна,
Моцарта и Метастазио» А. Стендаль визуализирует понятие «квартет»,
используя образ беседы:
«Одна умная женщина говорила, что, когда она слушает квартеты Гайдна,
ей кажется, будто она присутствует при беседе четырех приятных людей.
Она находила, что первая скрипка походит на человека средних лет, наделенного большим умом и прекрасным даром речи, который все время поддерживает разговор, давая ему то или иное направление. Во второй скрипке
134
она видела друга первого собеседника, причем такого, который усиленно
старается подчеркнуть блестящее остроумие своего приятеля… склонен
соглашаться с мнениями остальных участников, чем высказывать собственные мысли. Виолончель олицетворяла собой человека положительного, ученого, склонного к наставительным замечаниям. Этот голос поддерживает
слова первой скрипки лаконическими, но поразительно меткими обобщениями. Что же касается альта, то это милая, слегка болтливая женщина, которая, в сущности, ничем особенно не блещет, но постоянно стремится принять участие в беседе. <…> У этой дамы можно подметить тайную склонность к виолончели, которой она, по-видимому, отдает предпочтение перед
всеми другими инструментами»1.
Квартет (струнный) — камерное сочинение для двух скрипок,
виолончели и альта. Дефиниция из словаря музыкальных терминов
информативна, но мало что говорит для непосвященного. Тогда как
у Стендаля квартет играется как беседа, обмен несходными мнениями.
Индивидуальные характеристики участников полилога высвечиваются
в музыке через разницу звуковысотного и тембрового диапазона четырех музыкальных инструментов.
В объяснении Стендаля читателю — слушателю показываются
и отдельные приемы композиторской техники. Например, за метафорическим образом «давая ему (разговору) то или иное направление»
у Гайдна стоят изменения мелодического рисунка и гармонические
модуляции в другую тональность. За характеристикой партии второй
скрипки (более склонен соглашаться с мнением других, чем высказывать собственное) в музыкальной партитуре угадываются зеркальный
синтаксис фразы, повторение-канон в той же или другой тональности.
Подобным образом в виде беседы между двумя, тремя и более персонажами, воспроизводящими и развивающими одну и ту же тему, Д. Хофштадтер объясняет «технологии» создания баховских фуг и инвенций,
арий с вариациями, канонов и ричеркаров2.
Показывая нарративный принцип квартета, Стендаль говорит
о жанре как таковом. А вот очень редкая попытка достичь хотя бы приблизительного иконического тождества между конкретным музыкальным текстом и его словесным описанием. Вербальная актуализация
музыки неизбежно будет состоять из разрывов, поскольку звуковой
континуум придется разложить на структурные составляющие, отображая композиционную форму «оригинала», мелодический рисунок
и структуру гармонии. Для достоверности межсемиотического пере1 Bonfiglioli L. Facial expression and piano performance / L. Bonfiglioli [et al.]//
Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition /
M. Baroni, A. R. Addessi, R. Caterina, M. Costa (Eds.). Toronto, 2006. Рp. 1355—1360;
Huron D. Understanding Music-Related Emotion: Lessons from Ethology // Proceedings
of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition. Thessaloniki, 2012.
Рp. 473—481.
2 Стендаль А. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазио / пер. с фр.
А. Энгельке // Стендаль. Собрание соч. в 15 т. Т. 8. М., 1959. С. 36—37.
135
вода желательно, чтобы даже фонетико-интонационное исполнение
«вербальной» музыки само звучало, как музыка.
В качестве опыта создания musica literaria (актуализации музыкальной ткани в языке слов) я покажу описание вальса cis-moll (до-диез
минор) Фредерика Шопена. Это фрагмент биографической повести
«Шопен», принадлежащей перу польского поэта и прозаика Ярослава
Ивашкевича. Сразу подчеркну, что вербализация шопеновского текста
интересна мне не как перевод (уже в исходной точке ясна невозможность идеального изоморфизма между музыкой и словом), но как когнитивный инструмент восприятия музыки, проговаривания и визуализации ее семантики.
«Одно из самых интимных музыкальных признаний Шопена — Вальс
до-диез минор (опус 64, № 2). После каждой его части — первой и третьей, укрывающих нас безнадежной печалью, и средней части со спокойной
широкой мелодией (Des-dur) — приходит быстрый ниспадающий рефрен,
который говорит: “Грустно ведь, правда? А мне все равно, а мне все равно,
пусть будет, что будет…” И этот взмах руки замирает где-то там, наверху;
и снова рефрен, все более быстрый, все более механичный, без слов пианиссимо повторяющий “мне все равно…” А ведь ясно, что не все равно, и правдой оказывается пронзительная печаль вальса, его совсем не танцевальный,
вновь и вновь возвращающийся рефрен-ритурнель»1.
Эффект наложения словесной ткани на звуковую материю создается системой опорных точек, которыми фиксируются формальные
особенности музыкального текста, движение его сюжета, смены эмоциональных состояний. Эти точки можно считать семиотическими
основаниями экфрасиса. На первый взгляд, кажется, что они определяются индивидуально каждым, кто «рассказывает» музыку. На самом
деле, это достаточно инвариантная система референтов, которые могут
получить репрезентацию в вербальном языке.
Ивашкевич начинает с индексальной атрибуции текста, отмечая его
автора, жанр, тональность, опус, трехчастную структуру, тональность
средней части (ре-бемоль мажор). Это мало чем отличается от атрибуции картин в галереях и музеях: индексальный характер информации не дает возможности увидеть картину или услышать музыку.
Но дальше — небольшая эмоциональная дескрипция для каждой части:
первая и третья пронизаны безнадежной печалью, средняя звучит как
спокойная широкая река. Это уже сжатые иконические репрезентации.
Но ведь не музыки, а эмоциональных реакций писателя-слушателя.
Самое семиотически интересное для меня в этом опыте — попытка
непосредственного наложения вербального нарратива на звуковую
ткань. Ивашкевич «рассказывает» рефрен знаменитого шопеновского
1 Хофштадтер Д. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара : Бахрах-М,
2001. 752 с.
136
вальса, опираясь на пространственный рисунок мелодии — так называемый жест музыки1. Повторение одной и той же ниспадающей фигуры
подобно взмаху руки, замирающему в верхней точке. Именно этот
рисунок, который Ивашкевич еще и актуализирует, включая в описание рефрена фрагмент нотного текста, создает ощущение безысходности: «мне все равно, пусть будет, что будет» (рис. 46).
Рис. 46. Фрагмент вальса cis-moll Фредерика Шопена
Графическая линия мелодии, которую читатель без музыкального
образования воспринимает только визуально, как двухмерный рисунок, позволяет «увидеть» действительное присутствие в музыке значений, актуализированных в слове. В каждом такте одна и та же фигура
раз за разом спускается на ступень ниже («быстрый ниспадающий рефрен»). А потом звуковая линия, подобно движению руки, поднимается
вверх и останавливается там.
У Шопена эта или подобная картинка закодирована паузой (знаком
. Ивашкевич переводит ее в визуальную метафору:
незвучания) —
«взмах руки замирает где-то там, наверху», где остановка жеста также
является нулевым знаком. Инвариантом межсемиотического перевода
становится жест музыки — звуковысотный мелодический рисунок,
которому в параллель ставится телесный жест.
Музыкальная речь, как и вербальная, — это нарратив, цепь движений-событий (смена мотивов, гармоний, ритма, фигур и др.). Все
они вырастают из человеческой телесности. Звуковые риторические
фигуры находят выражение как в нотном тексте, так и в менталь1
Iwaszkiewicz J. Chopin. Kraków : Polskie wydawnictwo muzyczne, 1976. S. 177—178.
137
ных пространственных образах. Проводя аналогию между движениями своего тела и звуковыми жестами, музыку мы в итоге не только
(не столько?) слышим, но и видим. В этом контексте снимается налет
какой-либо метафоричности с представления Ролана Барта о «телесной
музыке» (a muscular music)1.
Именно жест музыки становится инвариантом ее восприятия и вербализации. Получается, что для слушателя музыка репрезентирует
не просто абстракцию движения, но то движение, которое он представляет и чувствует через собственное тело. Вот как, например, Я. Ивашкевич через телесно-эмоциональный жест показывает сущность такого,
казалось бы, сугубо технического понятия теории музыки, как модуляция:
«Поражает блуждание Шопена от тональности к тональности. В его текстах отражается так характерное для него самого отсутствие спокойствия.
Нет такого места, где бы самому Шопену было хорошо. И потому ни одна
идея никогда не ассоциируется у Шопена с определенной тональностью»2.
Модуляции Шопена создают эффект постоянной текучести, оторванности от земли, отсутствия гравитации — неизменной точки, которая
воспринималась бы как статичный центр композиции.
На аксиоме неразрывной связи между музыкой и человеческой
телесностью Александра Пирс, профессор музыки в Калифорнийском
университете, выстраивает занятия по интерпретации музыки и обучению игре на фортепиано3. У маленьких детей изучению нот и способов
артикуляции звуков предшествует театрализация пьесы — перевод слышимого в жест, в танец. Высокая степень осознанности движений своего тела (почему ты танцуешь именно так?) позволяет далее выстроить
вербальную интерпретацию текста.
Принцип телесной музыки А. Пирс использует и на занятиях со студентами по классу специального фортепиано. Как объяснить сущность
«бесконечных» мелодий И. Брамса? Это сделает сам студент, рисуя
рукой очертание мелодии в Intermezzo 2, op. 118. Жест руки актуализирует для ученика представление о недискретной звуковой линии, текущей без пауз-разрывов. Этот образ теперь можно услышать внутренним ухом и осознанно перенести в практику исполнения. Воплощению
ритмического своеобразия текста (особенно если ритм не синхрони1 Hatten R. S. Toward a characterization of gesture in music: An introduction to the
issues. URL: http://semioticon.com/sio/courses/musical-gesture/introduction/ (Дата обращения: 18.06.2017);
Idem. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert.
Indiana University Press, 2004. 360 p.
2 Barthes R. Image Music Text: Essays / Transl. by Stephen Heath. London : Fontana
Press, 1970. P. 149—155; Hatten R. S. Interpreting Musical Gesture, Topics, and Tropes:
Mozart, Beethoven, Schubert. Р. 124.
3 Iwaszkiewicz J. Dziedzictwo Chopina i inne szkice muzyczne. S. 11.
138
зирован с равномерными отрезками времени) помогает упражнение,
когда студент актуализирует ритм своими шагами. Двигаясь по классу,
он должен передать неравномерность сильных и слабых долей, а также
показать звуковысотные интервалы с помощью смены направления
движений. При изучении того же Интермеццо Брамса студент сталкивается со сложными ситуациями, когда каждая рука дышит в своем
ритме (триоли на дуоли). В этом случае театрализация пьесы разыгрывается как полиритмические движения рук и ног.
В России опыт преподавания музыки с привлечением других знаковых систем связан с замечательным музыкантом и педагогом Анной
Артоболевской. Практически все дети, начинающие занятия на фортепиано, работают с ее пособием «Первая встреча с музыкой»1, где
звуковые образы актуализированы в виде рисунков к пьесам и стиховподтекстовок, помогающих ребенку воспроизвести движение мелодии
и настроение музыки. Артоболевская постоянно подчеркивала, что
«ребенок ближе к поэту, чем к логику», и потому вхождение в музыку
должно обязательно сопровождаться чувственными впечатлениями,
визуализированными в других языках — вербальном, визуальном,
языке жестов и танцевальных движений.
Это положение принимается сейчас всеми без исключения преподавателями музыки. Однако истоки его обнаруживаются еще в середине
XIX в. Выпуская фортепианный «Альбом для юношества» (1848), Роберт
Шуман придавал большое значение визуализации своей музыки:
оформлению титульного листа и иллюстрациям к пьесам. Оформлением сборника для самых маленьких музыкантов занимался известный художник и график Людвиг Рихтер. Открывая ноты, ребенок, еще
не слыша самой музыки, видел иллюстрации как материальное воплощение замысла композитора. Вот нотный фрагмент пьесы «Первая
утрата» (Erster Verlust), которая в альбоме сопровождается рисунком
девочки, плачущей над мертвой птичкой (рис. 47 и 48). Опустевшая
клетка — знак детского горя (первоначально пьеса носила именно это
название — Kinderungluck). И музыка, и рисунок стали репрезентацией
конкретного печального события, случившегося в семье Шуманов.
1 Pierce A. Deepening Musical Performance through Movement: The Theory and Practice
of Embodied Interpretation. Indiana University Press, 2007. 248 p.; Swinkin J. Teaching
Performance: A Philosophy of Piano Pedagogy. Zurich: Springer International Publishing,
2016. 229 р.
139
Рис. 47. Фрагмент баллады Роберта Шумана «Первая утрата»
Рис. 48. Людвиг Рихтер. Иллюстрация к пьесе Роберта Шумана «Первая
утрата»
Чем больше мы задумываемся о когнитивно-семиотических механизмах восприятия музыки, тем более становится очевидно, что для
ее понимания (в широком смысле визуализации ее значений) человек
использует спектр семиотических систем с различным потенциалом
репрезентации. Здесь и словесный экфрасис, и актуализация слышимого в визуальных образах, танце, мимике, выражение смысла через
ассоциации с природными ландшафтами, запахами, литературными
текстами и многое другое.
Так, Я. Ивашкевич пишет: первые такты шопеновской баллады
f-moll подобны стволам деревьев в Желязовой Воле, стоящим прямо
и отчетливо. Простая тема баллады отражает саму себя, редуцируется
140
и, уменьшаясь, звучит вдали, как эхо. Визуальный аналог этого шопеновского текста — картины Клода Лоррена, где острый луч света в приоткрывшейся вуали туч как вздох души отражается в холодно-голубом
пространстве от застывших и молчаливых одиноких скал. И эта внезапно обнажившаяся метафизическая подкладка бытия (Urelement,
«зимний холод забытого рисунка») заставляет нас вздрогнуть1.
Арпеджии баркаролы пахнут, словно вода летом в сумраке Желязовой Воли, а обозначение dolce sfogato имеет прямое отношение к легкому и прозрачному воздуху этого локуса. В баркароле Шопен рисует
пейзаж, похожий на пейзажи у Дебюсси. Здесь вода и лес лишены
отчетливости контуров. Такой пейзаж — сублимация различных состояний, но в итоге это высшая точка в достижении реализма2.
Получается, что успешность восприятия музыки как одного из самых
абстрактных языков культуры напрямую связана с числом используемых для ее интерпретации семиотических систем3. Музыку можно
«видеть», создавая внутренним зрением пространственный звуковысотный рисунок движения (черно-белый или цветной). То, о чем она
говорит, можно «ощущать» в тактильных прикосновениях, определяя
температуру и плотность фактуры, можно почувствовать даже запах
того, что стоит за музыкой. В итоге интерпретация музыки основана
на синестезии как дополнительности языков культуры, где слуховой
канал передачи информации выступает как реальный, а визуальный,
тактильный, обонятельный — как отсутствующие в непосредственной коммуникации, но словесно конструируемые сознанием. В этом
смысле вербальный язык «организует» семантику музыки, создает
рамку ее восприятия (framing language) в пространстве иного, теперь
уже словесного, носителя:
«Мысль, выраженная в одной системе знаков, будучи переведенной
в другую знаковую систему, обретает объем и воздействие, которых не было,
когда она существовала только в одной системе знаков»4.
А это снимает вопрос об автономности музыки, как и любого языка
культуры. Вербальный экфрасис — не иконическое воспроизведение
музыки, но знак, обеспечивающий актуализацию ее «жестов» в нашем
сознании:
«Словесный нимб ничего не меняет в самой музыке, но влияет на ее восприятие: в необозримом спектре смысловых излучений, исходящих от музы1 Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста : учеб. пособие. М. : Советский композитор, 1992. 101 с.
2 Iwaszkiewicz J. Podróże do Polski. S. 64.
3 Iwaszkiewicz J. Dziedzictwo Chopina i inne szkice muzyczne. S. 11.
4 «We imagine music translated into visual symbols or images, or into words, language,
or literary expression». Agawu K. Playing with signs. Р. 26.
141
кальной интонации… слово именует музыкальный образ и тем самым конкретизирует ту сферу, куда устремлена фантазия композитора»1.
Вопросы и задания
1. Звук музыки, как и звук речи, не автономен от исполнителя: рояль
не звучит до прикосновения пальцев к клавишам. Но насколько это касается
других знаконосителей? Кажется, что уж бытие стула не зависит от человека.
Поразмышляйте об этой ситуации на примере текста И. Бродского:
<…> Возьмем за спинку некоторый стул
<…> (он)
зажат между невидимых, но скул
пространства. <…>
На мягкий в профиль смахивая знак
и «восемь», но квадратное, в анфас <…>
Стул напрягает весь свой силуэт. <…>
Стул состоит из чувства пустоты
плюс крашенной материи <…>.
(И. Бродский. Посвящается стулу)
2. Можно ли создать звуковые репрезентации сидящей молчащей кошки,
неподвижной рыбы, замершего перед прыжком тигра?
3. Какую из строчек И. Бродского композитор может «перевести» в звучание?
Почему?
• Воскресный полдень. Комната гола. В ней только стул.
• Звенит хрусталь фонтана.
4. Если музыка не может репрезентировать предметы как таковые, то почему
во время восприятия музыки предметы возникают в сознании в виде ментальных
картин?
5. Сопоставьте степень семиотической достоверности музыки и визуальной
картины. Например, послушайте весь цикл П. И. Чайковского «Детский альбом» и рассмотрите иллюстрации Веры Павловой (https://vitanova.ru/katalog/
tirazhnie_izdaniya/detyam/detskiy_albom_240). Чем объясняются расхождения
в восприятии звуковых и визуальных текстов?
6. Создайте собственное вербальное перевыражение любой пьесы из цикла
«Детский альбом» П. И. Чайковского или Р. Шумана. Проанализируйте «адекватность» своих вербализаций по следующим параметрам.
• Позволяет ли звучащий текст выделить дискретные знаки (мелодические
обороты с устойчивым значением)? Имеют ли они повторяющийся характер?
• Что выступает в качестве референтов всего текста / его фрагментов?
• Какой вид репрезентации преобладает в пьесе — иконизм или символизм?
• Что доминирует в Вашей вербализации — картины времени или пространства?
• Можно ли описать нарративное развитие музыки (ее сюжет)?
1 Юсупова И. Интервью с композитором Ираидой Юсуповой для журнала «Музыка
и Время». URL: http://www.forumklassika.ru/archive/index.php/t-29630.html (дата обращения: 03.10.2015).
142
• Какова степень семантической энтропии для этого текста?
• Оцените характер визуализации музыки в иллюстрациях к этим текстам.
7. Послушайте ироничный музыкальный скетч Никиты Богословского
«Отчетно-выборное собрание ЖСК» и сделайте вербальный «перевод» этого
текста. (http://andrey141250.kroogi.com/en/content/564029-Nikita-BogoslovskiyKVARTET-—2-YUMORNOY. html).
• Можно ли определить систему персонажей и записать сюжет этого произведения?
• Какими средствами в музыке индивидуализируются эти персонажи?
• Насколько точно можно определить, кто выступает на собрании и о чем
говорит?
8. На какие языки культуры музыка «переводится» с бо́льшей/меньшей
успешностью? Нужны ли слушателю такие переводы-интерпретации?
Confusio linguarum: проблема «совершенного»
языка1
Должен существовать язык… который
собирает в своих словах тотальность мира.
Мишель Фуко
Многообразие различных по семиотическому типу и структуре
языков в конце ХХ в. получило обозначение второго вавилонского
столпотворения. Напомню, что все языки как первичные и вторичные моделирующие системы обладают различным репрезентативным
потенциалом и за ними стоят отличающиеся друг от друга картины
мира. С одной стороны, результатом этой ситуации лингвистической
относительности становится невозможность полного перевода с языка
на язык. Процесс перекодирования всегда связан с трансформационными потерями: информационным расширением или, напротив,
семантическим сужением и даже невозможностью перевыражения.
С другой стороны, репрезентативная недостаточность языков восполняется их дополнительностью в любом акте коммуникации (вспомним, что все мы — семиотические полиглоты, и только полиглотизм
позволяет нам создавать многомерные репрезентации мира). Таким
образом, языковая множественность культуры — не кара, не несчастье,
не Confusio linguarum, а дар.
И все же одна из магистральных линий истории культуры человечества связана с поиском и созданием неких универсальных языков,
не имеющих семиотических недостатков — обладающих полнотой
репрезентации и потому могущих претендовать на статус всеобщего
языка. Поиск универсального языка вписан в историю человеческой
культуры. Этой истории утопий, полной взлетов мысли и ее провалов, У. Эко посвятил книгу «Поиски совершенного языка в европейской культуре»2. В ней представлены семиотические проекты, которые,
по мысли своих создателей, могли бы положить конец вавилонскому
многоязычию.
В эпоху Средневековья начались попытки воссоздания так называемого адамического языка. Считается, что его механизм, или грамматику, Адам получил в дар от Бога, а сам первый человек создал
1
Бразговская Е. Языки и коды. С. 72—80.
Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре / пер. с итал. А. Миролюбовой. СПб. : ALEXANDRIA, 2007. 423 с.
2
144
словарь этой знаковой системы, называя сотворенное. Адамический
язык — это великая утопия возвращения к абсолютно прозрачной
и истинной номинации, когда вещи называются не в силу некоей конвенции, но сообразно их сущности. Вот что пишет об этом М. Фуко:
«В своей изначальной форме, когда язык был дан людям самим богом,
он был вполне определенным и прозрачным знаком вещей, так как походил на них»1.
По мысли У. Эко, каждое существительное этого языка могло передавать сущность именуемого предмета, а значит, этот «истинный» язык
отражал мир во всем его многообразии2.
Но не только это было причиной поисков языка, на котором говорил Адам. «Правильная» номинация вещей позволила бы создавать
их по Слову, как это делал Господь. Как интерпретировать библейский факт, что первый человек был создан «по образу и подобию» своего Творца, то есть стал его иконической репрезентацией? Иконизм,
конечно же, не относится к телесности человека, но только к тому, что
человек, как и Творец, обладает возможностью создавать мир по Слову.
Именно об этом говорит финал новеллы Х. Л. Борхеса «Роза Парацельса». Ученик бросил розу в огонь, и от нее осталась горстка пепла.
Парацельс «встряхнул щепотку пепла в горсти, тихо произнес Слово.
И возникла роза»3. С семиотической точки зрения, человек действительно создает миры, воплощая их в форму текстов. Вспомним одну
из аксиом семиотики: существует то, что названо. Сотворенное в слове
реально для сознания. Ступени совершенствования индивидуального
стиля письма также можно рассматривать как процесс приближения
к «адамовой тайне» (А. Тарковский). В контексте поисков адамического
языка можно рассматривать также и лабораторное реконструирование
праиндоевропейского языка, который, как считается, также был максимально приближен к «истинной» номинации вещей.
Рассуждения об адамическом языке вписываются в парадигму моногенетической гипотезы, предполагающей возникновение и развитие
всего многообразия вербальных систем из первого и единственного
материнского языка. Существовали также версии адамического языка
как невербальной жестово-мимической системы и (или) языка образов.
В частности, У. Эко приводит точку зрения Ж. Барруа (1850), согласно
которой звуковой вербальный язык возник только перед потопом.
В истории культуры поиски совершенного языка происходили
и в форме вторичного открытия исторических языков (например,
древнееврейского), которые использовались исключительно для созда1
151.
2
3
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. : A-cad, 1994. С. 72,
Эко У. Баудолино. С. 137. Его же. Остров накануне. С. 347.
Борхес Х. Л. Роза Парацельса // Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы. Эссе. С. 406.
145
ния философских, мистических и сакральных текстов. Тайное знание
должно быть выражено на языке sacrum, известном лишь посвященным. Древнееврейский язык считался совершенным, поскольку, как
мыслили те, кто им пользовался, он иконически совпадал со Вселенной
как печать с оттиском, позволяя «вновь обнаружить через новые планы
выражения еще неведомую материю содержания, пока бесформенную,
но полную скрытых возможностей преобразования нашего мира»1.
Значимыми элементами мистических языков (их семантическими
атомами), помимо слов, выступали графемы — буквы и цифры в функции символов. В каббалистических течениях (традициях толкования
Торы) широко использовались особые техники декодирования, которые позволяли извлекать из текстов казалось бы неактуализированную
информацию. В частности:
— слова можно было составить из начальных букв других слов
(Нотарикон);
— в процессе чтения использовать искусство перестановки букв
в словах и переструктурирования текста в целом (Темура);
— интерпретировать слова в плане числовых значений, поскольку
в древнееврейском языке числа обозначались буквами алфавита.
Наиболее известные семиотические проекты в истории культуры
были связаны с созданием искусственных универсальных систем.
Среди них выделяются универсальные системы философского знания
и языки, предназначенные для социальной коммуникации.
В создании философских языков акцент ставится на универсальную
для всего человечества систему идей и понятий, которые существуют
априорно, то есть предшествуют опыту каждого отдельного индивида.
Отсюда второе название этих систем — «априорные языки».
Один из первых опытов создания априорного языка принадлежит Раймунду Луллию (1232—1316). В его труде Ars magna («Великое
искусство») понятия объединяются в шесть совокупностей по девять
сущностей в каждой (отношения, типы вопросов, типы субъектов/
объектов, добродетели и пороки и др.). Синтактика этого языка основана на комбинаторике понятий, благодаря чему получаются «истинные» высказывания о мире (их система выступает как Древо знания).
Для комбинирования понятий Луллий создал машину, получившую
название кругов Луллия. Посредством вращения кругов, на которых
располагаются имена сущностей, устанавливается соответствие имени
с именем, т. е. создается высказывание. В зависимости от синтаксической позиции каждая номинация используется в функции имени или
предиката. Описание кругов Луллия и работы этого априорного языка
дано в романе У. Эко «Остров накануне».
Об универсальном языке, где каждый знак однозначен и столь
же определены правила комбинаторики и преобразования элементов
(calculus ratiocinator, ars combinatoria), мечтал и Г. Лейбниц. Его поло1
146
Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. С. 40, 133.
жения о создании рационального языка, с помощью которого можно
было бы сформулировать всю систему человеческого знания, были
частью его же идеи об энциклопедии как универсальной науке. Многозначность слов, которыми мы пользуемся, мешает нам устанавливать
однозначные связи между словом и понятием. Эту ситуацию можно
исправить, заменив слова знаками, имеющими точный и определенный смысл. Так возникнет «алфавит мысли», или система конвенциональных символов, похожих по семантике на знаки формальных
систем. Каждый из этих символов установит связь с одним из основополагающих понятий. С таким языком можно будет совершать трансформационные операции, подобные математическим, то есть производить истинные утверждения. Возможность создания подобного Lingua
Universalis рассматривалась также и Фрэнсисом Бэконом, говорившим,
что в основании структуры нашего мира лежат понятийные «строительные блоки», «простейшие знаменатели природы», которые следует
обозначать в форме, лишенной неопределенности, присущей естественным языкам (Новая Атлантида. 1624).
Один из развернутых проектов априорного языка в 1668 г. выдвинул
английский священник, теолог и философ Джон Уилкинс. Его язык также
был создан на основе «словаря идей» и нескольких родов, что позволяло
упорядочивать идеи по видам, а далее разбивать их на классы. Модель
Уилкинса систематизировала мир от общего к частному. Структуру
этого языка анализирует Х. Борхес в эссе «Аналитический язык Джона
Уилкинса». Уилкинс разделил все существующее в мире на 40 категорий (родов), для систематизации которых использовались дифференциации (251 различительный знак) и 2030 знаков для обозначения видов.
Для индексации рода использовался слог из двух букв, для дифференциаций — согласная, для вида — гласная. К примеру, любая стихия записывалась как de; первая из стихий — огонь — как deb; отдельный вид
огня — пламя — deba. Данная запись есть не что иное, как свернутое
высказывание, где de — имя, а b и a — приписанные к имени предикаты.
Из комбинаций первооснов (названий видов) составляются знаки
следующей ступени: так, для обозначения «рычать» следует соединить
компоненты голос и лев. К первоосновам относится и знак для номинации существования. В языке Уилкинса не индексируется частеречная
принадлежность слов. Однако среди «технических» (грамматических)
элементов представлены знаки со значениями противоположности,
грамматического числа, определенности. Синтаксические правила как
таковые отсутствуют: Уилкинс лишь приводит примеры возможных
правильных комбинаций.
Предлагаемый Уилкинсом способ систематизации понятий демонстрирует крайне искусственное и нелогичное разбиение объектов мира
на категории. Борхес отмечает, что понятие «красота» в этом языке
определяется через «живородящая продолговатая рыба». В качестве
подобного примера странной категоризации Борхес «воспроизводит»
147
статью из вымышленной древней китайской энциклопедии «Небесная
империя благодетельных знаний», где собаки делятся на: принадлежащих императору; набальзамированных; прирученных; сосунков; сказочных; отдельных собак; включенных в эту классификацию; бегающих
как сумасшедшие; бесчисленных; нарисованных тончайшей кистью
из верблюжьей шерсти; прочих; разбивших цветочную вазу; похожих
издали на мух1.
Система Уилкинса, как и другие априорные языки, использовала
логическую категоризацию для постижения «божественного плана»,
предшествующего процессу Творения. Однако попытки создания универсальной систематизации понятий раз за разом оборачивались неудачами, поскольку каждая система семантических категорий становилась лишь картой мира и не могла непротиворечиво сгруппировать
все многообразие существующего. И все же У. Эко считает, что именно
априорные философские языки как системы с «дефектами категоризации» стали прообразом гипертекста — современной компьютерной
программы, которая посредством внутренних ссылок связывает каждый элемент (узел) со множеством других узлов2.
Обобщим характеристики языков априорного типа.
• Все они направлены на создание универсальной систематизации
понятий. Для создателей этих систем «работа философа должна предварять работу лингвиста» (Дж. Далгарно). Получается, что именно философ озабочен проблемами лингвистической терапии — исправлением
образа мира правильной речью. Об этом, в частности, мечтал также
основатель Оксфордской лингвистической школы Л. Витгенштейн.
Согласно его положениям, слова должны выражать только эмпирически бесспорные факты и отношения между вещами. Это позволит освободить наше сознание от лжепроблем, создаваемых метафорической
«туманностью» этнического языка.
• Во всех априорных языках возникают проблемы а) определения количества исходных понятий; б) различения априорных понятий и производных от них; в) систематизации понятий, определения
их ранга в иерархической структуре.
• Априорные языки имели два измерения: словарь и грамматическую комбинаторику, то есть позволяли именовать понятия и комбинировать их. Во всех системах акцент ставился на комбинаторике
символических знаков с устойчивыми значениями, что противостояло
«фатальной» полисемии естественных языков. Априорные системы
были лишены прагматического измерения.
• На моделях априорных языков основаны современные проекты
создания искусственного интеллекта. Список априорных понятий
используется в программах по автоматическому (машинному) переводу.
1
2
148
Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы. Эссе. С. 510.
Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. С. 264.
Теперь перейдем к апостериорным универсальным языкам, которые создавались как вспомогательные языки международного общения. Казалось бы, зачем создавать язык международного общения, если
существуют естественные языки, «назначенные» на эту роль социумом
(английский, китайский, арабский и др.)? Однако:
а) существует неопределенность в вопросе о том, почему один язык
имеет статус международного, а другой нет. Для разрешения таких
споров можно было бы назначить на эту роль некоторый нейтральный
язык (например, мертвый латинский);
б) любой естественный язык отличается определенным несовершенством (омонимией, метафоричностью, исключениями грамматики),
что противоречит определению «универсальный», «совершенный».
Апостериорный универсальный язык создается по образу и подобию этнического языка. Отсюда и само обозначение: апостериорный
как следующий за чем-либо, основанный на сравнении и синтезе существующего образца. Такие языки сохраняют структурные особенности
своей модели: наличие планов выражения и содержания, уровневоиерархическая организация знаков, правила семантики и синтактики,
ограниченное число элементов при неограниченных комбинаторных
возможностях системы, прагматический аспект коммуникации и т. д.
Все эти признаки закладываются на этапе планирования языковой
системы.
В отличие от априорных языков, которые делают акцент на систематизации содержательной сферы, апостериорные языки систематизируют только план выражения:
• упрощая и рационализируя грамматику (например, через отсутствие склонений и развернутой системы спряжений, разного рода
исключений);
• включая в словарь знаки, присутствующие одновременно в не­­
скольких языках со сходным значением (например, образуя слова
на основе латинских корней);
• принимая фиксированное ударение;
• соотнося каждый звук с отдельной буквой и др.
В XIX—XX вв. происходил настоящий расцвет апостериорных языков. Ограничимся только их примерами: волапюк, созданный М. Шлейером, «латинский без флексий» Дж. Пеано, эсперанто Л. Заменгофа. Вот
отрывок из текста «Счастье и философия», созданного на языке словио — универсального языка для восточных, западных и южных славян.
Автором словио является Марк Гучко, который начал работу над проектом в 1999 г. В Интернете представлен сайт этого лингвистического
проекта: http://www.slovio.com/. Для удобства чтения тексты на языке
словио даны в двух графических системах — латинице, используемой
западными славянами, и кирилице восточных и южных славян (табл.
2). Знание русского языка, как вы видите, практически без труда позволяет читать тексты на этом искусственном языке.
149
Таблица 2
Фрагмент текста на языке славио
Scxastie i filozofia
Profesor filozofiaf pridil vof klas. Gda
studentis sidili, profesor otbral iz sxuflad
kontainer i polnil tof so kamenis. Posle
voprosil studentis, esli dumajut, zxe
kontainer es polnju? Studentis soglosili
zxe kontainer es polnju. Posle to profesor
otbral iz sxuflad klet so malju kamenis
i sipal malju kamenis vof kontainer, trasil
kontainer i ocxviduo zxe malju kamenis
padali mezxu velju kamenis. Profesor
vnov voprosil esli kontainer es polnju.
«Es kontainer polnju?» Studentis
usmehili i soglosili zxe es polnju. No tper
profesor otbral iz sxuflad klet so pesok
i sipal tof vo kontainer. <…>
Счастие и филозофиа
Професор филозофиаф придийт
во клас. Гда студентис сидили, отбрал
из шуфлад контаинер и полнил тоф
со каменис. После вопросил студентис,
если думату, же контаинер ес полнйу?
Студентис соглосили же контаинер
ес полнйу. После професор отбрал
из шуфлад клет со малйу каменис
и сипал малйу каменис во контаинерф,
трасил контаинер и очвидуо же малйу
каменис падали межу велйу каменис.
Професор внов вопросил если контаинер ес полнйу. «Ес контаинер полнйу?» Студентис усмехили и соглосили
же ес полнйу. Но тпер професор отбрал
из шуфлад клет со песок и сипал тоф
во контаинер. <…>
К универсальным системам кодирования информации можно отнести и язык визуальных образов, интерпретация которых напрямую
не связана с лексико-грамматическими особенностями этнических вербальных языков (их картинами мира), а значит, имеет универсальный
(вненациональный, панкультурный) характер. В этом контексте У. Эко
говорит о рисунках монаха-иезуита Атанасиуса Кирхера (1602—1680).
Притягательность Кирхера-энциклопедиста, как отмечает У. Эко,
состоит не только в «ненасытности и всеядности» его интересов (а это
наука, алхимия, философия, музыка, теология и др.), но и, что так
важно для культурной антропологии, в стремлении визуализировать
знание, представив его в виде иллюстраций-иконизмов (лат. изображение, визуальное описание)1. Вот лишь несколько примеров визуального представления знания у Кирхера (рис. 49—51).
Рис. 49. Атанасиус Кирхер. Ноев ковчег
1 Эко У. Почему Кирхер? // Эко У. Растительная память, или Почему книга помнит
всё / пер. с итал. И. и Н. Макаровых. М. : Слово, 2018. С. 105—119.
150
Рис. 50. Атанасиус Кирхер. Опыт по распространению звука.
Подслушивающее устройство
Рис. 51. Атанасиус Кирхер. Преломление света в зеркалах
Визуальные сообщения обладают действительной способностью
быть воспринятыми людьми, говорящими на разных этнических языках, поскольку в определенном смысле преодолевают пропасть между
вещами и словами (решают проблему res et verba). Если слово, напомню,
только индексирует вещь или идею, то визуальный образ их показывает.
Неслучайно в эпоху Возрождения начался активный поворот от слова
к образцу. В частности, речь об эмблемах (эмблематах). Я не буду сейчас акцентировать внимание на том, что закрепившееся в культуре
понимание эмблемы включает дополнительность образа и вербального
сообщения (собственно эмблема, или pictura, и так называемый девиз).
Сейчас для нас важен именно интернациональный характер образа.
Вот два примера того, как в эмблематах идея получает актуализацию («тело») в визуальном образе, успешно преодолевающем границы
культур и вербальных языков (рис. 52 и 53).
151
Рис. 52. Андреа Альчиато. Падение Икара (1531)
Рис. 53. Братья Джонан Теодор и Джонан Израэль де Бри. Гравюра
из книги Emblemata Saecularia (Франкфурт, 1592)
С одной стороны, носители эмблемат интерпретируются как иконысхемы. У Альчиато — это падающий вниз головой в море человек
и солнце, провожающее его печальным взглядом. На второй гравюре
отчетливо узнаются фигуры Адама, Евы и Змия, райское древо, яблоки
и др., а вместе все эти объекты композиционно нанизаны на букву А.
С другой стороны, оба визуальных текста одновременно прочитываются
в символическом ключе. Одно из значений мифа об Икаре — стремление человека преодолеть свою физическую природу: обрести крылья,
воспарить над землей. Буква А — символ начала Творения, и не случайно она сопряжена с изображением первых людей и яблока, с которого начинается познание мира и жизни.
152
Современная культура отдает приоритет различным идеограммам — визуальным знакам, замещающим понятия (например, это
запретительные знаки дорожного движения) или пиктограммам (схематические картинки в аэропортах и др.). К универсальным визуальным информационным системам также можно отнести картины, фотографии, танец и другие текстовые сообщения.
Отмечу, что знаковые системы, претендующие на статус универсальных, так же, как и обычные языки, не могут существовать автономно.
Так, визуальные картинки (pictura, iconismus, emblemata) получают
смысл только через вербализацию. И наоборот, фрагменты вербального текста «высвечиваются», приобретают бо́льший семантический
вес в визуальных иллюстрациях.
История создания совершенных языков вписана в историю человеческой культуры и интеллектуальную историю. Однако насколько
нужен человечеству универсальный язык и может ли он быть создан?
Вот лишь несколько доводов против.
• Даже если бы человечество вдруг волевым решением перешло
на один язык общения, на каком-то этапе неизбежно возникли бы территориальные и социальные модификации этого языка, что вновь привело бы к возникновению отдельных языков и далее поискам универсальной системы коммуникации.
• Ни один язык не может претендовать на статус универсального,
поскольку его инструменты (виды знаков, тип структурной организации) имеют границы репрезентативных возможностей. Так, сильная
сторона априорных языков (систематизация содержательной структуры) оборачивается их слабостью: априорные языки не могут выразить представления о мире в контексте я — здесь — сейчас. Сильные
стороны апостериорных языков (грамматическая простота и экономность, рациональность, отсутствие исключений) также резко ограничивают выразительные возможности этих систем.
• Универсальность как таковая закрывает носителям языка возможность самовыражения.
• Искусственные универсальные языки не имеют истории развития, в которой могли бы обогащаться их содержательные аспекты
и планы выражения.
Идеальный универсальный язык можно рассматривать как утопию
культуры. Однако в ходе поиска совершенных систем совершались неожиданные побочные открытия, без которых немыслимы современная
лингвистика, теория систем, систематика естественных и гуманитарных наук, проекты создания искусственного разума, когнитивистика
и многое другое.
При этом и вавилонское многообразие существующих, пусть
и не универсальных, языков нельзя считать наказанием человечества
или ошибкой эволюции. Каждый из существующих языков предлагает
нам собственную картину мира, а описывая мир по принципу взаимодополнительности систем, мы получаем все более многомерное его ото153
бражение. В этом контексте особенно очевидной становится аксиома
Людвига Витгенштейна: границы мира, в котором мы живем, определяются репрезентативными возможностями языков его отображения.
Вопросы и задания
1. Совершенный язык как многовековая утопия культуры. Подготовьте
сообщение по материалам эссе У. Эко «Для федерации полиглотов» (http://
anthropology.ru/ru/text/eko-u/dlya-federacii-poliglotov), статьи Л. Мясникова «Общий язык в утопии» (http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/MEN/
UTOLANG. HTM) и книги Э. Свадоста «Как возникнет всеобщий язык» (http://
miresperanto.com/biblioteko/svadost.htm).
2. Представьте сущностные параметры априорных философских языков,
опираясь на эссе Х. Л. Борхеса «Аналитический язык Джона Уилкинса». Каковы
репрезентативные возможности этого языка?
3. Представьте систему сущностных свойств апостериорных языков на примере искусственного общеславянского языка словио (http://slovio.com/) и языка
эсперанто (Б. Колкер. Учебник языка эсперанто // https://royallib.com/book/
kolker_b/uchebnik_yazika_esperanto.html).
Часть третья.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
СЕМИОТИКИ КУЛЬТУРЫ
Мы уже говорили о том, что некоторый изолированный знак — это
лишь теоретическое допущение семиотики. Оно позволяет вводить
представление о способе отображения референта и на этом основании
выстраивать классификации знаков. Однако любой знак существует
только в процессе перевода в другой знак, и процесс, в котором знак
теряет свою автономность, определяется как семиозис. Интерпретация
знаков в семиотическом пространстве происходит по линиям семантики
(отношения знака к другому знаку как своему референту), синтактики
(комбинаторики знаков) и прагматики (отношений знака к интерпретатору). Однако семиозис — это исключительно теоретический конструкт, в котором описываются механизмы функционирования знаков
как таковых. В этой части лекций мы будем говорить о семиосфере как
семиотической модели пространства культуры. Эта модель, разработанная в рамках тартуско-московской семиотической школы, позволит
увидеть, как работает теоретический конструкт (семиозис) в приложении к пространству языков и текстов человеческой культуры. В качестве одного из общих вопросов семиотики культуры будет рассмотрен
также вопрос о семиотической истинности.
Семиосфера как семиотическая модель
культуры
Семиосфера — семиотическое пространство культуры, которое
функционирует как семиозис. Позиции знаков в семиосфере занимают языки и тексты. Семиосфера — не некая сумма языков и текстов,
а условие их существования и восприятия. Так, понимание одного текста возможно только в процессе его интерпретации посредством другого текста (текста о тексте, метатекста).
Основные положения этой теории Ю. М. Лотман представил в монографии «Внутри мыслящих миров» (эта книга, впервые изданная на русском языке в 1999 г., включена в том «Семиосфера», 2010), а также
в итоговых сборниках статей «Чему учатся люди» (2010) и «Непредсказуемые механизмы культуры» (2010). Поскольку моя задача состоит
в системном представлении семиотической модели культуры, я буду
избегать прямого цитирования лотмановских текстов, представленных
в библиографическом списке.
Сфера — одна из пространственных моделей, позволяющих символизировать бесконечность: ни на внешней, ни на внутренней поверхности сферы не найти точек, определяемых как начало и конец. Термин семиосфера, как отмечает Ю. Лотман, возникает по аналогии
с биосферой В. И. Вернадского и ноосферой Терьяра де Шардена1. Ноосфера — это этап развития биосферы, своего рода информационная оболочка планеты, разум, воздействующий на биосферу как совокупность
живого вещества. Если био- и ноосферы имеют материальную природу,
то семиосфера относится к тому виду пространственных объектов,
которые можно определять как ментальный конструкт. Это пространство интерпретирующих друг друга языков и текстов, которое обеспечивает все коммуникативные информационные процессы культуры.
Иными словами, семиосфера — это универсум текстов, произведенных
посредством различных языков культуры.
Для того чтобы было понятно, почему семиосфера — это семиотическая модель культуры, остановимся на понятии «текст», которое в семиотике несопоставимо шире, нежели в лингвистике/филологии. Текст
(культуры) — любой материальный объект, который становится для
человека носителем информации, то есть прочитывается как сообще1 Тейяр де Шарден (1881—1955) — французский католический философ, теолог,
биолог, антрополог. Слушал в Сорбонне лекции В. И. Вернадского.
157
ние. В качестве текста в культуре функционируют вещи, архитектурные
сооружения, сам человек, запахи, воспоминания (тексты памяти) и др.
По существу, нет ничего, что не прочитывалось бы нами как сообщение. Текст, воспринимаемый в определенном дискурсе, становится конденсатором культурных смыслов и одновременно генератором информации. В семиосфере тексты функционируют как знаки, отображая
свои референты (другие тексты) по типу индексов, икон, символов или
их комбинаций. Эти механизмы репрезентации обеспечивают функционирование семиозиса-семиосферы.
Далее я представлю систему сущностных характеристик семиотического пространства культуры. Их очередность достаточно формальна,
поскольку все атрибуты семиосферы определяют друг друга. Например,
их можно вывести из параметра дуальность-асимметрия.
1. Семиосфера возникает как результат семиотического взаимодействия языков и текстов (перевода, интерпретации), а не является
их суммой. Языки и тексты существуют постольку, поскольку интерпретируются через другие языки и тексты. Метаязыковые и метатекстовые процессы обеспечивают функционирование и нашего языкового
сознания, которое устроено по принципу семиозиса-семиосферы. Так,
процесс чтения — понимания — это всегда процесс создания нашего
текста о читаемом тексте. В этом смысле Ю. Лотман говорит о том, что
любые формы семиотического взаимодействия языков и текстов следует рассматривать как перевод. Перевод — ведущий механизм культуры, ее двигатель — возможен между текстами одного языка (перевод-интерпретация), между текстами различных вербальных языков
(межъязыковая интерпретация), а также между разносемиотическими
системами (например, вербализация музыки или ее визуализация
в картине и танце).
2. Семиотическое пространство культуры неоднородно. Оно включает языки с различными знаконосителями (вербальными и невербальными, дискретными и недискретными) и различной степенью
стабильности/изменчивости. В семиосфере представлены устные
и письменные тексты, разножанровые сообщения, текстовые высказывания в актуализированной форме и форме внутренней речи. Семиотическая неоднородность семиосферы предполагает наличие относительно переводимых друг на друга языков/текстов, а также систем,
которые практически не могут друг друга интерпретировать. Проблема
непереводимости языков (например, можно ли создать математическую запись сонаты Моцарта?) снимается наличием языка-посредника,
функцию которого всегда выполняет вербальный язык.
3. Семиосфера ахронологична. Она не развивается из прошлого
в будущее. Человек, осуществляющий метатекстовые процессы, проводит, например, параллель между А. Пушкиным и И. Бродским или
между И. Бродским и У. Оденом. В этом акте коммуникации все названные авторы современны тому, кто пишет о них, поскольку мысль производится сейчас. Одновременно семиосфера алинеарна, поскольку один
158
референт может отображаться в бесконечном количестве знаков, каждый из которых станет референтом для следующей серии репрезентаций. Таким образом текстовое пространство культуры функционирует
как гипертекст.
4. Семиосфера динамична и бесконечна. Семиотическое пространство, в которое погружен человек, есть сложная структура с фактически открытым списком языков и текстов. Список языков и текстов
открыт в бесконечность прошлого (исчезновение и забвение систем
коммуникации), а также в бесконечность будущего. Никто не будет
спорить по поводу постоянного прироста текстов. Но можно смело
говорить и о постоянном увеличении числа языков культуры. Конечно,
это не касается этнических (естественных) языков, количество которых неизбежно уменьшается в силу, прежде всего, социальных причин.
Но если говорить об идиостилях писателей, художников, композиторов
как о языках, то число таких языков действительно открыто в бесконечность. Добавим сюда создание искусственных языков (прежде всего,
формальных, но также и вербальных), возникновение синтетических
искусств и другие художественные практики. Вот почему семиосфера
подобна пульсирующей Вселенной.
Еще один аспект динамического движения семиосферы — это постоянный и неизбежный перевод любого из ее языков на вербальный.
Каждый из языков и текстов культуры отмечен динамикой собственной
истории. Так, все языки и тексты проходят периоды рождения, взросления и движения к потенциально возможному если не исчезновению,
то трансформации.
Динамика семиосферы (культуры) проявляется и в способе ее развития. По Ю. Лотману, это пульсирующее алинеарное движение через
эволюцию и взрыв. Под взрывом понимается момент столкновение
языков различной природы (дискретных и континуальных), семантически разных текстов. В этом моменте возрастает информативность
системы — рождаются новые смыслы, что определяет дальнейший путь
системы (до следующего информационного взрыва).
5. Семиосфера полилингвальна. Моноязычное существование
человека невозможно. Вербальные системы поддерживаются невербальными, реализуя принцип дополнительности языков. Каждый человек — семиотический полиглот. Полилингвальность сопряжена с поликодовостью. В культуре мы сталкиваемся с проблемой многоуровневого
кодирования на всех уровнях вербального языка (коды фонетические,
грамматические, лексические). Добавим сюда коды культуры, самого
субъекта, дискурса, традиции. Коды создают впечатление «власти»
языка, культуры, отдельного субъекта. Как и в случае с языками и текстами, в семиотическом пространстве происходит постоянное увеличение числа используемых кодов (создание новых, модификации старых).
6. Семиотическое пространство культуры структурировано отношениями дуальности и асимметрии. В основании любой системы
всегда лежит двоичный принцип. Минимальная единица семиос159
феры — бином как неразрывное единство означаемого и означающего,
референта и знака, текста и метатекста. Их оппозиция — это основа
нашего мышления и матрица культуры. В бинарную структуру входят
дополняющие друг друга системы с дискретными и недискретными
знаконосителями. Например, восприятие недискретного визуального
текста поддерживается вербальным метатекстом, включающим дискретные знаки. По Ю. Лотману, культура, чтобы быть мыслящей системой, должна располагать, по меньшей мере, двумя языками различной
семиотической природы, что и приводит к асимметрии систем.
Семиотические свойства бинарности (дуальности) и асимметрии
знаков мы видим, например, в соотношении:
— двух типов мышления (цифровое и аналоговое, аналитическое/
синтетическое, или образное);
— письменной и устной речи, визуальных и акустических образов,
сакрального и профанного, знака и вещи и др.;
— «своего» и «чужого»;
— текста и его переводов, переводимости и непереводимости и др.
Во всех этих примерах отсутствие зеркальной симметрии между
членами бинарной оппозиции становится генератором новых смыслов
в культуре.
Каждая бинарная структура обладает условной границей, которая
не столько разделяет элементы структуры, сколько их соединяет.
7. С точки зрения пространственной организации на каждом
временнóм отрезке семиосферы можно выделить ее центр (наиболее
активные для данной культуры языки и тексты) и периферию. Это подвижные локусы, которые могут даже меняться местами. Отношения
центра и периферии также составляют бинарную оппозицию.
Лотмановская семиосфера — это семиотическое пространство, куда
погружен любой коммуникативный акт, которое определяет и предопределяет все процессы порождения текстов / их интерпретации. Эта
концепция объясняет семиотическую природу не только пространства
культуры, но и человеческого сознания. Так, уже после Ю. Лотмана
возникает понятие «семиосфера индивида», позволяющее говорить
о семиотических алгоритмах языкового сознания/памяти. Семиосфера
индивида функционирует как пространство языков и текстов каждого человека. По существу, это отдельная семиосфера в семиосфере.
Через это пространство человек получает единственно возможный
доступ к миру. Ю. Лотман отмечает, что, как языковое существо, человек не может воспринимать несемиотизированные (не ставшие знаком) феномены. Реальность только тогда в прямом смысле становится
реальностью, когда она «переводится» на какой-либо язык/языки и становится текстом. Мир существует только будучи зафиксированным
в языке. Именно потому он и читается нами как «книга, начертанная
Божьим перстом» (У. Эко).
Языковая семиосфера — единственная истинная среда человека.
Вне языка как такового невозможно говорить о человеке как человеке.
160
Отсюда и представление о лингвистике, изучающей наше языковое
существование (Б. Гаспаров). Система языков позволяет нам создавать
многомерные картины мира. Напомню, что, согласно аксиоме Л. Витгенштейна, границы и структура мира у каждого человека относительно различны, поскольку определяются репрезентативными возможностями языков этого индивида.
Семиосфера индивида обладает те же свойствами, что и семиосфера
как модель культуры: это бинарность и асимметрия языков и текстов,
их неоднородность, преумножение в онтогенезе числа хранящихся
в памяти языков и текстов и др.
Вопросы и задания
1. Подготовьте небольшое сообщение об истории тартуско-московской
семиотической школы.
2. Подготовьте сообщение на тему «Концепция семиосферы Юрия Лотмана».
Обратите внимание на следующие вопросы, прорабатывая их по первоисточнику
(Лотман Ю. С. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПб., 2010. 704 с.).
• Семиотическое пространство, его неоднородность, метатекстовые практики как самоописание семиосферы (с. 250—257).
• Перевод как механизм семиосферы, перевод как диалог текстов. Инварианты коммуникации. Бинарность и асимметрия в переводе. Перевод как
генератор текстов. Диалог центра и периферии. Диалог культур. Как культуры
реагируют на чужие тексты. Культура-приемник. Тексты-провокаторы (с. 268—
276).
• Структура семиосферы. Понятие границ. Границы личности, текста,
интерпретации, перевода. Центр и периферия (с. 257—268.).
• О двух типах ориентированности культур (с. 425—427).
• Динамическая модель семиосферы (с. 543—557; 647—664).
• Память человека и память культуры (с. 614—622; 673—676).
3. Покажите на своих примерах, как реализуются все сущностные характеристики семиосферы.
4. В каких направлениях развивается сейчас лотмановская концепция
семиосферы? Законспектируйте основные положения статьи С. Зенкина «Континуальные модели после Лотмана». НЛО. 2009. № 98. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2009/98/ze7.html.
161
Человек в ситуации двух реальностей.
Проблема истинности семиотического
отображения1
Мы говорим о мире всегда неточно,
поскольку
неточность неустранима из структуры
языков.
Следовательно, мы никогда не говорим
о мире.
Станислав Лем
Глубочайшее заблуждение считать, что
язык
зеркально отображает мир, поскольку
он его создает.
Лешек Колаковски
Человеческое существование одновременно связано с физическим
миром и с пространством знаков. Ситуация взаимодействия двух реальностей (онтологической и семиотической) создает множество философских и семиотических проблем. Можно ли и в какой степени говорить
о реальности мира физического и мира знаков? Как эти реальности
соотносятся? Обладают ли они автономностью друг от друга и от человека?
Но начнем с вопросов о том, что значит быть реальным, сколько
реальностей нам дано и чем они различны. С одной стороны, реальный — это существующий объективно. Этим параметром обладает
физический мир — онтологическая реальность, которую мы воспринимаем эмпирически. Но столь же реальны для каждого из нас мысли
и ментальные образы (семиотическая реальность). Как ни парадоксально, но и ментальные образы (например, сны или воображаемые
картины) человек тоже воспринимает эмпирически (во сне можно
ощущать холод и др.).
Главным различием обоих видов реальности является их происхождение. Физическая реальность дана нам изначально (априорно),
как нечто, что создано не людьми, без участия человека. Семиотическая же (текстовая) реальность, в отличие от онтологической,
1
162
Бразговская Е. Языки и коды. С. 153—166.
от начала и до конца является плодом человеческого мозга, результатом
когнитивных процессов — репрезентаций. И каждый из нас принимает
непосредственное участие в формировании этой реальности. Однако
это четкое различие очевидно лишь на первый взгляд. То, что мы считаем реальным (дерево, небо, птица), доступно нам не столько как
независимые от нас вещи, сколько в виде произведенных нами репрезентаций дерева, неба, птицы.
На вопрос о том, какой степенью автономности обладают онтологическая и семиотическая реальности друг от друга и от человека,
также трудно дать однозначный ответ. Можно допустить, что физическая действительность обладает абсолютной независимостью от человека, что миру «безразлично», воспринимает его человеческое сознание
или нет. Однако узнать, каков же мир на самом деле, не репрезентируя
его в знаках различных языков, невозможно. Еще св. Августин осознавал: для ответа на вопрос, что есть вещь, следовало бы отделить знак
вещи от самой вещи, но только это не представляется возможным.
Точно так же у И. Канта, Ч. Пирса возникало теоретическое допущение
о существовании «чистых» вещей, или вещей в себе. Что такое вещь
в себе? Это вещь, существующая вне чьих-либо репрезентаций, то есть
неискаженная в восприятии. Однако вещь в себе — лишь мыслительный конструкт, для реального познания «чистая» вещь недостижима.
Поскольку коммуникация между миром и человеком устанавливается исключительно через пространство языка, тогда реальность — это
не что иное, как своего рода молчаливое соглашение, или конвенция
между членами социальных групп, по поводу представлений о ее объектах и структуре. Согласно австрийскому философу XIX в. Францу
Брентано, существование внешнего мира рассматривается лишь как
правдоподобное. Ч. Милош также отмечал: тот факт, что мир существует, есть аксиома, в которую надо верить; однако истинный мир,
такой, какой он есть, ве́дом лишь его Творцу.
Решение вопроса об автономности физического мира от человека
осложняется невозможностью провести четкую границу между действительностью и пространством знаков, в которых она отображается.
Так, в акте коммуникации объект мира (например, дерево) становится
референтом для слова, рисунка и т. д. Но дерево, которое мы видим,
нельзя отделить от своей номинации: мы не можем воспринимать
дерево без вербального знака «дерево». Вещь замещается словом;
в свою очередь, за словом возникает ментальный образ вещи (понятие).
Таким образом, нельзя говорить об абсолютной независимости
онтологической реальности от нашего сознания. Мир таков, каким
он предстает перед нами в знаковом отображении. Даже если начальными моментами своего творения физическая реальность обязана
не человеку, даже если она и развивается независимо от человека
(автономно), мы продолжаем конструировать мир «по слову»: а) видя
действительность в знаковом преломлении; б) создавая знаки, кото163
рые затем могут стать частью онтологической реальности (Наутилус
у Жюля Верна и реальное создание подводных судов).
Семиотическая реальность — порождение человека 1. Но обладает ли она автономностью от реальности онтологической? Отображая
мир, мы создаем как отдельные знаки, подменяющие в нашем сознании
предметы и явления, так и знаковые системы, для функционирования
которых уже не требуется постоянное соотнесение знаков с референтами из онтологической реальности. Референтами создаваемых текстов
становятся понятия-представления: например, можно писать о Венеции, будучи за пределами самой Венеции, или говорить о единорогах,
опираясь на визуальные тексты западноевропейской живописи. Соответственно, наши репрезентации обретают относительную автономность от того, о чем они повествуют.
Текстовые миры живут по своим правилам. Говоря о достоверности семиотического мира, мы не используем процедуру верификации — проверки, насколько текст соответствует миру. Пусть никто
не встречал русалок, единорогов или хоббитов, а исторические источники не зафиксировали действительного существования Андрея Болконского, но от этого они не становятся для нас менее достоверными.
Текстовые миры существуют как вещь в себе, требуя интерпретации
в рамках кода собственных систем. Так же и положения чистой математики (мнимые или отрицательные величины) доказываются только внутри математики, не находя непосредственного подтверждения в жизни.
По своим правилам живут и языки семиосферы, которые в своей истории становятся все более абстрактными. Или в историческом развитии
вербальных языков отмечены случаи перехода от синтетизма (наличия
систем склонения и спряжения форм) к аналитизму (отсутствию формоизменения). Все эти тенденции не зависят напрямую от человека:
он не может непосредственно влиять на них.
И все же еще раз подчеркнем: семиотическая реальность обладает
только относительной автономностью от онтологической и самого
человека. Знаковые репрезентации всегда, в той или иной степени,
являются результатами отображения мира. Это могут быть отсроченные репрезентации (воспоминания о том, чего уже нет) или комбинации реальных событий, или комбинации атрибутов различных вещей
(так создаются мифологические и фантастические существа), но верно
одно: семиотическая реальность никогда не возникает сама по себе,
она всегда преломляет действительность. Не случайно высокая степень
семантической непрозрачности текста делает его интерпретацию проблематичной, поскольку читатель не в силах обнаружить референты
высказывания (предметы отображения) в знакомой ему реальности.
1 Это верно не только в случае, когда мы сами создаем тексты, но и когда интерпретируем чужие тексты. Только на первый взгляд, текст другого автора существует объективно вне нас. Его истинное существование обеспечивается нашим прямым участием
в интерпретации. Именно отсюда у Р. Барта рождается мысль о необходимости разделения произведения (того, что создано автором) и текста (объекта нашей интерпретации).
164
Несмотря на то что и мир, и реальность знаков способны развиваться
по собственным законам, для человека эти реальности существуют
только во взаимозависимой и неразрывной связке. В художественной
литературе описаны случаи, когда «вторая» реальность становится причиной порождения «первой»:
• в «Сильвии и Бруно» Льюис Кэрролл просит читателя угадать,
сочинил ли он куплеты песни садовника в соответствии с событиями,
о которых повествует текст, или же, наоборот, события самой жизни
сочинены в соответствии с куплетами садовника;
• основным положением в романе «Баудолино» У. Эко является
идея о том, что история — это совсем не то, что было, а то, что было
кем-то рассказано и затем стало планом, по которому совершаются
реальные события. Та же идея становится сюжетом и в другом романе
У. Эко — «Маятнике Фуко» (история как конструкт, спроектированный
воображением);
• герою борхесовского рассказа «Круги руин» снится незнакомец,
который становится явью и начинает жить самостоятельной жизнью,
в то время как его «создатель» вдруг осознает свою нереальность, обнаруживая, что он сам есть только проявление чьего-то сна. Подобная
сюжетная линия встречается и в «Острове накануне» У. Эко: Роберт,
выдумавший себе брата Ферранта, в какой-то момент начинает считать, что это он сам есть плод воображения Ферранта. Борхесовское
«Тлен. Укбар. Орбис Терциус» — это история изначально выдуманного
мира, второй реальности, которая незаметно полностью подчиняет
себе истинную.
Пересечение двух реальностей наступает в момент, когда а) знак
настолько похож на вещь, что не воспринимается нами как знак
(абсолютный иконизм); или б) жизнь воспроизводит плоды воображения — научного или художественного, и тогда фиктивные объекты
художественного творчества, фантастики, науки входят в мир, становясь его частью.
Часто возникает вопрос о том, какая же из реальностей «более
реальна» и значима для человека? Онтологическая реальность появилась задолго до людей, но вещи как таковые, вне знакового отображения, по-прежнему непознаваемы. Для человека существует только то,
что получило отображение в знаке, было названо на каком-либо из языков культуры и включено в соответствующую знаковую систему. Значит, более «реальной» оказывается семиотическая реальность? С одной
стороны, языки и тексты есть среда, в которую мы в прямом смысле
включены. Но следует помнить, что существование нашего «семиотического дома» опосредовано домом онтологическим. Не случайно полный уход в реальность знаков мы воспринимаем как семиотическую
опасность. У. Эко констатирует, что современный человек стремится
подменить реальность мира реальностью семиотических систем:
• в компьютерных играх «вторая реальность» зачастую оказывается реальнее первой;
165
• обучение детей ведется посредством картинок, формул без обращения к практике;
• мы путешествуем по миру чаще в гиперреальности, нежели
в физическом смысле;
• мы заводим друзей в социальных сетях, но все реже встречаемся
с реальными людьми и т. д.
На вопрос о том, какая из реальностей реальнее, существует только
один ответ: ни одна из них, взятая в отдельности. Для человека реальна
только «связка» онтологического мира и мира знаков. Но в этой
связке нас интересуют отношения семиотической реальности к миру,
но не наоборот.
Все сказанное подводит нас к вопросу о том, насколько истинно
мы отображаем мир в знаках. Одно из направлений семиотического
анализа — установление соответствия между тем, что есть в мире,
и тем, насколько правильно это для нас представлено в знаках.
Семиотическая истинность — это некоторый правильный, адекватный способ выражения мира в знаках. Казалось бы, в идеале носитель знака (сама форма языкового высказывания) должен соотноситься
со своим референтом однозначным образом и представлять для нас
все его свойства — характеристики. В этом случае мы зафиксируем
абсолютную полноту описания объекта отображения. Именно таково
было представление об адамическом языке как совершенной системе
номинации. Однако практика употребления языков и создания текстов
сталкивает нас с рядом проблем, заставляющих считать истинность
не абсолютной категорией, а относительной.
Начнем с того, что в истории человеческой культуры одновременно
существуют и развиваются несколько концепций истинности. Причина невозможности выведения абсолютной истинности в том, что
«правильность» знака (некоторый знак х истинен в определенном языке
L тогда и только тогда, когда…) обеспечивается рядом условий.
Истинность как соответствие можно устанавливать относительно:
• объекта мира (референта) и контекста его существования (корреспондентная истинность);
• правил употребления знака в некоторой системе-дискурсе (когерентная истинность);
• точки зрения субъекта, производящего высказывание (субъектная истинность).
Логику и аналитическую философию занимают вопросы соответствия знака и объекта действительности. Это сугубо корреспондентное понимание истинности (англ. correspondence — соответствие),
предполагающее, что высказывание о ситуации тождественно самой
ситуации, то есть знак правильным образом приложим к миру. Например, высказывание «снег бел» верно, если снег действительно белого
цвета, а высказывание «идет снег» истинно только в соответствующей
ситуации (примеры Альфреда Тарского).
166
Получается, что такое понимание семиотической истинности основано на верификации — проверке на правильность соотнесения знака
и факта мира. Все так называемые истинные высказывания (truth
sentence) — это предложения случая (occasion sentences). У. ван Куайн
объясняет: «ветрено», «холодно» рассматриваются как истинные знаки
только тогда, когда действительно на улице ветрено или холодно. Это
существенным образом ограничивает нашу возможность «правильно»
употреблять язык (действительно, как можно тогда летом говорить
о снеге?). Вот почему корреспондентная истинность делает уступки:
допускает и те высказывания, которые являются результатом обобщения серии похожих ситуаций, с которыми сталкивался какой-либо субъект. Например, можно не проверять, что 2 × 2 = 4, раз этот результат
внесен в таблицу умножения, или что снег по определению холодный,
а огонь горячий.
Однако большинство потенциально возможных высказываний
просто не может быть верифицировано. Это касается репрезентации
референтов нефизической природы: абстрактных или вымышленных
объектов. Действительно, знаки «единорог чудесен» или «я проснулась в незнакомой мне постели и в чужом языке, похожем на русский»
(М. Павич) не поддаются проверке на корреспондентную «правильность».
Помимо соответствия референту, истинность знака может определяться в заданных системах координат. Например, это рамки научных
теорий, грамматик языков и др. Координатами истинности становится
набор правил — конвенциональный код, не зависящий от прагматики
конкретного субъекта. Высказывание может быть истинно в рамках
определенной теории и не соотноситься с какой-либо наблюдаемой
ситуацией в мире. Это так называемое когерентное понимание истинности. Мерой истинности здесь является код, установленный для определенной системы — языка, культуры, стилистического направления,
эпохи и др.
Чтобы знак считался «правильным», языковое сообщество должно
разделять конвенцию о его использовании. Так, высказывание на русском языке должно быть построено в соответствии с его грамматикой («я идти школа» не истинно для грамматического кода русского
языка). Аксиома о параллельных прямых, не пересекающихся ни при
каких условиях, оказывается истинной в контексте геометрии Эвклида,
но неверной для геометрии Н. Лобачевского. Понятие отрицательных
и мнимых величин истинно в математике, но эмпирически с такого
рода фактами мы не взаимодействуем.
При когерентном понимании истинности значение знака не зависит от ситуации его употребления. «Правильность» высказывания здесь
проверяется аналитически — через интерпретацию знака знаком внутри системы, то есть без прямой отсылки к внешнему миру.
Представление о «правильном» соответствии знака миру может
определяться точкой зрения самого субъекта как создателя высказыва167
ния. Субъектная истинность связана с автором или интерпретатором
знаков: системой их личных представлений о действительности, с тем,
что они считают истинным, а что — нет. Отсюда положение Нельсона
Гудмена: «истины для различных миров различны»1. О том же у Чеслава Милоша: «Если все истины относительны и зависят от системы
координат… то я хочу быть определяющей системой координат, я сам
решу, что назначить истиной». Примером высказывания, обладающего
истинностью в системе авторского способа употребления языка, является следующее предложение Милорада Павича: «В ответ на эти слова
продавец улыбнулся на чистейшем иврите».
Субъективное измерение истинности обладает большой антропологической значимостью. Во-первых, ни один текст не создается в отрыве
от автора и интерпретатора: отображение происходит с точки зрения
того, кто порождает знаки. Вот почему в культуре сосуществуют целые
множества «правильных» описаний одного и того же фрагмента мира,
которые по отношению друг к другу могут выступать как синонимичные и (или) как конфликтующие (Н. Гудмен). Таким образом, установка
на субъектное понимание истинности воспитывает толерантность.
Во-вторых, культура получает бесконечный ряд индивидуальных версий мира, расширяющих пространство семиосферы. В-третьих, в ситуациях употребления языка сквозь призму своего сознания происходит
становление как самой человеческой личности, так и языков культуры.
Идеальный пример субъектного понимания истинности представлен в новелле Х. Л. Борхеса «Три версии предательства Иуды». Борхес
предлагает веер возможных интерпретаций, или объяснений, поступка
Иуды. При этом каноническая трактовка (предательство из-за алчности) также рассматривается не как абсолютная истина, а как одна
из возможных интерпретаций известного факта. Борхес, предваряя
свои версии, замечает: «Муж, столь отличенный Спасителем, заслуживает, чтобы мы толковали его поведение не так дурно».
Первая версия. Иуда есть некое «отражение Иисуса»: «Слово опустилось до смертного», и ученик Слова также опустился до предательства,
дабы подтвердить: миропорядок земной есть зеркало горнего миропорядка.
Вторая версия. Подобно тому, как аскет умерщвляет плоть ради
славы Божией, Иуда делает то же, но со своим духом, отрекаясь от чести,
демонстрируя этим грандиозное смирение.
Третья версия самая парадоксальная: Иуда есть не кто иной, как сын
Божий. Этим доказывается, что Спаситель был истинным человеком,
способным к противоречиям и совершению греха. Спаситель, по Борхесу, «избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой».
Наличие уже четырех версий (включая каноническую, а значит,
когерентную) о том, кем же был Иуда и каковы мотивы его поступка,
доказывает относительность категории истинности в человеческой
1
168
Гудмен Н. Способы создания миров. М. : Праксис, 2001. С. 134.
истории. В эссе Х. Л. Борхеса представлена возможность существования нескольких истинных утверждений, которые или существуют одновременно (как истины для различных эпох, миров, субъектов), или
сменяют друг друга в истории. В этом контексте в качестве истинного
предстанет следующее положение Н. Гудмена: «Композиция, которая
«неправильна» в мире Рафаэля, может быть правильной в мире Сера»1.
Добавим, что аксиомой о том, что не может быть никакой истины без
носителя истины, подтверждается существование прагматического
измерения семиозиса.
В контексте представлений о вариантах семиотически истинного
отображения мира можно рассмотреть философско-культурологическую работу Мишеля Фуко «Слова и вещи»2. Говоря о потенциально
возможных типах отношений знаков (слов) и вещей (проблема vox
et rex), Фуко сводит их в три основные модели отображения (в его терминологии — эпистемы). Интеллектуальную историю человечества
Фуко рассматривает как процесс последовательной смены семиотических способов репрезентации мира3. Для каждой эпистемы характерно
преобладание своего — индексального, иконического или символического типа отношений между текстом и миром, а соответственно,
и свое понимание истинности.
В эпистеме подобий (по Фуко, она продолжалась до XVI в.) преобладает категория сходства. Это эпоха сопричастности языка и мира: знак,
текст выступают как зеркало мира, где видимое на следующей ступени
повторяется в высказываемом. Здесь тексты иконически воспроизводят пространство: поэт старался поймать соответствие звука (слова)
и цвета (А. Тарковский).
К эпистеме подобий применимо корреспондентное понимание
истинности. В этом же контексте может рассматриваться и понятие
мимесиса как изображения (representation), или правдоподобия. Сущность языковой игры с миром — создание его текстовых двойников.
Языковой знак играет роль «клейма на вещах», или иконы отсутствующих вещей. К сущности этой эпистемы приложимо определение поэзии
как «страстной погони за действительностью» (Ч. Милош). Знаки различных уровней (слова, типы предложений, элементы наррации) стремятся к воспроизведению объектов мира и ситуаций. Так, сюжет может
повторить линейный ход жизни героев, а точная детализация воспроизвести атрибуты предметов мира.
Несмотря на то что в эпистеме подобий текст обращен к миру, текстовые удвоения не являются абсолютными: по Ч. Милошу, река, создающая знак — отражение облаков, страдает, поскольку отражения
не могут стать самими облаками. Удваивая мир, текст все же не стано1
Гудмен Н. Способы создания миров. С. 255.
Фуко М. Слова и вещи. 406 c.
3 С позиции нашего времени следует заметить, что в истории культуры эпистемы
не обязательно сменяют друг друга, а могут сосуществовать.
2
169
вится его зеркалом, а отображает его, создает знаковую версию реальности.
В классической эпистеме (по Фуко, это период рационализма XVII—
XVIII вв.) знак и отображаемый им предмет лишаются непосредственного сходства и соотносятся только через пространство априорно заданных (языком, наукой, культурой) представлений о предмете. К этой
эпистеме применимо когерентное понимание истинности. Здесь знак
должен воспроизводить не внешние атрибуты означаемого, а его инвариантные характеристики — повторяющиеся в мире закономерности,
универсальные законы. Теперь слово «силится отвлечься от явлений»
(А. Тарковский), чтобы выйти в область закономерностей, а текст создает не варианты «я-здесь-сейчас» ви́дения, а инварианты, не имеющие
отношения ни к «я», ни к «здесь», ни к «сейчас». С семиотической точки
зрения, подобный тип мышления предполагает, что знак становится
составной частью системы знаков и существует постольку, поскольку
входит в определенную систему (ср. с эпистемой подобий, где знак
существует для вещи и ее воспроизведения).
Основная задача классической эпистемы — построение всеобщей
науки о порядке, «всеобщей грамматики», говорящей о системе тождеств и различий как основании нашего мира. Инструментом такой
науки становятся не естественные, а формальные языки, позволяющие выводить из простых элементов все более сложные. Подобный
тип мышления может обходиться без непосредственного обращения
к миру: видеть — не значит добиваться тождественности знака и вещи,
а истолковывать вещь в некоторой системе координат.
Даже в литературе референтом текста выступает не конкретная ситуация, а представление об идеальном положении вещей (М. Фуко пишет,
что конкретная человеческая трагедия на весах мироздания уравновешивается продолжающейся жизнью). Этим объясняется формульность
литературы классицизма — использование репертуара предлагаемых
традицией приемов (устойчивых метафор, сравнений). Так создается
гармоничная структура, отвечающая канонам красоты (соразмерность
и ясность) и имеющая в качестве референта идеальный объект. Плюсы
подобной семиотической стратегии в литературе состоят в том, что
автор находится со своими читателями в общем пространстве мысли
и восприятия. Референтами текстового отображения в классицизме
являются мифологические сюжеты или реальные истории, обретшие
черты мифа. Для автора эти пресуппозиции уже предуготовлены культурой. Но одновременно они прекрасно известны и читателю, который
ожидает от автора не столько новой истории, сколько профессионального способа представления уже известного.
В этой эпистеме, по Фуко, произошло «разделение слов и вещей»:
отношение знака к вещи теперь не обусловлено порядком самих
вещей. На этом же основано отличие логического анализа предложения от грамматического анализа высказывания в современной грамматике. С точки зрения логики, в высказывании «дом построен строите170
лями» подлежащим выступает «строители» как действующий субъект.
Однако это не соответствует тому, чему учат в школе. Если в эпистеме
подобий язык употреблялся для описания и удвоения, то в классической
эпистеме язык обретает способность создавать новую реальность.
В эпистеме современного мира (конец XIX в. — по настоящее время)
между знаком и миром стоит пространство других знаков — языка,
жизни, литературы. Здесь языковые системы обнаруживают способность к практически автономному (от мира) существованию. Означивая мир, мы обращаемся совсем не к нему, а к пространству других
знаков-текстов. Литература начинает высказываться исключительно
о себе самой, ставя под сомнение положение о том, что язык обращается к бытию1.
С этой эпистемой в бо́льшей степени соотносимо субъектное представление об истинности. Между текстом и миром стоит реальность
прежде (в литературе) сказанного: именно в ней создаваемый текст
черпает и свои сюжеты, и способ детализации. Так, в сюжетной организации «Имени Розы» У. Эко принимают участие «сюжет жизни» (биографические моменты) Х. Борхеса, а также вся разработанная им система
символов культуры: библиотека, книга, «сад расходящихся тропок»
и др. В еще бо́льшей степени связкой сюжетов и цитат является «Остров
накануне», где У. Эко скомпоновал бродячие сюжеты о потерпевшем
кораблекрушение, о безнадежно влюбленном, о потерянных и случайно найденных рукописях, а также фрагменты научных трактатов
XVII в. (Джовано Баттисто Марино, Атанасиуса Кирхера и др.), сюжеты
живописных полотен Вермеера, Веласкеса. Все названия глав этого
романа — это культурные пресуппозиции: названия научных трактатов и художественных произведений: «Зверинец чудес света» (Томазо
Гарцони), «Неслыханные необычайности» (французского оккультиста
Ришелье Гаффареля), «Экстатический небесный маршрут» (отца Кирхера) и др. Таким образом «Остров накануне» становится зашифрованным библиотечным каталогом. В заключительной главе Эко говорит,
что ни он, ни его роман не испытывают «страха влияния»2. В этой эпистеме истинность высказывания — текста соотносима с системой представлений самого говорящего субъекта.
Семиотическая истинность всегда рассматривается относительно
некоторой системы координат. Истинность — это «вопрос соответствия
тому, к чему осуществляется та или иная референция»3. Например, объекту мира или глобальному контексту, в котором происходит отображение (языку, научной парадигме), или представлениям субъекта.
Следствием относительной истинности репрезентаций становится
вероятностность языковых картин мира. Все известные на сегодняш1
Фуко М. Слова и вещи. С. 327.
«Аnxiety of influence» — тема и название знаменитого текста литературоведа
и философа Харолда Блума.
3 Гудмен Н. Способы создания миров. С. 253.
2
171
ний день модели языка носят вероятностный характер1, поскольку
ни один язык не является зеркалом реальности (физической, ментальной и др.). Вероятностность вербальных систем проявляется, например, в невозможности: а) полного отображения референтов и б) однозначного определения семантики языковых знаков. В частности, это
касается интерпретации поэтических метафор, символов, терминов
философского и религиозного дискурсов. Британский философ Лешек
Колаковски рассматривает подобные знаки как ошибки, «болезнь»
языка. Так, значения слов esse, ego обладают настолько широким спектром значений, что становятся своего рода «черной дырой», способной
всасывать в себя все и ничего не выпускать на поверхность. Знаки
с вероятностной семантикой указывают нам дорогу «из языка»2.
Сформулируем некоторые причины вероятностных (относительно
истинных) отношений между языками и миром. Одновременно это
будет и ответ на вопрос, почему языки не могут стать зеркалом любого
вида реальности (физического, ментального и воображаемых миров,
эмоциональных состояний и др.). Эти причины трудно выстроить
в логическом порядке, поскольку все они взаимосвязаны.
1. Знаковые системы и действительность — это взаимозависимые,
но различные миры. В акте речи устанавливается соответствие между
объектами различной природы: знаками, относящимися к языку,
и референтами-вещами, принадлежащими действительности. С точки
зрения логики, невозможен какой-либо полный изоморфизм между
элементами сфер различной природы.
2. Вероятностность языкового отображения обусловлена природой
и способом именования. Знак никогда не обращается к предмету реальной действительности напрямую (имя для вот этой вещи), но только
через пространство априорных (задаваемых языком и культурой)
понятий. В итоге за каждым знаком неизбежно стоит представление
о типичных свойствах отображаемого предмета как представителя своего класса.
3. Как показывает история знаковых систем, они постоянно изменяются в сторону все бо̐льшей абстрактности. Их знаки все дальше
отдаляются от своих референтов, увеличивая несоответствие между
объектом мира и воплощенным в знак отображением.
4. Человечество постоянно совершенствует языки репрезентаций.
С одной стороны, они упорядочиваются, очищаются от «шумов» (различного рода избыточностей, исключений и др.). С другой стороны,
в индивидуальных художественных стилях постоянно возникают новые
избыточности — авторские метафоры, символы, неологизмы с вероятностными значениями. Все это увеличивает разрыв между языками
и миром. К тому же, чем совершеннее система (например, формаль1
2
248.
172
Налимов В. Вероятностная модель языка.
Kołakowski L. Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus. Kraków : Zysk, 1999. Р. 196,
ные языки), тем меньше она способна подстраиваться под бесконечный ряд изменений, происходящих в действительности. Так, отодвигаясь и абстрагируясь от онтологической реальности, знаковые системы
теряют возможность ее иконической репрезентации, зато успешно
используются нами для аналитического познания мира.
5. Все инструменты отображения мира (виды знаков и их комбинаций, типы языков) обладают ограниченными (в каком-либо отношении) репрезентативными возможностями. Знаковые системы характеризуются принципом неполноты: ни одна система не может описать
себя в своих же терминах, ни одна не может приблизиться к полному
отображению реальности. Положение не спасает даже семиотический
принцип дополнительности.
6. Преимущественная линейность вербальных языков оказывается
несоразмерной нелинейности отображаемого мира. Отчасти культура
преодолевает эту ситуацию, создавая новые формы наррации (нелинейное повествование, сетевая литература и др.), оперируя знаками
с вероятностным спектром значений, описывая мир по принципу взаимодополнительности языков и т. д.
7. Процесс отображения референта происходит в выбираемой
системе координат — относительно факта мира / системы конвенциональных представлений культуры / системы представлений языкового
субъекта. Производство высказывания безотносительно некоторой
системы координат невозможно. Выбор метаязыка и контекста описания отдаляет нас от непосредственного контакта языкового знака (текста) и мира.
Несмотря на все наши усилия по усовершенствованию языковых
систем, созданию новых языков описания мира, по-прежнему существует стеклянная стена между языком и миром, и все споры о реализме (или истинном отображении мира) — это, по Чеславу Милошу,
хроническая болезнь нашей культуры. Мы не столько отображаем мир
в знаках, сколько создаем версии-варианты реальности.
На проблему относительной истинности отображения можно посмотреть и с другой (оптимистичной) стороны. Возможно, что неустранимая неадекватность, которой отмечены отношения наших языков
и мира, — это необходимая составляющая многомерной структуры,
в которой мы существуем (связки семиотической и онтологической
реальностей). Именно «зазор неадекватности» позволяет человечеству стремиться к недостижимому идеалу репрезентаций, совершенствуя на этом пути уже существующие языки, создавая полилингвальные тексты и новые языковые системы. Изначальная несоразмерность
между языком и реальностью заставляет нас с пониманием относиться
к правилам языковых игр: например, стилистическим формулам определенных исторических периодов (именно речевые формулы и стилистические алгоритмы обеспечивают успешность и прозрачность коммуникации). Априорная несоразмерность между языками и миром
позволяет нам в итоге постоянно усложнять представление о реаль173
ности: увеличение текстовых репрезентаций раздвигает для нас сферу
существования: один и тот же мир и растущее пространство его знаковых версий.
Вопросы и задания
1. Определите понятия «реальность», «вещь», «предмет», «реалия», «истинность» с точек зрения философии, логики, психологии, семиотики. Выпишите
определения из соответствующих справочников и словарей.
2. На каком основании онтологическая реальность считается реальной? Что
такое семиотическая реальность и зачем она нужна человеку? Каков характер
отношений между двумя видами реальностей?
3. Опишите отношения между физическим миром и миром вымышленным
(реальностью знаков) на примере новелл Х. Л. Борхеса «Тлен. Укбар. Орбис Терциус» и «Алеф». Какими семиотическими способами создается достоверность
текстового возможного мира?
4. Охарактеризуйте основные концепции семиотической истинности.
5. Почему невозможна абсолютная истинность в отношениях языков
с миром? Почему отображение носит вероятностный характер и ни один
из языков не является «зеркалом мира»? Покажите это на примере анализа
стихотворной строфы Х. Л. Борхеса:
Мне снится тигр, безгрешный, мощный, мудрый и кровавый.
Я вижу сквозь бамбуковый узор узор на шкуре тигра…
Но понимаю, что хищник, вызванный моей строкой, —
Сплетенье символов, простой набор литературных тропов,
Он порождение сознанья, конструкция из слов.
А тигра, вне мифов рыщущего по земле, мне словом не достигнуть.
6. Объясните, в рамках какой концепции семиотической истинности будут
верны следующие высказывания Х. Л. Борхеса:
• любое стихотворение годы превратят в элегию;
• самые верные наши подруги — ушедшие, они неподвластны ни ожиданию,
ни тревогам и страхам надежды;
• единственный подлинный рай — потерянный;
• мы в силах сотворить любое чудо. Но не делаем этого. Потому что в воображении оно гораздо реальней.
7. Дайте семиотическое объяснение следующему высказыванию: «Истина
не то, чем кажется в данный миг» (У. Эко. Имя розы).
8. Как проблемы истинности раскрываются в текстах Х. Л. Борхеса «Притча
о дворце», «Сад расходящихся тропок», «Три версии предательства Иуды», «Алеф»,
«Борхес и я»?
9. Напишите академическое эссе на тему известной аксиомы польско-американского философа и логика Альфреда Кожибского «карта не есть территория». Рассмотрите это положение в контексте вероятностных отношений между
языком, миром и человеком.
Заключение.
Еще раз о границах семиотики
Современная семиотика — это сложный контрапункт научных теорий и интеллектуальных практик (лат. punctum contra punctum, точка
против точки). Их топология — истинный лабиринт для непосвященных. Кажется, что нитью Ариадны в этом пространстве могут стать
учебники — своего рода карты, позволяющие проложить траектории
для изучения теории знаков и практики их интерпретации. Вот лингвистический вход «от Соссюра», здесь — логико-философская дорога
Чарльза Пирса, отдельно — культурологические пейзажи Ролана
Барта, Умберто Эко и Юрия Лотмана, семиотика музыки Ээро Тарасти,
семиотика ландшафта Адама Яворски и множество иных направлений. На каком-то этапе каждое из направлений обязательно доходит
«до точки», упираясь в стену своих возможностей. (Так, соссюровская
лингвосемиотика не может заниматься проблемой индивидуальных
репрезентаций). Но то, что видится как тупик, — на самом деле точка
пересечения с другой линией семиотики. В семиотику можно входить
через любую дверь и не останавливать движение. Примерно, как вот
в этом лабиринте (рис. 54).
Рис. 54. Лабиринт-мейз
В какой-то момент занятий наукой о знаках и языках мы обязательно
окажемся между Сциллой и Харибдой: выбором между углублением
в семиотику кого-то (Чарльза Пирса, например) или чего-то (ландшафтного дизайна, музыки и др.). Или придется выбрать между семиотикой как
академической наукой о знаковых формах мышления (по существу, это
«теория всего») и семиотикой как методологией дешифровки, опять же,
175
любых форм коммуникации. Бесповоротный выбор каждого из направлений имеет очень отдаленное отношение к научному знанию. По этому
поводу Татьяна Черниговская цитирует зоолога Конрада Лоренса:
«Знать больше о малом, а значит, ни о чем, сегодня опасно так же, как
так называемая теория всего, то есть знать обо всем»1.
«Узкий» семиотик перестает видеть перспективу, ведь ни один язык
(вербальный, музыки, движения глаз) нельзя изучать изолированно.
Причины в том, что:
— сами языки не существуют автономно, определяя и поддерживая
друг друга в коммуникации;
— в истории каждого человека и человечества в целом нет какоголибо первого языка, а есть, по крайней мере, начальная бинарная
структура разносемиотических систем, дающая рождение вторичным
языкам;
— человек овладевает каждым последующим языком с опорой
на уже имеющиеся;
— каждая семиотическая система не может описываться и интерпретироваться через саму себя, но только через метаязык, то есть другую
систему. Во всех случаях работы с невербальными языками обязательной становится их актуальная или скрытая вербализация — перевод
музыки, жеста и др. на язык слов, а также создание ментальных пространственных образов, когда мы, по Дж. Джойсу, смотрим и видим
с закрытыми глазами. Язык — вещь, в общем и целом незавершимая2,
он хочет обязательного «продления», перехода в другой язык, поскольку
каждая знаковая система имеет свой репрезентативный потенциал.
Вот почему (цитирую канадского физиолога Ганса Селье) «всегда будет
существовать потребность в ученых-интеграторах: натуралистах, постоянно стремящихся к исследованиям достаточно обширных областей знания.
Не стоит беспокоиться о возможности пропуска отдельных деталей. Среди
нас должен остаться кто-то, кто будет обучать людей совершенствовать средства для обозревания горизонтов, а не для еще более пристального вглядывания в бесконечно малое»3.
С другой стороны, ведь никто не рождается готовым генеративистом (априорные установки личности здесь не в счет). Ими становятся
только те, кто осознал предел своих профессиональных занятий в узких
областях.
1 Черниговская Т. Программа «Знать больше о малом — значит, ни о чем». URL:
https://www.youtube.com/watch?v=fx8FR-_sedE.
2 Бродский И. Набережная неисцелимых. С. 151.
3 Селье Г. От мечты к открытию. URL: http://royallib.com/read/sele_gans/ot_
mechti_k_otkritiyu.html#0.
176
Современная семиотика (да и семиотика ли это уже?) подобна нейронной сети, где каждая точка связана с другой и другими, где пространство существует без внешних границ, центра и зафиксированной
внутренней структуры. В реальности это поле когнитивно-семиотических исследований, где изучаются границы репрезентации различных
знаковых систем, кодирование и передача значений через дополнительность их «усилий», обязательность двойного кодирования информации
(включая дополнительность аналитического и образного мышления
о мире), настроенность мозга на эффект синестезии и множество других вопросов. Каждый раз движение по этой сети не совпадает с тем
маршрутом, что был проложен в прошлый раз. Лабиринт семиотических исследований постоянно перестраивает свою конфигурацию,
и такая игра дезориентирует новичка.
В этом контексте может показаться парадоксальным, что современную многоаспектную семиотику я попробую сравнить с фугой. На первый взгляд, это действительно странно, ведь фуга построена на имитационном повторении одной и той же темы в каждом из своих голосов.
Однако думаю, что все столь мозаичное интеллектуальное пространство, занимающееся языками и кодами интерпретаций, в итоге так
или иначе настроено на одну и ту же тему — вопрос об инвариантных
алгоритмах коммуникации между людьми, человеком и миром, биологическими системами жизни.
Семиотика продолжает создаваться теми, кто погружается в бесконечно малое, описывая структуру и возможности отдельных знаковых
систем. Но свою партию играют и те, кому тесно в рамках классической
теории Ч. Пирса или Ф. де Соссюра и кто ставит перед собой захватывающую задачу обнаружить в культуре и биологической реальности
некие общие алгоритмы кодирования и передачи информации — дать
второе дыхание генеративной грамматике Ноама Хомского. Семиотика
создается мыслителями, но семиотика создается и поэтами.
В этом пространстве многое пока только обозначено, и вопросов
здесь всегда будет больше, чем ответов. Например, мы посвящаем
жизнь изучению живописи или музыки. Но чем больше погружаемся
в эти сферы, тем становится очевиднее, что занимаемся мы не этими
языками, а лингвистической работой, поскольку видимое актуализируем в слове и жесте, в звуке и тактильном ощущении. И более того,
создавая текст о картине или музыке, мы неизбежно выходим из них,
чтобы оказаться в пространстве метаязыков. Так чем же мы занимаемся — музыкой ли, живописью или лингвистикой? В контексте сказанного достаточно понятно, почему Х. Л. Борхес в одном из последних интервью определил себя как агностика, не верящего в какое-либо
достаточно полное познание. Речь не об отрицании познания, а о том,
что впереди всегда будут еще не заданные вопросы, рождающиеся
из нашего любопытства, из желания не только узнать что-то еще,
но и по-новому увидеть то, что для других — пока очевидно и достоверно.
177
Основные термины и понятия курса
Декодирование — процесс интерпретации текста с опорой
на известные интерпретатору коды сообщения. Аберрантное декодирование предполагает интерпретацию текста с использованием кода,
отличающегося от того, что был заложен отправителем сообщения.
Дополнительность языков — принцип семиозиса, обеспечивающий успешное функционирование языков с различным репрезентативным потенциалом. Результатом дополнительности систем становится
рождение бинарных структур, в которых возможности языков с недискретными знаконосителями расширяются за счет систем с дискретными знаками (восприятие визуального текста как его обязательная
вербализация). Бинарные структуры (иконизм/индексальность, континуальность/дискретность) — это матрицы мышления.
Знак (лат. signum) — это материальный, а значит, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в качестве заместителя другого
предмета. В формулировке схоластов aliquid stat pro aliquio — нечто,
замещающее что-то другое вне себя самого.
Иконические знаки воспроизводят в знаконосителе свойства своих
референтов. Имитирующий способ репрезентации позволяет узнать,
какие объекты эти знаки замещают. Иконические знаки являются картинками своих референтов. В зависимости от степени подобия знаконосителя и референта среди иконических знаков выделяются образы
(знаки с высокой степенью семиотической достоверности) и схемы
(семиотически условные знаки).
Имена — знаки, замещающие предметные объекты (логико-семантическая классификация). Индивидные имена соотносятся с единичными предметами, общие имена выступают знаками классов предметов.
Индексы — так называемые жестовые, или дейктические, знаки,
замещающие свой референт простым указанием, без его отображения.
Истинность семиотическая понимается как некий «правильный»
способ репрезентации объектов мира в форме текстов. Истинность как
соответствие языков/текстов и реальности устанавливается относительно:
• референта и контекста его существования (корреспондентная
истинность);
• правил употребления знака в некоторой системе (когерентная
истинность);
178
• точки зрения субъекта, производящего высказывание (субъектная истинность).
Соответственно, речь идет только об относительной истинности,
связанной с вероятностной природой языков культуры.
Классификации знаков основаны на следующих параметрах:
• материи знаконосителя (знаки визуальные, аудиальные, тактильные и др.);
• происхождении знаконосителя (знаки естественные и искусственные);
• онтологической природе референта (имена и предикаты);
• способе отображения референта (индексы, иконы и символы).
Код — правила языковой системы, согласно которым происходит
«упаковка» информации в текст и восприятие сообщений. Код каждого
языка включает классы знаков, систему их значений, правила комбинаторики, алгоритмы создания текстов. Таким образом код имеет непосредственное отношение к конвенции (соглашению об использовании
знаков) и синтактике, обеспечивая функционирование семиозиса.
Метаморфозы (семиотические) знаконосителей — возможность
употреблять знаконоситель в различных функциях (индекса, иконы,
символа). Результатом таких метаморфоз становится возникновение
омонимичных знаков.
Моделирующие системы — языки, воплощающие представления
о реальности в форме картин мира. К первичным моделирующим
системам относятся вербальные языки, на базе которых происходит
рождение многообразных вторичных систем — мифологий, религий,
языков искусств, формальных языков.
Прагматика — аспект семиозиса, выявляющий отношения между
знаками и их создателями/интерпретаторами. Прагматика включает
анализ интенции говорящего (целей текстопорождения), условий возникновения и интерпретации сообщений, степени их коммуникативной успешности.
Предикаты — в логико-семантической классификации это знаки,
соотносимые со свойствами предметов (внутренние предикаты) и отношениями между предметами (внешние предикаты).
Семантика — аспект семиозиса, предметом которого становится
отношение знака к отображаемому объекту: репрезентация по типу
индекса, иконы, символа.
Семиозис — процесс, требующий обязательной интерпретации
знака через другой/другие знаки. В этом пространстве неограниченных интерпретаций невозможно помыслить ни первый референт,
ни последний знак. Семиозис функционирует в рамках трех измерений: семантики, синтактики, прагматики.
Семиосфера — семиотическое пространство культуры, которое
функционирует как семиозис. Позиции знаков в семиосфере занимают
языки и тексты.
Символические знаки — это знаки, отображающие абстрактные
референты (идеи, универсалии). Символы формальных языков функ179
ционируют по «соглашению и установлению и ничем не похожи на то,
что замещают (v как знак скорости). Напротив, символы культуры
включают в структуру носителя обязательный иконический компонент.
Это позволяет представить интеллектуальную абстракцию в схематичном образе, который в каких-то свойствах похож на замещаемую идею
(сфера помогает представить бесконечность, поскольку ни на внешней, ни на внутренней поверхности шара не обнаружить начальной
и конечной точек).
Синтактика — аспект семиозиса, говорящий о комбинаторике знаков, правилах и алгоритмах создания текстов (системах кодирования
информации).
Репрезентация — процесс отображения референта в знаке.
Репрезентативный (когнитивный) потенциал знаков — позволяет говорить о том, какой референт (абстрактный, предметный, свойства и др.) и каким способом репрезентации (по типу индекса, иконы,
символа) знаки замещает.
Репрезентативный потенциал языков проявляется в том, что
именно из объектов мира и как мы можем отобразить с помощью знаковых систем, какой степенью семиотической достоверности или семиотической условности обладают создаваемые языками картины мира.
Структура знака (трехчленная) включает материальный носитель
информации, референт как предмет замещения и смысл (интерпретанту) как способ репрезентации референта по индексальному/иконическому/символическому типам.
Универсалии семиотические — параметры, общие для всех языков культуры. В частности, к универсалиям относятся знаковая природа
языка, функционирование любого языка в аспектах семантики, синтактики и прагматики, распределение знаков по категориям, моделирование реальности (создание языковых картин мира) и др.
Энтропия знака — степень его семантической неопределенности.
Язык — знаковая система, функционирование которой обеспечивается всеми аспектами семиозиса (семантики, синтактики и прагматики) и позволяет создавать тексты. Система знаков без правил комбинаторики (синтактики) не является языком (система знаков дорожного
движения).
Список литературы
Источники на русском языке1
1. Ажеж, К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. Б. П. Нарумова. М. : Едиториал УРСС, 2003. 304 с.
2. Барт, Р. Фотографическое сообщение // Барт Р. Система моды :
статьи по семиотике культуры / пер. с фр. С. Зенкина. М. : Изд-во им.
Сабашниковых, 2004. С. 378—393.
3. Бейкер, М. Атомы языка: грамматика в темном поле сознания /
пер. с англ. под ред. О. Митрофановой. М. : Изд-во ЛКИ, 2008. 272 с.
4. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / пер. с фр. Ю. Н. Караулова
и др. М. : Прогресс, 1974. 448 с.
5. Бодрийяр, Ж. Симуляция и симулякры / пер. с фр. А. С. Качалова.
URL: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml (дата
обращения: 20.04.2013).
6. Бразговская, Е. Языки и коды. Введение в семиотику культуры.
Пермь : изд-во ПГПУ, 2008. 208 с.
7. Бразговская, Е. В лабиринтах семиотики. Очерки и этюды
по общей семиотике и семиотике искусства. Москва-Екатеринбург :
Кабинетный ученый, 2008. 224 с.
8. Бурлак, С. Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы. М. : Астрель: Corpus, 2011. 464 c.
9. Вайнштейн, О. Семиотика Шанель № 5 // Ароматы и запахи
в культуре. Кн. 2 / сост. О. Б. Вайнштейн. М. : НЛО, 2003. С. 352—366.
URL: http://ec-dejavu.ru/c/Chanel_5.html.
10. Вдовина, Г. В. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике
XVII века. М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы,
2009. 648 с.
11. Гаспаров, Б. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М. : Новое литературное обозрение, 1996. 348 с.
12. Григорьева, Е. Эмблема: очерки по теории и прагматике регулярных механизмов культуры. М. : Водолей Publishers, 2005. 232 с.
13. Грегори, P. Л. Разумный глаз / пер. с англ. А. И. Когана. М. :
УРСС, 2003. 240 с.
1 В список литературы включены источники, имеющие непосредственное отношение к теории семиотики и практике семиотического анализа. Цитируемые в учебнике
философские и искусствоведческие работы, а также художественные тексты приводится
только в постраничных ссылках.
181
14. Зенкин, С. Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий
Лотман // Зенкин, С. Работы о теории. М. : Новое Литературное обозрение, 2012. 560 с. С. 262—275.
15. Зинченко, B. Π. Сознание и творческий акт. M. : Языки славянских культур, 2010. 592 с.
16.Зеркало: Семиотика зеркальности / под ред. З. Г. Минц. Ученые
записки Тартуского гос. ун-та. Тарту : Тартуский гос. ун-т. 1988. Вып.
831. Т. 22. 170 с.
17. Иванов, Вяч. Вс. Границы семиотики: вопросы к предварительному
обсуждению // Современная семиотика и гуманитарные науки. М. :
Языки славянских культур, 2010. С. 31—51.
18.Кравченко, А. В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. Иркутск : Иркутская областная типография № 1, 2001. 261 с.
19.Лангер, С. Философия в новом ключе. Исследование символики
разума, ритуала и искусства / пер. с англ. С. П. Евтушенко. М. : Республика, 2000. 287 с.
20. Лотман, Ю. М. К проблеме пространственной семиотики /
Ю. М. Лотман. Об искусстве. СПб. : Искусство, 1998. С. 442—445.
21.Лотман, Ю. С. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПб, 2010. 704 с.
22. Лотман, Ю. М. О семиосфере // Лотман, Ю. М. Чему учатся
люди : статьи и заметки. М. : Центр книги Рудомино, 2010. С. 82—109.
23. Махов, А. Е. Эмблематика: макрокосм. М. : Intrada, 2014. 600 с.
24. Менделсун, П. Что мы видим, когда читаем: феноменологическое
исследование с иллюстрациями / пер. с англ. Л. Трониной. М. : АСТ:
CORPUS, 2016. 448 с.
25. Налимов, В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков. М. : Наука, 1979. 304 с.
26. Нестеров, А. Колесо фортуны. Репрезентация человека и мира
в английской культуре начала Нового века. М. : Прогресс-Традиция,
2015. 616 с.
27. Нет, В. Чарлз Сандерс Пирс // Критика и семиотика. 2001.
Вып. 3/4. С. 5—32.
28. Пинкер, С. Язык как инстинкт / пер. с англ. Е. В. Кайдаловой. М. :
Едиториал УРСС, 2004. 456 с.
29. Пиперский, А. Конструирование языков: от эсперанто до дотракийского. М. : Альпина нон-фикшн (Библиотека ПостНауки), 2017. 224 с.
30. Семиотика: антология / сост. Ю. С. Степанов. М. : Академический проект, 2001. 702 c.
31.Тодоров, Ц. Теории символа / пер. с фр. Б. Нарумова. М. : Дом
интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998.
408 с.
32. Усманова, А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск :
Пропилеи, 2000. 200 с.
33. Фещенко, В. В. Сотворение знака: очерки о лингвоэстетике
и семиотике искусства / В. В. Фещенко, О. В. Коваль. М. : Языки русской культуры, 2014. 640 с.
182
34. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. :
A-cad, 1994. 406 c.
35. Хофштадтер, Д. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда.
Самара : Бахрах-М, 2001. 752 с.
36. Хофштадтер, Д. Глаз разума, Д. Хофштадтер, Д. Деннет. Самара :
Бахрах-М, 2003. 432 с.
37. Черниговская, Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык
и сознание. M. : Языки славянской культуры, 2013. 448 с.
38. Чертов, Л. В. Знаковая призма : статьи по общей и пространственной семиотике. М. : Языки славянской культуры, 2014. 320 с.
39. Щедровицкий, Г. П. Знак и деятельность. В 3 кн. Кн. I. Структура
знака: смыслы, значения, знания: 14 лекций / сост. Г. А. Давыдова. М. :
Вост. лит , 2005. 463 с.
40. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб. :
Алетейя, 2003. 256 с.
41. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию.
СПб. : Симпозиум, 2006. 544c.
42. Эко, У. Поиски совершенного языка в европейской культуре /
пер. с итал. А. Миролюбовой. СПб. : ALEXANDRIA, 2007. 409 с.
43. Эко, У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста / пер.
С. Серебряного. СПб. : Symposium, 2007. 502 с.
44. Эко, У. Растительная память, или Почему книга помнит все /
пер. с итал. И. и Н. Макаровых. М. : Слово/Slovo, 2018. 296 с.
45. Элкинс, Дж. Исследуя визуальный мир / пер. с англ. С. Любимова и др. Вильнюс : ЕГУ, 2010. 534 с.
46. Эпштейн, М. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. М. :
Новое литературное обозрение, 2004. 864 с.
47. Якобсон, Р. Взгляд на развитие семиотики // Язык и бессознательное / пер. с англ., фр., К. Голубович. М. : Гнозис, 1996. С. 193—230.
Источники на английском языке
1. Agawu, K. Playing with signs. A Semiotic interpretation of classic
music. Princeton : Princeton University Press, 1991. 160 p.
2. Barthes, R. Elements of Semiology trans. Annette Lavers and Colin
Smith. N. Y. : Hill and Wang, 1967. 111 р.
3. Benveniste, É. The Semiology of Language // Semiotics:
An Introductory Reader / ed. Robert E. Innis. London : Hutchinson, 1986.
Р. 228—246.
4. Bernstein, L. The Unanswered Question: Six Talks at Harvard (The
Charles Eliot Norton Lectures). Harvard University Press, 1981. 440 p.
Видеозаписи лекций. URL: http://www.openculture.com/2012/03/
leonard_bernsteins_masterful_lectures_on_music.html (дата обращения 18.03.2016).
5. Deely, J. Introducing Semiotic: Its Histor y and Doctrine.
Bloomington : Indiana University Press, 1982. 246 р.
183
6. Eco, U. Semiotic landscape: proceedings of the first congress of the
International Association for Semiotic Studies, Milan, June 1974 / ed.
by Klinkenberg ; S. Chatman (ed.). The Hague : Mouton, 1974. 1238 p.
7. Eco, U. Semiotics: A Discipline or an Interdisciplinary Method? //
Sight, Sound, and Sense / ed. by Thomas A. Sebeok. Bloomington : Indiana
University Press, 1978. P. 73—83.
8. Eco, U. A Theory of Semiotics (Advances in Semiotics). Bloomington :
Indiana University Press, 1979. 354 p.
9. Eco, U. Mirrors // Eco, U. Semiotics and the Philosophy of Language.
Bloomington : Indiana University Press, 1983. P. 207—208.
10.Eco, U. Kant and the platypus: Essays on language and cognition. N. Y. :
Harcourt Brace, 2000. 464 p.
11.Eco, U. From the Tree to the Labyrinth. Historycal Studies on the
Sign and Interpretation / Trans. by Anthony Oldcorn. Cambridge : Harvard
University Press, 2014. 634 p.
12. Elkins, J. (). Visual Studies: A Skeptical Introduction. N. Y. : Routledge,
2003. 229 р.
13. Fauconnier, G. The Way We Think: Conceptual Blending and the
Mind’s Hidden Complexities / G. Fauconnier, M. Turner. N. Y. : Basic Books,
2002. 440 р.
14. Hatten, R. S. Toward a characterization of gesture in music:
An introduction to the issues. URL: http://semioticon.com/sio/courses/
musical-gesture/introduction/ (Дата обращения: 18.06.2017).
15. Hatten, R. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart,
Beethoven, Schubert. Indiana University Press, 2004. 360 p.
16.Jackendoff, R. Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental
Structure. Cambridge : The MIT Press, 2007. 403 p.
17. Jaworski, A. Semiotic Landscapes: Language, Image, Space / C. Thurlow
(ed.). London — N. Y. : Bloomsbury Academic, 2010. 320 р.
18.Krieger, M. Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign. Maryland : The
Johns Hopkins University Press, 1992. 320 p.
19.Lidov, D. Is Language a Music? Writings on Musical Form and
Signification. Bloomington : Indiana University Press, 2005. 256 р.
20. Maeder, C. Music-Analysis-Experience. New perspectives in Musical
Semiotics / M. Reybrouck (ed.). Leuven : Leuven University Press, 2015.
351 p.
21.Mitchell, W. Showing seeing: a critique of visual culture // Journal
of visual culture, 2002. London : Thousand Oaks. 2002. Vol. 1(2). P. 165—
181.
22. Paivio, A. Mental Represenations: A Dual Coding Approach. Oxford :
Oxford University Press, 1986. 322 р.
23. Pearson, Ch. The Theory of Operational Semiotics. N. Y. : Peter Lang,
1998. 128 p.
24. Pearson, Ch. The Semiotic Paradigm View of Theoretical Semiotics //
International Handbook of Semiotics / P. P. Trifonas (ed.). Toronto : Ontario
Institute for Studies in Education University of Toronto, 2015. Pр. 135—181.
184
25. Peirce, Ch. S. The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings
(2 vols). Bloomington, IN : Indiana University Press, 1998. V. 2.
26. Pierce, A. Deepening Musical Performance through Movement: The
Theory and Practice of Embodied Interpretation. Indiana University Press,
2007. 248 p.
27. Sebeok, T. The Forms of Meaning: Modeling Systems Theory and Semiotic
Analysis / T. Sebeok, M. Danesi. Berlin: Walter de Gruyter, 2000. 249 p.
28. Sebeok, T. A. (). Semiotics as Bridge Between Humanities and
Sciences // Semiotics and Information Sciences / P. Perron, M. Danesi (eds.).
Ottawa : Legas Press, 2000. Pp. 76—100.
29. Sebeok, T. A. Signs: an introduction to semiotics / 2nd ed. Toronto:
University of Toronto Press Incorporated, 2001. 201 p.
30. Sebeok, T. Global Semiotics. Bloomington : Indiana University Press,
2001. 264 р.
31.Silverman, K. The subject of semiotics. N. Y. — Oxford : Oxford
University Press, 1974. 373p.
32. Sonesson, G. Current Issues in Pictorial Semiotics. Semiotics Institute
Online. URL: http://iass-ais.org/goran-sonesson-current-issues-in-pictorialsemiotics-at-the-semiotics-institute-online/ (Дата обращения: 20.06.2016).
33. Tarasti, E. A theory of musical semiotics. Bloomington, Ind. : Indiana
University Press, 1994. 352 р.
34. Tarasti, E. Musical Signification. Essays in the Semiotic Theory and
Analysis of Music / ed. Berlin — N. Y. : Mouton de Gruyter, 1995. 598 p.
35. Tarasti, Е. Signs of Music: A Guide to Musical Semiotics. N. Y. : Mouton
de Gruyter, 2002. 224 p.
36. Tarasti, E. (2012). Semiotics of Classical Music: How Mozart, Brahms
and Wagner Talk to Us. Berlin-Boston: Gruyter, 2012. 480 p.
37. Tarasti Е. Sein und Schein: Explorations in Existential Semiotics. Berlin :
Walter de Gruyter GmbH, 2015. 478 p.
38. Trifonas, P. International Handbook of Semiotics. Toronto : Ontario
Institute for Studies in Education University of Toronto, 2015. 1308 p.
39. Turner, M. Conceptual Integration and Formal Expression / M. Turner,
G. Fauconnier // Journal of Metaphor and Symbolic Activity. 1995. Vol. 10.
№ 3. Р. 183—204.
40. Turner, М. Compression and representation // Language and
Literature. 2006. Vol. 15(1). Р. 17—27.
41.Winfried, N. Handbook of Semiotics. Bloomington : Indiana University
Press , 1995. 560 p.
42. Wąsik, Z. Lectures on the Epistemology of Semiotics. Wrocław :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2014. 236 p.
43. Zbikowski, L. The Cognitive tango // The Atrful Mind. Cognitive
Science and the Riddle of Human Creativiti / M. Turner (ed.). Oxford
University Press, 2006. P. 115—133.
Словари и энциклопедии
1. Баранов, А. Н. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике / под ред. Д. О. Добровольского. М. : Институт русского языка им.
В. В. Виноградова РАН, 2003. 642 с.
2. Кубрякова, Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов /
под ред. В. З. Демьянкова. М. : Филологический факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова, 1997. 245 с.
3. Махлина, С. Семиотика культуры и искусства : словарь-справочник в двух книгах. СПб. : Композитор-СПб, 2003.
4. Руднев, В. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. М. : Аграф, 2009. 544 с.
5. Asher, R. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 1—10.
Oxford, N. Y. : Pergamon Press, 1994.
6. Blackburn, S. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford — N. Y. :
Oxford University Press, 1994. URL: http://www.oxfordreference.com/
view/10.1093/acref/9780198735304.001.0001/acref-9780198735304.
7. Cassin, B. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon /
trans. Steven Rendall. Princeton-Oxford : Princeton University Press,
2014. 1339 p.
8. Greimas, A. J. Semiotics and Language: An Analitical Dictionary /
A. J. Greimas, J. Courtes. Bloomington : Indiana University Press,
1982. 409 p.
9. Rutherford-Johnson, T. The Concise Oxford Dictionary of Music /
T. Rutherford-Johnson, M. Kennedy, J. B. Kennedy (ed.). URL: http://www.
encyclopedia.com (Дата обращения: 18.03.2016).
10. Sebeok, T. Encyclopedic Dictionary of Semiotics / M. Danesi (ed.).
Berlin : Mouton De Gruyter, 2010. 1662 р.
Новые издания по дисциплине
1. Аликина, Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном
переводе : учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. В. Аликина. — М. : Издательство Юрайт, 2019
2. Реформатский, А. А. Лингвистика и поэтика / А. А. Реформатский. — М. : Издательство Юрайт, 2019
Наши книги можно приобрести:
Учебным заведениям и библиотекам:
в отделе по работе с вузами
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: [email protected]
Частным лицам:
список магазинов смотрите на сайте urait.ru
в разделе «Частным лицам»
Магазинам и корпоративным клиентам:
в отделе продаж
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: [email protected]
Отзывы об издании присылайте в редакцию
e-mail: [email protected]
Новые издания и дополнительные материалы доступны
в электронной библиотеке biblio-online.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»
Учебное издание
Бразговская Елена Евгеньевна
Семиотика. Языки и коды культуры
Учебник и практикум для академического бакалавриата
Формат 70×100 1/16 .
Гарнитура «Charter». Печать цифровая.
Усл. печ. л. 14,97.
ООО «Издательство Юрайт»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4a.
Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: [email protected], www.urait.ru