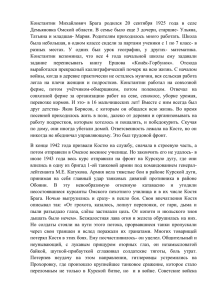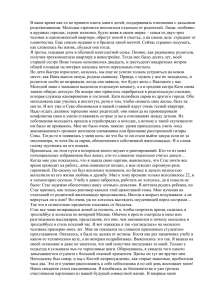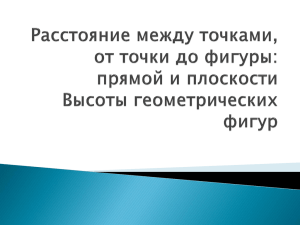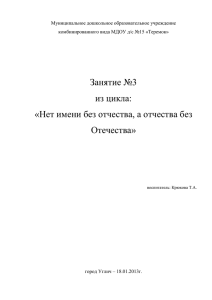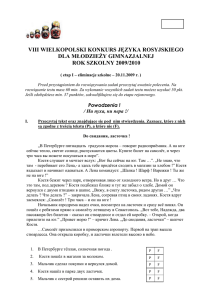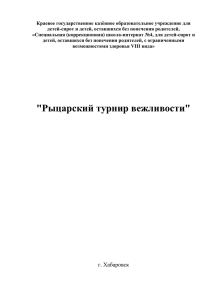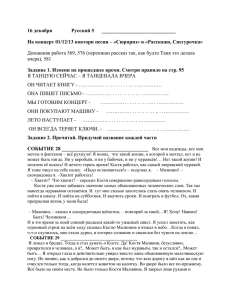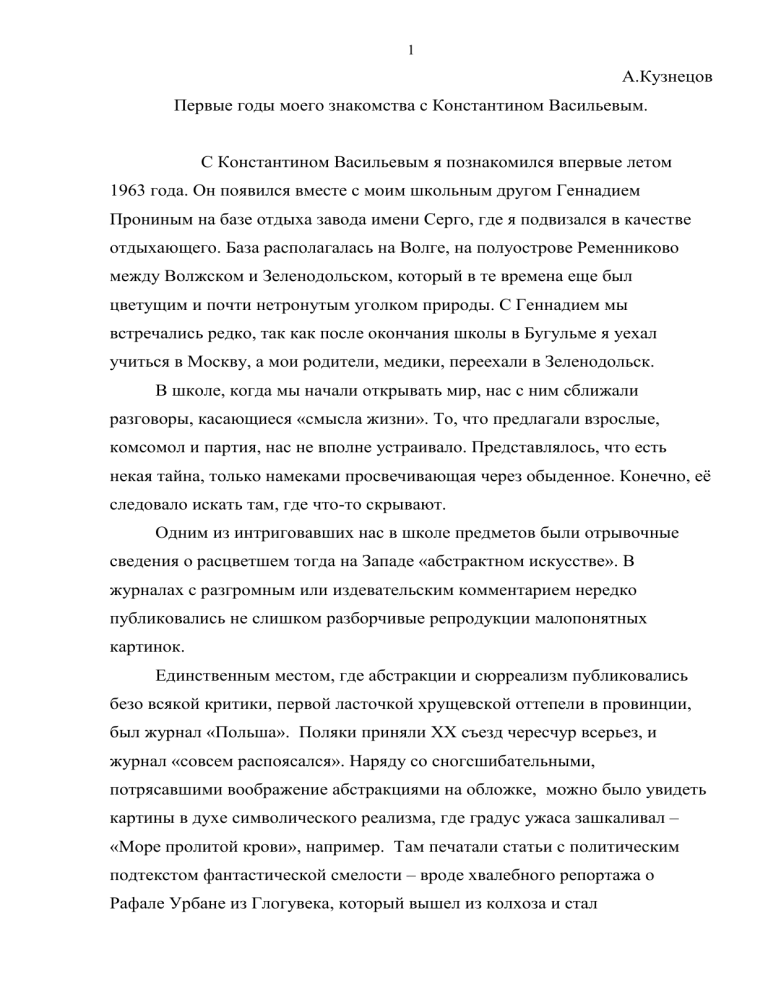
1 А.Кузнецов Первые годы моего знакомства с Константином Васильевым. С Константином Васильевым я познакомился впервые летом 1963 года. Он появился вместе с моим школьным другом Геннадием Прониным на базе отдыха завода имени Серго, где я подвизался в качестве отдыхающего. База располагалась на Волге, на полуострове Ременниково между Волжском и Зеленодольском, который в те времена еще был цветущим и почти нетронутым уголком природы. С Геннадием мы встречались редко, так как после окончания школы в Бугульме я уехал учиться в Москву, а мои родители, медики, переехали в Зеленодольск. В школе, когда мы начали открывать мир, нас с ним сближали разговоры, касающиеся «смысла жизни». То, что предлагали взрослые, комсомол и партия, нас не вполне устраивало. Представлялось, что есть некая тайна, только намеками просвечивающая через обыденное. Конечно, её следовало искать там, где что-то скрывают. Одним из интриговавших нас в школе предметов были отрывочные сведения о расцветшем тогда на Западе «абстрактном искусстве». В журналах с разгромным или издевательским комментарием нередко публиковались не слишком разборчивые репродукции малопонятных картинок. Единственным местом, где абстракции и сюрреализм публиковались безо всякой критики, первой ласточкой хрущевской оттепели в провинции, был журнал «Польша». Поляки приняли ХХ съезд чересчур всерьез, и журнал «совсем распоясался». Наряду со сногсшибательными, потрясавшими воображение абстракциями на обложке, можно было увидеть картины в духе символического реализма, где градус ужаса зашкаливал – «Море пролитой крови», например. Там печатали статьи с политическим подтекстом фантастической смелости – вроде хвалебного репортажа о Рафале Урбане из Глогувека, который вышел из колхоза и стал 2 преуспевающим единоличником. «Польшу» сметали с газетных прилавков и зачитывали до дыр. Сейчас не просто понять, чем эти «ростки нового» могли так волновать нас, сызмальства сидевших на строгой диете «социалистического реализма». В школе нас, «закадычных друзей», было четверо – это мы с Геной, Юра Михалкин и Вадим Файзуллин. Все мы начали пробовать себя в абстрактной живописи, снабжая возникающие произведения загадочными и глубокомысленными названиями. С одной стороны это превосходно служило целям эпатажа окружающих, особенно изумляло девиц. С другой стороны, мы начали находить вкус в этой, загадочной для самих творцов живописи, и упорное и пристальное вглядывание на уроках в какую-нибудь нарисованную точку, по замыслу автора картины заключавшую в себе всю бесконечность, вдруг на какие-то моменты уносило в иные миры, внезапно открывающаяся реальность которых говорила сама за себя. (Потом я понял, что вдохновлявшие нас творцы «абстрактного экспрессионизма» подразумевали совсем другие рычаги воздействия на зрителя). Первый институтский 1959 год у нас был очень напряженным, и «духовные искания» поневоле пришлось оставить. Тем не менее, мы с Геной иногда переписывались. Многое пережив, Геннадий совсем иначе стал смотреть на вещи, и был постоянно отягощен вопросом о смысле происходящего. Но на втором курсе он сообщил, что в его жизни образовалась некая отдушина. Он познакомился с удивительным человеком, нашим сверстником, художником, которым оказался его сосед по студенческой квартире. Гена испытывал к нему большое уважение, и даже пиетет. По его словам, тот глубоко проник в суть вещей, и знает ответы на многие, мучавшие Геннадия вопросы. Но нельзя сказать, что все вопросы после знакомства совсем исчезли, поскольку просто так передать другому эту суть, оказалось, тоже нельзя. Для этого следовало серьезно «врубиться» в творчество художника. Гена пообещал меня с ним как-нибудь тоже 3 познакомить, но предупреждал, что художник с кем попало не общается. С людьми, которые ему чем-то не нравятся или его не понимают, он резок и высокомерен, и может с пол-оборота послать куда-нибудь подальше. Так что в случае удачи для меня это знакомство будет большой честью. Но, поскольку, как он говорил, художник одобрил мои школьные абстракции (которые, как и многое другое, педантичный Гена бережно хранил), мне она, возможно, будет оказана. Дожидаться знакомства по житейским обстоятельствам пришлось довольно долго. К моменту нашей встречи я уже проучился четыре года на Физтехе и считал себя грамотным в ряде вопросов. Итак, мы встретились, и Константин оказался стройным белокурым молодым человеком. Волосы его тогда слегка кучерявились, рост был около 178 см. Как только я ощутил его сильное и в то же время осмысленное рукопожатие, и мы заглянули друг другу в глаза, я понял, что мы друг другу интересны. В его руке действительно ощущалась напряженная, тонкая и наполненная каким-то внутренним вдохновением, или энергией, жизнь её обладателя. Такие выразительные руки я встречал редко. Еще, может быть, у Василия Павлова, нашего друга, тогда замечательного пианиста, о котором дальше скажу несколько слов. Для начала обсудили кино – тогда еще было хорошим тоном просмотреть все немногочисленные интересные фильмы, шедшие в прокате. Константин одобрительно отозвался про «Семь великолепов» - так он по склонности к каламбурам именовал американский фильм «Великолепная семерка», который незадолго до этого повсеместно произвел большой фурор. (Каламбуристом Константин в дальнейшем оказался незаурядным, и умел, где надо, ввернуть острое словцо, хотя далеко не все его шутки и каламбуры были печатного свойства). Но все же в те годы у Константина преобладало серьезное настроение. Стало быстро заметно, что он избегает разговоров на расхожие темы, и предпочитает говорить лишь о тех предметах, которые его остро интересуют, когда у него есть нечто существенное, о чем стоит высказаться. 4 Поговорили об абстракционизме, тогда глубоко волновавшем Константина. Его интересовало всё об «абстрактных экспрессионистах» – Дж. Поллоке, Мазервелле, Миро, информацию о которых он по крупицам собирал из журналов. О Сальвадоре Дали, оригинальные выходки и подробности жизни которого сами по себе являли как бы предмет искусства. Обо всем этом у меня были некоторые, хотя и не слишком пространные сведения. С не понявшей его Москвой в свое время Костя расстался без особых сожалений, но все же столица, где я продолжал учиться, давала больше возможностей быть в курсе событий. Он был рад, что я мог стать для него хоть какой то дополнительной ниточкой, связующей его с миром настоящего искусства, которым тогда был для него авангардизм. Авангардизм представал для него как бы маяком, прибежищем, «башней из слоновой кости», в которой он мог надежно уединиться от неуемного прибоя окружившей художника воинствующей рутины и провинциализма. Боготворимые левыми 20-е годы с Фальком, Малевичем, ЛЕФом, ВХУТЕИНом, ВХУТЕМАСом и перманентной революцией ушли в безвозвратное прошлое. Вожделенное для бунтарей всего мира знамя художественного авангарда некогда революционные Советы решили за ненадобностью выбросить на свалку истории. Мое впечатление от первых недель знакомства с Константином несколько отличалось от Гениного. Я увидел в нем прежде всего не возвышающегося над обывателями метра и командора от абстрактного искусства, каким он являлся Геннадию, но, скорее, человека очень живого и жадно стремящегося вынырнуть из царящей повсюду рутины, ускользнуть из состояния всеобщего несовершенства. И позже тоже, но в те годы особенно, Константин пребывал в состоянии напряженного поиска своего пути. Пути из бессмысленных потемок бытия на ослепительный простор художественной истины. Конечно, он не говорил по этому поводу высокопарных слов. Это, скорее, в нем чувствовалось и косвенно подразумевалось. 5 Можно сказать, что такие устремления вообще свойственны художникам, но все же всем по разному. Для многих поиски заранее определены некоторым руслом, в котором уже работают их современники. Пишут так, как это делают другие, кое в чем стараясь их превзойти. Хотя Костя с уважением относился к некоторым своим учителям из художественного училища, например, к Куделькину, которого за глаза с почтительным юмором называл «наставник Моммо» (по имени одного из героев японского фильма «Гений дзюдо»), но все же это касалось отдельных сторон мастерства. В общем Константина творчество собратьев по цеху ничуть не вдохновляло и по большому счету он не видел вокруг никого, у кого бы стоило чему-то учиться, кого следовало принимать особенно всерьез. Т.е. даже при прекрасном знании художественного ремесла они, как он считал, и близко не подходили к тем вопросам, перед которыми стоит искусство. Костя не распространялся об этом, но и без слов чувствовалось, что свой талант он воспринимает очень серьезно. Как некую силу, доверенную ему в залог того, что он отыщет то начало, от которой её получил. Во всем его поведении чувствовалась осознание и ответственность перед этой силой. Которая была чем-то вроде джинна из бутылки, готового служить, и требующего достойной работы (например, разрушить город или построить дворец), но которую хозяин все никак не может предложить ему. (Бывало, что на Руси колдун, повелитель духов, когда не мог предложить другой работы, заставлял их рубить елки). В одном апокрифическом разговоре Шекспир задал некоему честолюбивому юноше вопрос, чего же он хочет от жизни. Тот ответил – стать Шекспиром. Шекспир возразил, что замахиваясь им быть, вряд ли он сумеет им стать: – «В молодости я хотел стать Богом, а стал всего лишь Шекспиром». Можно гарантировать, что у Кости в молодости недостатка в художественных амбициях не было. Его «программные требования» в то время были грандиозны, и было неясно, относить ли их на счет юношеского 6 максимализма, или действительно, принимать их за некое «провозвестие Заратустры». Художники и люди искусства в молодости часто склонны к утопиям и духовному экстремизму. Но большинству из нас свойственно сообразовываться с обществом себе подобных, и тогда волны житейского моря обкатывают характеры, как извечный морской прибой из острых камней делает круглую гальку. Однако Константин полностью избежал притирок к художественному сообществу, поскольку почти всю жизнь – кроме, разве что, последнего периода – держался от него на известном расстоянии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Может быть в этом – одна из причин того, что он такой, в общем-то дорогой ценой, сумел до конца сохранить некие «режущие грани» своего таланта первозданно острыми, такими, которые способны, как стеклорез на стекле, оставить след в душе сопричастного ему зрителя. Кажется, что во всем, что касалось живописи, Константин придерживался невысказанного принципа– «никогда не делать так, как делают другие». Его устраивала только роль первопроходца, но никак не вторые роли. Он мог существовать в искусстве, только идя против течения. И менял направление, если вдруг оказывалось, что советская живопись тем временем подправила курс и он теперь уже плывет по течению. Например, в 18 – 19 лет он написал в новом для той поры стиле тушью серию портретов композиторов, и она действительно оказалась превосходной. Открыв и освоив для себя этот стиль, в качестве пробы пера он написал портреты Ленина, Пушкина, Хрущева и много других. Но вскоре после этого на заднике вновь выстроенного московского Дворца Съездов появился ставший знаменитым портрет Ленина, выполненный Мыльниковым в сходной, умеренно революционной манере. Костя, хотя и не без оснований считал, что его работы лучше («посмотри, разве это ухо» – говорил он мне про мыльниковский портрет), от этого направления отошел, и больше к нему почти не возвращался. 7 Если и были художники, которых он любил и с которыми считался, то это была всегда «любовь к дальнему». Константин чувствовал в себе силу быть в искусстве самостоятельным и независимым от кого бы то ни было. И как бы проверял предугаданный им принцип, что лишь не обращая по возможности внимания на других можно остаться верным себе и тут найти некий ключ, объясняющий назначение искусства, а может быть, и тайну мира. В нем, при всей его покладистости и нетребовательности в быту, когда дело касалось его искусства чувствовалась какая-то железная бескомпромиссность. Она не позволяла Косте идти на поводу у кого-то, писать то, что признается хорошим общественным мнением, рисовать то, чем можно угодить партийному начальству – а это был для него, пожалуй, единственный способ просочиться на какую-нибудь выставку. (Тем более, все пути ему были заказаны впоследствии, когда у него сложилась репутация диссидента с право-монархическим уклоном. Но это случилось еще не скоро). Немало он выслушал предложений и намеков от верхов разной вышины, и от доброжелателей – написать портрет передовика производства, индустриальный пейзаж, что-нибудь исторически прогрессивное – но если сюжет его не вдохновлял, Константин такие предложения и не рассматривал. Рисовать, писать что-то он мог только по импульсу изнутри, уговоры или нажим действовали плохо. Вспоминаю, как году в 64-м отец одного из наших знакомых, тогда профсоюзный босс республиканского масштаба с крутым характером, привычно умевший давить на людей, заявил ему в решительной манере: – Давай-ка, Костя, нарисуй мой портрет! Рисование портрета не входило в Костины замыслы, и он начал отнекиваться; тот, в свою очередь, продолжал наседать. Наконец Костя твердо возразил: – Вы что, М.Н., думаете, портреты писать – это как гвозди забивать? Тот уже не на шутку разгневался, и загремел во всю мощь: 8 – А ты что думаешь, с людьми работать это гвозди забивать? Эвакуацию проводить – это тебе гвозди забивать?! Деревню раскулачивать и семьи на мороз гнать – это тебе гвозди забивать что ли?!! Но и такая демонстрация силы на уровне большой политики не помогла. Костю сюжет в тот момент не вдохновлял, хотя карандашный портрет он мог бы при желании нарисовать за одну минуту. (Позже я понял, что забивать гвозди– это тоже искусство, требующее, равно как и музыка, свободной руки, и предоставляющее неограниченные возможности совершенствования). При всем том, иногда он, не почитая сие за охулку для своего таланта, брался за сюжеты, мало отвечавшие его творческим проектам. В поселке жило немало шпаны, которая его никогда не трогала и даже уважала. Иной раз они с ним заговаривали, но, как бы, с некоторой неуверенностью, видя в нем человека, не укладывающегося в привычную им схему людских взаимоотношений. Один из них как то попросил нарисовать ему эскиз для наколки. Тема, выдержанная в соответствующей традиции, была задана. Костя просьбу выполнил блестяще. Вскоре довольный реципиент живописного замысла уже показывал Косте на своих руках и спине его воплощение, в котором фигурировали русалки, церковные маковки и иные символы блатного могущества, женской неверности и загубленной жизни. Другой, прослышав про его художественный дар, пришел с интересной просьбой: – Костя, нарисуй мне диплом об окончании техникума (Васильевского автомеханического). Плачу тебе за работу пятьдесят рублей. Костя, слегка подумавши, ответил ему: – Пожалуй, лучше я пятьдесят рублей себе сам нарисую. Он действительно мог это сделать. Владение его карандашом и кистью меня всегда изумляло, и каждый раз как бы заново. Например, мы говорим с Костей о человеке, которого я не знаю. Он тут же, молниеносно, в секунды, 9 одним росчерком рисует на бумаге профильный или трехчетвертной портрет лица, о котором идет речь, и я уже могу считать себя с ним почти что знакомым. Рассказывая о чужой картине, сюжет которой поразил его своим идиотизмом, он тут же набрасывает мне её эскиз, чтобы можно было оценить произведение и посмеяться вместе. Недолго работая в Зеленодольском отделении худфонда, Костя в обед нередко наведывался ко мне. За это время он так напрактиковался рисовать Ленина, что по моей просьбе без труда нарисовал с закрытыми глазами недурной портрет вождя. У Геннадия хранился рубль, бывший в обращении до реформы 61 года, наскоро нарисованный Костей на спор масляной краской, причем довольно толстой кистью. Но нарисован он был так, что с расстояния вытянутой руки его нельзя было отличить от настоящего. Я вспоминал тогда историю про Дюрера, к которому пришел другой известный художник узнать, где он достает такие редкостные кисти, которыми столь тонко выписывает женские локоны и драгоценные меха. В ответ Дюрер предложил эту кисть ему в подарок, но она оказалось самой что ни на есть заурядной. Процесс сотворения живописи был для него чем-то глубоко интимным, где другие не должны не только участвовать, но и присутствовать. Надо сказать, что будучи Костиным другом с 63 по 76 – год его смерти, я, как и прочие навещавшие его друзья, не видел, как он рисует свои картины. При том, что Костя работал днем и ночью очень интенсивно, так что сну в его распорядке отводилось самое последнее место. Тем более, что на нем, кроме зарабатывания денег, лежали и другие обязанности наподобие заготовки дров и всех забот, связанных с взращиванием двух юных сестер-школьниц. Отец скончался в 61 году, мать работала секретаршей в техникуме и получала мало. Повзрослев, обе сестры стали пользоваться серьезным успехом у Васильевских кавалеров, да по правде сказать, и у нас, друзей художника. Валентина, едва успев достигнуть совершеннолетия, выскочила замуж. Внешне муж выдался по всем статьям, но брак оказался неудачным. Родив троих дочерей, супруги развелись и 10 заботы о племянницах во многом легли снова на Костины плечи. Младшая сестра Люся была особенно хороша собой, со статной фигурой, красивыми серыми глазами и пронизывающим взглядом лесной колдуньи. Который мать его Клавдия Парменовна именовала «прокурорским», и уверенно прочила ей эту должность в будущем. Когда я однажды спросил Люсю, которую из трех поселковых танцплощадок предпочитает Васильевская молодежь, она уверенно ответила: «Ту, где я». И в этом не было преувеличения. Бывало, что за право проводить ее с танцев домой устраивались целые побоища. Благо, что около клуба деревообрабатывающего комбината всегда лежали горы отходов производства – срезки с досок. Случались и поединки на топорах, и многое другое. Можно сказать, что Люся способствовала возрождению в поселке Васильево культа Прекрасной Дамы и славных традиций средневекового рыцарства. Но ей не довелось прожить долго. Девятнадцати лет от роду она умерла. Её масляный портрет (с собакой) Костя все же успел написать. Одновременно с живописанием, по ночам Константин слушал через наушники музыку, которая была еще одной его большой страстью, хотя он ей никогда не учился и нотной грамоты не знал. В ранней юности он полюбил русскую классику, особенно Чайковского и Рахманинова. Потом пришел интерес к Скрябину с его неистовой мистикой. Живя с Костей на одной квартире, Гена и Олег Шорников сначала поневоле, а потом уже войдя во вкус, тоже стали не на шутку разбираться в музыке. Одним из побочных плодов музыкальных увлечений этой троицы стал феномен казанской светомузыки. Костя, в качестве музыкального наставника, рассказал Олегу и Гене о дерзком проекте Скрябина – симфонической светомузыкальной поэме «Прометей», и зажег их мыслью, что они, «как индустриальщики», могли бы воплотить в жизнь мечту Скрябина на современном уровне. С этого все и началось, но для реализации мечты пришлось вовлечь еще многих, и в том числе превосходных музыкантов. Костя, подав идею, больше к светомузыке прямого отношения 11 не имел, если не считать его портрета Скрябина, ставшего эмблемой Казанского «Прометея». Светомузыка представлялась вначале увлекательным и многообещающим направлением в искусстве, и стоять во главе вновь народившегося течения казалось делом соблазнительным и почетным. Но в реальности взвалить ношу нового направления себе на плечи оказалось совсем непросто. И очередные лидеры светомузыки с энтузиазмом взявшись за дело, потом не выдерживали и изменяли ему, пока, наконец, знамя нового направления не оказалось в железной руке Булата Галеева. Который смог понять и во многом реализовать потенциальные возможности предвосхищенного Скрябиным искусства. Сперва лидером и теоретиком нового направления считался преподаватель консерватории Абрам Григорьевич Юсфин. Как сейчас бы сказали, это был яркий представитель легендарного «поколения шестидесятых», которое на несколько лет опережало нас по возрасту. При знакомстве он обворожил Костю свободой высказываний и широтой эрудиции по всем вопросам музыки, живописи и литературы, и Костя часто упоминал имя А.Г. в разговорах. У него, по его словам, имелись также многочисленные и тесные связи с корифеями и звездами из многих областей культуры и государственного управления. К примеру, задолго до того, как завязались отношения Высоцкого со знаменитой тогда Мариной Влади, на столе А.Г. уже стоял её портрет с надписью «Милому Абасиньке от любящей Марины». Он увлекательно рассказывал Косте про жизнь избранного общества, про роскошные приемы и пиры в армянском посольстве в Москве, где он был своим человеком. Где, по его словам, каждые два часа гостям по древнеримскому обычаю подносили рвотное, чтобы они могли очистить место для очередных яств, вин и коньяков. И про многое другое, не менее значительное и интересное. Можно сказать, что А.Г. почувствовав в Косте весьма восприимчивый материал, с большим энтузиазмом взялся за лепку и 12 формирование личности молодого художника, на манер многоискушенного лорда Генри, описанного в романе Уайльда «Портрет Дориана Грея». Когда я познакомился с Константином, А.Г. продолжал быть для него жизненным авторитетом. Он сформировал ему «круг чтения», куда входили провозвестники «потерянного поколения» – Хемингуэй, Олдингтон, Джойс, Дос-Пассос, Селин, просочившиеся в Страну Советов в середине 30-х, и с тех пор остававшиеся кумирами интеллигентной публики. Хотя, что парадоксально, вкус к левизне и социализму начал у неё катастрофически падать. Достать можно было далеко не все, но А.Г. настоятельно способствовал расширению Костиного кругозора примерно в такой манере: – Костя, Вы уже прочитали «Хулио Хуренито» Ильи Эренбурга? – Нет, А.Г., не удосужился. – О, какой Вы счастливец, Костя! Как я Вам завидую! – Почему же, А.Г.? – Потому что получить это громадное удовольствие Вам еще предстоит! Он заронил у него интерес к давно непечатному Мандельштаму и недавно тоже ставшему непечатным Пастернаку. Издания Пастернака 30-х годов Косте удалось в большом количестве, как теперь говорят, приватизировать с помощью своей прекрасной пассии – восемнадцатилетней Людочки Чугуновой, которая на тот момент работала в поселковой библиотеке и ради Кости была готова даже на злоупотребление служебным положением. Книги были практически новенькие, так как за тридцать лет после выхода прочитать их никто не удосужился. В провинции пока Пастернака не трогали, хотя прочесывание библиотек для уничтожения книг по очередным партийным проскрипциям тогда периодически практиковалось. Впоследствии от нашего общего друга о. И. Цветкова я узнал, что, как ни странно, большое аутодафе по приказу сверху постигло Васильевскую библиотеку лишь много позже Кости, кажется, уже при 13 Андропове. Тогда жгли те книги, которые не только своим содержанием, но и внешним видом могли отвлечь читателя от исполненного законной гордости осознания своей причастности к развитому социализму. Так, в пламени большой топки поселковой бани, завершили свой земной путь роскошные, на веленевой бумаге дореволюционные «венгеровские» издания Пушкина, Гоголя и Шекспира, которые наглядно контрастировали с непритязательностью массового советского книгоиздательства, и выглядели на его фоне несколько нахально. Так что в сравнении с указанными катаклизмами, ущерб, нанесенный Васильевской библиотеке Костиным увлечением Пастернаком, был пренебрежимо мал. Надо сказать, что ранние стихи Пастернака с их страстным томлением и трудновыразимыми на обыденном языке чувствами действительно оказались созвучны тогдашней Костиной живописи. Мандельштам Косте достался машинописный и всего лишь на пару дней, так что Клавдии Парменовне пришлось срочно перепечатывать для него копию. Удалось прочесть «Путешествие на край ночи» Луи Селина, издания 1935 года, где главный герой – Бардамю – был, так сказать, близким родственником «подпольного человека» Достоевского. Музыкальные пристрастия Кости тоже эволюционировали. Костя начал отрываться от привязанности к традиционной «классике» и полюбил музыку Шостаковича, чей экспрессионизм становился все более созвучен его абстрактно-нигилистическому крену в живописи. Абрам Григорьевич весьма кстати познакомил его с додекафонной программой Шенберга, , через него же ему удавалось доставать кое-какие записи. Константин досконально вызнал расписание всех передач западных радиостанций, интересуясь не столько политикой, сколько новостями из мира искусства. Глушили их тоже поменьше. Костя жадно вслушивался во всякое известие из очередного далёка о каждом новом художественном течении, примеряясь, не оно ли то самое? Примерно так, как библейский Израиль чаял прихода Мессии, 14 который окончательно и бесповоротно должен разрешить все вопросы и исполнить Его обетования на этой Земле. Костя был счастлив, когда заполночь ему удавалось записать на магнитофон кого-то из корифеев авангарда – Шенберга, Берга, Булеза. Особенно он ценил Антона фон Веберна, в его отрешенности и бескомпромиссном стремлении к слышимой одним только им гармонии, видя нечто родственное. Даже его смерть восхищала Костю. По легенде Веберн в 1945 году шел по оккупированному городу в комендантский час настолько погруженный в творчество, что не услышал окрика американского часового, и был им застрелен. В чем-то схожей с этой, каноническиобразцовой для служителя муз смертью, стала и смерть самого Кости. Однажды, блуждая по эфиру, Константин набрел среди программ «Немецкой волны» на произведение молодого немца Карлгейнца Штокгаузена , «Юноши в пещи огненной», по мотивам средневекового действа на сюжет пророка Даниила. Это уже была, собственно, не музыка, а невероятная смесь самых необычных звуков, – булькающих, верещащих, скрипящих, звенящих, которая, тем не менее, производила складное и гармоничное впечатление. Называлось все это «конкретная музыка». Я был далеко не столь сознательно восприимчив к звукам, и, при всем своеобразии этой гармония, мог ее сопоставить, скажем, с хором амфибий на близлежащем васильевском озере в июньскую ночь. Но Костя услышал там нечто гораздо большее. Он распознал в ней решительный переворот во всей музыкальной традиции, единственно адекватный, достойный ответ композитора на вызов 20-го века. Константин «заболел» Штокгаузеном. Он попросил меня попытаться найти в Москве про него хоть что-нибудь. Я доверял его вкусу. Был 64 год, и пришлось приложить большие усилия, чтобы отыскать брошюру с портретом его кумира, изданную в ФРГ. Затем Костя сам предпринял попытки писать «конкретную музыку». Техническое оснащение его «студии» в сравнении с европейскими образцами оставляло желать лучшего. Костя пользовался 15 магнитофоном «Днепр», простеньким микрофоном и ножницами с клеем. Вся квартира его была увешана пронумерованными обрезками магнитофонной пленки, которые он склеивал по сантиметровым кусочкам в ведомом ему одному порядке. Часами он таскал по дому и двору микрофон на длинном шнуре и записывал все необычные звуки – скрип двери, звон разбитого стекла, птичьи и кошачьи концерты и прочее, чтобы неузнаваемым образом вкрапить их в общую панораму своего музыкального замысла. Чтобы создать трехминутную вещь у него ушла пара месяцев интенсивных трудов. За следующие примерно шесть месяцев он создал десятиминутную вещь. Один экземпляр он подарил мне с торжественно - высокопарной дарственной надписью на коробке. К сожалению, я не смог сохранить её, и сейчас от этой страницы его творчества у Геннадия осталась только одноминутная вещица из числа его первых экспериментов. Несмотря на незнание нотной грамоты, музыкально Костя был одарен чрезвычайно. Посмотрев фильм, он мог воспроизвести любую мелодию из него. Когда (гораздо позже) он увлекся вокалом – сначала операми Вагнера, а в последний период жизни итальянскими, то, чтобы запомнить всю музыку, ему также достаточно было прослушать пластинку всего один раз. Дальше он только вслушивался и изучал тонкости. В юности, учась в Москве, он пережил увлечение ранним роком – Биллом Хейли, Элвисом Пресли. В более зрелом возрасте – после 20 лет он никогда не воспроизводил их трансовых песнопений, как это было многим из нас свойственно. Он как бы улавливал в них некую непристойность и разнузданность, несовместимую с естественным достоинством взрослого человека. Хотя признавал, что рок – это переворот в музыкальной жизни общества. И одергивал, если кто-то начинал подмурлыкивать какой-нибудь «Эраунд-о-клок» на неверный мотив. Используя известное издревле подразделение музыкальных сфер, можно сказать, что и в музыкальных предпочтениях и в своей живописи он постепенно склонялся к выбору в пользу светлой, аполлоновской, гармонии и делался все более чужд темному 16 и экстатическому дионисийству. (Хотя, забегая вперед, можно сказать, что в его последней, финальной живописи для многих неожиданно и неведомо откуда проступило и властно заявило о себе даже и не дионисийское, а скорее прадионисийское, хтоническое начало). Однажды Абрам Григорьевич сообщил Косте, что он может познакомить его с самым настоящим «додекафонным зубром». Костю очень заинтриговала такая возможность, и А.Г. выполнил свое обещание. «Зубром» оказался молодой, ершистый с виду, несколькими годами старше Кости человек, Лоренс Блинов. Он действительно рьяно исповедывал принципы атональной музыки, которой был тогда беззаветно предан. Вскоре и все мы тоже встретились с ним. Как его имя совмещало в себе что-то очень русское с крупицей несомненного европейского апломба, так и в его музыке было заметно глубокое проникновение в родную ему русскую музыкальную стихию, сочетавшееся с высокомерием западного авангарда. Одна из первых его вещей, которую я услышал, была переработка русской песни «Экой Ваня», которую пел еще Шаляпин, в атональную систему звуков. Впечатление было неординарное. Сначала вся русская песенная гармония как бы разъезжалась (вместе с головой) в разных направлениях, но потом, неведомо как, опять собиралась в нечто целое, уже как бы преображенное в некоей космополитической купели. Мы все стали друзьями, хотя Лоренс своей раскидистой многогранностью давал Косте множество поводов к шуткам, каламбурам и пародиям. Ибо Лоренс кроме пребывания в главной, композиторской ипостаси, оказался еще и незаурядным поэтом, герменевтиком, столпом вегетарианства, восточным мыслителем, знатоком йоги, философом науки … все формы самовыражения его духа даже в те времена перечислить было бы затруднительно. Причем входил во все это с истиной серьезностью и профессионализмом. Очень важным бывало для Кости общение с нашим одноклассником Юрой Михалкиным, когда тому удавалось приехать в Васильево. Кроме 17 Лоренса, в то время он был единственным, кто мог быть Косте достойным собеседником по музыкальной части. Хотя Юра, по слабости зрения, сумел закончить лишь Ульяновское музучилище, и работал преподавателем Бугульминской музыкальной школы, но в качестве ценителя и знатока музыки ему было немного равных. Дружбой с ним дорожили многие известные музыканты. Например, его очень уважала и по родственному любила Виктория Иванова, одна из лучших колоратурных сопрано России. Специально, чтобы пообщаться с Юрой, в Бугульму заворачивали, делая большой гастрольный крюк, музыканты известного «Квартета имени Бетховена». С большим интересом и подолгу с ним разговаривал известнейший музыковед Григорий Коган, который, в свою очередь, считал, что Юрины суждения о музыке были бы интересны для самого Святослава Рихтера. Он мечтал даже их познакомить. Но Юра посчитал себя недостойным отнимать бесценное время у столь великого человека, которого он боготворил. Юру глубоко затронула Костина живопись 1964 года, и Костя подарил ему, как человеку понимающему, одну из своих работ (небольшая абстракция, выполненная голубым карандашом на бумаге). Юра вскоре отдарил его тяжеловесным магнитофоном «Днепр». Такой подарок был для нас по тем временам громадной роскошью, особенно если учесть, что его стоимость поглощала скромные Юрины доходы чуть не за два месяца. Но он знал, что Костя в тот момент был одержим перспективами создания «конкретной музыки», для чего второй магнитофон «Днепр» был ему жизненно необходим. Юра готов был многое сделать, лишь бы поддержать в Косте «пламень творчества». Юра обладал развитой способностью улавливать сокровенный смысл любого музыкального произведения. В подпитии это качество в нем еще более обострялось. Вспоминаю, как однажды, засевши у Кости с вечера в субботу, они начали слушать пластинку с еврейскими народными песнями в 18 исполнении знаменитой Нехамы Лифшицайте, чтобы, так сказать, глубже понять и распознать еврейскую душу. В конце концов, Юра, войдя в экстаз от обилия оттенков и силы её характерной экспрессии, вынудил всех слушать запись песни «Варничкес» (вареники) раз сорок кряду. В результате вышло, что не столько они изучали её душу, сколько Нехама Лифшицайте на всю ночь овладела душами исследователей. Мне с превеликим изумлением поведала об этом Клавдия Парменовна, когда в воскресенье утром я заявился к ним в гости, застав друзей крепко спящими.