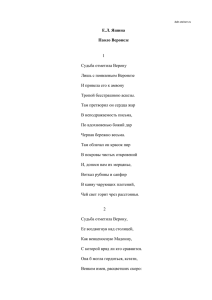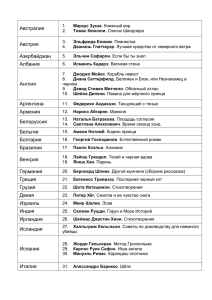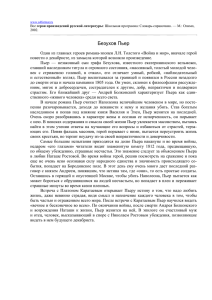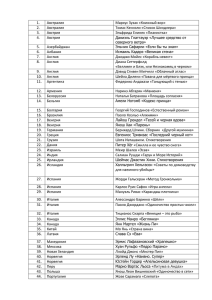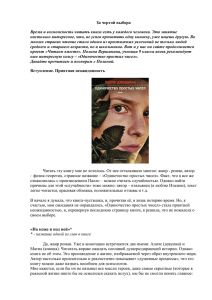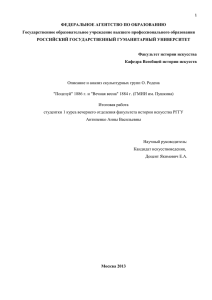Энцо Сичилиано ЖИЗНЬ ПАЗОЛИНИ Enzo Siciliano VITA DI PASOLINI Энцо Сичилиано ЖИЗНЬ ПАЗОЛИНИ ЛИМБУС ПРЕСС Санкт-Петербург · Москва ББК 84.4 (Итал) КТК 611 С 34 Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» Перевод с итальянского Ирины Соболевой С 34 Сичилиано Э. Жизнь Пазолини: Роман. — СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2012. — 715 с. Пьер Паоло Пазолини (1922–1975) – крупнейшая фигура в итальянской культуре XX века. Кинорежиссер, автор нескольких десятков лент, каждая из которых сейчас воспринимается как классическая – «Царь Эдип», «Декамерон», «Кентерберийские рассказы», «Сало, или 120 дней Содома» и многих других. Однако к тому моменту, когда Пазолини начал снимать фильмы, он уже был известен как поэт, писатель и даже политик. Марксист, социалист, главный enfant terrible послевоенной Италии – Пазолини прожил полную приключений жизнь, а неразгаданная загадка его убийства до сих пор тревожит умы. Это первая выходящая на русском языке биография великого итальянца, она написана его многолетним другом и коллегой, что делает ее еще интереснее. ISBN 978 5 8370 0548 0 www.limbuspress.ru © 2005 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano © ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî Ê. Òóáëèíà», 2011 © À. Âåñåëîâ, îôîðìëåíèå, 2011 От переводчика Имя Пьера Паоло Пазолини почти неизвестно российским читателям – в отличие от зрителей; мы знаем его в основном как кинорежиссера. Однако Пазолини отличали разнообразие и масштабность дарований: он писал стихи, романы, научные статьи, сотрудничал с рядом газет и журналов, в которых вел постоянный диалог с читателем по самым злободневным политическим и литературным вопросам; он писал киносценарии и сам снимал по ним фильмы, пробовал себя в живописи. Его творчество непросто для понимания, так как очень тесно связано с бурной жизнью Италии в XX веке. Чтобы понять и оценить Пазолини, необходимо помнить о сложном пути, который проделала итальянская интеллигенция вместе со всей страной. Сам же круг итальянских интеллектуалов всегда занимал в жизни общества особое место: они постоянно находились в изоляции в силу, прежде всего, высокого образовательного уровня, недоступного в начале и середине XX века абсолютному большинству населения Италии. Если говорить о данной книге, то хотелось бы подчеркнуть, что для среднего итальянского читателя обилие имен, дат, иноязычных текстов, жонглирование названиями политических и литературных течений представляет такие 5 же трудности, как и для русского читателя. Более того, средне образованный итальянец навряд ли возьмет эту книгу в руки. Мы постарались несколько облегчить задачу, создав «Список имен», в котором дана краткая информация о каждом встречающемся в тексте деятеле культуры и истории. Когда речь идет о родственниках, друзьях, случайных знакомых, их отношение к Пазолини становится понятным из текста. Проблема другого плана связана с малой родиной Пазолини и местом диалекта в его творчестве. Эта проблема близка и понятна каждому итальянцу, который на вопрос: «Вы итальянец?» – обязательно уточнит: «Да, я из Милана (Рима, Флоренции…)». По сути, каждый итальянец двуязычен: он говорит и на литературном языке, и на родном диалекте. Однако итальянские диалекты в большинстве своем имеют богатую литературную традицию, это не просто язык народных песен и сказок. Например, пользующиеся мировой известностью итальянские драматурги – Гольдони, Гоцци, Эдуардо Де Филиппо – часто пользовались диалектом. Для Пазолини малой родиной была земля Фриули – административная область на северо-востоке Италии, в Карнийских и Юлийских Альпах, частью на Паданской равнине, у Венецианского залива Адриатического моря (провинции Триест, Гориция, Удине, Порденоне). В провинции Порденоне и находится маленький городок Казарса, родина Пазолини. Сейчас в Казарсе менее 10 тыс. жителей; во времена, когда там жил Пазолини, это был совсем небольшой городок, скорее даже деревня. Родным языком жителей Казарсы является разновидность фриульского диалекта, который настолько отличается от литературного итальянского языка, что его часто предлагают называть фриульским языком. Пазолини в детстве постоянно слышал вокруг себя фриульскую речь, прекрасно владел ею, написал на диалекте множество стихотворений. Собственно, это одна из причин, по которым стихи Пазолини мало переводились на другие языки, в том числе и на русский: для перевода требуется знание не литературного итальянского языка, а диалекта. За небольши6 ми исключениями, которые оговорены в тексте, переводы стихов Пазолини сделаны в виде подстрочника. Мы пытались максимально передать смысл стихов, поэтому формой часто приходилось жертвовать. В оригинале это либо верлибр, либо сложные формы, свойственные итальянскому стихосложению (терцины, сонеты, канцоны). Пазолини очень рано начал интересоваться литературой, сам пробовал себя в разных жанрах. В его творчестве ясно прослеживаются этапы его увлечения то французской поэзией, то средневековой, то современными ему авторами. Становление его творческой личности связано с влиянием и переосмыслением итальянской поэзии и идеологических течений Италии XX века. Поскольку именно эта тема – которой уделено значительное внимание в книге Сичилиано – может вызвать наибольшие трудности у русского читателя, стоит, пожалуй, насколько это позволяет сделать жанр предисловия, наметить карту развития итальянского стихосложения в прошлом веке. В итальянской поэзии конца XIX — начала XX века существовало множество школ и направлений, которые, развиваясь одновременно, находились в резком противостоянии друг другу. Это был период переосмысления предшествующей поэтической традиции. В эпоху Рисорджименто, объединения Италии в XIX веке, господствовал героический национальный классицизм. В начале XX века он претерпевает изменения: на смену бунтарскому духу Рисорджименто приходит стремление к гармонизации противоречий. В тот же самый период итальянская декадентская критика предпринимает настоящий поход против «устаревших» форм и идей. Итальянский декаданс, сменяемый авангардом, развивается довольно интенсивно, как бы стремясь догнать другие европейские страны. В нем переплетены противоречивые тенденции: «поэзия крови и железа» как реакция на XX век и стремление укрыться от хаоса века и грома орудий в тихой провинциальной жизни. Основные мифы и маски декаданса в Италии создал Габриэле Д’Аннунцио (1863–1938), поэт, прозаик, драматург. 7 К разрушению всей мировой культуры призывали футуристы, во главе которых стоял Филиппо Томмазо Маринетти (1876– 1944). Столь широко воспринятый в Европе футуризм был не только экспериментом в области словесного творчества, но и «всеобъемлющим типом поведения», футурист должен был быть прежде всего «футуристом жизни». Программа футуристов предельно радикальна и технократична, противоречива и глобальна. «Давайте вырвемся из насквозь прогнившей скорлупы Здравого Смысла и, как приправленные гордыней орехи, ворвемся прямо в разверстую пасть и плоть ветра! Пусть проглотит нас неизвестность!» Футуристы призывали «вдребезги разнести все музеи, библиотеки», чтобы покончить с моралью «трусливых и подлых обывателей». Такой путь протеста против «необъятной бессмыслицы» в какой-то мере объясняет, почему Маринетти солидаризировался с фашистским режимом, а футуризм был в фашистской Италии официально поддерживаемым движением. Поэтика Джованни Пасколи (1855–1912) решительно противостоит и суровому классицизму Кардуччи, и декадентскому эстетству Д’Аннунцио. У него живое, непосредственное восприятие природы вызывает богатую гамму чувств и переживаний. Печальная элегическая тональность, мотивы предчувствия смерти и таинственность природы и бытия — все это характерно для его творчества. Он полагал, что поэтичность мира раскрывается в его вещном облике, который надо увидеть по-детски непосредственно, без рассудочности, со свежестью первого впечатления. Поэзии подобает быть спонтанной, интуитивной, подобно образу мира, создающемуся у ребенка, который говорит с животными и растениями, звездами и облаками, прислушивается к сказкам и легендам. Итальянские критики до сих пор спорят о Пасколи, то причисляя его к декадентам, то целиком его от декаданса отделяя. Истина, по-видимому, лежит между этими крайними точками зрения. Безусловно, существует определенная связь между Пасколи и французскими поэтами «конца века». Она сказывается в 8 субъективизме и эскапизме, в стремлении оградить поэзию от гражданственной и общественной тематики, в общей меланхолической настроенности и мотивах неизбежности смерти, неразрывно сплетенной с жизнью. Однако Пасколи чужда безнадежная философия мироздания. Он находит в мире много прекрасного — красоту природы, радости семейной жизни. Его поэзия не знает тем одиночества и отчужденности, она несет в себе высокий этический заряд Камерность, поиски простоты и естественности характерны и для творчества многих поэтов, получивших название «сумеречников». Этот термин был впервые употреблен критиком Дж. Борджезе в рецензии на сборник стихотворений поэтов М. Моретти, Ф. М. Мартини и К. Кьяве, отмеченных грустным ощущением мира, притушенными красками и интонациями. В их поэзии достаточно сильно сказывается воздействие французских школ — Парнаса и символизма. «Сумеречники» избирают материалом своей поэзии обыденность в ее скромном, непритязательном обличье, придавая мелочам жизни символическое значение. Лишенная порывов и энтузиазма повседневность передается медлительными ритмами, неяркими тонами. Для этой школы всего характернее ирония, постоянно питаемая чувством тщеты иллюзий, пустоты окружающей жизни. Этому содержанию соответствуют и формальные поиски «сумеречников», которые лишают поэзию высокого смысла, отказываясь от традиционной метрики. Метафоры и сравнения заземляются, слово становится четко однозначным по смыслу. Наиболее одаренным поэтом-«сумеречником» был Гуидо Гоццано (1883–1916). Для «сумеречников» в преддверии Первой мировой войны убежищем от «непоэтической» действительности стал круг смиренных чувств и скромных ценностей, простота формы и неприукрашенность слова. В конце двадцатых годов, в обстановке восторжествовавшего фашизма, многие писатели, не желавшие воспевать фашизм, прятались за концепциями «чистого искусства», 9 так называемой «артистической прозы» и течения «герметизм» (итал. poesia ermetica). «Герметики» сосредоточивались на камерных и субъективных переживаниях, зашифрованной поэтике. Их произведения просты по форме. Они стремились в первую очередь к выражению чувств, а не мыслей, к передаче скрытого мира душевных состояний. К «герметикам» примыкали Эудженио Монтале (1896–1981) – лауреат Нобелевской премии 1975 года, Джузеппе Унгаретти (1888–1970), Умберто Саба (1883–1957). Для герметической поэзии подлинной ценностью является индивидуальное восприятие мира. Однако поэтика герметизма, испытавшая сильное влияние Стефана Малларме и Поля Валери, отразила в себе отрицание футуризма с его культом формы и героем, лишенным духовной жизни, и неприятие фашизма, его идеологии насилия, его грубой бесчеловечности. В творчестве крупнейших поэтов-герметиков сохранялась тоска по человеческой чистоте, гуманистический интерес к внутреннему миру личности. В стихах этих поэтов ощущалось живое поэтическое видение мира, но чрезвычайно осложненное и зашифрованное. П. П. Пазолини живо интересовался и историей, и теорией литературы. Он отыскивал в творчестве разных поэтов то, что было ему особенно близко и понятно, и использовал и развивал идеи различных направлений. Именно поэтому его творчество столь разнообразно и многопланово. Книга, предлагаемая вниманию читателей, поможет разобраться во многих мотивах творчества Пьера Паоло Пазолини, глубже понять его литературные и кинематографические произведения, сложить в единую картину разнообразные и разножанровые произведения этого итальянского поэта, писателя, публициста, режиссера. И. Соболева Moi! Moi qui me suit dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rende au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuese à étreindre! Arthur Rimbaud* * Я, который называл себя магом или ангелом, освобожденным от всякой морали, – я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с шершавой реальностью. Артюр Рембо (франц. Перевод М. П. Кудинова). ПРОЛОГ ГИДРОДРОМ В ОСТИИ К гидродрому в Остии можно добраться, если свернуть с шоссе, идущего вдоль берега моря, к аэропорту Фьюмичино. Дорога петляет по полям и мусорным свалкам, потом появляется площадь, низенькие домики, бар на окраине; кажется, что дорога ведет снова к Риму, но она резко поворачивает налево. Когда я отправился туда в первый раз, в сентябре 1976 года, там, посреди поля, сразу за намертво закрепленными столиками кафе, виднелись серые стены нескольких многоэтажных домов. Развилка, а потом дорога снова идет вдоль берега. В тот день дул резкий южный ветер, небо было затянуто низкими облаками, а воздух был тяжелым и душным. Самодельное футбольное поле, белый барак, приспособленный под раздевалку. На поле шла игра: ребята, почти дети, и взрослые мужчины, тяжело дыша, бегали по вытоптанному полю, на котором тут и там видны были лужи. От дороги поле отделяла сетка. 15 Этот вид открывался со стороны моря. А над Римом висела тяжелая туча, с той стороны дороги видны были глубокие ямы, бурьян, горы мусора. И казалось, что конца этому зрелищу нет. За футбольным полем пригород приобретал более ясные очертания: к кучам мусора пристраивались домишки, вытянувшиеся вдоль дороги, пересекавшей ту, что шла вдоль моря. Один дом был еще не закончен, но казался единственным, где кто-то жил. Другие были заброшены, а окна забиты картоном, хотя калитки были не лишены некоторого изящества и украшены белыми гипсовыми колоннами. Они одиноко стояли посреди грязи вдоль совершенно нелепой улицы. В центре этой свалки возвышались три дерева, листва с которых облетела, и поэтому было невозможно понять, что это за деревья. Под ними была скамья из темного камня, по которой ветер гонял пригоршню пыли. Сегодня ничего этого уже нет. Как в фильме Пазолини: женщина вышла из недостроенного дома и сказала плачущим голосом: «Тут бомба, тут бомба, не приближайтесь! Сейчас приедут карабинеры». Ребенок бегал по краю ямы. Казалось, что там, внизу, среди отбросов, пустых банок и бутылок, и было что-то, что напоминало взрывное устройство. Потом появилась машина карабинеров. Но женщину теперь больше интересовали мы. Я приехал туда с ребятами из римского отделения Молодежной коммунистической федерации. Они хотели снять документальный фильм о Пьере Паоло Пазолини, показать места, связанные с его жизнью, рассказать о его творчестве. Женщина, глядя на нас быстрыми, колючими глазками, обратилась к нам: 16 – Так это вы из-за него приехали? – и показала на скамью. – Как он кричал в ту ночь! «Мама, мама, меня убивают!» Прямо так и кричал бедолага. Сказав это, она окинула нас подозрительным взглядом, пытаясь понять, поверили мы ей или нет. Потом ушла. Правду она сказала или солгала – обсуждать это было бесполезно. Эти слова уже были напечатаны в отчете, который появился несколько месяцев назад, понятно было, что появились они от желания хоть как-нибудь почувствовать себя участником важного события. Она торопливо направилась туда, где стояли ребенок и карабинеры; ей, в общем-то, было все равно, верят ей или нет, ее занимали совсем другие вещи. Скамейка была поставлена поперек пятачка утоптанной земли, чтобы обозначить место, где было найдено тело Пазолини. Совсем рядом был забор с розовыми и зеленоватыми рейками, одна из которых послужила орудием убийства. Ветер гнул и раскачивал тонкие деревца. С другой стороны холма дорога поворачивала, по ней медленно шел грузовик. За дорогой было еще одно поле, там с криками бегали ребята. Это было совсем неухоженное поле, просто полоска земли, зажатая между бараками и дорогой, которая, наверное, к ним и вела. На этом поле разыгрывался другой матч. Итак, тело на краю скамейки. Немного в стороне припаркована машина. Обшарпанные дома, разбросанные в причудливом беспорядке. Темнота, которую разрывает ряд фонарей. Фонари стоят слишком далеко, поэтому от них доходит только отблеск, падающий на асфальт и на край поля. В «Мессаджеро» в понедельник 3 ноября 1975 года были напечатаны слова Марии Терезы Лоллобриджиды, домохо17 зяйки сорока шести лет, жены Альфреда Принчипесса, разнорабочего на стройке, сорока восьми лет: «Тело обнаружила я. Мы приехали в воскресенье утром, в половине седьмого, на нашем «Ситроене». Мы приезжаем сюда каждое воскресенье и после обеда все вместе работаем: строим летний домик. Земля здесь чудовищная, зато воздух летом замечательный. Когда мы приехали, я увидела, что перед домом что-то лежит. Я подумала, что это мусор, и сказала сыну, Джанкарло: «Ну, видишь, эти сукины дети набросали какойто дряни около нашего дома». Я подошла посмотреть, как это убрать, и увидела, что это тело мужчины. Голова у него была разбита. Волосы все в крови. Он лежал лицом вниз. Одет он был плохо. На нем была зеленая футболка с короткими рукавами, джинсы, испачканные машинным маслом, коричневые ботинки, коричневый ремень. Я сказала мужу развернуться и сразу ехать в полицию. Без двадцати семь мы были в комиссариате». Эта запись, возможно, не передает взволнованную речь Марии Терезы Лоллобриджиды. Запоминается положение тела: голова вниз, волосы испачканы кровью, футболка, ботинки, коричневый ремень. Лицо у него было обезображено, одно ухо почти оторвано. На фотографиях видно, как его сухое тело лежит на земле, правая рука подвернута под грудь. На других фотографиях, где вокруг тела стоят сотрудники следственного отдела, он лежит на спине, руки и пальцы ободраны, что-то отталкивающее проступило на его обезображенном и раздутом лице, а тело потеряло присущую ему стройность, став плоским и бесформенным. Ночью с субботы 1 ноября на воскресенье 2 ноября, примерно в половине второго, патрульная машина полиции остановила на набережной Дуилио в Остии машину «Аль18 фа-Ромео Джулия 2000 GT», которая проезжала с превышением скорости. За ней отправили погоню, чтобы задержать ее и осмотреть. «Джулия 2000», казалось, заметила преследование, прибавила скорость, ее занесло на тротуар. Преследование продолжалось до тех пор, пока патрульной машине не удалось прижать «Джулию» к стене, отделявшей дорогу от пляжа. В машине был молодой человек, который пытался бежать. Полицейские из подоспевших машин его задержали. Это Джузеппе Пелози, ему семнадцать лет и четыре месяца. У него криминальное прошлое: угон машины и хулиганство. Он освободился из «Казал дель Мармо», римской тюрьмы для несовершеннолетних, где отбывал свое последнее, третье по счету, наказание, 13 сентября 1975 года. Машина, которую он вел, принадлежала Пазолини. На допросе он просит, чтобы ему вернули зажигалку и пачку сигарет, которые он оставил в машине, когда его задержали, и кольцо, кольцо с красным камнем и надписью «Соединенные Штаты». Кажется, что эта деталь не имеет никакого значения, но в протокол она занесена. Примерно в четыре часа утра у молодого человека начинается истерика, он кричит: «Мама, что я наделал! Что я наделал!». А потом он внезапно засыпает. Карабинеры отправились к Пазолини домой. Телефоны в том районе не работали: теракт на подстанции вывел их из строя. Дома у Пазолини они застали Грациеллу Кьяросси, дочь двоюродной сестры Пьера Паоло. Она живет с ним и с Сюзанной Пазолини Колусси уже несколько лет. Ее семья осталась во Фриули, а она работает по контракту на филологическом факультете Римского университета. Грациелла связывается с Нинетто Даволи. Нинетто ужинал с Пазолини в ресторане «Помидоро» в Тибуртино, они рас19 стались несколько часов назад. К тому моменту «Джулию 2000» еще не угнали. Поздняя ночь. Пазолини домой не вернулся. Правда, он всегда возвращался поздно. На этот раз, однако, в доме уже побывала полиция, его машину сначала угнали, а потом нашли с угонщиком за рулем. Нинетто Даволи обращается в полицию. О Пазолини ничего не слышно. К семи часам утра поступает сообщение из комиссариата полиции в Остии: в районе гидродрома обнаружен труп. Карабинеры предлагают Нинетто Даволи проехать с ними на место происшествия. Исчезновение Пазолини вызывает серьезные подозрения. И Нинетто опознает в трупе, лежащем навзничь на пятачке земли, Пьера Паоло Пазолини. Пелози спрашивал о пропавшем кольце? Кольцо было найдено у мертвого тела полицейскими, которые снимали отпечатки на тропинке и на спортивной площадке. Рядом с воротами, сделанными из металлических труб, нашли скомканную окровавленную рубашку Пазолини и два обломка деревянных реек, на которых засохла кровь и мозговое вещество. Газеты сообщают, что примерно в полдень 2 ноября Джузеппе Пелози сознался в убийстве Пазолини. Сначала молодой человек утверждал, что взял машину на время у друга, потом говорил, что нашел ее открытой с ключами в замке зажигания на парковке в Тибуртино, возле кинотеатра. Ему сообщили о том, что его кольцо найдено рядом с трупом. Тут Пелози начинает рассказывать, что около десяти часов накануне вечером, когда он с друзьями болтался у 20 портика на площади перед вокзалом Термини, к нему подъехал «фраер» – мужчина лет от тридцати пяти до пятидесяти. Он был за рулем «Альфа Ромео». Конечно, сомнительно, что Пелози «невинный агнец». Портик у вокзала – это своеобразный храм жрецов любви, который процветает благодаря атмосфере прибытия и отъезда: шаткость и ненадежность отношений, неизбежно возникающие там, где люди только что закончили свое путешествие или готовы отправиться куда-то, служат стимулом, питают анонимность, которая так необходима этим случайным встречам украдкой. Пазолини не любил ничего делать украдкой – ни в любви, ни в других делах. Его, должно быть, привлекало к портику смешанное общество, хаотичное и разнообразное, похожее на население отдаленной окраины большого города, которое собралось вместе только благодаря одной общей цели: продаже тела. Был ли он завсегдатаем этого места? Высказывалось предположение, будто он бывал там, чтобы собрать материал для романа, который писал уже более двух лет. Он дал ему рабочее название «Нефть», а потом изменил его на «Vas»*. Большие куски этого огромного проекта, законченные и почти законченные, могут до определенной степени свидетельствовать в пользу этой гипотезы, поскольку проза Пазолини всегда тяготела к крайнему документализму. Однако в отрывках нигде не упоминается именно эта римская площадь. Согласно другому предположению, Пазолини уже встречался с Пино, которого друзья прозвали «лягушонком». Но * Vas (лат.) – сосуд (здесь и далее постраничные примечания переводчика). 21 этому нет никаких подтверждений. Достоверным является, таким образом, только тот факт, что Пазолини, расставшись с Нинетто Даволи у выхода из ресторана «Помидоро», приехал на площадь перед вокзалом и встретился с Пелози. Пелози выглядит как типичный персонаж романа Пазолини «Шпана». На фотографиях, которые появились в газетах на следующее утро после того, как был обнаружен труп у гидродрома, он стоит, прислонившись спиной к дереву, в курточке, в плотно облегающих джинсах; у него узкий лоб, на который падают кудряшки, он засунул руки в карманы и улыбается, улыбка у него одновременно и открытая, и плутовская. Но в этом лице, когда он не улыбается, таится что-то странное и печальное. То, что Пазолини подошел именно к нему, не удивительно: всем известно, насколько писатель был постоянен в том, что касалось его собственных вкусов. Подобное постоянство часто напоминало навязчивую идею. Выбор типажей для его фильмов – яркое тому подтверждение. Пино Пелози мог появиться в «Декамероне», в «Тысяче и одной ночи». Энцо Оконе, продюсер последних фильмов Пазолини, узнав об убийстве, сразу же тщательно просмотрел все массовые сцены, поскольку был убежден, что молодой человек давно попал в поле зрения Пазолини. Но ему ничего не удалось найти. Однако сама настойчивость Оконе доказывает, что типаж Пелози был абсолютно «пазолиниевским». Рассказ Пелози лишен каких-либо подробностей. Роскошная машина, за рулем которой сидел «папаша», подъехала к нему и остановилась. Он отошел подальше, к киоску на площади Чинквеченто. Через несколько минут машина снова оказалась рядом, из нее вышел «папаша», подошел к 22 нему, предложил прокатиться, пообещал хороший «подарочек». Никаких конкретных предложений. Но Пелози сразу понял, чего от него хотят. Потом они сели в машину и поехали, остановились в траттории неподалеку от базилики Святого Павла. Пино выпил пива, съел тарелку спагетти и кусок курицы. «Синьор» ничего не ел. Примерно в 23 часа или в 23.30 они снова сели в машину, остановились у заправки на улице Остьенсе, а потом поехали к морю. По дороге, рассказал Пино, «синьор» говорил о каком-то укромном месте: они поедут туда и займутся «коечем», а потом Пино получит двадцать тысяч лир в подарок. То, что произошло потом, изложено в протоколе, представленном карабинерами, который лег в основу приговора суда по делам несовершеннолетних города Рима от 26 апреля 1976 года. Приговор подписан председателем Альфредо Карло Моро и зарегистрирован в канцелярии суда 21 мая 1976 года. «Затем Пелози показал, что мужчина привез его на спортивное поле, взял его половой член в рот, но не завершил “минет”, потом заставил его выйти из машины, а сам пошел сзади, прижимался к нему и пытался снять с него брюки; Пелози попросил его прекратить, а тот подобрал колышек, вроде тех, которые используют для ограды палисадников, и хотел засунуть его ему в задницу, по крайней мере, он прижал колышек к его ягодицам, хотя и не сумел снять с него брюки. И тогда Пелози повернулся и сказал ему: “Ты что, взбесился?”. Пазолини был без очков, он их снял и оставил в машине. Когда Пелози оказался с ним лицом к лицу, он испугался, поскольку у Пазолини был совершенно бешеный взгляд, взгляд сумасшедшего. Он бросился бежать, но поскользнулся и упал, Пазолини догнал его и ударил палкой по голове. Тогда он схватил палку и 23 отшвырнул Паоло от себя, снова побежал, а тот его снова догнал, ударил в висок и нанес еще несколько ударов. Он увидел на земле доску, поднял ее и сломал о голову Паоло, потом ударил его несколько раз “по яйцам”, однако казалось, что Паоло даже не почувствовал этих ударов; он схватил Пино за волосы и ударил его палкой по носу. Не помня себя, Пелози стал бить его доской, пока тот не упал на землю. Тогда он бросился бежать к машине, прихватив с собой два обломка доски, которые потом бросил у машины. Он сел в машину и быстро уехал. Он не может сказать, переехал он тело Паоло или нет. Он не переезжал его намеренно и не помнит, проехал он по нему или нет, потому что находился в состоянии шока. У первой же колонки он остановился и умылся, чтобы не было видно пятен крови. Все это время они были с Паоло только вдвоем». Этот образчик бюрократической прозы, представленный в протоколе карабинеров, довольно точно приводит слова Пелози, но в то же время позволяет с особенной ясностью увидеть все противоречия и умолчания. Когда Пелози остановила полиция, вид у него был совсем не как у человека, который только что подрался: на нем не было пятен крови, одежда была в полном порядке. Поэтому суд постановил, что «признание обвиняемого не исключает необходимости проведения тщательного расследования с целью установления истины». Речь идет об истинном положении вещей относительно времени, передвижений и самого факта совершения преступления. Необходимо отметить, что экспертиза, проведенная в ходе следствия, полностью опровергла рассказ Пелози. Прежде всего это касается присутствия третьих лиц во время драки на тропинке и поле гидродрома. Когда Пелози остановили карабинеры, на заднем сиденье машины Пазолини был найден зеленый пуловер – хотя 24 и слегка поношенный, но в очень хорошем состоянии. Это был дешевый пуловер, из тех, которые продают на местных рынках. Размер его не подходил ни Пазолини, ни молодому человеку, арестованному карабинерами. В машине была также обнаружена подметка от ботинка на правую ногу. Она также не могла принадлежать ни Пазолини, ни Пелози. Ни подметка, ни пуловер не могли оказаться в машине раньше, чем в день преступления. Грациелла Кьяркосси заявила на следствии, что вымыла машину Пазолини утром 31 октября и там не было ни пуловера, ни подметки. В машине не нашли ни пачки сигарет «Мальборо», ни зажигалки, которые, по словам Пелози, он оставил там, когда его остановили полицейские. В постановлении суда указано, что «какое-то третье лицо, воспользовавшись моментом, могло завладеть ими». Вот и другие заключения, сделанные экспертами полиции: «На земле, непосредственно возле входа на импровизированное футбольное поле (на гидродроме), были обнаружены отпечатки обуви, которые не могут принадлежать ни Пазолини, ни Пелози». Речь идет о следах, оставленных рифленой резиновой подошвой – возможно, теннисными туфлями. Сухие строки приговора: «Не подлежит сомнению, что эти отпечатки не могли быть оставлены детьми, которые пришли играть на поле утром 2 ноября. Следы, как явствует из протокола осмотра места происшествия (т. 6), были оставлены в 7.30, т. е. прежде чем пришли дети, которые потом играли в мяч». Возле входа на поле обнаружены не только отпечатки теннисных туфель, но и «многочисленные другие отпечатки». Сколько же человек в ту ночь было на поле возле гидродрома? На этот вопрос ответа нет, однако важен сам факт того, что этот вопрос возникает. 25 И еще: на крыше автомобиля, со стороны дверцы пассажира, обнаружены следы крови – крови, которая, по мнению полиции, принадлежит Пазолини. Если бы Пазолини ударился головой о машину, то кроме пятен крови там оказались бы и волосы или следы, оставленные волосами, которые присутствуют во всех других вещественных доказательствах. Если это были брызги крови, то следы были бы более явными. Следы эти не могли быть оставлены и руками Пазолини, если, как рассказывает Пелози, Пазолини во время драки не приближался к машине. Тогда можно предположить, что они оставлены руками нападавшего. Но кто он, этот нападавший? Пелози? Пелози утверждает, что сразу после драки сел в машину и уехал. Значит, если это так, он сел в машину с другой стороны, а не там, где возле дверцы найдены следы крови. Одного этого достаточно, чтобы предположить, что вместе с Пино-«лягушонком» там был еще по крайней мере один человек, который сел в машину, открыв дверцу пассажира и инстинктивно опершись рукой о капот. Если мы предположим, что следы крови оставлены руками Пелози, значит, Пелози, оставив Пазолини лежать на земле, побежал к машине, открыл дверцу, чтобы сесть, случайно дотронулся рукой до крыши кузова, понял, что ошибся, что садится с другой стороны. Чтобы уехать, он должен сесть в машину со стороны водителя, поэтому он закрывает дверцу и садится в машину с противоположной стороны. Если бы так и произошло, то он должен был оставить следы крови, может быть, даже более четкие, как на правой дверце, так и на руле. Но там таких следов нет. Приговор гласит: «Возможны только две гипотезы: либо руки были испачканы кровью у Пелози, но он сел в машину на место пассажира, а за рулем был кто-то другой, и именно 26 этот другой переехал тело Пазолини, а потом подвез Пелози к колонке, где тот вымылся (однако кажется маловероятным, что сообщники Пелози были с ним у колонки); либо сообщник, руки которого были испачканы кровью, сел слева, а Пелози, руки которого кровью испачканы не были, сел на место водителя. И в том и в другом случае представляется совершенно ясным, что вместе с Пелози в машину сел другой человек, который был соучастником нападения». В пользу этого предположения – не один нападавший, а несколько – говорит и то, что на Пелози – ни на его теле, ни на одежде – практически не было обнаружено крови Пазолини, в то время как Пазолини, еще до сильнейшего удара ногой в мошонку, который вызвал обширное внутреннее кровоизлияние, получил несколько ударов в голову, что стало причиной сильнейшего кровотечения: «это была не просто ссадина, из ран кровь должна была выплеснуться фонтаном и течь струей». Это подтверждает, как я уже говорил, количество засохшей крови, которая пропитала рубашку, найденную на земле. Экспертиза подтвердила, что у Пелози кровь Пазолини была на манжете левого рукава нательной футболки (три сантиметра), на нижней части брюк, справа и на подошве ботинка. Если была драка, как молодой человек заявил в своем «признании», вся его одежда должна была быть испачкана, и не только кровью, как были испачканы палка и две доски, которыми он, по его словам, пользовался для самообороны. Но Пелози выходит из борьбы абсолютно чистым. Пазолини остается лежать на земле с разбитым лицом, с глубокими ранами на черепе, одно ухо у него почти оторвано, руки исцарапаны, ногти обломаны. У Пелози небольшая ссадина на лбу, слева, у брови; это ссадина, которую он 27 получил, резко затормозив, когда патрульная полицейская машина перегородила ему путь на набережной Дуилио. Он ударился лбом о руль «Джулии GT», и все. Именно это делает малоправдоподобным признание Пино-«лягушонка». Этот рассказ, очень краткий и сжатый, кажется продиктованным, срежиссированным; в нем есть своя логика, но эту логику опровергают факты, о которых говорит сам Пелози и которым он дает уклончивые объяснения. Умолчания и нестыковки в словах молодого человека появляются с того момента, когда он рассказывает о встрече с Пазолини возле вокзала Термини. По словам свидетелей получается, что Пазолини приехал к бару у галереи и не выходил из машины. Он поговорил с группой ребят, но был насторожен и благоразумен: он сказал, что ждет друга. Они попытались приблизиться к нему, взять его за руку, тогда он закрыл окно машины и заблокировал дверцу. В это время один из ребят, по имени Семинара, вошел в бар, позвал Пелози и сказал, чтобы он вышел к машине. В этот момент поведение Пазолини резко меняется, он забывает об осторожности и сажает в машину парня, который пришел последним. (Неужели только потому, что Пелози полностью соответствует его идеальному образу?) Пелози садится в «Альфу». «Альфа» уезжает и возвращается на площадь Чинквеченто через полчаса. За эти полчаса Пелози уговаривает Пазолини вернуться к вокзалу и добивается обещания отвезти его домой, в район Тибуртино 3, когда с делами будет покончено. Молодой человек – несовершеннолетний, однако он водит машину, он даже владеет малолитражкой, правда, вместе с двумя другими ребятами, однако ключи в тот момент у него, поэтому он их собирается отдать.1 28 По возвращении на площадь Чинквеченто Пелози просит друзей встать так, чтобы человек из «Джулии GT» его не видел, под предлогом того, что ему нужно передать ключи, разговаривает с ними, но о чем они говорят – неизвестно. А потом машина уезжает в сторону Остии. Пазолини знал гидродром или Пелози? Никто не знает, бывал ли Пазолини раньше в этом месте. В постановлении суда прежде всего исследуется предположение, что место это хорошо знал Пелози. Ведь не случайно он нашел колонку на площади Сципиона Африканского в Остии, где смог вымыть руки и замыть следы крови на брюках, оставив машину на мало кому известной улице Казерме. Как бы то ни было, но именно в то время, когда они во второй раз уезжали с площади Чинквеченто, кто-то из них предложил отправиться на гидродром. Только неизвестно, кто именно. Остановки по пути: ресторанчик «Бьондо Тевере» на улице Остьенсе; там Пазолини знают, и его там узнали. Затем бензоколонка, там тоже один случайный клиент узнал Пазолини. Кажется, что это такой же вечер, как и множество других. Молодой человек ест в ресторанчике спагетти с оливковым маслом и чесноком, другой молодой человек заправляет машину. Может быть, есть и машина, которая неотступно следует за «Альфой GT» и поджидает ее, оставаясь в тени, во время остановок? Идея о том, что было преследование, находит подтверждение и в заключении судебной экспертизы. Благодаря этим заключениям выявляются умолчания и противоречия в заявлении Пелози. Это заставляет начать расследование по поводу самого признания. Становится понятно: признание делается не для того, чтобы объяснить случившееся, а для того, чтобы скрыть, что же произошло на самом деле. 29 В понедельник 3 мая 1976 года журналист «Паезе сера» Франко Росси опубликовал письмо, которое ему было доставлено от неизвестного человека (подобное письмо получил и Нино Мараццита, римский адвокат, занимающийся гражданскими делами в суде по делам несовершеннолетних). В письме, переданном Росси, утверждается, что вечером в субботу, 1 ноября, за машиной Пазолини с площади Чинквеченто последовала другая машина, с номерами Катании, в которой находились четыре человека, прекрасно известные ребятам с привокзальной площади. Письмо написано одним из этих ребят. В нем сказано: «Мы хорошо знаем этих людей, потому что они часто приходят, избивают нас и забирают деньги, которые нам удалось заработать. Они говорят, чтобы мы убирались, потому что мы мешаем их женщинам работать на площади». И еще: «судьи приговорили Пелози несправедливо, потому что заключение на срок более трех лет за угон машины – явно чрезмерное наказание. Необходимо принять во внимание и то, что мы, ребята с площади у вокзала, хотя некоторые и называют нас продажными, точно знаем, что Пино Пелози совершенно невиновен. Эти четверо пригрозили убить его, если он хоть слово скажет о том, что случилось». Слежка. Убийство Пазолини вызвало настоящую бурю эмоций. Мысль о том, что он был убит по политическим мотивам, тотчас широко распространилась среди его друзей. Его, блестящего оратора, который открыто выступал против режима в Италии на протяжении более тридцати лет, «ликвидировали», насильно заставили замолчать, причем заставили замолчать самым немыслимым и унизительным способом: на заброшенном футбольном поле на римской окраине его убил малолетний преступник, с которым он намеревался вступить в интимную связь. Не выстрел из пистолета, не автоматная очередь в тот момент, когда он садился в машину у дверей дома. Ничего 30 похожего на схему политического убийства, ставшую привычной в бурные семидесятые годы. Пазолини была уготована случайная смерть, срежиссированная умелой рукой, очень убедительная, очень подходящая для человека, известного своим «мазохизмом» и «членовредительством». На все эти пересуды, которые основывались на определенной уязвимости Пазолини, ответил Альберто Арбазино: «Ну какой там мазохизм! Какое членовредительство! Должен же быть предел! Существуют по крайней мере два веских возражения всем этим сплетням. Во-первых, чувство уважения к себе как к гражданину, вовлеченному в бурную жизнь общества. В этом случае невозможно позволить себе даже такой вполне скромный проступок, как оказаться застигнутым в кустах с трусами в руках. И это наш друг прекрасно знал, как и наши достопочтенные орденоносцы, которые очень хорошо знают все способы и уловки, чтобы не оказаться застигнутыми на месте преступления. И второе: имея хоть незначительное уважение к литературе, к названиям собственных книг, автор никогда не позволит – именно не позволит, это для него самое главное, – чтобы названия его книг превратились в заголовки газетных статей и использовались как каламбуры, лишенные всякого вкуса и смысла, для обсуждения его смерти. Действительно, ничто не возвращается, и уж меньше всего серьезная литература может вернуться к нам через эти “рассказы очевидцев”, приблизительные изложения событий, пересуды домашней прислуги. Никогда еще за всю судебную историю Италии дело не казалось таким простым, понятным и неизменным, как эта трагедия, разыгравшаяся ранним воскресным утром».2 Слежка. Перед лицом преследователей ранимость Пазолини превращалась в нравственную силу. Поразить итальянскую культуру в лице Пазолини означало подпалить бикфордов шнур. Это могло привести к невообразимым по31 следствиям. «Власть», та самая власть, с которой Пазолини вел полемику со страниц «Коррьере дела сера», к которой он обращался в своих дерзких посланиях или в письмах, похожих на воззвания Мартина Лютера, – эта власть может заставить замолчать, прибегая к изощренным методам. Власть в подобных случаях практически ничем не рискует. Или рискует в другом плане, запутывая и фальсифицируя факты, но тогда мы получаем массовые убийства, такие как на площади Фонтана или в поезде «Италикус»*. Власть не торопясь использует все, что только может найти в темных закоулках нашей жизни. И все же слежка, казалось, встраивается в общую картину событий. О самой природе этой слежки можно выдвинуть целый ряд предположений. В настоящий момент ясно только, что Пелози о многом умалчивает. Четверо «шмаровозов» отправляются с вокзала Термини, намереваясь немного попугать тех, кто им мешает, а все заканчивается потом убийством? Все представляется вполне правдоподобным. Итак, «политическое» убийство обретает смысл только переносный, метафорический. То есть любой человеческий поступок может и должен рассматриваться не как случайный, а как вписывающийся в рациональные рамки. Собственно, это убийство было «политическим» постольку, поскольку убитый был «публичным человеком». Подводя итоги, можно сказать, что единственным, что не вызывает сомнений и проливает свет на случившееся ночью на гидродроме, являются раны на теле Пазолини, многочисленные травмы, которые и вызвали его смерть. Однако ответственность за них ложится не только на Пино«лягушонка». * Имеются в виду террористические акты на площади в центре Милана (12 декабря 1969 года) и в экспрессе Рим–Мюнхен (4 августа 1974 года). 32 Итак. «Альфа-Ромео GT» подъезжает к гидродрому, останавливается в темноте. Пино Пелози говорит, что закурил и успел выкурить сигарету. Потом Пазолини стал его ласкать. «Он взял мой пенис в рот. Это продолжалось примерно минуту». Произошло оральное половое сношение. После этого, как сказано в протоколе признания Пелози, он попросил обещанные двадцать тысяч лир. «Я думал, что должен попросить деньги, когда мы все закончим». Значит, Пелози знает, что встреча еще не закончилась. Что же может тогда еще произойти между ними? Пазолини должен был расстегнуть ремень, затем молнию на брюках и подготовиться к половому акту. Пелози говорит, что он вышел из машины и прислонился к металлической сетке, которой было ограждено поле. Зачем, спросили его в ходе допроса. Он ответил: «Просто так, чтобы посмотреть». Что он хотел увидеть в полной темноте? Пелози утверждает, что Пазолини, выйдя из машины, стал преследовать его, держа в руке колышек и пытаясь этим колышком осуществить имитацию полового акта. Пелози был травмирован, разозлился, потерял голову, и именно это и стало причиной убийства. Но в борьбе отчетливо различимы две фазы, а не одна, как утверждает Пино-«лягушонок». И вот тут-то молодой человек замолкает, и его молчание свидететельствует о том, что он виновен. На следующее утро, в тюрьме «Казал дель Мармо», в камере, он говорит своему соседу, которого только-только туда поместили: «Я убил человека, я убил Пазолини». Он еще ничего не сказал на допросе, он не признался в убийстве. Этот свой поступок он объясняет так: «Они бы все равно скоро узнали, они же не идиоты». Но он еще не сознался. Он прервал расследование, он, который заявит, что убил, прибегнув к законной самообо33 роне. Этот человек, этот «папик» напал на него, он угрожал ему колышком и хотел «засунуть ему кол в задницу». Кромешная тьма. Те, кто следили за Пазолини, могли напасть еще в тот момент, когда он наклонился над половыми органами молодого человека, они могли подойти сзади, схватить, вытащить из машины. А Пелози мог выйти из машины, подойти к ограде, повернуться спиной к дерущимся – «просто так, чтобы посмотреть». Драка началась там, метрах в семидесяти от того места, где был обнаружен труп. Пазолини тяжело ранили в голову, рана сильно кровоточила. Он успел снять фланелевую рубашку, вытереть ею кровь и, скомкав, бросить ее у входа на футбольное поле. Рубашка совершенно целая, ее не порвали в драке. Пазолини расстегнул ее и снял. Каким оружием его поранили? На площадке гидродрома нашли палку и два обломка рейки, соответственно, в пятидесяти шести и девяноста метрах от трупа. Ими вполне могли быть нанесены раны на голове Пазолини. Однако возможно, что его ранили чем-то другим. Как бы то ни было, в этот момент кровь стекает у него по лицу. Кожа на волосистой части головы покрыта мелкими ссадинами. Травмы таковы, что можно предположить, что повреждены были и поверхностные артерии, тогда кровь должна была фонтанировать из ран. Такие струйки крови не могли не запачкать нападавших или нападавшего, но они не попали на Пелози. Пазолини дрался, об этом свидетельствует состояние его рук. Попытка остановить кровь, которую он предпринял, сняв рубашку, говорит о том, что первая фаза борьбы закончилась. Передышка, отдых. 34 А потом расстояние в семьдесят метров. Последние семьдесят метров в жизни Пазолини. Если появление ран на голове соответствует кульминационному моменту первой фазы драки, то пинок в промежность – это решающий момент второй фазы. Должно быть, Пазолини потерял сознание: удар вызвал обширное внутреннее кровотечение внизу живота. В заключении Моро предполагается, что удар «был нанесен одним человеком, а другой или другие держали жертву, чтобы она не уклонилась от смертельного удара». Пелози сказал, что бил Пазолини палкой и рейкой, которая от удара разломилась надвое; он сказал, что потом «инстинктивно» поднял обломки и, когда побежал к машине, выбросил их. Но еще до того как он бросился к машине, Пазолини побежал от входа на футбольное поле к тому месту, где в конце концов и упал. Клок его волос был найден на грунтовой дороге. За ним гнались, догнали, схватили за волосы. Вероятно, именно в этот момент его и пнули ногой в пах. Потом машина рванулась с места. Пелози утверждает, что не заметил, как проехал по телу Пазолини, распростертому на земле. Причиной смерти Пазолини был разрыв сердца, вызванный давлением колес «Альфа Ромео». Итак, Пелози не видел. Однако тело – вовсе не незаметное препятствие. Пелози говорит, что был потрясен, действовал как во сне. Но в этом состоянии он догадался бросить палку и обломки рейки подальше от тела. Он действовал вполне здраво и полчаса спустя, когда его остановили карабинеры, и отвечал им вполне осмысленно, сознательно избегая точных ответов на вопросы о том, что произошло. Он вспомнил о сигаретах, о зажигалке и о кольце, оставленном у мертвого тела, как будто оно было заранее заготовленным свидетельством о том, кто убил. 35 Машина была сознательно направлена на Пазолини, распростертого на земле. Он, конечно, не занимал всю проезжую часть, там оставалось еще более восьми метров, то есть машина могла свободно объехать его. А она проезжает прямо по телу и «приканчивает» Пазолини. Пелози говорит на допросе: «Я думал только о том, как мне убраться оттуда. Я не думал, что он уже умер, но поскольку я хотел только поехать и забрать свою машину, мне и в голову не пришло, что от полученных ран Пазолини может умереть». Он сбежал. Его кольцо было брошено на землю. Пелози утверждает, что в драке кольцо с него сорвали. Но кольцо было очень узким, оно тесно сидело на пальце, утром на коже от него еще оставался красный след. Сорвать его можно было только в ожесточенной борьбе, из которой Пелози не мог выйти целым и невредимым. Пазолини был сухого телосложения, очень сильный. Он привык к еженедельным тренировкам. Футбол был его страстным увлечением, его развлечением и отдыхом. Когда он говорил о футболе, он весь светился и радовался, как ребенок. Он с удовольствием пользовался любой возможностью поиграть и играл везде: на съемках с участниками, с ребятами своего квартала. Он играл азартно, яростно, агрессивно. Он не мог так легко обессилеть и сломаться в такой драке, как описанная Пелози. Пелози не говорит точно, когда, в какой момент драки кольцо было сорвано с его руки. Кольцо валяется рядом с телом. У человека, умирающего от внутреннего кровотечения, вызванного мощным ударом в пах, находящегося в полубессознательном состоянии, не могло хватить сил стащить с руки молодого человека, возбужденного дракой, готового на убийство, кольцо, которое прочно сидит на пальце. Абсурдность этой улики, этого несомненного доказательства вины, вызвала самые разные предположения. Все эти 36 предположения можно свести к одному: было ли специально подстроено так, чтобы виновным в убийстве оказался парень из предместья Тибуртино 3, потому что он, будучи несовершеннолетним, мог рассчитывать на мягкий приговор? Кольцо, которое, кажется, было специально подброшено на место преступления, еще больше, чем краткий рассказ Пелози, заставило усомниться в том, что же на самом деле произошло на гидродроме в ночь с 1 на 2 ноября 1975 года. Почему Пелози сразу после ареста рассказывает карабинерам, что потерял кольцо? Почему он сразу дает им такую ясную улику против себя? Однако такая явная улика может сыграть роль, совершенно противоположную той, которую я описал выше. После той ночи на гидродроме мог появиться совсем другой Пелози – Пелози, умудренный опытом, обогащенный новыми знаниями и ощущениями. А мог появиться и совершенно обезоруженный, бесхитростный Пелози, который убил сам, в одиночку, в полубессознательном состоянии. Мог появиться один из «несчастных молодых людей», о которых Пазолини сам написал: На улице нельзя встретить ни одной группы ребят, которая не была бы связана с преступлениями. У них нет света в глазах, черты их лиц напоминают резкие черты роботов, у них нет никаких личных качеств. Эта похожесть делает их лживыми и вероломными. За их молчанием может последовать как мольба о помощи (о какой помощи?), так и удар ножом. Они не владеют ни своими поступками, ни своим телом. Они не знают, что разделяет причину и следствие. Они опустились – несмотря на более высокий уровень школьного образования и лучшие условия жизни – до состояния примитивной грубости. Если, с одной стороны, они говорят лучше, они научились пользоваться языком 37 среднего класса, с другой стороны, они практически лишились речи, как больные афазией: они говорят на непонятных диалектах, на жаргоне, или просто молчат, издавая время от времени какие-то звуки, переговариваясь восклицаниями и междометиями абсолютно непристойного характера. Они не умеют смеяться и улыбаться. Они умеют только ухмыляться и хохотать с издевкой.3 Итак, Пелози преступник, но сам не знает об этом, потому что не может контролировать ни свои поступки, ни свое тело, потому что не знает, «что отделяет причину от следствия»; это чудовище, робот, появившийся на свет в результате итальянского «экономического чуда», в результате «эпохи благосостояния». Конечно, он учился больше и лучше, чем его отец, питался лучше, чем он, но за все эти блага он заплатил чудовищную цену: он опустился до состояния «примитивной грубости». Его влечет то, что блестит: он убил человека, а полчаса спустя, как загипнотизированный, говорит только о кольце, кольце с красным камнем и печатью «Соединенные Штаты»; такое кольцо носили американские моряки, и оно имеет для него особое значение, потому что связано с несбыточной мечтой. Что бы он ни сделал, его нельзя обвинить в причинении конкретного вреда, вреда личности: вред, причиненный им, – социальный, коллективный. Это означает также, что Пазолини в последнюю ночь своей жизни стал жертвой собственных стереотипов. Пелози казался одним из множества ребят с кудряшками на узком лбу, которых он встречал до того, но Пелози таким не был. Его «молчание» могло ввести в заблуждение автора «Шпаны». Это молчание он принял как мольбу о помощи, а получил удар ножом. Только это предположение может соответствовать версии слежки и преследования. 38 Итак, Пелози появился перед Пазолини под портиком площади Чинквеченто. Прежде всего, ты должен быть очень миловидным. Лучше – немного необычным. Ты можешь быть хрупким, худощавым, в чертах твоего лица должно быть нечто, что потом, когда ты станешь постарше, превратит твое лицо в роковую маску. У тебя должны быть черные блестящие глаза, немного припухлый рот, довольно правильные черты лица, волосы должны быть коротко подстрижены сзади и за ушами, но я легко могу представить тебя с прекрасным чубом, густым, воинственного вида, слишком картинно падающим на лоб. Было бы хорошо, если бы ты был хотя бы немного спортивным, а значит, узким в бедрах и с крепкими ногами.4 Таким был Дженнарьелло из одноименного очерка, который Пазолини начал писать весной 1975-го и не успел закончить. Он преследовал дидактические цели. Он хотел спасти от «антропологического геноцида» на тех итальянских островах, где это еще возможно, подлинность и первозданность молодежи люмпен-пролетариата. Пелози, по крайней мере внешне, соответствовал этому образу. Но от этого идеального образа Пазолини уже отошел. Он уже выразил в статье «Отречение от “Трилогии жизни”» свою «ненависть» к «телу и половым органам нового поколения молодых итальянцев». Он написал, что никогда бы не смог найти способ представить эти тела и эти половые органы в кинематографе, как он сделал это в «Декамероне», «Кентерберийских рассказах», «Тысяче и одной ночи», где они составляли гармоничное целое со всем повествованием. В его словах чувствуется ярость – ярость, вызванная разочарованием, утратой иллюзий, «ретроактивная» ярость. 39 В течение ряда лет я мог позволить себе заблуждаться. Вырождение настоящего компенсировалось как объективной живучестью прошлого, так и возможностью воссоздать его. Но сегодня вырождение тела и чувств приобрело ретроактивную значимость. Если те, кто тогда были такими, смогли сегодня стать тем, что они есть, значит, потенциально они уже были такими, значит, и их тогдашний способ существования обесценился тем, какими они стали сегодня. Если подростки и парни римского люмпен-пролетариата – а это их я пытался показать, когда снимал старый Неаполь и страны третьего мира, – сегодня представляют собой отбросы человеческого общества, это значит, что они и тогда были такими; они были дебилами, которые пытаются казаться привлекательными, примитивными преступниками, пытающимися казаться невинными простаками. И т. д., и т. п…. Вывод, который делает поэт, написавший «Шпану» как свое религиозное кредо, долгие годы черпавший вдохновение в этом идеализированном мире, горек и болезненен: «Жизнь – это циничное нагромождение ничего не значащих обломков».5 Среди этих обломков прячется смерть. Можно спросить себя: что же произошло, почему, как только появился очередной Дженнарьелло, подлинный или фальшивый – не важно, отречение от его тела утратило силу для чувств Пьера Паоло? Зову пола невозможно противиться, это мы знаем. Тогда можно спросить себя: в ту ноябрьскую ночь Пазолини поступил по этому зову или он позволил увлечь себя к жестокому концу, уже спланированному убийцей? Ночь на гидродроме до сих пор представляет собой цепь не до конца ясных событий. Теперь уже совершенно понятно, что чем тщательнее мы пытаемся докопаться до истины и узнать, что там произошло в действительности, тем больше теряемся в догадках. Единственный важный факт, факт, который не вызывает сомнений и как бы снят крупным планом, – что все эти события действительно реальны. Нельзя сказать, что истина и реальность противоречат друг другу, но вторая полностью поглотила первую. Пьер Паоло умер, и сам факт его смерти, кажется, соединил в себе случайность и необходимость, сделав бессмысленным всякое расследование, отодвинув на второй план образ Пелози, палку, разломанную надвое рейку, кольцо с красным камнем, пуловер, забытый в «Альфа Ромео GT». В памяти всплывает сцена сна из «Аккаттоне»: молодые обнаженные тела, погребенные в развалинах; ослепительное солнце, под лучами которого все обесцвечивается; чувство утраты и тревоги; сводящая с ума тишина. А вот и безжизненная, бесплодная земля, свидетельница этой смерти. Три деревца и скамейка, которые Лаура Бетти оставила в память о поэте, сломаны и потом исчезнут. Бараки, лужи, мусорные кучи – все это, кажется, не тронуто временем. Земля отверженных и маргиналов, царство развалин. Но этот жуткий гидродром – это и место плача, почти что религиозного культа. Все, что здесь находится, освящено свершившимися здесь роковыми событиями. Альберто Арбазино отказался рассматривать этот случай с точки зрения жуткой, изощренной мизансцены. Однако проблема как раз в этом: как возможно было осуществить подобную мизансцену с такой точностью? В самом факте, что Пазолини умер именно там, в том самом месте, где стояла скамейка и росли три деревца, на этой полоске бесплодной земли, на фоне бараков и футбольного поля, – в самом этом факте уже есть какая-то роковая неизбежность. Ужасающая неизбежность, даже если и было доказано, что тело Пазолини приволокли на это место его преследователи. Моравиа сказал, что узнал это место, как только увидел, как будто видел его уже много раз. «Действительно, [Пазолини] уже описал его и в своих романах “Шпана” и “Дерзкая жизнь”, и в первом своем фильме “Аккаттоне”».6 Это совпадение, этот знак судьбы, который, тем не менее, никак не отменяет существования многих гипотез о том, как произошло убийство, требует объяснения или, если не объяснения, то, по крайней мере, уточнения. Жизнь и творчество Пазолини заключают в себе смысл этого знака и его тайну. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СЕРДЦЕ МАЛЬЧИШКИ Цитата «Жить всегда как бы в присутствии самого себя, на острие шпаги, и забываться, любуясь жизнью, разбитой на отдельные эпизоды, вызывающие щемящую ностальгию по своей малой родине. Возможно, эта способность была дана его существу благодаря тому, что он был на самом деле чужим». Это страница автобиографии, самой честной, какую Пазолини когда бы то ни было написал о своей молодости во Фриули. Он никогда не издавал ее отдельной книгой. Она была напечатана в восьмом номере журнала «Боттеге оскуре», который издавала Маргерита Каетани и в котором Джордж Бассани был редактором. Воспоминания напечатаны под названием «Говорящие», речь в них о Фриули, этой таинственной и «чужой» земле, ее языке и истории. Пазолини написал «Говорящих» в 1948 году и опубликовал их в 1951.1 Благородная равеннская кровь отца (в его воображении возникал старый дворец в центре Равенны, выцветший и потертый, как на старинной гравюре, потом мгновенно промелькнувшее видение моря – Порто Корсини – и сра45 зу один из залов дворца, пышный, в духе девятнадцатого века, с красными стенами, навевающими печаль; в этом зале старая графиня, его дальняя родственница, беседует с Кардуччи) смешалась с казарской кровью Колусси (и тут в воображении возникало старое селение, серое, погруженное в плотный сумрак из-за проливного дождя; там движутся почти призрачные фигуры крестьян, а над всем этим замирает звук неожиданного удара колокола). Но его бабушка, мать его матери, была родом из Казале Монферрато. В Пьемонте, где господствующим цветом был ярко-розовый, напоминавший страницы географического атласа его детства и потому придававший особенную привлекательность воспоминаниям о семье бабушки: летний дом, бал, его бабушка, молодая девушка, причесывается перед зеркалом; дом, опустевший, кажущийся особенно большим, почерневшим, изуродованным нищетой. Но с холмов Монферрато, которых он никогда не видел, до него долетал свежий легкий ветерок, сохранившийся в чьей-то памяти, совершенно бесполезный, случайно выживший. Именно в этом месте, когда он думал о названии Монферрато, названии гордом и воинственном, с которым связывались какие-то средневековые феодальные раздоры – о них он случайно узнал в гимназии и с тех пор ими гордился, – в его воображении всегда возникала Польша. Прабабушка его матери действительно была польской еврейкой – его мать назвали в память о ней Сюзанной – и вышла замуж за солдата наполеоновской армии, который привез ее во Фриули. Польша, которая как бы сама собой возникала перед глазами мальчика и наполняла его душу счастьем, была мышиного цвета, у нее были все оттенки Рисорджименто*, в ней звучала музыка этой славной эпохи. Вне* Рисорджименто (il risorgimento – возрождение, обновление) – исторический термин, обозначающий период борьбы за политическое объединение Италии в XIX веке, окончившийся в 1871 году полным объединением страны. 46 запно все исчезало, и перед его глазами возникал образ его далекого предка, который в бесконечной снежной пустыне убивает свою лошадь, вспарывает ей живот и забирается туда, чтобы спастись от смертельной стужи. Но остановимся здесь, не будем исследовать дальше семейные предания, подсказанные причудливой фантазией, и сохраняемые с такой любовью. И пусть их мелодия, как эхо, сопровождает весь мой дальнейший рассказ. Что же хранил в душе этот «чужой» ребенок, который мечтал о подвигах предков над страницами школьного атласа? В сердце мальчишки Tal сour di un frut*: в сердце мальчишки. Что было в сердце Пьера Паоло Пазолини – ребенка, который родился в Болонье 5 марта 1922 года? Изящный ребенок с темными меланхоличными глазами, аккуратно расчесанная челка на лбу; белый пуловер с геометрическим рисунком у ворота и внизу, по краю; полные ножки в чистых носочках, лаковые туфельки, бархатные штанишки до колен. Или другая фотография: шляпа с круглыми полями на голове, расстегнутая шубка, подкладка, должно быть, очень яркая, с геометрическим рисунком в стиле ар-деко. Пьеру Паоло, наверное, года два, самое большее – три. В студии фотографа, на фоне нарисованного на холсте парка с балюстрадой и аллеей платанов. Мальчика поставили на стул с высокой прямоугольной спинкой, мать держит его за руку. Сюзанна Пазолини, урожденная Колусси. На фотографии она выглядит совсем юной. Ей, должно быть, тридцать три года (она родилась в 1891 году), но в том, как она держит голову, в ее живом взгляде, в манере одеваться сквозит осо* Строчка из стихотворения Пазолини на фриульском диалекте. 47 бенная живая свежесть, свойственная только ранней молодости. Коротко подстриженные волосы не приглажены к ушам, а зачесаны направо. На шее жемчужное ожерелье. Кроличья шубка с приспущенными плечами и широким воротом нарочито небрежно застегнута. Левая рука опущена в карман – в этом жесте есть что-то отрешенное и вместе с тем властное, и это возбуждает какое-то подозрение у того, кто пристально рассматривает фотографию. Она носит эту шубку неуверенно, немного выставляя ее напоказ, и одновременно с ревностным чувством собственности. Шубка длиной до колен, из-под нее видна узкая юбка с длинным рядом пуговичек сбоку, она доходит до лодыжек, открывая черные чулки. Туфли на тонком каблуке открытые и с ремешком. Справа от Сюзанны стоит ребенок, она обхватила его рукой. Ее дерзкий вид смягчен присутствием малыша: она показывает его, предлагает им полюбоваться, он служит ей защитой. Ее красиво очерченные, слегка тронутые помадой, губы сжаты, и это ее выражение открывает всю любовь и гордость, которую только мать может испытывать, глядя на сына. В сердце этого ребенка поселилась печаль. Печаль эта чувствуется и на другой фотографии, где он еще младше и сидит на коленях у бабушки Пазолини, старушки с немного приплюснутым носом и тонко вырезанными ноздрями, совсем как у Пьера Паоло. Бабушка Пазолини похожа на своего сына Карла Альберта. Эти фотографии рассказывают о мире мелкой буржуазии, об Италии первых лет фашизма. 1922 год – это год прихода к власти Муссолини. Пазолини родился в стране, которая стремительно меняется, разрушает или усиливает (смотря по тому, к которой из противоборствующих сил прислушиваться) традиции Рисорджименто. 48 Фашизм был по своей природе движением мелкобуржуазным, это всем известно: в нем нивелировались целые социальные слои. С одной стороны, туда влились крупные землевладельцы и промышленники, с другой – нельзя забывать и о городском и сельском пролетариате. Первые пришли к фашизму в надежде избавиться от «красной угрозы», а вторые надеялись на то, что смогут спастись от неуверенности в завтрашнем дне и угрозы потерять работу, которая стала уже постоянной. Но Италия в то же время со скоростью, возраставшей в геометрической прогрессии, удалялась от Европы; она тщетно пыталась сблизиться с ней в прекрасные романтические и постромантические времена; теперь многие, даже очень многие были согласны с государственным переворотом, организованным чернорубашечниками, надеясь, что смогут использовать его в своих интересах. Этим мечтам не суждено было сбыться. Никто не смог приручить фашизм, так же как никто не может избавиться от своих порочных страстей до тех пор, пока не признается себе в том, что охвачен ими. Мы знаем, что итальянская мелкая буржуазия выразила в диктатуре методический отказ от собственной истории, а ее идеология способствовала появлению того, что потом получило название «консенсус»*. Фашистская диктатура не была невинным изобретением или временным помрачением ума; это был некий общий знаменатель, политический и идеологический, для страны, которая страдала тягчайшим комплексом неполноценности, поразившим все ее классы; и она нашла в резком повороте направо, в популизме и авторитарности способ уйти от решения проблем, от признания истин необходимых, нежелательных и болезненных. * Консенсус – официальная позиция итальянской буржуазии и католической церкви по отношению к фашизму в 1925–1939 гг. 49 Для итальянцев было непросто прийти к антифашизму. К нему могло привести «классовое чувство», но сознательный пролетариат, понимающий собственную роль и свои нравственные и политические задачи, был тогда немногочислен и поэтому ограничен в возможностях. К антифашизму могли привести и культурные и нравственные искания элиты. Пьер Паоло Пазолини пришел к антифашизму по пути культурных исканий, и уже в то время, когда движение Сопротивления достигло своего апогея. Его отец был фашистом. Карл Альберт Пазолини Сын Аргобасто Пазолини Далл’Онда Карл Альберт родился в Болонье в 1892 году. Он рано лишился отца. Воспитала его мать, женщина с очень твердым характером. На выцветших фотографиях – острое неулыбчивое лицо с узким ртом (такой же рот будет и у ее сына, и у самого Пьера Паоло), довольно стройная фигура, изящное кружевное платье, маленькая графская бриллиантовая корона на ленточке на шее (на этой фотографии, снятой в девяностые годы, Карлу Альберту года четыре, в руке он держит хлыстик). Карл Альберт очень гордился своим благородным происхождением, считал, что унаследовал графские черты (те же черты, немного сглаженные, унаследовал и Пьер Паоло). На другой фотографии Карлу Альберту еще нет и восемнадцати лет. Он сидит на стуле (темный двубортный пиджак с широкими лацканами, на талии ремень с пряжкой, белые брюки в полоску, элегантная рубашка с безупречным белым воротничком, галстук из темного шелка, коль50 цо с камнем на указательном пальце правой руки и простое колечко на мизинце левой). Это молодой человек крепкого телосложения, с резкими чертами лица, которые похожи на небрежный набросок портрета его сына. На обратной стороне фотографии, сделанной в «Фотоателье братьев Пасквилини в Болонье и Баньи Порретта», печать с графской короной и надписью «Пазолини Карл Альберт». Молодой человек получил в наследство небольшое семейное состояние, но, как кажется, все растратил – видимо, он был страстным игроком. Другие фотографии: непокорный чуб, профиль, попавший в объектив так, что кажется, будто щека запала, глубоко посаженные глаза, бакенбарды, легко очерченные брови. Или вот еще: на пляже на Адриатическом побережье. Трикотажный купальный костюм, короткие рукава, штаны до середины икры, сигарета зажата между указательным и средним пальцами согнутой правой руки, левая рука заложена за спину, поза непринужденная, волосы растрепаны ветром. Тело нестройное, но сухое, сильное, выпуклый пах, грудь и икры крепкие, нахмуренные брови – чистокровный итальянец и внешне, и психологически. Проиграв последние деньги, Карл Альберт поступает на военную службу и отправляется в Ливию. Он служит в пехоте. В 1915 году Италия вступает войну – участвуя в боевых действиях, сержант Пазолини отличился и получил чин лейтенанта. Именно тогда во Фриули, в Касарсе, он познакомился с девушкой и влюбился. Девушку звали Сюзанна Колусси. Неудивительно, что такой человек стал фашистом; было бы удивительно, если бы он им не стал. 51 Фашизм подходил Карлу Альберту антропологически: он соответствовал его тщеславию, его любви к активной жизни, прекрасно сочетался с его хмурым взглядом. Фашизм как нельзя лучше подходил к его неустойчивому социальному положению, его аристократическому происхождению и мелкобуржуазному состоянию. То, что он пошел в армию, было не случайно: в то время итальянская армия была хранительницей авторитарного, антинародного духа, а сама служба в ней спасала от полного обнищания. Карл Альберт Пазолини всю жизнь полагал, что военная служба является чем-то идеальным, прекрасным. Даже выйдя в отставку, он оставался для своей семьи офицером, так же, как он всю жизнь оставался для семьи своей жены (а семья эта стала, естественно, и его семьей) гордым наследником графского титула. Он внушал уважение даже тогда, когда сам подорвал свой авторитет пьянством. Слабый и по-детски тщеславный, он был человеком щедрым, немного старомодным. Он безумно любил сына, постоянно демонстрировал всем свою чрезмерную любовь к нему. В общем, он представлял собой образчик типичного итальянского отца, воспитанного исключительно на идеалах Рисорджименто, неправильно понимавшего, что значит быть мужественным, но остававшегося при этом человеком честным и благородным. Семья Колусси Упоминание о семье Колусси сохранилось на архитраве* входа, под длинной галереей, ведущей во двор старинного дома. Дом этот пережил множество перестроек, и поэтому * Архитрав – нижняя часть балочного перекрытия, непосредственно опирающаяся на колонны. 52 его первозданный внешний вид сегодня скрыт бесчисленными слоями штукатурки. Остались только низкая арка и герб – тележное колесо в центре овала, который, в свою очередь, заключен в раму, напоминающую копье, перевернутое наконечником вниз. Внизу надпись: «Яко ди Колус – MDCV». Крестьянская семья – тележное колесо тому свидетельство. В Казарсе проживало множество Колусси: на местном кладбище постоянно встречаются надгробные плиты с этим именем. Сюзанна была вторым ребенком в семье, старший брат, Винченцо, эмигрировал в Америку, когда ему исполнилось девятнадцать лет. Сюзанна была любимицей родителей. У нее были младшие братья и сестры: Кьярина, которая осталась старой девой, была коммунисткой чуть не с пеленок, жила в Чиренаике, а потом вернулась в Казерту и умерла в Сан Вито аль Тальяменто. Потом Энрикетта, которая вышла замуж за Нальдини; Джино, ставший антикваром и переселившийся в Рим; Джаннина, самая младшая, тоже оставшаяся старой девой, живая, подвижная, прекрасная рассказчица. Она была учительницей и научила Пьера Паоло читать и писать. Согласно семейному преданию, у нее было много подружек, таких же энергичных, как и она сама, и они в сороковых-пятидесятых годах часто отправлялись в дальние поездки на мотоциклах по рощам и лесам вокруг Тальяменто. Морщинистая, сухонькая, с бесстрастным голосом, отрывистым смехом, крашеными волосами, Джаннина обладала пронзительным взглядом и, казалось, могла прочитать в душе собеседника все его тайные грехи, о которых он и не подозревал. У Энрикетты была милая улыбка, совсем белые волосы, она была мягкой и нежной, как и подобает доброй матери семейства; все ее черты говорили об особенной чувствительности. 53 Сюзанна была больше похожа на Джаннину: она тоже была учительницей, преподавала до замужества. Внешне они тоже были похожи: и сухощавостью, и острым взглядом, одновременно веселым и насмешливым. И в то же время ее отличала от сестер особая мечтательность, которая сквозила в каждом ее движении. Итак, Колусси, старинная крестьянская семья. Это мелкие землевладельцы, они сами обрабатывают свои поля. В семейных преданиях почти не упоминаются батраки. Отец Доменико попытался изменить жизнь семьи: он занялся производством граппы и преуспел. У него был небольшой заводик с дешевым оборудованием, но прибыль он приносил довольно значительную. Еще у него была молотилка; в те времена сельскохозяйственных машин было мало и они давали приличный доход. Все это было в девятьсот десятых годах. Та ветвь семьи Колусси, к которой принадлежала Сюзанна, могла считаться в те времена самой влиятельной семьей Казарсы. А потом пришла война и с ней Капоретто. Когда началось отступление у Капоретто, Колусси бежали: они уехали в Феррару к Нальдини, с сыном которых была помолвлена Энрикетта. Когда они вернулись домой, все пошло по-другому. Для Колусси наступили тяжелые времена: и заводик, и другие их предприятия поразил тяжелый финансовый кризис, выйти из которого было очень сложно. Это, впрочем, не означает, что семья совсем обнищала: женщины, чтобы помочь семье, тоже начали работать. Энрикетта открыла небольшой писчебумажный магазинчик. Это была семья с матриархальным укладом. Мать, Джулия, держала в руках все и всех. Она привлекала на свою сторону дочерей, а мужчины в доме ничего не касались, 54 они должны были полностью подчиняться заведенному ею порядку, а взамен получали свободу вне дома. Мужчины эти предстают как нечто неясное, туманное. В рассказах внуков они едва упоминаются. Они, как на карнавале во Фриули, неотличимы от женщин: мужчины в женских платьях, женщины в мужской одежде. Дом. Это не тот дом, где на арке под галереей изображен герб с колесом. Это старый маленький домик в двух шагах от перекрестка Понтеббана, где встречаются две улицы: одна ведет к церкви и к центру городка Казарса, и там, слева, и находится домик семьи Колусси. Перед ним прежде были луга и фруктовые сады, а теперь стоят дома нового квартала, облицованные красноватой плиткой. Казарса постепенно приобрела вид вполне современного городка. Только дом Колусси, который стоит на главной улице, напоминает о том, как выглядели старые дома крестьян с маленькими окнами и тонкими стенами. Дом одноэтажный, сейчас там разместилась красильня. К дому примыкает строение в форме куба. Этот куб был построен при участии Карла Альберта Пазолини в 1946 году для Академии фриульского языка, литературной ассоциации поэтов и писателей, основанной Пьером Паоло. За перекрестком Понтеббана начинается дорога на Сан Джованни ди Казарса и дальше, на Версуту. Поля Сан Джованни и Версуты обсажены рядами тополей, которые во время весенних туманов кажутся призрачными. За ними тянутся виноградники и фруктовые сады. Далеко в полях крестьянские дома с террасами, не изменившиеся с семнадцатого века, вызывают в памяти стихотворения Пазолини, написанные по-фриульски, отрывки из «Прекрасной молодости», главы из «Сна о чем-то». 55 Краткая история одного замужества Сюзанна, очень изящная, грациозная, хрупкая, с легким облаком темно-каштановых волос вокруг милого личика, всегда вызывала всеобщее восхищение. Она и сама любовалась собой и была к себе очень снисходительна. Согласно семейным воспоминаниям, еще до встречи с Карлом Альбертом она пережила большую любовь, большую несчастную любовь (кто знает, в чем заключалось несчастье?). Но она была веселой девушкой, любила учиться, читать, старалась приобрести хороший вкус и манеры, пела, придумывала сказки, сочиняла вилоты* . Возможно, несчастная любовь развила в ней склонность к боваризму**. Потом она встретила унтер-офицера Пазолини. На фотографии он затянут в серо-зеленую форму пехотинца, на груди орденские ленточки, кольца с руки исчезли. Исчез и вызывающий взгляд; волосы коротко подстрижены, как у короля Умберто, причесаны и приглажены. Обычно, если двое встречаются во время войны, война их разлучает. Карл Альберт после войны вернулся к Сюзанне. Он был безумно влюблен в эту ироничную женщину, которая, возможно, жила особой, придуманной ею, жизнью. Кажется, она не жила, а писала роман. Сюзанна колебалась, Карл Альберт настаивал. Он «принудил ее к браку» – то есть Карл Альберт заставил ее выйти за него, прибегнув к сексуальному насилию. С другой стороны, Сюзанне было уже тридцать лет. Она вот-вот должна была превратиться в старую деву, и это по * Vilote – традиционные народные песни Фриули, известные с XV века. ** Боваризм (псих.) – клиническое состояние, при котором факты реального мира подменяются воображаемыми. 56 тем временам не могло не беспокоить ее. Такой практический довод должен был склонить ее к замужеству. Двойное насилие породило обиду, сначала скрытую, но мало-помалу все более явную, которая и омрачала ее отношение к мужу, а он, чувствуя ее неприязнь, стал искать утешения у других женщин. Они ссорились, он уходил из семьи, а потом снова возвращался. Много лет Карл Альберт обожал жену и постоянно ссорился с ней. Она с годами становилась все изящнее, проводила целые часы у туалетного столика, стремясь стать еще красивее – может быть, для того чтобы стать для него еще недоступнее и еще желаннее. Это бессознательное стремление делало жизнь в семье невыносимой. Карл Альберт продолжил службу в армии, и семья всюду следовала за ним: Болонья, Парма, Беллуно, Конельяно, Сачиле, Кремона, Скандьяно, снова Болонья. Пьер Паоло родился в самом начале их скитаний. Летом, когда у Карла Альберта был отпуск, семья приезжала в Казарсу погостить. Ссоры между мужем и женой не кончались. Улыбку Сюзанны Карл Альберт мог воспринять как вызов. Он уходил из семьи, а потом возвращался. Его уходы жестоко обижали Сюзанну, но всегда были ей понятны. Некоторое время спустя Сюзанна взяла к себе Анни, племянницу, дочь Нальдини. Анни постоянно жила в семье и сопровождала Пазолини в их переездах. Она училась, помогала присматривать за двоюродными братьями. В 1925 году родился второй ребенок, сын Гвидо. Однажды, когда Карл Альберт не жил дома уже целую неделю – дело было в Болонье, году так в 1933 или 1934, – Сюзанна, как бы извиняясь за мужа, сказала Анни: «Ему необходимы женщины». Что она имела в виду? Что между ними не было интимных отношений? 57 Супруги Пазолини спали в одной постели, однако возможно, что Сюзанна постоянно отказывала Карлу Альберту. Любовь Сюзанны была отдана детям, в особенности Пьеру Паоло. К ним она испытывала сильное, даже болезненное чувство. Пьер Паоло был для нее воплощением всего самого возвышенного, и одновременно он вызывал у нее эротическое чувство. Неприязнь, которую она ощущала к мужу, усугублялась по мере того как дети подрастали. Ее богатая женская натура нуждалась в любви и привязанности, и сын полностью удовлетворял эту ее потребность. В ней особенно ярко проявилась матриархальная традиция семьи Колусси. Она никогда не помышляла о том, чтобы изменить мужу с каким-нибудь другим мужчиной, но в своих мечтах изменяла ему постоянно с Пьером Паоло. И Пьер Паоло отвечал на ее страстную любовь. Мальчик остро сопереживал матери в ее неприязни к отцу, но не понимал, что насилие, которое отец осуществил над матерью, сделало возможным само его появление на свет. Существует и еще одно соображение: возможно, что именно его неосознанное сочувствие послужило причиной возникновения привязанности, гораздо более сильной, чем сынóвья, у Пьера Паоло по отношению к Сюзанне и ее вымышленному миру. Полстраницы машинописного текста, найденные в его бумагах уже после смерти (может быть, это отрывок из интервью для какого-нибудь журнала): Каждый раз, когда меня просят рассказать о моей матери, поделиться своими воспоминаниями о ней, мне всегда представляется одна и та же картина. 58 Мы в Сачиле весной 1929 или 1931 года. Мы с мамой идем по тропинке посреди полей, довольно далеко от селения, мы одни. Совсем одни. Вокруг нас кусты, на которых только-только набухли почки, они выглядят совсем по-зимнему. Деревья тоже еще голые, сквозь изогнутые черные ветви видны голубые горы. Но примулы уже зацвели. Канавы полны воды. Все это наполняет меня бесконечной радостью; даже сейчас, когда я говорю об этом, у меня срывается голос. Я крепко сжимаю руку матери (мы идем рука об руку), прижимаюсь щекой к потертому меху ее шубки. Этот мех пахнет весной, какой-то смесью свежести и тепла, весенней грязи и весенних цветов, которые почти не пахнут, дома и полей. И этот запах потертой шубки моей мамы для меня – запах моей жизни. В детской памяти смешиваются сон и явь. В этих нескольких строчках совсем как у Пруста описано зарождение любви. Тепло меха, лицо, которое в него погружается, несомненно, символизируют намерение инцеста. Пазолини никогда не отступал перед такими рискованными картинами, которые подсказывали ему его воображение и его чувственность. Он до последнего мгновения своей жизни принимал этот вызов со всеми последствиями, мучениями. Еще одна фотография. Это, наверное, улица Казарсы. Зима, деревья голые, слегка освещенные солнцем. Малыш Пьер Паоло одет в белую шубку, на башмачки спускаются толстые гетры. Сюзанна наклонилась к нему с улыбкой. Отношения между матерью и сыном всегда были очень нежными. В последние годы Пьер Паоло любил обнять Сюзанну за худенькие, как у птички, плечики. Сюзанна умиротворенно улыбалась. Они называли друг друга ласковыми уменьшительными именами. 59 На вырванном из тетради листе бумаги в клетку остались эти написанные белым стихом строчки: Мама, я вижу, что ты грустишь: это бесконечное повторение обыденных вещей заставляет тебя грустить, склонив голову, заставляет тебя печально сложить губы. А ведь ты, мама, создана для того, чтобы порхать, как птичка, собирать зернышки то тут, то там, а потом летать без устали в небе; или, как невесомая бабочка, кружить без цели над полями, забывая о лилиях и ирисах, и припадать к розам! Но не печалься! Ты еще прекраснее, если твоих губ касается улыбка! Улыбнись! Ведь жизнь, прекрасная жизнь, которую ты мне подарила, приносит радость, как поля дают нам цветы: если один цветок увянет, появится другой. Если ты тогда, нося меня под сердцем, улыбалась, то теперь ты улыбаешься мне, когда я кружу тебя в вальсе. Ты ведь похожа на каштан, который отцветает последним! Внизу подпись: «Болонья, 1939 г., Пьер Паоло». В этих стихах можно было бы проследить стилистические особенности Пазолини, но для нас важны не они. Го60 раздо важнее, что они напрямую свидетельствуют о сыновнем чувстве, которое останется неизменным на всю жизнь. Это чувство семнадцатилетнего юноши, который, конечно, был воспитан на «традиционной поэзии», у которого, конечно, «появлялись на глазах слезы, когда он слышал поэтическую октаву, созданную в шестнадцатом веке», который дрожал, читая «стихи неизвестного поэта-символиста, умершего в…»2, но сохранил в неизменном виде, неподвластном времени, образ матери «невинной, вечно молодой». Этот образ мог быть подсказан юноше боваризмом самой матери. Можно с уверенностью сказать, что он, особенно в ранней юности, считал, что она – воплощение всех добродетелей. Память подсказывает и другие строчки. Название стихотворения совсем не случайно: «Воспитание чувств»: Кем я был? ⟨…⟩ ⟨…⟩ Я едва родился в мире, где привязанность подростка – доброго, как его мать, наивного, порывистого, не подозревающего, что существуют законы мира, далекого от идеала, – была горьким признаком чего-то мерзкого, смешного ⟨…⟩.3 Таким и было его воспитание: он был «чудовищно робким» мальчиком. Вот он одет в «русский костюм»: казачьи шаровары и сапоги, под мышкой скрипка, в правой руке смычок, левая опущена. Это 1936 год. Пазолини живут в Скадьяно, Пьер Паоло ходит в школу в Реджо Эмилиа, учится играть на скрипке. Через несколько месяцев он бросит скрипку и будет учиться на фортепьяно. (Его увлечение музыкой продлилось очень недолго.) 61 Робость сквозит в его улыбке, едва заметной, рассеянной, слегка оживляющей его треугольные скулы (совсем как у Сюзанны). Другого рода робость заметна на фотографии, снятой во Флоренции, на площади Микеланджело. Там он заснят с отцом. На мальчике брюки, как у зуава*, слишком широкий пиджак, волосы у него блестят от бриллиантина, челка падает на прищуренные глаза. Это тот же мальчик, что и на общей фотографии пятого класса гимназии. Он кажется немного младше, чем остальные ребята, ему еще расти и расти; в глазах затаилась печаль – возможно, эта печаль, столь часто появляющаяся на лицах простых крестьян, передалась ему от Сюзанны, печальной мечтательницы, оставшейся на всю жизнь ребенком. В 1960 году в книге «Женщины Рима», где были собраны сто четыре фотографии Сэма Ваагенара, подписи к которым составил Пазолини, он написал: «Какой маленькой кажется мне моя мама, совсем как девочка, школьница, прилежная, робкая, но готовая исполнить свой долг до конца». Уже тем, что он пишет «мама», а не «мать», Пазолини подчеркивает физиологическую, утробную связь, от которой он не в силах отказаться (он всегда очень тщательно выбирал слова). Эта связь привела к тому, что он всегда говорил о «юном облике» Сюзанны немного тенденциозно. Сюзанна, верная «своему долгу» «до самого конца», и старательная, «прилежная», «робкая» или «печальная» «из-за бесконечного повторения обыденных вещей». Это Сюзанна – жертва собственного мужа, которую может спасти страсть сына. Пятно позора, которое Пьер Паоло хочет смыть с чистого образа Сюзанны, – это неудержимое буйство отца, его * Зуав – солдат французских колониальных войск. 62 склонность к насилию (в более позднем возрасте из-за злоупотребления алкоголем он превратился в мизантропа и параноика). Это черты характера мужчины, который пользуется своей силой и постоянно требует чего-то от окружающих. Пьер Паоло был вынужден терпеть союз своих родителей, но воспринимал историю семейной жизни Карла Альберта и Сюзанны по-своему, во многом благодаря невысказанному и неосознанному желанию самой Сюзанны. Можно сказать, что Пьер Паоло сознательно запрещал собственному «я» сохранять образ отца: в детстве он этого не замечал, потом поступал вполне осознанно. Я никогда не произносил только одного слова, которое часто звучало из уст моих отцов (разве что я хотел пожелать им гореть в аду). Они – преступники, ненавидящие разум, они тяжким грузом ложатся мне на плечи. Конечно, и я вышел из чрева моей матери, и я пришел в этот мир, как непостижимый варвар, но у меня была какая-то утонченность, какая-то странная и невероятная зрелость. Меня никто не ждал с любовью. Мне не на кого было смотреть сыновним взглядом. Никто не удивился моей горькой мудрости. На меня устремились глаза отцов… Но хватит… Пора кончать. Они мертвы, они ушли, унося с собой мои проклятья, мое равнодушие или мое сострадание…4 Здесь говорится об «отцах», но если правильно читать этот символ, то нужно использовать слово в единственном числе. 63 Однако сам Карл Альберт гордился сыном. Можно сказать, что в этом он следовал неписаному закону мелкой буржуазии, согласно которому нужно гордиться детьми, которые добились успеха, а не любить их такими, как они есть. Карл Альберт любил сына за то, что тот хорошо учился, но он не смог принять его нетрадиционную сексуальную ориентацию, и когда нельзя было больше закрывать на это глаза, он впал в тяжелую депрессию. Он – военный, прирожденный фашист – не мог принять такого сына. Он должен был презирать его, поскольку это означало и отказ от его отцовского начала, и таинственную эротическую связь между матерью и сыном. А сын выставлял это свое качество напоказ, открыто заявлял о нем, когда его обвиняли. Тем самым он сам осуждал не только мужское начало отца, но и само его существование. Отец и сын В интервью, данном Даче Мараини, Пазолини откровенно и бесстрастно говорит о своих отношениях с отцом.5 «В первые три года моей жизни он был для меня гораздо важнее матери. Его присутствие вселяло уверенность, придавало сил. Настоящий отец, любящий и готовый защитить. А потом вдруг, когда мне было года три, разразился скандал. И с тех пор между нами всегда были натянутые, драматичные, трагические отношения». Итак, когда ему исполнилось три года, случился скандал. До того времени отец казался «веселым». Затем он становится «грубым, ревнивым тираном». С трех лет – «напряженные, трагические отношения» между отцом и сыном, ставшими соперниками. И это так. Скандал разразился, когда Сюзанна была беременна Гвидо. «Когда мать должна была вот-вот родить, у 64 меня начались рези в глазах. Отец укладывал меня на кухонный стол, отводил мне пальцами веки и закапывал капли. Именно с этого символического момента и началась моя непрязнь к отцу». Все совершенно ясно. «Я помню, что, когда моя мать была беременна, я спрашивал у нее: “Мама, а как родятся дети?” И она, мягко улыбаясь, отвечала: “Они родятся из животика мамы”. Я, естественно, в то время не захотел ей поверить». Естественно, он должен был поверить, по крайней мере, уловить неясный смысл, и чувство соперничества по отношению к отцу не замедлило проявиться. Есть и еще одно соображение, которое, однако, трудно проверить: возможно, Пьер Паоло случайно стал свидетелем интимной сцены между отцом и матерью именно на кухне. И тогда нетрудно заключить, что он в рассказе-воспоминании отождествляет с «кухонным столом», местом, где его отец причинял ему боль, место действия той интимной сцены. И то, что отец закапывал ему в глаза капли, можно рассматривать как символическое действие (глаз и капли становятся тогда сексуальными символами). Однако совершенно неважно, насколько все эти построения верны (от «рези в глазах» до закапанных капель), абсолютно ясно одно: важно то, что этот рассказ является результатом самоанализа, который Пазолини проводил на протяжении всей своей жизни. Представляется исполненным значения и тот факт, что рождение Гвидо для Пазолини означало серьезный кризис: мать рожает ребенка, а старший сын испытывает невроз. Именно тогда Пазолини был поражен видом тел детей, которые играли на площади перед домом. Он говорит: «Меня влекли их ноги, особенно углубления под коленом… Это чувство притяжения я назвал «Тета-велета». Несколько лет спустя Контини мне сказал, что по-гречески “tetis” 65 означает “пол” (и мужской, и женский) и что Tета-велета можно рассматривать как напоминание, слово-заместитель, как это бывает в древних языках. То же самое чувство Tетавелета я испытал, когда увидел грудь моей матери».6 В этот критический момент отец из любящего защитника превращается в злобного тирана, в детской фантазии сына он становится насильником. И в этот миг его стремление приблизиться к матери, которое до сих пор было фатальным и неосознанным, становится явным, открытым, полностью извлекается на свет беспощадных лучей солнца. Открытие Теты-велеты обнажает истину: «С тех пор вся моя жизнь сосредоточилась на матери». Через год его начинает мучить сон, что он ее потерял, что он бежит за ней по лестнице. Его охватывает страх, он боится, что сердце у него остановится, и это действительно происходит первый раз, когда ему исполняется четыре года. В это время «у отца большие неприятности» из-за долгов. «Мама вернулась на работу в школу. Тогда я спал в ее постели». В то же время он открывает для себя, что его мать, в противоположность отцу, «антифашистка». Пазолини живут в Беллуно. В город приезжает король. Население приветствует его довольно сдержанно. Сюзанна, «которая была антифашисткой и была наивно предана королю, в полной тишине одна закричала: “Да здравствует король!” Это “Да здравствует король!” я хорошо помню. Но я не заметил, что другие были настроены враждебно. Я только обратил внимание на прекрасный, немного детский голос моей матери». А о политических привязанностях отца он говорит: «Мой отец был человеком страстным, чувственным, порывистым. Он принял режим, и сделал это осознанно и серьезно. Он стал настоящим фашистом-националистом». 66 Соперничество между отцом и сыном. Отец хочет, чтобы он стал литератором, поэтом. У отца был брат, которого тоже звали Пьер Паоло. Он тоже писал стихи. Он погиб в двадцать лет, утонул в море. «Я до шестнадцати лет хотел стать морским офицером. Он [отец] говорил, что мне нужно поступить на филологический факультет. Потом его доводы обратились против него самого». Почему «против него самого»? Ответ Пазолини не совcем искренний. «Потому что он считал, что поэзия обладает воинственным духом. Он и представить не мог, что она может быть вызывающей, скандальной. Когда он говорил о поэзии, он имел в виду Кардуччи, Д’Аннунцио». При помощи поэзии и культуры Пьер Паоло освободился от нравственных представлений отца и примкнул к миру матери («Моя мать для меня стала Сократом. Ее представления о мире, конечно, были идеалистическими, она все идеализировала и идеализирует до сих пор. Она верит в героизм, милосердие, сострадание, щедрость. И я воспринял все это почти с патологической точностью»). Это освобождение позволило бросить в лицо отцу собственную идею, совершенно «скандальную»: поэзия – это средство противопоставить ему и всякой другой власти собственное «я», отличное от традиционных представлений, открыть истинную природу его отношений с Сюзанной, трагическое следствие Tеты-велеты, гомосексуальность. И, наконец, история женитьбы: «на всю мою жизнь повлияли скандалы, которые устраивал мой отец моей матери. Эти скандалы вызывали у меня желание умереть». Сюзанна, утонченная и пассивная, казалась жертвой, которая страдала от этих скандалов. Карл Альберт устраивал ей сцены из-за пустяков: «стакан не на месте, несвежее полотенце, пересоленный обед… Он ругал ее за то, что она 67 витает в облаках. Но все это было неправдой. Правда заключалась в том, что он был фашистом, а она – нет. Они никогда не говорили о политике, но мой отец знал: моя мать считала, что Муссолини “задница”, попросту говоря, “толстозадый”, как его называла моя бабушка. Витать в облаках для него означало быть нонконформисткой, не соглашаться с законами государства, с мнением власть имущих». Итак, все время подвергалась сомнению идея власти, сама шкала ценностей. В такой обстановке, когда брачный союз потерпел крах, естественным выходом для нервного ребенка было «желание умереть». Творческое решение этой проблемы должно было появиться позднее, даже если Пьер Паоло и начал писать стихи в семь лет и провалился на экзамене в пятом классе начальной школы, потому что написал «слишком поэтическое сочинение». Карл Альберт дома был настоящим тираном, а со своими подчиненными был добр и внимателен. Пазолини объясняет эту двойственную манеру поведения двумя причинами: паранойей и пьянством («для параноиков и для пьющих мужчин такое поведение типично»). Как бы то ни было, но жизнь пехотного офицера Пазолини не была счастливой: его просто пожирала страсть к жене, совсем как у Достоевского. («Мой отец безумно любил мою мать, любил неправильно, слишком страстно, как собственник»). Противоречия, раздиравшие его душу, он пытался утопить в вине, заглушить игрой, но только начало Второй мировой войны, казалось, смогло положить конец этому душевному разладу: он ушел на фронт, попал в плен в Кении и вернулся в Италию только в конце 1945 года. Драма, вызванная поведением Пьера Паоло, так называемым «скандалом», его подкосила. Она вызвала помраче68 ние разума, он стал еще больше пить, по ночам кричал, что жена его не любит. Умер он 19 декабря 1958 года в Риме от цирроза печени. В одном из своих стихотворений Пьер Паоло рассказывает о нем, но по случайной ошибке, которую он так и не потрудился потом исправить, он написал, что отец умер на год позже, «солнечным зимним днем пятьдесят девятого года». Стихотворение датировано 30 января 1963 года и было опубликовано как приложение к сценарию фильма «Дикий отец». Он хотел снимать этот фильм в Африке, но так и не снял. (Пазолини пишет: «Судебный процесс над фильмом “Овечий сыр”, когда меня обвинили в надругательстве над религией, помешал мне снять фильм “Дикий отец”. Боль, которую я тогда испытал и которую попытался выразить в простом стихотворении “И что же Африка?”, до сих пор причиняет мне страдания»). В стихах передан разговор между Пазолини и продюсером Альфредом Бини, разговор нереальный, привидевшийся во сне, в котором перемешались все события и факты, помешавшие съемкам фильма: Я потратил слишком много денег на ненужные изыски, я нанес обиду сильным мира сего, неосторожно коснувшись их частной жизни. Я слушал его. Он пока еще не злился: его луженая глотка казалась нежным детским горлом, потому что, когда он слышал упреки, в этом его горле застревал комок невыплаканных слез… Ему кажется, что лицо друга-продюсера от гнева раздувается, в «истерике» краснеет, «как будто налитое кровью», двоится: 69 …и он раздваивается, и мне кажется, что из Бини выходит мой отец. Отец, о котором я не говорил, которого я не вспоминал с декабря пятьдесят девятого года – года, когда он умер. И вот он вернулся, он стоял передо мной как хозяин. Но его тут же сменил мой сверстник из Гориции, он возник передо мной и встал, засунув руки в карманы, рыжеволосый, неуклюжий, как парашютист после прыжка… На этом метаморфоза не заканчивается, отец появляется снова, как тень Банко, и у него «землистая кожа, как у пьяницы или умирающего». Его образ накладывается на рыжую «растительность» Бини. И Бини уже не нужно объяснять, почему нельзя снимать фильм. Не нужно говорить и о приговоре суда, о надругательстве… Ах, отец, отец уже не мой, просто отец, который приходит и уходит в моих снах, когда ему вздумается. Теперь он похож на кабана, насаженного на вертел, он землисто-серого цвета: таким его сделали вино и смерть. Он приходит, чтобы сказать ужасные вещи, восстановить никому не нужную истину. Он испытывает от этого удовольствие, забыв, что умер на дешевой двуспальной кровати, что его рвало кровью на простыни, что он отправлен в гробу в негостеприимный Фриули однажды солнечным зимним днем пятьдесят девятого года! Мир – это та самая реальность, на которой ты всегда настаивал! ⟨...⟩ Конфликт между отцом и сыном не иссяк: даже после смерти отец возвращается и воплощается в авторитарных проявлениях, которые всегда были связаны для сына с «причинами высшего порядка», во всем том, что угнетает 70 и подавляет (сам Пазолини называл эти проявления «буржуазными»), что мешает истине выйти наружу. Эта истина – истина тела, а значит, и истина души. Но тело, которое ее изрекает, – это тело, подвергавшееся насилию и требующее слова, ругательства, которое могло бы освободить жизненную энергию, ругательства «истинной религии». Отец – это тот, кто самовластно желает – в состоянии истерики он даже «наливается кровью» – «восстановить истину». Истина эта ничтожна, никому не нужна, от нее нужно отказаться, выбросить ее вон. Эту истину история опровергла, она вот-вот превратится в ложь. Жизнь совсем другая. Так вот, в том событии – неважно, происходило ли оно на самом деле или нет – от которого в воображении Пазолини сохранились «резь в глазах» и насилие, которое применил к нему его отец на кухонном столе, закапывая ему капли, – в этом событии и таится ядро, зародыш творческого невроза поэта. Из него родилась необходимость действий, которые сублимировали бы ответ на это насилие. В этот момент родилось призвание Пазолини, оно появилось как ощущение необходимости высказать то, что нельзя высказать, то, что было вызвано жестоким «насилием» отца. Поль Валери сказал в «Морском кладбище»: «rendre la lumière suppose d’ombre une murne moitié»*. На свет нужно вынести то, что тьма, внезапно упавшая на мир, скрыла, – на свет слова, на свет экспрессии. Только так одна жизнь может принять и простить другую, сожженную, испепеленную. Отец, поступив как тиран и насильник (а ведь на самом деле он поступал как любящий отец, поскольку хотел вылечить сына), превратился в отчима. Трагические чувства, охватившие сына, – это замена привязанности, которая * Свет предполагает и равную долю тьмы (фр.). 71 больше не существует. Появление в этот момент матери хотя и имеет основополагающее значение, хотя мать и воплощает в себе саму жизнь, представляет собой некий суррогат, замену. Мать воплощает в себе мщение, вендетту. Истинная утрата – это утрата отца, утрата моральная. (Каждый раз, когда отец и мать ссорятся, сын ощущает непреодолимое желание умереть). Из страдания, причиняемого этим разделением, поэта вызволит призвание, ребенок же навсегда останется им отмечен. Вот это-то и будет в сердце мальчишки. Отец превратился в отчима, сын стал пасынком. Это судьба Ореста, судьба Гамлета. В борьбе против самовластия, которое олицетворяет отчим, личные причины символизируют причины политические («прогнило что-то в Датском государстве»), и наоборот. Гражданская роль поэзии Пазолини заключается в том, что она борется против любого насилия и угнетения, против всех условностей, свойственных авторитарной власти. Для Пазолини средоточием этих условностей является «вечная истина» отца. Но очень важно и то, что эта «вечная истина», уже далекая, превращающаяся в пепел, во сне оказывается безобидной и невинной. В «Пиладе» (версия, найденная после смерти автора) мы читаем: Нигде нельзя любить лучше, чем во сне: мы наконец полюбим наших незабвенных отцов, когда увидим их во сне. И расскажем друг другу наши сны…7 И еще, тоже устами Ореста: Пойду и помолюсь на могиле моего бедного отца. Я не забыл его, теперь он в снах моих. И во сне он говорит со мной словами милосердия…8 72 Мог ли Пазолини сказать, что его отец, теперь уже умерший, говорит с ним «словами милосердия»? Возможно, мог. Теперь эта «ужасная, кровавая, чистая, отчаянная любовь» (это тоже слова Ореста), родившаяся из ненависти, стала тем, чем она, собственно, и была. Мы можем спросить: а каких отношений с отцом желал бы Пазолини? За ответом нужно обратиться к трагедии, написанной Пазолини весной 1966 года и названной им «Affabulazione»*. Пазолини тогда выздоравливал после тяжелого приступа язвенной болезни, который приковал его к постели почти на месяц. (При желании можно рассматривать выздоровление как новое рождение. Болезнь была очень тяжелой, несколько дней он находился на грани смерти, но писал как одержимый. Он написал один за другим первые варианты своих шести трагедий. Я думаю, что тема взаимоотношений отца и сына, постоянно появляющаяся в них, не случайна). В «Affabulazione» жестокий кризис переживает отец, который мучительно стремится к тому, чтобы его отношения с сыном стали реальными, чтобы они смогли преодолеть ненависть и неприязнь. Он решает предложить сыну свое тело, свое мужское начало, «не преследуя никаких практических целей… просто как что-то вроде мастурбации», «когда мальчик ощутит в руке член отца, который не может и не обязан оплодотворять, а потому подобен огромному дереву, лишенному тени». Именно этого Пазолини хотел от отца: чтобы тот стал «деревом без тени». Он хотел отца без земной харизмы, но с харизмой гораздо более важной, той, которой обладает * Слово «affabulazione» придумано самим Пазолини. Его можно понимать как бесконечное повествование, вбирающее в себя один сюжет за другим. 73 божество. Он хотел отца, который лишен пола. Отца, который оплодотворяет, но не материально, а духовно. Вот тут-то реальный отец, отчим, превращался в возможного отца, в недостижимый идеал; и «ужасная, кровавая, чистая любовь сына» находила свое воплощение, пусть даже только литературное. ВРЕМЯ АНАЛОГИКИ* Детство, отрочество, Гвидо Детский сад при монастыре в Беллуно. Монахини просят детей выкопать яму в саду. Они говорят, что там зарыт клад. Пьер Паоло копает несколько дней, потом ему надоедает, он разочарован и отказывается ходить в детский сад. И добивается своего. Он был капризным и упрямым ребенком, но доверчивым, восторженным. Он сам так говорил. Он как зачарованный смотрел на яркие краски географического атласа; глядя на карту, он в мечтах совершал чудесные путешествия. Ему нравилось слушать сказки и истории, и Сюзанна ему рассказывала. В первый класс он пошел в Конельяно. Он был одним из лучших в классе. В школе награждали лучших учеников, и его тоже наградили. Он вернулся домой и показал маме зеленую ленту, к которой была прикреплена медаль. Он испытывает болезненное желание быть лучшим в школе. Он прилежно учится, как и хотела Сюзанна. Он относится к учебе очень серьезно, он очень аккуратен, но постоянно упрям. Он признается, что начал «говорить неправду». Сюзанна ему запретила играть на улице, а он пошел и ничего не сказал. Он говорил, что ему очень нравилось выдумывать, как он мог бы солгать. * Analogica – неологизм Пазолини, образованный при помощи греческой приставки ana – (обратно, вновь) и слова «логика». Таким образом, слово приобретает двойное значение: оно связано и с чем-то не поддающимся обычной логике (обратная логика), и, по звучанию, со словом «аналогия». 75 Во втором классе он учится в Казарсе. Именно тогда он открыл для себя Фриули, родные места матери. Он первый раз в жизни живет в «своем» доме, у него нет больше ощущения временности, непостоянства, которое вызывали казенные офицерские квартиры. Дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Он влюбляется в двоюродную сестру Франку. Дедушка Колусси умер как раз в тот год. От заводика по производству граппы не осталось и следа. В третий класс он пошел в Сачиле. Тут он начал писать стихи. Это «изысканные» стихи, подражание Петрарке, со сложными рифмами. Пьер Паоло говорил, что у него сохранился целый сундук его детских сочинений. Потом четвертый класс в Идрии. Учитель его не любит, мальчик ужасно страдает. Он признавался, что в это время он вел себя очень по-детски, превратился в «Пьерино», и это могло вызвать неприязнь окружающих. Он много читает. Читает о приключениях. Ковбой Утренняя Звезда, Сальгари. Замечательные книги. Только в четырнадцать лет, прочитав «Макбета», он откроет для себя другую литературу. Тогда он страстно полюбит книги, будет покупать их у букинистов на прилавках Портичи делла Морте* в Болонье. В пятом классе он снова учился в Сачиле. Его одноклассники выросли, он отдалился от них, чувствует себя чужим, ему не по себе. На экзаменах в пятом классе он провалился по итальянскому языку. Для него это удар. Он привык к успеху, сочинения ему всегда удавались. В октябре он пересдал экзамен и посту* Галерея в центре Болоньи, где расположен один из старейших книжных магазинов и прилавки букинистов. 76 пил в гимназию в Конельяно. Из Сачиле он ездил в Конельяно на поезде. Он выходил из дома рано утром и приезжал в школу первым. Там еще никого не было. Только он сам, его книги и сверток с бутербродом, который он брал на завтрак. Потом он учится в Кремоне. В Кремоне кончилось его детство, ему исполнилось тринадцать лет. «Начиналось лето 1934 года. Заканчивалась целая эпоха моей жизни, я был готов вступить в новый мир. Дни в конце весны тридцать четвертого года были самыми прекрасными и безоблачными днями моей жизни» (так он сказал в интервью Даче Мараини). Детство, «героический период жизни». Пазолини говорит, что страдал от того, что оно закончилось, еще тридцать лет, страдал «отчаянно». Может быть, только после переезда в Рим ему удалось расстаться с ним окончательно. Из Кремоны – в Скандьяно. Один год Пьер Паоло учится в Реджо Эмилия, а потом, с 1936-го, в лицее и университете в Болонье. Робкий мальчик-старшеклассник серьезно увлекается спортом: в Кремоне он занимался фехтованием. Год в Скандиньяно стал для него годом музыки. А в Болонье он погрузился в литературу. Он еще добрый католик. Его вера, как и вера многих итальянских подростков, слегка окрашена суеверием. Он причащается, если кузина Анни напоминает ему об этом или если ожидается трудная контрольная в школе. На счастье он носит в кармане тупое перышко марки «Кампаниле», отвечая у доски, он сжимает его в руке, это его талисман. Приверженность религиозным обрядам исчезла, когда ему исполнилось четырнадцать лет. Решающую роль в этом сыграло его знакомство с литературой, в особенности с «Макбетом» Шекспира. 77 Он рисует: портреты родственников, маленькие пейзажи. Он рисует портрет матери за туалетным столиком. Увлечение Сюзанны нарядными платьями и косметикой не могло не поразить его воображение. Рядом с ним постоянно находится Гвидо. Гвидо родился в Беллуно. Это живой ребенок, он унаследовал энергичный характер отца. Он крепкий мальчик, но в физическом развитии уступает Пьеру Паоло. Между ними существует только отдаленное сходство: у них одинаковые губы, нос, но глаза у Гвидо не так широко расставлены, как у Пьера Паоло. Вот фотография, на которой два брата сидят в детском педальном автомобильчике. У Гвидо волосы немного светлее. Оба мило хмурятся. Гвидо был «нормальным ребенком» (это слова Пьера Паоло в его интервью Мараини). Например, он страдал, когда мать и отец ссорились, но «не делал из этого трагедию». Он восхищался Пьером Паоло, потому что тот лучше учился в школе, был старше и сильнее. Он его очень любил. Братья были большими друзьями, хотя и часто ссорились, как это бывает между братьями. Гвидо втайне страдал, потому что Сюзанна больше любила Пьера Паоло. Младший брат старается изо всех сил лучше учиться в школе, но ему далеко до Пьера Паоло. У него никак не получается справиться со всеми предметами и переходить из класса в класс с отличными отметками. А Пьеру Паоло многое удается с блеском: например, один его латинский перевод – в лицее Гальвани в Болонье – прочитали во всех классах, поскольку признали его образцовым и по точности передачи грамматических конструкций, и по особой изысканности стиля. 78 Гвидо не мог достичь таких высот. Мальчик предположил, что Сюзанна больше любит Пьера Паоло, потому что он лучше учится в школе. Он старался из последних сил и, должно быть, пережил немало разочарований. Его жизнелюбие и природная щедрость спасли его от тяжелого нервного расстройства. Он любил охоту, тратил все свои карманные деньги на стрельбу в тире. Вот он на фотографии: стоит в коротких штанишках, опершись на ствол дерева, целится из ружья, и видно, что он полностью поглощен своим занятием. По возрасту он почти ребенок, но выглядит старше своих лет. А вот и две другие фотографии, обе 1943 года: на первой, сделанной в марте, он в куртке и широких брюках снят за работой в саду в Казарсе, на фоне дома. Другая сделана летом: короткие штаны, футболка, носки собрались гармошкой на ботинках, в левой руке ветка с листочками, в правой револьвер; у него волнистые волосы, гордый взгляд. О страданиях Гвидо, о его тайных мучениях сохранилась семейная история. Шел 1943 год. Гвидо, Пьер Паоло и Сюзанна жили в Казарсе. С Гвидо что-то случилось, а Сюзанна не обратила на это внимания. Гвидо, охваченный отчаянием, разрыдался, да так, что упал со стула. Сцена была драматическая. Пьер Паоло испытывал смутные угрызения совести изза такого положения вещей. То, что мать любила его больше брата, смущало его. В Болонье, за несколько лет до этого, Гвидо однажды бросился его защищать: Пьера Паоло кто-то оскорбил в присутствии младшего брата, между ребятами завязалась потасовка, Гвидо сломали в драке перегородку носа. Пьер Паоло был сама заботливость и любовь. Гвидо сказал: он никогда не подумал бы, что брат его «так» любит. 79 Друзья Любить Пьера Паоло было легко. С годами его притягательная сила только возрастала, как дома, так и в школе. На оборотной стороне школьной фотографии второго класса лицея (все двадцать три мальчика сфотографированы в соломенных шляпах) можно прочитать такие надписи: «Мальчику с грустной улыбкой человека, уставшего от жизни», «Добейся таких же успехов в музыке, каких ты добился в литературе», «Чистый и невинный Пазолини», «Когда я думаю о Пьере Паоло, мне представляется милое создание, исполненное милосердия ко всем и всему». Или еще: «В тебе живут два демона, не пропусти третьего!» И еще: «Самому лучшему полузащитнику». Пьер Паоло хорошо учится и успевает заниматься спортом, которому посвящает много времени. Он играет в футбол, сначала как полузащитник, потом как нападающий. Он много занимался, был спортсменом и считался «пуританином»: то, что он избегал разговоров о сексе, немного отдалило от него одноклассников. С лицейских лет – об этом писал Франко Фаролфи1 – он оказывал на друзей майевтическое* влияние, он был для них «учителем»: подсказывал, что почитать – например, «Записки Пиквикского клуба», «Тарас Бульба», романы Достоевского. Он водил их в кино, чтобы они посмотрели Джона Форда. Он заражал их своим духом противоречия, из-за которого он отвечал на любой вызов, даже если тот, кто его вызывал, был старше и сильнее. Фаролфи: «Его жизнь была игрой, и друзья с готовностью принимали его как главного, как руководителя, пото* Майевтика (греч. «повивальное искусство») – термин философии Сократа, техника побуждения собеседника к самостоятельному поиску истины. 80 му что он обладал фантастической, все время возрастающей силой». Кроме Фаролфи в лицее у него был и еще один друг, Эрмес Парини, которого Пьер Паоло в шутку прозвал Парией. Парини погиб в России, куда отправился добровольцем. В партизанском отряде Гвидо Пазолини взял себе в память о нем имя Эрмес. Соперником в учебе для Пьера Паоло был Агостино Биньярди, будущий секретарь Итальянской либеральной партии в семидесятые годы. Соперничество было упорным, они почти не уступали друг другу. Пазолини не любил проигрывать. После лицея круг друзей стал почти исключительно литературным. Появились Франческо Леонетти, Роберто Роверси, Фабио Маури (он был младше всех, но уже тогда обладал потрясающей интуицией), его сестра Сильвана, Лучано Сера, Фабио Лука Кавацца, Марио Риччи, Серджо Телмон, Акилле Ардиго, Джованна Бемпорад. Это молодые люди, которые посещают кружок взрослых: Франческо Арканджели, Рената Вигано, Альфонсо Гатто, Паоло Грасси, Антонио Мелуски. Ребята ходят в походы, совершают велосипедные прогулки, зимой катаются на лыжах в горах. Пьер Паоло хорошо катался на лыжах. Фотографии велосипедного пробега по Эмилии и Романье летом 1939 года. Путь проходил через Градару, Равенну, Риччоне*. Он только-только закончил лицей, натянул шорты – и вперед, по дорогам Бассы. Путешествие обещает быть познавательным. * Градара – замок, с которым связана романтическая история Паоло и Франчески, рассказанная Данте в «Божественной комедии»; Равенна – город в итальянском регионе Эмилия–Романья; Риччоне – курорт на берегу Адриатического моря, в Эмилии–Романье. 81 Маленькие кружки друзей, образовавшиеся еще в школьные годы. Они сливаются, потому что так легче приобщиться к культуре, к знаниям. Их отношение к фашизму легко представить. Социальный слой, к которому принадлежат эти учащиеся, естественно, профашистский. И все же, благодаря своим культурным интересам, они начинают испытывать сомнения и недоверие к режиму. Они участвуют в спортивных мероприятиях, которые организует фашистская партия, в маршах и собраниях, но на этом фоне зреют и сохраняются идеи и чувства, которые уводят их все дальше и дальше от режима. Пóзднее, но прямое свидетельство того, что это было именно так, содержится в письме 1941 года к Франко Фаролфи. Пазолини пишет: «Дебаты о культуре. Я принял участие в дебатах о литературной критике, занял первое место, меня похвалили такие именитые критики, как Бертокки, Гвиди, Корацца. Я должен был поехать в Сан-Ремо, чтобы принять участие в заключительных дебатах, но их отложили на год, к моему большому облегчению. Самое замечательное событие – это турнир по футболу между факультетами. Я был капитаном команды филологического факультета»2. Итак, Пьер Паоло поступил на филологический факультет. Тени Кардуччи и Де Бартоломеиса еще витают в аудиториях Болонского университета. Еще преподает Роберто Лонги, полный энергии, готовый продвигать новые методики и утверждать новую стилистику (как в области человеческих отношений, так и в литературе). Карло Калькатерра заведует кафедрой истории итальянской литературы, он заставляет буквально наизусть заучивать классиков от Тассо до Альфьери. Пьер Паоло сопротивляется. 82 Я сейчас полностью поглощен новым занятием, новыми штудиями по итальянской литературе, изучаю стихи Тассо после Св. Анны. Библиография необозрима. Я уже провел четыре часа в библиотеке, только чтобы просмотреть книги, имеющие отношение к этой теме. Это обычная классическая университетская рутина: смысл ее чисто риторический, она может только расширить эрудицию. Я ее ненавижу, о чем и скажу прямо в лицо проф. Калькатерра, когда буду читать мой доклад. Зачем мне, обожающему Сезанна, с удовольствием читающему Унгаретти, изучающему Фрейда, тысячи пожелтевших и потерявших всякий смысл стихов какого-то Тассо-младшего? Я часто хожу играть в баскетбол. Игрок я никудышный, но мне очень нравится. Спорт действительно стал моим чистым, постоянным и самым действенным утешением.3 Это отрывок из письма 1940 года к Фаролфи – и здесь уже все сказано, может быть, немного наивно, о характере и интересах Пазолини. Его настойчивость, когда он стремится достичь совершенства во всем, за что бы ни брался. Отказ от путей, которые ему представляются обходными для достижения поставленной цели. Его «мужественная решимость» высказать прямо и открыто то, что представляется ему непреложной истиной, прекрасно сознавая, что она ни на что не повлияет, но считая, что никто не может навязывать ему свою волю. Противоречие «знание – эрудиция». Глубокая страсть, связанная с необходимостью приспосабливаться к таинственным природным ритмам, и отсюда же – занятия спортом. Использование прилагательного «чистый», для того чтобы подчеркнуть ценность жизни, которую трудно переоценить, чистоту ее источника. Летом, как всегда, с июля по сентябрь, братья Пазолини едут в Казарсу. Оттуда Пьер Паоло посылает письма, 83 стихи, признания и размышления. Он рассказывает о девушках. Да, в этих письмах (адресованных Фаролфи, Серре) всегда много говорится о девушках: о девушках, которые прокричали что-то, проезжая мимо на велосипеде, о поцелуе, вырванном украдкой. Есть там и история о некой «Нерине, машинистке, обладательнице чудесных светлых волос, настоящих, встречающихся так редко; она стройная, из хорошей семьи». Пьер Паоло пишет: «Я слегка ею увлекся. Много раз по вечерам я провожал ее домой после работы. Мне удалось получить несколько приятных доказательств любви. Но потом (видишь, какими прозаическими чувствами эгоизма и лени я руководствуюсь!) я перестал за ней ухаживать из-за ее рабочего дня: из-за него я должен был пропускать баскетбол, не ходил в солдатский клуб, не мог заниматься. Может быть, она перейдет на другую работу, и ее расписание изменится. Тогда я попробую снова за ней приударить, придумаю какой-нибудь предлог» (письмо Фаролфи 1941 года). Эти девушки служат ему своего рода защитой, это средство чувствовать себя ближе к друзьям. Но, говоря о них, Пьер Паоло недвусмысленно дает понять, что остается к ним равнодушным, они его не волнуют – «тогда я попробую снова за ней приударить, придумаю какой-нибудь предлог». Для него дружба важнее всего. Он пишет в июле 1941 года Серре: «Наша дружба не принадлежит миру литературы: литература, которой мы с тобой занимаемся, существует только постольку, поскольку существует дружба, которая нас связывает».4 Если в письмах он постоянно подчеркивает, что все приносит ему одни разочарования («Казарса меня разочаро84 вала. Впрочем, меня разочаровывает все, что я вижу, зато потом, когда все пройдет, я горько сожалею о былом. Сейчас я могу получить все, что может дать мне жизнь в деревне: тишину и спокойствие, девушек, сосредоточенность, луга, возможность побездельничать, дружеские попойки. Я действительно могу наслаждаться всем этим, но всем этим я пользуюсь только время от времени, а в промежутках текут томительные и пустые часы» – пишет он Фаролфи в 1940 году), эта разочарованность потом развеется книгами (Клейст, Гельдерлин), фильмом, симфонией Бетховена, которую он услышал по радио, прогулкой в горы, купанием в реке. Из Сан Вито ди Кадоре он написал 31 мая 1941 года Лучано Серре и рассказал ему о том, как один отправился погулять в горы, к Форчелла Гранде: «Я прошел за два часа путь, который обычно занимает три, по крайней мере, мне все так говорили». Он счастлив, что вокруг «тишина», он наслаждается «одиночеством». Когда он поднялся на вершину и отдохнул, он заметил, что спустились сумерки, солнце скрылось за облаками. Он испугался и заторопился в обратный путь. «Подобное чувство я испытал в детстве, когда оказался один в зеленых водах Тальяменто; вокруг не было ни души, мне показалось, что меня схватил за ноги дух этих вод, немой и жестокий. Я выскочил из воды, нагой, мокрый, вопящий от ужаса и счастливый».5 Юность, ее противоречивые и яркие чувства – все как бы в превосходной степени. И в то же время некий отказ от жизни, который Леопарди так тонко подметил в душе молодого человека. Это время, когда юноша еще «не проникся нежностью к себе самому», еще «не привык к противоречиям» и поэтому не может «потратить всю свою жизненную энергию на то, чтобы сделать себя несчастным».6 85 В этом и заключается превосходство эмбрионального состояния: характер обладает полным потенциалом и готов развиваться. И еще письмо Лучано Серра, 22 июля 1943 года: «У безмятежности есть лицо, это лицо девушки из Вальвасоне, полной и миловидной, она стоит между магнолией и яблоней. Каждый вечер я ее целую так, что она начинает задыхаться, а она хочет только, чтобы я ее веселил. Это замечательные вечера, Лучано!» В том же письме, немного ниже: «Я хочу купаться в Тальяменто и наполнять криками и движением все вокруг. Здесь Тальяменто – очень широкая река. Течение быстрое, дно каменистое, вода прозрачная, как стекло». Он рассказывает, что накануне приехал на берег на велосипеде с другом, которого зовут Бруно. Там были «иностранные солдаты», они с любопытством смотрели на двух молодых людей, которые «бросились в ледяную воду, которая для них таила множество опасностей». Потом налетела гроза: «в небе появилось свинцовое облако, похожее на возбужденный член. Мы побежали, одеваясь на ходу, но на середине моста ветер нас остановил. Тальяменто исчез в тумане». Это было что-то вроде вихря: небо сначала черное, потом пожелтело, потом стало белым-белым, и все успокоилось. Посреди воцарившейся тишины появились «две или три цыганские повозки». «Они тоже, как и мы, пытались убежать от бури, которая теперь ревела, проливая потоки дождя, и уходила к Кодроипо. В голубой повозке мальчик-цыган все время трубил в трубу».7 Это страничка изысканной прозы, здесь отчетливо виден и безупречный вкус, и пристальное внимание к изобразительным средствам. Пазолини уже прочитал и Сандро Пенна, и Аттилио Бертолуччи, и Альфонсо Гатто, и 86 легко можно понять, насколько по душе ему пришлись эти авторы. Однако цыганенок, который трубит в трубу в «голубой» повозке, облако, «похожее на возбужденный член», рисуют особенную символику воображения. Можно подумать, что девушки, о которых пишет Пазолини, не были на самом деле девушками. Друзья не знали о его гомосексуальных наклонностях, и он не мог пока им об этом рассказать. Если ребята затевали какую-нибудь постановку, Пьер Паоло с удовольствием исполнял женские роли, но это не привлекало к себе внимания, так как не выходило за рамки игры. Кажется, еще когда они учились в лицее, Агостино Биньярди рассказал Пьеру Паоло о суде, который обвинил Оскара Уайлда в гомосексуализме. Рассказ его взволновал. Его волновала сама мысль о том, что то, что происходило таким естественным образом на камнях Тальяменто, могло быть причиной судебного приговора. Подростки сравнивали свои половые органы, иногда занимались мастурбацией. Все это часто случается в деревне, это своеобразный ритуал, происходящий на берегах рек и ручьев. Ребята воспринимают это просто, иногда испытывая чувство вины; иногда из этих опытов складывается в подсознании образ, из которого вырастает собственная чувственность. Может быть, купание в Тальяменто, игры в зарослях ив, простые и «чистые» отношения с местными мальчишками, создание собственной вселенной, в которой естественные и биологические ритмы никак не совпадали с рамками нравственности, – может быть, все это и способствовало тому, что у Пазолини сложилось свое мировосприятие, инстинк87 тивное, творческое, то самое, которое нашло свое выражение в горьких и ностальгических стихах сборника «Стихотворения в Казарсе». Его гомосексуализм того времени еще связан с цифрами и лирическими образами. В письме 1940 года к Фаролфи Пазолини пишет, используя такие поэтические образы, которые никак не дают представления о том, как он будет писать в зрелом возрасте: …Пойдем, мое маленькое стадо: горы велики, лес влажен. Вы будете моими рабами, а самый красивый из вас (кто это?) с блестящими волосами будет стоять у меня за спиной. Сейчас весна. Я ваш повелитель. Идем. И еще: Девы, не достигшие возраста любви, вы не осмеливаетесь смотреть мне в лицо: бесстыдная тайна моей зрелости вас смущает! Я поведаю вам звуками моей флейты о ненасытной страсти ночной наготы. Другие слова из письма к Фаролфи, написанного примерно через год, в 1941 году, позволяют заметить признаки беспокойства «я», которое сбрасывает кожу, стремится отстраниться от себя самого, смотрит на себя с подозрением, поскольку ощущает необходимость приблизиться к возрасту обретения взрослых эмоций, преодолев мрак непонятных обязательств: «Разорвать связи, которые удерживают меня в прошлом, простым волеизъявлением? Вот именно это я и пытаюсь сделать. Я хочу убить сверхчувствительного и больного подростка, который пытается испортить мою взрос88 лую жизнь. Он и так уже почти мертв, но я буду жесток, даже если в глубине души люблю его, потому что он был моей жизнью вплоть до сегодняшнего дня».8 Абсолютно прозрачные слова. Они становятся еще прозрачнее, если подумать о чудовищном расколе, который молодой человек ощущает в себе самом, когда говорит о себе в третьем лице. (Это почти граничит с шизофренией). Потом – признание в любви («в глубине души я его люблю»), в котором прощение и снисхождение к себе самому, жалость к себе, свойственная молодым, является залогом спасения и помогает обрести будущее душевное равновесие. Он уже пережил и выстрадал втайне ото всех собственную чувственность («бесстыдная тайна моей чувственности вас смущает!»). Итак, Пьер Паоло, сам того не желая, посылал друзьям мольбы о помощи, зашифрованные признания. Литература всегда стремится высказать то, что противно разуму: здесь речь идет о почти открытой исповеди, о стихах, которые можно анализировать только с точки зрения психологии. С другой стороны, кружок молодых друзей в Болонье не распадался только благодаря литературе, непреодолимому желанию писать, «появиться на публике». Этот болонский эпизод относится к 1941 году. Пьер Паоло подарил соседскому ребенку конфеты. Отец ребенка обвинил его в педерастии. Пьер Паоло клянется, что у него не было преступных намерений. Подозрения могли вызвать его нежность по отношению к ребенку, ласковое к нему отношение. 89 Литература Пазолини написал свое первое стихотворение в Сачиле, когда ему было семь лет. Его мать показала ему, что «стихотворение можно написать, а не только прочесть в школе».9 Главным действующим лицом и здесь была Сюзанна. Она показала Пьеру Паоло сонет, который сама написала. Темой сонета была ее любовь к нему. Заканчивалось стихотворение (кто знает, какая цепочка рифм к этому привела) словами: «и люблю я тебя ужасно». Мальчик под влиянием примера, а скорее даже под влиянием материнской любви, через несколько дней написал свое первое стихотворение. Он вспоминал, что там были слова «соловей» и «зелень». Он, конечно, еще не читал Петрарку. «Я не знаю, когда и где я выучил законы классического отбора слов и выбора выражений».10 В ранней юности он увлекся эпической поэмой, стихами для театра, стал подражать Фосколо, Кардуччи, Пасколи и Д‘Аннунцио. Можно сказать, что его литературное вскармливание шло нормально. Но вернемся в Болонью. Идет 1938–1939 учебный год, в лицее Гальвани несколько уроков проводит преподаватель, пришедший заменить постоянного учителя истории искусств. Он читает в классе стихотворение Рембо. Это был Антонио Ринальди, поэт (Пьер Паоло навсегда остался его преданным читателем, хотя и критиковал его стихи за некоторую, как ему казалось, измену духу герметизма). «Макбет», Рембо – первые открытия. Потом пришел черед современных итальянских поэтов. Решающее значение имело чтение «Песен греческого народа» Томмазео. Это мы уже в 1943 году. 90 Но нужно вернуться к 22 июня 1942 года. В этот день студенты филологического факультета создали в Болонье журнал, который назывался «Наследники». Основателями были Пазолини, Леонетти, Роверси и Серра. Наследники чего? Современной традиции, созданной Унгаретти, Монтале, Карделли, Луции, Гатто, Серени, Синидалли, Бертолуччи, Пенна, Де Либеро. Серра вспоминает,11 что все четверо молодых людей испытывали жгучее желание стать поэтами. Они проводили вечера за долгими оживленными дискуссиями, ели лепешки из каштановой муки и пили сардинское вино. Пазолини увлекался театром и устраивал спектакли: они разыгрывали «Лоботряса» Синжа и отдельные сцены из Торнтона Уайлдера. На ребят большое впечатление произвела постановка «Городка»* с Эльзой Мерлини и Ренато Джаленте в главных ролях. Этот спектакль вспоминали и после войны как образец искусства, свободного от академизма. Невинное стремление продемонстрировать собственный ум и образованность – вот чем, несомненно, был этот журнал. Мы знаем, что Пьер Паоло читал все, что попадало под руку: от «Билли Бада» до периодических изданий типа «Фронтеспицио», «Руота», «Леттература»**. Он слушал лекции Лонги о Мазолино и Мазаччо, спорил с Франческо Арканджели. * Спектакль режиссера Э. Фулькиньони по пьесе американского писателя и драматурга Торнтона Уайлдера (1897–1975). ** «Билли Бад» – роман американского писателя Германа Мелвилла (1897–1975); «Фронтеспицио» – литературный журнал флорентийских католиков-герметиков (1929–1940); «Руота» – литературнопублицистический журнал, издававшийся во Флоренции в 1937– 1968 годах; «Леттература» – литературный журнал, издававшийся во Флоренции в 1837–1968 годах. 91 Литературное сообщество распадалось летом, однако общение не прекращалось, они писали друг другу письма. Пьер Паоло ревновал друзей. В письме к Серре от 29 августа 1943 года он пишет: «Не забывайте о “Наследниках”, о наших днях, проведенных вместе; я ради вас пожертвовал множеством друзей, отказался продолжать множество знакомств, потому что боялся лишиться вашего общества». Это чистейший юношеский шантаж. Но для него дружба была всем, она захватывала его полностью, поглощала все его чувства. На «поэтические» собрания, которые они проводили в Болонье, Фабио Маури, например часто не приходил, потому что предпочитал встречаться с девушками. Пьер Паоло в таких случаях упрекал его: «Если девушки могут заменить поэзию, это значит, что ты поэзию просто не любишь». Поэзия должна быть единственной любовью! Понятно, что выбор происходил не так, как хотел Пазолини. Для него важным было совсем другое: он вынашивал идею узкого круга в духе Сократа, круга единомышленников, в котором эрос – как раз в тот миг, когда от него полностью отказываются, – приобретает особую, всепоглощающую власть. После «Наследников» появился журнал «Иль сетаччо»*. «Иль сетаччо»12 был задуман художником по имени Итало Чинти, одним из тех молодых людей, в которых интеллектуальная энергия била ключом. Это был журнал болонской секции GIL**. Их пока связывал и объединял фашизм, идеи Сопротивления должны были еще созреть в их умах. Это 1942 год и первая половина 1943. Редактором журнала был Джованни Фалцоне. Литературным консультантом – Чинти, ему помогал Пазолини. Лите* Il setaccio – решето. ** Gioventù Italiano del Littorio – студенческая фашистская организация. 92 ратурными сотрудниками были Марио Риччи, Фабио Маури и Луиджи Векки. Искусство, литература, музыка, поэзия, театр, кино и даже политика – вот темы, о которых писали в «Иль сетаччо», или, фигурально выражаясь, вот темы, которые просеивали сквозь «решето». Маури написал статью о Де Кирико, Кавацца писал о кино (он жестоко раскритиковал фильм «Призрак» режиссера Марио Солдати); Джованни Машо похвалил творчество кинорежиссера Дювивье. Мелькали имена Ланга, Пабста, Мурнаи. «Иль сетаччо» публикует переводы из Сафо, Гете, Гельдерлина (переводчица, Джованна Бемпорад, из-за расовых законов подписывается как Джованна Бембо), из Мачадо (им очень увлекался Пазолини), из Бодлера. Ардиго рассуждает об эстетике; Векки, верующий католик, развивает пауперистские и евангелические идеи, которые ведут к неясному «марксистскому» мировоззрению. Пазолини публикует стихотворения на фриульском языке и диалоги в стихах на итальянском, которые предвосхищали идеи «Соловья католической церкви». Он пишет и критические статьи: об Унгаретти, о Луцци, об антологии «Современной лирической поэзии» Лучано Анчески. Кажется, что он одержим потребностью в «человеческом общении». Об Унгаретти он пишет, что ему свойственна «нелогичность мечты», «четкий ритм и простая мораль». Его размышления о роли интеллигенции и писателя в современной жизни, в атмосфере кризиса нравственности и начавшейся войны, более определенны, хотя и не свободны от юношеского максимализма. На эту тему Пазолини написал статьи «Молодежь и ожидание» (в ноябре 1942 года); «Рассуждения о гражданской совести» (декабрь 1942); «Итальянская культура и европей93 ская культура в Веймаре» (январь 1943). Пьер Паоло принял участие в конференции, организованной нацистской Германией осенью 1942 года (там был и Витторини, и некоторые другие итальянцы); потом он написал статью «Последняя речь об интеллигенции» (март 1943). Вот отрывок из статьи «Молодежь и ожидание»: Мы чувствуем, что дальнейшие наши исследования должны происходить в тишине: друзья и группы друзей будут всегда, потому что никогда не иссякнет чувство симпатии и любви, но мы полагаем, что эпоха журналов, течений, всяческих «измов» вообще пришла к своему завершению, отошла в прошлое… Мы не фашисты, но можем назвать себя итальянцами в полном смысле этого слова. Но мы также не хотим называться ни модернистами, ни традиционалистами, если модернизм и традиционализм не связаны с активным участием в современной жизни. В «Рассуждении о гражданской совести» Пазолини объясняет, что его слова далеки от ужасов войны и трагедии, которую она несет, но отбрасывает всякую риторику и настойчиво объясняет, что благо заключается в одиночестве («это поэтическое одиночество, эта turris eburnea* существует. В этом нет ничего плохого. Это не плохо, потому что из нашего уединения, где мы пребываем в одиночестве, мы не сбиваемся, отвлеченные бесполезными рассуждениями, на риторическое сострадание к людям, которые нас окружают, мы принимаем их как часть нашей собственной натуры, и от эгоистической любви – не изменяя себе, но оставаясь твердыми приверженцами собственного существования – идем к любви гражданской»). * Turris eburnea (лат.) – башня из слоновой кости. 94 В статье о путешествии в Веймар антириторические настроения становятся более яркими. Традиция – это не долг, не намеченный путь, это не чувство и не любовь. Этот термин необходимо, наконец, понять нетрадиционно. Это постоянная и бесконечная трансформация, это антитрадиция, отошедшая от неизменного прямого пути, подобно историчности для истории. Официальная традиция совершенно антиисторична, а ведь именно ее несет всем народам пропаганда, которая представляет ее как единственное решение для искусства в современной политической и социальной европейской ситуации. Для того чтобы понять, как именно в тот момент Пазолини взращивает собственный интеллектуальный антифашизм, достаточно было бы этих утверждений. Позднее он сказал,13 что перестал быть настоящим фашистом с того момента, когда услышал, как Ринальди читает Рембо. Но и настоящим антифашистом он не был. Первой заговорила с ним о политической оппозиции режиму Джованна Бемпорад. Она была еврейкой и подвергалась преследованиям. Сама Бемпорад в очень юном возрасте была чем-то вроде литературного гения. Она уже была известна как переводчица с греческого и с немецкого. Она очень рано стала одним из самых ярких представителей литературной среды, ее отличала экстравагантная манера поведения и особенная манера одеваться. Она носила странную, потрепанную, неряшливую одежду. Весь ее вид был совершенно не нормален для девушки, которой едва исполнилось двадцать лет. Пьер Паоло отыскал ее, она училась в лицее Гальвани. Он предложил ей сотрудничать в «Сетаччо». 95 Они стали друзьями, часто встречались у нее дома в Болонье. У нее была огромная комната, забитая книгами. Однажды Джованна спросила у Пьера Паоло: «Ты фашист?» И заговорила с ним об антифашизме и о трагических последствиях режима Муссолини. В лицее были преподаватели, которые вели нонконформистские разговоры. Но, возможно, именно беседы и споры со сверстниками помогли Пазолини разобраться в происходящем и осознать то, что он уже начал понимать, поскольку много читал и размышлял о прочитанном. В одном из писем Пазолини посоветовал Фаролфи прочитать работу Энцо Пачи «Экзистенциализм». И посоветовал не случайно. Для того, в ком уже зародилось негативное отношение к политическому режиму, установившемуся в стране, это исследование могло сыграть решающую роль, помочь этому отношению созреть и приобрести законченный характер. Экзистенциалистская мысль обнажала «болевую точку» жизни, которая находилась по ту сторону всех победных и жизнеутверждающих идей. Так, в «Последней речи об интеллигенции» Пазолини писал: «Интеллигенция может воплотить свои идеи тысячью разных способов, не прибегая к пропаганде (или, что гораздо хуже, прибегая к молчанию); ⟨…⟩ от нее, как от нотариуса или как от каменщика, нужно требовать только того, чтобы они выражали свои идеи только таким образом, прибегая к таким способам, в которых они действительно компетентны…». Таким образом, труд интеллигенции – это тоже «ремесло», этическая ценность которого состоит в упорной, трудной преданности самому себе: это ее настоящий долг, ее настоящая нравственность. Подчинение литературы «пропаганде» и политике представляется Пазолини в тот момент предательством. 96 Это «а-фашизм» Пазолини тех лет. Он особенно ясно проявляется в длинном «частном» заключении, написанном к той же статье в марте 1973 года: Мы с матерью сидим в комнате, которая была сначала ее детской, а потом моей. И вот в этой комнате, в ночной тьме, слышится голос: это мальчик, остановившийся у дверей нашего дома, зовет друга. И этот крик, как когда-то, не пробуждает во мне ностальгию по прошлому, по себе-ребенку, не вызывает во мне трепета, а зовет обратить внимание на сегодняшний день. У меня перед глазами при звуке этого голоса снова возникают лица отца, лучшего друга, которого у меня отняла война. Отца я уже два года не видел. О друге ничего не знаю, я пытаюсь представить его в России… может быть, он ранен, страдает, попал в плен… А на меня печально смотрит мать. Я бы хотел выразить все эти чувства, но не могу. Чувство слишком живое, сильное, болезненное. Что же еще стоит за этими словами? Прощание с детством и его идолами. Непросто было постичь «болевую точку» существования. Некоторые факты: Карл Альберт Пазолини в 1941 году был призван в армию и отправился в Восточную Африку. Там он попадет в плен к англичанам. Пьер Паоло написал Фаролфи: «Папа позавчера уехал в Рим, откуда отправится в итальянскую Восточную Африку.* Я не хочу это подробно описывать, но ты легко можешь представить, в каком мы состоянии».14 В том же году Эрмес Парини отправился в Россию. И опять письмо к Фаролфи: «Отъезд Парини и Мели. Пе* Africa Orientale Italiana (AOI) – официальное название итальянских владений в Африке в 30– 40-е годы (Сомали, Эритрея, Эфиопия). 97 чальные часы без проблеска надежды: я совершенно раздавлен, не могу и не хочу ничего делать, пребываю в нерешительности, не записаться ли и мне тоже добровольцем».15 Следующим летом, в июле, он учится на унтер-офицерских курсах на военных сборах в Порретте. Он пишет Серре: «Я устал жить. Это один из тех редких моментов моей жизни, когда поэзия представляется мне далеким воспоминанием; единственное чувство, которое я сейчас испытываю, – это чувство человеческого одиночества. ⟨…⟩ Сегодня приезжала моя мать, навестила меня и только что уехала. Когда я думаю о ней, я переживаю болезненный приступ любви: она меня слишком любит, я ее обожаю. Для нее я – поэт. Когда я читал письмо, которое она прислала мне на днях, рыдания сжимали мне горло».16 Эпоха фашизма завершилась 25 июля 1943 года*. Серра из офицерской школы Касаджове в Казерте пишет о некоторых своих сомнениях, и не только о своих. Серра пишет о партизанах, и Пьер Паоло отвечает: «Что ты мне говоришь о «партизанах» и о «партизанской войне»? Я не знаю, смеяться или злиться. Если у тебя осталось еще хоть сколько-нибудь уважения к собственной крови, помни о ней. И уж если проливать ее, то за что-нибудь более важное, чем партизанская война с хорватами. Италии еще понадобится кровь, но омыть кровью нужно свою землю. Ее нужно омыть кровью или слезами, чтобы смыть заполнившие ее ошибки и преступления монархистов, либералов, фашистов и неолибералов. Италии нужно полностью возродиться, ab imo,** поэтому ей крайне необходимы мы, поскольку представляем собой на фоне ужасающего невежества эксфашистской молодежи хотя бы немного образованное меньшинство. ⟨…⟩ И для моего личного поэтического опы* 25 июля 1943 г. был свергнут Бенито Муссолини. ** Ab imo (лат.) – от основания. 98 та эти последние дни чрезвычайно важны. Свобода открывает новые горизонты, о которых я мечтал, к которым стремился, но теперь, когда она наконец стала реальностью, оказалось, что у нее непредсказуемый и трогательный облик. И я снова почувствовал себя ребенком».17 «А-фашизм», сформировавшийся за несколько месяцев до этого, подсказал Пазолини идею обновления. Вскоре Италия будет залита кровью и слезами. Но он уже предчувствует, что чудовищные мучения принесут огромные перемены. В письме к Серре он пишет: «Я почувствовал, что во мне что-то возникает и утверждается, что это имеет для меня неожиданное значение. Я почувствовал, что становлюсь политическим человеком, которого фашизм подавил до такой степени, что я даже не ощущал себя таковым». Идет зима 1942–43 года. Сюзанна решает вернуться в Казарсу, чтобы спастись от бомбардировок, которые разрушают все крупные итальянские города. Пьер Паоло хочет написать дипломную работу по истории искусств у Роберто Лонги. Тема работы – искусство барокко. В это же время он публикует «Стихи в Казарсе». Стихи в Казарсе Томик провансальской поэзии с хорошим итальянским подстрочным переводом – об этом вспоминает Аттилио Бертолуччи – ходил по аудиториям Болонского университета на улице Дзамбони. Он был опубликован издательством Дзаникелли. Студенты кафедры романской филологии его изучали. Возможно, перевод, набранный курсивом внизу страницы, послужил образцом для Пазолини, когда он составлял свой первый сборник стихов. 99 Книга «Стихи в Казарсе» увидела свет 14 июля 1942 года в типографии Букинистического книжного магазина Марио Ланди (Болонья, площадь Сан Доменико, 5). Все члены группы «Наследники» в этот год дебютировали в литературе. Вместе с Пазолини опубликовали свои произведения Франческо Леонетти («Об утраченном лете»), Роберто Роверси («Стихотворения»), Лучано Серра («Песнь воспоминаний»). Томик стихов Пазолини – сорок шесть страниц, триста экземпляров – посвящен «Моему отцу». Посвящение не случайно: воспользовавшись случаем, Пазолини решился высказать таким образом свою любовь. Пьер Паоло прекрасно знал, как Карл Альберт гордился его литературными занятиями, а может быть, и догадывался, что к этой гордости примешивалось сожаление о том, что он не смог завладеть сердцем сына. И все же, как я сказал немного выше, 10 июля того же 1942 года, находясь в лагере на военных сборах, Пазолини написал Серре беспристрастные слова о матери: «Для нее я – поэт». Мы могли бы подумать, что посвящение отцу раскрывает истинную природу (спорную, «болезненную) приступа рыданий, в которых выражалась у Пьера Паоло любовь к матери. Или, возможно, мы можем рассматривать это посвящение как что-то вроде угрызений совести или потери, ностальгических сожалений. Книга вышла, и недели через две Пазолини получил открытку от Джанфранко Контини: книга ему понравилась, он с удовольствием написал бы на нее рецензию. «Кто сможет описать мою радость? Я прыгал и плясал под портиком в центре Болоньи. Что касается удовлетворения собственного тщеславия, на которое может рассчитывать тот, кто пишет стихи, то свое тщеславие я с лихвой удовлетво100 рил в тот день, так что в будущем смогу прекрасно обойтись и без такого признания». Рецензия Контини была опубликована не в «Примарио», как он обещал, а в «Джорнале ди Лугано» 24 апреля 1943 года. «Фашизм – к моему большому удивлению – не допускал существования местных языковых особенностей и языка откровенно невоинственного. Таким образом, язык моей «чистой поэзии» приняли за реальный документ, доказывающий объективное существование крестьян, живущих далеко от центра и не подозревающих о существовании этого самого центра».18 Контини отметил, что «с появлением этого сборника диалектальная литература стала частью современной поэзии, что, несомненно, обогащает ее». Он добавил: «Достаточно представить себя в рамках его поэтического мира, чтобы понять, какую бурную реакцию, какой скандал вызовет он в анналах диалектальной литературы». Критик впервые употребил слово, которое будет сопровождать Пазолини на протяжении всей его частной и литературной жизни: «скандал». Воспользовавшись словом как изобразительным средством, Контини предугадал судьбу. Это слово, которое может показаться легким в своей очевидности или обобщающим для целого ряда событий, теперь звучит как предсказание судьбы. Скандал: скандальным было, прежде всего, само использование диалекта, диалекта правого берега Тальяменто («di cà da aga» – «по эту сторону воды»), с легким венецианским оттенком. Это была особая разновидность фриульского диалекта, отличная от уже существовавшей письменной формы, которой пользовались Коллоредо и Дзорутти (первый был поэтом семнадцатого века, второй – эпохи романтизма). Фриульский язык «Стихов в Казарсе» был скандальным, поскольку возник из литературного койне, появившегося 101 потому, что необходимо было придать языку, до той поры лишенному письменной формы, достоинство и благородство литературного языка. Изучение Унгаретти и итальянского герметизма, провансальской поэзии и некоторых испанских поэтов, таких как Хименес и Мачадо, вызывает отзвук, аналогии, которые в «Стихах в Казарсе» сочетаются с приемами диалектальной лирики двадцатого века, с мотивами Пасколи и Д’Аннунцио. Однако это не подражание, любые аналогии остаются для Пазолини второстепенными. Если этот язык Пазолини называют «литературным койне», то под этим понимают его автономность внутри литературы, а не его зависимость или ограниченность. Контини говорит о содержании: он подчеркивает, что «слияние человека с его плотью создает особое равновесие всего сборника». Откровенный нарциссизм этих стихотворений, их тайное и в то же время откровенное самообожание, необходимость достичь болезненной зрелости («Я хочу убить сверхчувствительного и больного подростка, который пытается испортить мою взрослую жизнь. Он и так уже почти мертв, но я буду жесток, даже если в глубине души люблю его, потому что он был моей жизнью вплоть до сегодняшнего дня» – письмо к Фаролфи, написанное летом 1941 года, нашло свое отражение и в «Стихах») – все это, конечно, скандально по отношению к провинциальной традиции, какой, несомненно, является фриульская традиция. Серра19 рассказывает, что летом 1941 года Пьер Паоло Пазолини писал ему письма и вставлял в них стихи, написанные в духе Леопарди, на итальянском языке. Пьер Паоло хотел собрать эти стихи в сборнике под названием «Изгнание». Изгнание – тема, связанная с герметизмом, как обратная сторона того же явления. С поэтикой отсутствия (в ее эти102 ческом и политическом смысле) могла сочетаться, как отрицание отрицания (по подобию и по контрасту), поэтика удаления, изгнания, чтобы воссоздать «экстремальную» реальность, взглянуть на нее с последнего берега человечества. Однажды летним утром 1941 года я стоял на деревянном балконе дома моей матери. Яркое и нежное фриульское солнце освещало весь деревенский вид. Оно светило на меня, восемнадцатилетнего битника сороковых годов; и на резную деревянную лестницу, и на балкон, пристроенный к каменной стене. Лестница поднималась со двора в амбар, за балконом находилась большая комната. Двор, казавшийся таким уединенным под солнцем, на самом деле был чем-то вроде частной улицы: еще до моего рождения семья Петрон получила право проходить по нему к своему дому, который стоял сразу за резной деревянной оградой, гораздо более красивой, чем перила балкона. За оградой виднелись кучи навоза, бак, бурьян, который обычно растет вокруг сада. Еще нетронутые голубые предгорья Альп были видны вдали, как на картине Беллини. О чем мы говорили до войны, до того, как все случилось и жизнь стала такой, как сейчас? Я не знаю. Это были разговоры ни о чем, так просто, чтобы поговорить. Люди, прежде чем стать тем, что они есть, все равно были, несмотря ни на что, существовали, как во сне. Как бы то ни было, я могу с уверенностью сказать, что я на том балконе рисовал (может быть, зелеными чернилами, а может быть, охрой или масляными красками) или писал стихи. Вот тут я и услышал слово «rosada»*. Его произнес Ливио, сын соседей, которые жили через дорогу, их фамилия была Соколари. Он был высокий, широкоплечий… Настоящий крестьянин из тех мест… Но вежливый и робкий, как часто бывает в состоятельных семьях, * Rosada (фриульск.; ит. rugiada) – роса. 103 очень деликатный. Поскольку крестьяне, как известно (это утверждает Ленин), принадлежат к мелкой буржуазии, Ливио, конечно, говорил о вещах простых и незатейливых. Само слово «rosada», прозвучавшее в то солнечное утро, было просто выражением его живого и непосредственного языка. Конечно, это слово за все свое многовековое существование во Фриули, на этом берегу Тальяменто, никто никогда не писал. Оно всегда было просто звуком. Что бы я ни делал в то утро, писал или рисовал, я, конечно, сразу прервался. Это запечатлелось в моей памяти. Я сразу написал стихи на разговорном фриульском языке правого берега Тальяменто, который до того дня был только совокупностью звуков. Я был первым, кто записал слово «rosada». Этот первый опыт не сохранился, остался второй – стихотворение, которое я написал на следующий день: Sera imbarlumida tal fossal A cres l‘aga* ⟨…⟩20 Рассказ этот, если пользоваться любимым выражением Пазолини, конечно, приукрашен. Но это не умаляет ценности самого свидетельства. В нем сосредоточен особый нравственный мир. В нем Пазолини воспевает собственное видение мира, крестьянское и христианское, оно вводит особую символику – символику чистоты и невинности. В этой картине мира есть место и для «нетронутых голубых предгорий Альп», и для простых голосов сельских жителей, один из которых – голос юного Ливио. Его слова придают особый смысл мечте о прекрасной и чистой жизни. В стихотворении четко очерчены географические и лингвистические границы этого мира: Альпы далеко, Тальямен* Вечер засыпает в канале, полном весенних вод (фриульск.). 104 то тоже. В атмосфере чистоты и свежести солнечнего утра все предстает простым и взаимосвязанным. В «Беседующих»21 Пазолини, подобно Прусту, вспомнил путь, который привел его к языку его матери. Этому способствовало общение с ребятами, слова, которые он слышал от них и от их родных (писатель научился собирать слова и выражения, пользуясь приемами классиков итальянской лингвистики, Асколи и Д’Анкона): Мать Стефано стояла, прислонившись к спинке кровати. Она говорила очень быстро, с жаром, ее черные глаза блестели; у нее была привычка наклонять голову немного набок, как это делают иногда маленькие девочки, совсем не робкие, но смущенные. Когда она говорила, она прикрывала рот немного распухшей рукой (это была еще одна причина смущаться), так она хотела хоть немного скрыть свои ошибки в произношении; иногда она по-венециански говорила mi (на фриульском следовало бы сказать jo, иногда у нее вырывался мягкий звук th вместо звонкого s. Все это придавало ее речи немного детские интонации. Пазолини больше всего привлекает творческий подход крестьян к языку, пренебрежение нормой, или, лучше сказать, «то, что они оставались верными правилам языка и в то же время не боялись изменять их, привнося в него личные и рискованные нововведения». Его восхищало, казалось бы, неправильное словоупотребление (например, говорили «невероятный» вместо «скептический» или «недоверчивый»). Фриули открывается перед его взором, как обширное поле, которое нужно пройти вдоль и поперек и исследовать. «Во Фриули, в западной части области, особенно в Бассо, было возможно за десять минут переехать на велоси105 педе из одного лингвистического ареала в другой, более архаичный, отстававший от первого на пятьдесят лет, на век или даже на два». Велосипед превращается в орудие умственного труда. Все вызывает непосредственную экспрессивную радость. Но вместе с этой «непосредственной радостью, которую он искал то в одном, то в другом сельском празднике, в молодых людях разных селений, всегда таилась какая-то тревога, мрачное предчувствие того, что невозможно будет постичь эту жизнь, такую завидную и вместе с тем такую печальную, глубоко скрытую в самом сердце этих селений».22 То, что он писал стихи на фриульском диалекте, связывало поэта с центром этой «жизни», но в то же время и подчеркивало его непохожесть, чуждость ей. Только «чужой» мог отделить один звук от другого, воспринять каждое слово отдельно, только для его «девственных» ушей речь могла звучать таким образом. Я появился на свет во времена Аналогики. Я жил и действовал в то время как ученик ⟨…⟩23 Так, совершенно осознанно, Пазолини написал в шестидесятые годы в «Отчаянной жажде жизни». Аналогика господствует в «Стихах в Казарсе», помогая исключить всякую связь с реальными событиями. Пазолини не принадлежал к той категории поэтов, которые «одержимы неуемной жаждой исповеди»,24 он был одержим противоположным стремлением: к перестановке, к лирической симуляции. И все же область его «аналогий» очень ограничена. Исповедь, к которой он прибегает, не явная, она едва-едва 106 прослеживается, музыкальность стихов в Казарсе ее отдаляет, выталкивает «за пределы», туда, где вечно блуждают потерявшие родину (родину поэзии, Прованс воображения: эпиграф к книге взят из Пьера Видаля). Сiantànt al mè spiéli ciantànt mi petèni… Al rît tal mè vùli il Diàul peciadôr. Sunàit, més ciampànis Paràilu indavòur ⟨…⟩* Суровый рассказ о днях, пережитых в селении, о тревогах, которые там рождались, не связан ни с какими аналогиями. Он назрел, как нарыв, в стихах «Отчаянной жажды жизни». Все там ясно, все произнесено, позабыта литературная изысканность, осталось только голое чувство, всепоглощающая разрушительная страсть. Я помню, что это было… из-за любви, любви, которая застилала карие глаза и переполняла все: брюки, дом, поля, утреннее солнце и солнце на закате, и субботу, во Фриули, и даже… воскресенье… Ах, я не могу даже произнести это слово, слово страсти, страсти девственной, слово моей смерти (я увидел ее в сухой канаве, заросшей примулами, среди позолоченных поникших стеблей, * Я причесываюсь у зеркала, / причесываюсь, напевая, / смеется мне в глаза / дьявол-искуситель. / Громче звоните, колокола, / гоните его прочь! (фриульск.) 107 за темными силуэтами домов на фоне высокого голубого неба). Я помню, что, охваченный этой чудовищной любовью, я кричал от боли, особенно по воскресеньям, когда должно сиять «над детьми детей солнце!». Я плакал на жалком ложе в Казарсе, в комнате, где пахло мочой и выстиранным бельем, в те воскресные дни, когда повсюду сияла смерть… Немыслимые слезы! Я рыдал не только по тому, что терял навсегда в тот момент разрушительного блеска, но и по тому, что я мог бы потерять! ⟨…⟩ А вечером или ближе к ночи с криком я бежал после футбольного матча по воскресным улицам на кладбище за железной дорогой, чтобы совершить, чтобы повторять бесконечно, до боли, то действо, самое сладостное в жизни, я был один на земле между могилами, где похоронены со времен той, старой, войны немецкие и итальянские солдаты и где они лежат в могилах без крестов. А ночью, когда я лежал и плакал без слез, кровоточащие тела этих неизвестных солдат, облаченных в серо-зеленые одежды, толпой собирались у моей постели, где я лежал обнаженный и обессиленный, и пачкали меня кровью до самого рассвета. 108 Мне было двадцать лет, нет, восемнадцать-девятнадцать… и век уже прошел с того момента, когда я был еще живым, прошла вся жизнь. Всю жизнь мою заполнила идея, что я смогу подарить свою любовь только моей руке, или траве в канаве, или заброшенному могильному холму… Двадцать лет, а жизнь, с ее историей и с ее стихами, уже прошла.25 Аскеза тела. Я уже сказал, что речь шла о гомоэротизме: то, что делает по-настоящему зримой литературную метафору «предела» или полностью разрушает ее, – это мука мастурбации, «непохожести». В двадцать лет, как бы мы того ни хотели, мы не смогли бы расстаться с самими собой. Это и есть драматическое содержание «Стихов в Казарсе», их настоящая выразительная новизна.26 «ЧИСТЫЙ СВЕТ» СОПРОТИВЛЕНИЯ I turcs tal Friùl * «43-й год всегда будет одним из прекраснейших в моей жизни: «mi joventud, veinte años en terra de Castilla!»1 Сюзанна с детьми живет в Казарсе. Времена года сменяют друг друга, «похожие на тени облаков, которые бегут над камнями Тальяменто», пишет Пьер Паоло Франческо Фаролфи. Еще: «Война мне никогда не казалась такой чудовищно бессмысленной, как тогда: неужели никто никогда не задумывался, что такое человеческая жизнь?». «Этот год – один из прекраснейших во всей моей жизни» – это почти дословный перевод строчки Мачадо. Он открывал для себя Фриули, и это-то и было прекрасно. Теперь он делал это без помощи словаря. «Стихи в Казарсе» были написаны с Пироном, фриульско-итальянским словарем. Теперь Пазолини, укоренившись в родной земле, легко и естественно писал на разговорном языке. Он стремился как можно точнее передать голоса своих собеседников. Долина, залитая голубым светом, кажется однообразной: однообразны каналы, по краям которых растут тополя, однообразен правильный рисунок виноградников. Но ее лингвистическая география, напротив, разнообразна: постоянно встречаются разные языковые вкрапления, то появляется, то исчезает венецианский диалект, языку свойственно богатство и фонетическое разнообразие, которые могут свести с ума любого филолога. * I turcs tal Friùl (фриульск.) – турки во Фриули. 110 Пьер Паоло не уставал удивляться и изумляться. Он объездил на велосипеде всю область. Вечером 25 июля 1943 года он написал на стене: «Да здравствует свобода!» – и рисковал провести ночь в камере вместе с братом и с другом Чезаре Бортотто. Он убеждал фельдфебеля карабинеров отпустить их, использовав весь свой дар красноречия. Фельдфебель только и повторял: «У меня нет приказа…» – ему казалось совершенно правильным, чтобы о свободе никто и не помышлял. Летом, отправившись на прогулку с двоюродным братом Нико Нальдини, Пьер Паоло добрался до Версуты, в двух километрах от Казарсы. Версута – это маленькая, всего несколько домов, деревня к югу от Понтебанны. Пьер Паоло просто влюбился в один из этих домов – типичное жилище фриульского крестьянина. Длинное строение из серого камня, хлев, деревянный балкон. Крестьянка, Эрнеста, сдала ему комнату: он хотел устроить там чтото вроде кабинета в деревне, куда мог бы уходить, чтобы подумать, почитать. Пьер Паоло и Нико нагрузили полную тележку книг и пешком два километра тащили на ней тома Дю Боса, Чекки, Бартолини, Лонги, греческих и латинских классиков. Он хотел воспользоваться самыми изысканными дарами культуры в декорациях лингвистической Аркадии. В то лето 1943 года Пьер Паоло еще питает надежду написать диплом под руководством Лонги. В Версуте двоюродные братья занялись археологией. Нико было только четырнадцать лет, но он повсюду с энтузиазмом следовал за Пьером Паоло и принимал участие во всех его авантюрах. 111 Они натерли луком стену в заброшенной деревенской часовне, и на свет появились три фигуры старинной фрески. Нарушил золотое равновесие этой Аркадии призыв на военную службу. 1 сентября 1943 года Пьер Паоло должен был явиться в Пизу. Его служба продлилась ровно неделю. 8 сентября* застигло его в Пизе. Немцы, после подписания перемирия, окружили полк, к которому был приписан Пазолини. Всех новобранцев отправили, чтобы погрузить на поезд и депортировать в Германию. Все произошло неподалеку от канала, где-то между Пизой и Ливорно. Сосед сказал ему: «Смотри, когда часовой пройдет вперед, я брошусь в канаву. Если хочешь, беги со мной». Пьер Паоло, сняв с предохранителя ружье, чтобы в случае чего стрелять в немцев, бросился в канаву. Шнурки у него были развязаны, ботинки были из разных пар. При мысли, что он может оказаться в руках нацистов, его охватывал ужас. Он прошел почти сто километров пешком, неся с собой материал для почти готовой дипломной работы, и потерял его.2 До Казарсы он добрался живым и здоровым. Он со страхом вспоминал все, что с ним случилось. Это было его единственное близкое знакомство с войной. «Я прятался и спасался – я жил в постоянном страхе, я испытывал патологический страх смерти: я был постоянно одержим мыслью, что меня схватят. Именно так и случалось с парнями с Адриатического побережья, которые уклонялись от призыва в армию или были антифашистами».3 * 8 сентября 1943 года Италия капитулировала и вышла из II мировой войны. Север, Центр и Юг (до Неаполя) были оккупированы гитлеровскими войсками. 112 И все же это был один из лучших периодов его жизни. Тем летом его эротические чувства проявлялись с большей непосредственностью, чем раньше. Они звали его на излучину реки, где мальчишки из Казарсы и окрестных деревень обычно купались. Возможно, за несколько лет до этого Пьер Паоло занимался любовью с мальчиком. Они пристроились за изгородью, но какая-то женщина их увидела и долго его ругала. Потом он долго со страхом ждал, что она заявит в полицию. Но этого так и не произошло. Эротическое счастье, которое он испытал в то лето, не могло быть полным, его портили страх и чувство вины. Толчком послужила юношеская неразборчивость, готовность откликаться на любое чувство. Для Пьера Паоло это счастье, эта счастливая игра продлевали юность. Если они противоречили необходимости повзрослеть, которую он остро ощутил в этот момент («я хочу убить сверхчувствительного и больного подростка, который пытается испортить мою взрослую жизнь»), то он с еще большей настойчивостью и увлеченностью предавался интеллектуальным упражнениям и искал самовыражения в литературе. Он пишет стихи и на итальянском языке, и на фриульском. Он напишет и пьесу «I turcs tal Friùl» (рукопись датирована маем 1944 года). Это крестьянский эпос, проникнутый инстинктивным христианским чувством, в котором воспевается преданность идеям общины. Фриули всегда был пограничным районом, постоянно страдавшим от разных набегов и завоеваний. В течение долгих веков его истории разные армии прошли по его территории, и жители Фриули всегда славились своим свободо113 любием и способностью противостоять врагам – от гуннов под предводительством Аттилы до австрийцев, которые постоянно оказывались там на протяжении всего XIX века и вплоть до Первой мировой войны. Ярко выраженное языковое своеобразие области не могло не способствовать развитию в психологии ее жителей чувства противостояния этим постоянным военным бурям. Турки тоже появлялись во Фриули. На мемориальной доске в церкви Святого Креста в Казарсе написано: 1499 ГОД 30 СЕНТЯБРЯ / В ВЫШЕНАЗВАННОМ ГОДУ ТУРКИ ПРИШЛИ / ВО ФРИУЛИ И ПРИШЛИ К ЭТОМУ ГОРОДУ И МЫ МАТИА ДЕ МОНТИКО И ЗУАН / КОЛУСО ДАЛИ ОБЕТ ПОСТРОИТЬ ЭТУ / СВЯТУЮ ЦЕРКОВЬ ЕСЛИ ОНИ НЕ ПРИЧИНЯТ / ВРЕДА И БЛАГОДАРЯ МИЛОСТИ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ / НАШИ МОЛЬБЫ БЫЛИ УСЛЫШАНЫ / И МЫ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ЖИТЕЛЯМИ ВОЗДВИГЛИ / ЭТУ ЦЕРКОВЬ / А НАШИ СОГРАЖДАНЕ БАСТИАН ДЕ ЯКУЦ И ЗУАН ДЕ СТЕФАНО / УКРАСИЛИ ЕЕ РОСПИСЯМИ / ГОД 1529 7 СЕНТЯБРЯ Конечно, к прекрасной легенде, должно быть, примешалось и чувство гордости, поскольку здесь соединилась история города и история семьи. В этом историческом свидетельстве присутствует имя «Зуан Колусо», то есть Джованни Колусси, который дал обет построить церковь. Вот этот обет и страх перед захватчиками стали темой пьесы, задуманной Пазолини. Тема была более чем актуальна: как и турки, нацисты угрожали общине Казарсы, преследовали и угоняли в рабство ее жителей. Страх перед налетами и облавами нацистов стал постоянным. Гвидо уже участвовал в действиях партизанских групп, сначала состоявших из коммунистов, потом из чле114 нов Партии действия.* Он прятал дома оружие. Однажды ему пришлось бежать, и он признался тете Энрикетте, что спрятал под полом своей комнаты пистолет и патроны. Тетя едва успела выбросить все это в сад, когда к ним пришли с обыском. В другой раз прятаться пришлось Пьеру Паоло, и он вместе с Нико укрылся на колокольне казарской церкви. Они просидели там три дня и наблюдали за всем происходящим на равнине. У Пьера Паоло была с собой книга Франческо Флора по истории литературы, и он читал. «Турки во Фриули». Построение этой трагедии по образцу сельского праздника придает ее тексту особый смысл. Обычный вечер, в деревне все занимаются простыми и привычными работами. Прибывает гонец с сообщением: турки переправились через Изонцо и продвигаются, сея повсюду страх, они уже почти достигли Тальяменто. Семья Колусси, самая уважаемая в селении, обсуждает, что делать. Паули, старший сын, готов предоставить все судьбе; Мени, второй сын, организует отряд для защиты родной деревни. Мать Луссия предчувствует беду. И беда приходит. Турки отступают от Казарсы, деревня спасена. Зуан Колусси дал обет построить церковь, посвященную Деве Марии, если турки отступят. Но на фоне красных вечерних зарниц громко слышится пение врагов, возвращаются юноши. Они несут на руках тело Мени, погибшего из-за своей самоотверженности, из-за преданности своей деревне. Прочтение этого текста в автобиографическом ключе очень прозрачно: в нем легко угадывается трагедия, обрушившаяся на семью Пазолини – гибель Гвидо. Но нужно все объяснить. * Партия действия (Partito d’azione) была создана Ферруччо Парри в июне 1942 года и входила в состав Комитета Национального освобождения. 115 Противостояние братьев было абсолютно реальным. Страстная любовь к свободе, отказ от нацизма и фашизма Пьера Паоло не воплотились в действиях, вернее сказать, они не воплотились в вооруженную борьбу. Гвидо же, напротив, со всей страстью предался именно вооруженной борьбе. Он мечтал, ощущал необходимость отдать жизнь в борьбе за свободу своей страны. В тексте «Турки во Фриули» «два брата – Мени и Паули (здесь прослеживается постоянное сравнение с двумя братьями, существовавшими в действительности) – представляются не абсолютно самостоятельными сущностями, а двумя зеркально отраженными душами, как бы составляющими хиазм*».4 В «Религии моего времени», небольшой поэме, в которой Пазолини в зрелом возрасте заново переживет свою юность, написано: Небрежно забинтованная юность, проведенная среди варваров, кочующих в безмолвной чаще или по заливным лугам. Эти варвары утешали меня в моем одиночестве, склонялись над моей постелью, вели меня моим путем. История, Церковь, превратности судьбы одной семьи – это всего лишь солнце, душистое и беспощадное, * Хиазм – стилистическая фигура, перекрестное расположение параллельных членов в двух смежных предложениях одинаковой синтаксической формы. 116 которое освещает заброшенный виноградник, копны сена среди редких рощиц, дома, затихшие при звуке колокола, мальчишек иных времен, которые и воплощали саму жизнь. Их грудь была наполнена весной, они переживали лучшие годы, когда сплетаются томленье плоти и образы, сошедшие с листа поэмы. Они листали книги, охваченные лихорадочным желаньем возвышенного и нового. Они читали Шекспира, Томмазео, Кардуччи… Все струны души моей звучали в унисон5. В душе Пьер Паоло оставался порывистым романтическим юношей. Ему был свойственен восторг поэта, который без сомнений верит в воспитательную силу поэзии: только она может пробудить жизненные силы народа, сплотить его. Диалект превращается в язык, если на нем стремятся выразить по-настоящему большие чувства, а не просто воспроизвести местный колорит; история и культура создаются через поэтические формы и стиль. И диалект, и язык в творчестве поэта превращаются в оружие. Примерно такие убеждения, вызванные смутным ощущением истории, смешанные с беспристрастной amor de loinh,* заставляли Пазолини пытаться оживить местную культурную традицию, чтобы бедные крестьяне, веками испытывавшие на себе все унизительные последствия угнетения, * Amor de loinh (фриульск.) – любовь к малой родине. 117 могли узнать себя, обрести человеческое достоинство. Архаичность выражений и обычаев, которая характеризует не только Фриули di cà da aga, могла быть сохранена. Он чувствовал, что его призвание именно в этом, а не в том, чтобы сражаться с оружием в руках. «Турки во Фриули» – не только дань семейной истории, это произведение естественным образом вписывается в план «культурной реконструкции», нацеленной на то, чтобы создать «фриульскую» школу поэзии. Поэзия и культура не рождаются ниоткуда, они обретают форму на примерах, на этих примерах формируется язык и стиль. Для Пазолини этот процесс представлялся абсолютно ясным и понятным. По всей вероятности, наиболее ярким подтверждением этих идей он считал книгу Николо Томмазео «Песни греческого народа» (книга вышла в свет в феврале 1943 года в издательстве «Эйнауди» под редакцией Гвидо Мартелотти). Особый, хоровой, характер этих «Песен», в которых звучат сотни голосов, переплетаются сотни рассказов (о любви, о смерти, о войне), создает подробную картину идеального мира народа, написанную живым, а не окаменевшим языком. Содержание этих «Песен» возбуждает «диалектальное» воображение молодого поэта, питает в нем ностальгию по целой вселенной, которую можно описать на языке, до сих пор не знавшем пера и чернил. Пазолини определит эту свою «позицию» в эссе 1952 года «Диалектальная поэзия двадцатого века». Там он напишет об «авторе “Стихов в Казарсе”»: «Возможно, чтобы вывести область Фриули на представительный уровень, нужно было оторваться от нее, оказаться на достаточном расстоянии, чтобы не чувствовать себя жителем этой области, чтобы действовать свободно и ощутить девственность собственного языка, чтобы не чувствовать себя его носителем. “Регресс”, эта существенная функция диалекта, не должен 118 осуществляться внутри самого диалекта, от одного носителя (поэта) к другому, вероятно, более чистому, более счастливому; он не должен быть непосредственным, в противоположность духу inventum*. Он должен вызываться более сложными причинами, действующими как внутри него, так и извне. Переход от одного языка (итальянского) к другому (фриульскому), ставшему предметом, вызывающим ностальгию, чувственную по природе (в полном значении этого прилагательного), но потом превратившуюся в ностальгию того, кто живет – и осознает это – в цивилизованном мире, переживающем лингвистический кризис и потому отчаявшемся и полном насилия. Это как у Рембо: “je ne sais plus parler”**»6. Итак, вернуться к «родному языку» представляется для поэта-«иностранца» единственным способом, при помощи которого он может выразить все чувства и страсти существования. Но этот язык воспринимается не сам по себе, а для того, чтобы оживить старые модели, все великие образцы прошлого, по возможности не жаргонные и не диалектальные. Вот пример «Песен» Томмазео: С вышки крикнул часовой: «Друзья, к оружию! Готовьтесь к бою! На нас идут турки, Их десять тысяч!» Из лагеря воззвал и Митромара: «Друзья! Мужайтесь! Сегодня отличиться ваш черед. Мы турок разобьем, Свою могилу они найдут у нас». Они издали львиный рык, С мечами бросились на турок, Рассеяли их и смяли. * Inventum (лат.) – изобретенный. ** je ne sais plus parler (франц.) – я не умею больше говорить. 119 Речь идет только о коротком отрывке, но ясно, что подобное произведение могло послужить примером для «Турок во Фриули». И, конечно, очень важно, что «Песни греческого народа» в то время были для Пазолини livre de chevet.* Отзвуки этого увлечения слышны и в стихах, посвященных семейной истории, которые включены во вторую часть сборника «Лучшие из молодых», но это именно отзвуки, а не прямые заимствования. Они смешиваются с отзвуками эпико-лирической итальянской народной поэзии («центром их распространения был Пьемонт, а во Фриули их почему-то очень мало»):7 в общем, перед нами смешение форм и содержаний – оно, по мысли Пазолини, уверенного, что поэзия должна носить поучительный характер, должно было придать фриульской литературе способность самосознания, которой, по его мнению, ей не хватало. Школа в Казарсе Я уже говорил, что, по мнению Пазолини, поэзия должна учить и воспитывать. Пазолини был учителем по складу души, учить и поучать означало для него сублимировать гомосексуальные наклонности. Из этого рождалась и особая литературная концепция. Поэт жаждал «возвращения к языку, более близкому реальному миру»8 – и в то же время он не стремился к индивидуальному познанию мира, ему необходимо было познание коллективное, совместное. Ему показалось, что школа как нельзя лучше соответствует этой цели. Ему помогли чрезвычайные обстоятельства, вызванные войной. Поездки по железной дороге были опасными, по* Livre de chevet (франц.) – настольная книга. 120 езда ходили нерегулярно, и поэтому многие учащиеся из Казарсы решили не ездить в гимназию в Удине или в Порденоне. Пазолини открыл домашнюю школу для тех немногих, кто хотел продолжать учиться. В его школе изучали не только итальянских, латинских и греческих классиков, но и фриульскую поэзию. Пазолини учил ребят писать стихи на их родном языке; они сочиняли лирические стихи и вилоты. Особенной популярностью пользуются вилоты: «в основе этой способности создавать импровизированные стихи-откровения лежит почти всегда конкретное и почти литургическое чувство вины: в свете этого Sehensucht* – как будто чувства бедности и несправедливости освобождаются от предвзятости обязательного и добровольного смирения – мир фриульской деревни оказывается погруженным в глубокую печаль, которая скрывает серые каменные дома, сгрудившиеся вокруг одинокого холма среди пересохших канав и тутовых рощ, зеленеющих вокруг ручьев».9 Фриули для Пазолини – край, оторванный от мира, бездеятельный, позабытый, отдельный островок особенного, собственного языка. Пазолини кажется, что там живет народ, «который является одновременно и северным, со всем свойственным ему морализмом, и южным, с его склонностью к песенному творчеству; люди, живущие здесь, одновременно и ленивы, и трудолюбивы, они и хмурые, и веселые; они живут в некоем, так сказать, политическом субстрате, деревенском мире, замкнутом на себе, в своем собственном благородном мире. ⟨…⟩ У них нет старых демократических традиций (как в епархии Аквилейи)**, нет традиций эпохи Рисорджименто, но все же они свободны * Sehensucht (нем.) – страстное желание. ** Город во Франции, в XV–XIX вв. входил в состав Венецианской республики. 121 от социальных пороков, которые характерны для народов, лишенных этих традиций. Или, по крайней мере, эти пороки оставили в них едва заметный след там, где нищета особенно тягостна и безвыходна, в “забытых” местечках Карнии и Басы. Но если это и оказывает влияние на образ действий или на конформистский выбор населения, оно не затрагивает их природного благородства и древних обычаев, уходящих корнями в далекое прошлое, как и позабытые ладинские истоки их языка».10 В этом окружении, среди этих людей Пазолини начинает действовать. Его школа бесплатная, ученики очень молоды. Ребята, написал Пазолини, вспоминая впоследствии этот период, «были вынуждены принять мои мнения, взгляды и эстетические идеи. В общем, там они обрели свою традицию».11 Школа. Пьер Паоло обратился за помощью к своим друзьям из Болоньи, ему нужны были учителя. Приехала Джованна Бемпорад. Джованна уже обладала богатым житейским и литературным опытом. Она была кочевницей по природе, покрывала лицо белым гримом, чтобы казаться бледной. Из-за необъяснимой эстетической сублимации она постоянно стремилась отойти от реальной жизни. Пьер Паоло проявлял к ней критическое, но вместе с тем и заботливое отношение. В этой жизни, говорил он ей с мягкой убедительностью, нужно, чтобы документы были в порядке. Она приводила ему надуманные возражения, сводившиеся к проповеди беспорядка. Они говорили о сексе, о любви. Однажды во время прогулки, услышав от Пьера Паоло что-то, что показалось ей забавно сентиментальным, она бросила: «Я лесбиянка». Угадала ли Джованна, что Пазолини был «другим»? Поэтому и бросила ему в лицо эту фразу о себе, имея в виду его самого? Возможно, нет. Но чувствительная Джованна 122 могла заметить в поведении Пьера Паоло слабость характера. Пьер Паоло утверждал, что он девственник. Его девственность поражала его сверстников, а вот его явное простодушие никого не удивляло. По утрам они преподавали. После обеда гуляли в полях, разговаривали о поэзии и о книгах, но больше всего, как это часто случается с образованными молодыми людьми, – о жизни и смерти. Смерть постоянно, ощутимо присутствовала в облике Джованны. Смерти в тот год Пазолини посвятил множество своих размышлений. Остались сотни рукописных страниц в гроссбухе. Озаглавлены они «Эссе»; дальше они подразделяются на «Мысли о смерти», «Религия и Италия» и «Несколько зарисовок окрестностей Казарсы». Образцом стиля для этих записей послужил Леопарди. «Так настойчиво думать о смерти – это одна из самых приятных привычек, которые я сохранил с ранней юности». И еще: «Пение птиц напоминает мне о смерти и вечности»*. Суть этого размышления проявляется очень быстро: оно вовсе не невротического происхождения. «Я особенно остро ощущаю смерть, когда думаю с любовью о моей матери». Прошло время. Сюзанна теперь уже не молода: «какое ощущение близкой смерти я испытываю, когда думаю о времени! Я ощущаю все потерянные часы, все минуты! Особенно остро я чувствую мою детскую любовь к ней. Я боюсь, что она умрет. Моя любовь стала моим страданием». Это страдание было совершенно естественным, оно было связано с источником его жизненной силы. У Пазолини была возможность выйти из состояния невроза усилием воли. На этих страницах юношеских размышлений * Мотивы смерти типичны для лирики Дж. Леопарди. «Бесконечность» (или «Вечность») – самое известное стихотворение поэта. 123 он описывает ситуацию совершенно ясно, но немного идеалистически: «Нередки моменты радости, и тогда я чувствую, что победил ощущение приближающейся смерти. ⟨…⟩ Я живу, поскольку я мыслю. Смерть не может победить меня, не может убить меня, потому что ни мгновение, ни пейзаж, ни время не вечны. Вечен только я сам». Чувство вечности переводило беседу друзей на темы веры и религии. Джованна проповедовала атеизм. Пьер Паоло признавал, что для его эстетического «я» привлекателен католицизм. Ему нравились песнопения церковных служек, запах ладана, меланхолическое чтение розария.* Часто послеобеденная прогулка заканчивалась в церкви, где как раз в это время и читался розарий. Пьер Паоло никогда не проявлял никакого желания молиться, он просто наслаждался, слушая, как бесхитростно произносят латинские слова молитвы фриульские крестьяне. Может быть, если его чем-то и привлекала католическая месса, так это чувством греха, а не чувством священного таинства. Однажды он дал Джованне прочитать фразу из De profundis ** в книге, хранившейся в ризнице: «Se iniquitate observaveris, Domine / Domine, quis substinebit?»*** Конечно, мысль о грехе преследовала его, смущала его совесть, поэтому возможный диалог с Богом, который он столько раз пытался осуществить в те годы и по-итальянски, и по-фриульски, вероятно, становился невозможным из-за чувства вины. * Розарий – в католической церкви ежедневное чтение молитв по четкам. ** De profundis – молитва «Из глубины взываю к Тебе, Господи» (129-й псалом). *** Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! кто устоит? (лат.). 124 Если летние встречи с ребятами на белых отмелях Тальяменто помогали ему освободиться от смущавших его душу чувств, то зима несла с собой необходимость ограничений, а они вызывали еще большие угрызения совести. И в то же время он охотно участвовал в застольях с обильным угощением, часто совершал дальние поездки на велосипеде. За ужином, дома – Джованна обычно ужинала вместе с семьей Пазолини, а ночевать уходила к кому-нибудь из их родственников, – они соревновались в сочинении вилот. Пьер Паоло писал их одну за другой, он и школьников учил сочинять эти песни. Было и еще одно развлечение: они оба любили Фосколо. Они пытались воссоздать незаконченные части «Граций». Для них было делом чести написать совершенный одиннадцатисложный стих. Стихи Джованны были больше связаны с неоклассическим формализмом, а стихи Пьера Паоло более свободны. Они часто повторяли друг другу, что могли бы стать поэтами – выразителями духа своего времени. Может быть, рассказ этот выглядит совсем идиллическим. Поэт поднимал мать, кружил ее, называл ее «толстушкой», а Сюзанна была стройной и легкой как тростинка. В одной из вилот он написал: Zovinuta blancia e rosa Con chel stras di vestidin, la to musa dolorosa asomeja al me destin.* * Девушка белая и розовая, Одетая в лохмотья, Ты своим печальным лицом напоминаешь мне мою судьбу. (фриульск.) 125 Джованна Бемпорад положила на музыку два четверостишия, посвященные пятисотлетию прихода Казарсы: O Glisiuta tal to grin Quanciu muars c’a àn preat! Sincsent aint che nu i savin Di vei cà patit e amat. O pais dai vecius muars Vuei beas tal Paradis, dis tu, a luor, co li ciampanis, c’a si pensin dai so fis.* Что-то языческое слышится и в музыке для другого четверостишия (оно тоже написана Бемпорад): Dols orient imbarlumit Tal seren color di rosa Jot suridi plan la sposa Tal so omp indurmidit.** Чтобы заставить Бемпорад снять «чудовищные одеяния», предмет насмешек солдат и мальчишек, которые показывали на нее пальцами на улицах и свистели ей вслед, * О церковь, в твоем лоне, за твоими стенами сколько вознесено молитв! Уже пятьсот лет мы видим и любим этот старый дом. О мирный дух старых стен, которые видят рай! Ты голосом колоколов напоминаешь нам, чьи мы дети (фриульск.). ** Теперь небо на востоке посветлело и окрасилось таким нежным розовым цветом, что похоже на юную невесту, которая пробуждается ото сна. (фриульск.) 126 Пьер Паоло нарисовал для нее классический костюм: «черная бархатная юбка в белую полоску, белая блузка, узкий черный галстук, серые носки в розовую полоску и пуловер цвета увядшей розы». Это игра. Но это игра, в которой вырабатывалось суждение. Суждение, которое получило свое развитие после войны. Джованна опубликовала свои стихи и переводы, собрав их в книгу, названную ею «Упражнения». В газете «Маттино дель пополо», которая издавалась в Венеции, 12 сентября 1948 года Пазолини привел слова Кокто: «Жесты эквилибриста, должно быть, кажутся абсурдными тому, кто не знает, что эквилибрист идет над пустотой и играет со смертью». Абсурдность манер и поведения Джованны представлялись Пьеру Паоло формами психологической защиты, поэзия «Упражнений», по мнению Пазолини, была «еще не совсем свободна от подражания Д’Аннунцио и от влияния определенной приземленности, которая свойственна итальянскому языку в его строгой приверженности традиции». И все же у Бемпорад Пазолини находил похвальное обращение к простонародным обычаям, хотя и не лишенное предвзятости, свойственной интеллектуалу. «Сбивающая с толку небрежность» высокого стиля ее лирики сама по себе представляется ему привлекательной. Он написал Серре 26 января 1944 года, когда Бемпорад уехала из Казарсы: «Я провел с ней много прекрасных поэтических дней, мы проводили время в замечательных разговорах, но какие неприятности у меня были из-за нее здесь, в деревне».12 В то время он читал Дильтея, Шопенгауэра, «Имморалиста» Жида, «Человека в его точном проявлении» Даниелло Бартоли, Вилье де Лиль-Адана, Барбье д’Оревильи. «Песни Мальдора» могли весьма своеобразно навести вни127 мательного читателя на мысль о Христе распятом, о Христе шокирующем. Эти образы потом обрели форму в итальянских стихах сборника «Соловей католической церкви». В маленькой классной комнате в Казарсе Джованна Бемпорад увлеченно читала «Гробницы» Уго Фосколо, ее слушали, боясь пропустить хоть одно слово. Гвидо Пазолини был в этом же классе и с горящими глазами впитывал слова поэмы и комментарий к ним, полностью захваченный «прекрасной мыслью» умереть за родину. Пьер Паоло комментировал «Консальво» Леопарди. На занятиях по английскому языку он переводил «Фауста» Марло. Он задумал дипломную работу о Пасколи, собирался обратиться за помощью к Карло Калькатерра, поскольку работа, которую он собирался защитить у Лонги, была утеряна, а посещать занятия в университете он не мог.13 Учащиеся вносили за обучение небольшую плату: она была необходима для оплаты аренды помещения, где проходили занятия. Конечно, сразу же возникли бюрократические проволочки. Отдел народного образования провинции Удине, собрав необходимые сведения, запретил Пазолини заниматься образовательной деятельностью. В феврале-марте 1944 года число учащихся резко уменьшилось. Именно в это время уехала Бемпорад. Однако сформировалась небольшая группа друзей, среди которых были скрипачка Пина Кальц, художник Рико Де Рокко, Риккардо Кастеллани, Чезаре Бортотто. Впоследствии они станут основателями Academiuta di lenga furlana.* И вот перед нами первый выпуск «Stroligut di cà dal’aga»** – маленького альманаха «по эту сторону вод», т. е. правого берега реки Тальяменто, – на котором написано: «Казарса – * Академия фриульского языка (фриульск.) ** Stroligut (фриульск.) – водяной. 128 апрель MCMXLIV». Это маленький журнал прозы и поэзии, поэтическая хроника повседневных событий, написанная на казарском диалекте. «Стролигут» пользуется успехом: в тесном кружке филологов-любителей Фриули он вызвал немало споров. Несколько диалектальных поэтов прислали Пазолини свои стихи. Нико Нальдини пишет четыре небольших стихотворения в прозе, пишет сам, а не потому, что это задали в школе. Однако у него не хватило смелости показать их двоюродному брату. Он покажет их бабушке. И вот однажды воскресным утром Пьер Паоло позвал Нико прогуляться с ним. Нико пятнадцать лет, он стесняется, хотя полностью доверяет брату и восхищается им. «Почему ты это написал? В подражание кому-то или потому что сам испытал такую необходимость?» Отношения между двоюродными братьями приобрели новое содержание. Пьер Паоло говорит о стиле, о жертвах, которых требует творчество, он говорит об Унгаретти, о Пенна и Монтале. Он дал подростку почитать «Портрет художника в юности» и эссе Альфреда Гарджуло о Д’Аннунцио. Он рассказал ему о Серени и Капрони, о «Консерватории Святой Терезы».* Нико становится безмолвным участником споров Пазолини и Пины Кальц. Он слушает их рассуждения о музыке, но не только: они говорят о «Трех очерках по теории сексуальности» Фрейда, которые Кальц прочитала понемецки, а Пьер Паоло – в отрывках в университетской хрестоматии. * «Портрет художника в юности» – роман Дж. Джойса; «Консерватория Святой Терезы» – роман итальянского писателя Романо Биленки (1909–1989). 129 Случай с Нальдини, несомненно, не единственный. В представлении Пазолини тесный мир Казарсы под воздействием lenga furlana (фриульского языка) непременно должен был превратиться в «кузницу» поэзии. Он звал всех работать в этой «кузнице», всех, а не только немногих избранных. Более того, избранные должны были проникнуться настроениями, соками, источником которых был язык бедных, язык толпы. В соответствии с этими идеями и был построен второй выпуск альманаха «Стролигут» («Казарса – август MCMXLIV»). На первой странице – молитва из «Турок во Фриули», опубликованная без каких-либо ссылок на ее происхождение и озаглавленная просто «Молитва». Пазолини опубликовал в этом выпуске и свой «Discors tra la pleif e un fantаt”*, посвященный отсутствию «истории» Казарсы. В сноске курсивом, сделанной в тексте, он пишет: «Кажется, что ничего, кроме пожаров, чумы и нашествия турок, в нашем приходе за пятьсот лет (1444–1944) и не произошло. Но я знаю, что история совершалась и у нас, люди трудились, молились, страдали, умирали». Ничто не мешает рассматривать эту насущную необходимость прочитать родную историю «с самых низов», детально описать местные обычаи как некоторое предвосхищение неореализма. Документальность (здесь – лингвистическая) смешивается с личными воспоминаниями. Доводы рассудка оказываются как бы за скобками. Автор внимательно анализирует исходный, «дикий» материал, который в изобилии поставляет ему разговорный язык. Идеология, если она там присутствует (а она там, несомненно, есть) * Разговор жительницы города Авиона с молодым человеком (фриульск.). 130 готова отступить, чтобы свершилось открытие «мира»: она уступает дорогу католическому творчеству, но католическому не в смысле «официальному», «римскому», а тихому, домашнему, характерному для долины По на всей ее протяженности, до самых домов серого камня во Фриули, – оно, это творчество, присутствует как нечто привычное, может быть, как свидетельство живой веры в трансцендентное. Таким образом, уникальность подобного подхода – предвосхитившего то, что станет послевоенным неореализмом – состоит в том внимании, которое он уделяет языку, в том, что он придает основополагающее значение связи между разговорным языком и языком литературным. Это идея вовсе не неореалистической литературы. В том же выпуске «Стролигут» помещена и вилота Пазолини: Oh Signòur misericordia da la nustra zoventùt, essi zòvins no val nuja co la Patria a ni à pierdùt.* Итак, проза Кастеллани, стихи Бортотто «lontan dal so paìs e dai so amics».** Невинные и чистые строки Нальдини, Овидио Колусси. И еще там стихотворное воспоминание Пазолини «Memoria di un spetaculut»*** – это рассказ о том, как в Казарсе под его руководством устроили концерт, на котором Кальц исполняла классические пьесы, а между ними звучали вилоты. Их пела небольшая группа молодежи. * Господи, смилуйся над нашей юностью, быть молодым нет смысла, если ты лишился Отчизны (фриульск.). ** «Вдалеке от своей страны и от своих друзей» (фриульск). *** «Воспоминание об одном спектакле» (фриульск.) 131 С маленькими сценками, музыкой и песнями они отправились по деревням в окрестностях Казарсы. «Ciant dai miej fantàs»* написаны по воспоминаниям об этом «спектакле». Они имели большой успех. Домой возвращались при свете звезд, после веселого застолья, но счастье в это лето уже ушло. Это веселье для Пьера Паоло было формой сопротивления, проявлением антифашистских настроений. Оно приобрело политический смысл. В майском письме 1944 года, адресованном Серре, Пазолини пишет: «От войны несет дерьмом. Люди уже настолько отравлены этим запахом, что не замечают его, смеются, говорят: «Брось! Не стоит!» Но они ждут, уж не знаю, чего именно, может быть, что гниль сама пройдет. ⟨…⟩ В одиночестве я брожу по полям, я все иду и иду по полям Фриули, пустым и бесконечным, Отовсюду доносится зловоние, все вызывает тошноту, все время вспоминаешь, что на эту землю испражняются они».14 24 мая он пишет Серре об аресте за листовки: «Меня, Пину, Лучану, Гастона арестовали, весьма театрально, обвинили в том, что мы распространяли листовки, вроде тех, которые ты видел, когда мы обнаружили их в лавке моей тети». Серра гостил в Казарсе, он уехал как раз накануне ареста. Пьер Паоло, Кальц и другие были обвинены в антифашистской пропаганде. Настоящим автором листовок был Гвидо, именно из-за него внимание властей сосредоточилось на Пьере Паоло. Письмо заканчивается словами: «Наша непричастность была доказана столь очевидно, что теперь обвинители извиняются перед нами и сваливают вину друг на друга».15 Если Пазолини и подчеркивает свою непричастность и с * «Песни моей фантазии» (фриульск.) 132 презрением отзывается о «риторике этой листовки», причина этому ясна: цензура корреспонденции усиливается. Однако совершенно ясно и другое: и школа, и спектакли имели явно политическую окраску, они помогали выявить и подчеркнуть личную свободу вдохновителей этих мероприятий. В то время Пьер Паоло и Гвидо часто уходят ночевать в Версуту. Гвидо и Порцус И вот 10 сентября 1943 года Гвидо вместе с другом организовал предприятие, которое могло стоить им жизни: они попытались украсть у нацистов на аэродроме в Казарсе оружие. Его другу едва-едва удалось спастись. Они распространяли листовки, писали на стенах домов: «Близок час». В конце апреля 1944 года Гвидо сдал выпускные экзамены в лицее. 5 мая он послал отцу, бывшему тогда в плену, длинное письмо, в котором поделился своими сомнениями и размышлениями по поводу выбора факультета в университете. Сюзанна хотела, чтобы он поступал на медицинский («на самом деле у меня есть все данные: нервы крепкие, рука твердая; кроме того, у меня есть определенные склонности к подобным занятиям»), но его больше интересует политика, философия («я думаю, политология мне больше подходит, но мама испытывает священный ужас перед политикой, и мне бы не хотелось ее огорчать»). Вывод: «А ты что думаешь? Я сделаю то, что ты мне посоветуешь». Дальше он пишет: У нас все хорошо. Пьер Паоло все еще дома, я тоже дома, но далеко не так спокоен, как он (хотя я еще не получил открытку). Несмотря на все мои благие намерения, 133 я не могу держаться подальше от политики, я воспринимаю все слишком горячо (идеи и умонастроения в Италии в последнее время очень изменились…), меня действительно мучит мысль о том, что мне придется действовать вопреки моему образу мыслей. И все же я убежден, что если бы ты был тут, то ни минуты бы не колебался, какую сторону принять… Пьер Паоло делает все возможное, чтобы сдерживать меня, это его великодушие меня восхищает (я убежден, что он делает это только для того, чтобы уберечь маму от лишних волнений), я очень его люблю, но, к сожалению, частенько позволяю себе слишком увлекаться. И он действительно слишком увлекся. Теперь, когда он покончил со школьными уроками, мысль о том, что его могут призвать в фашистскую армию, приводила его в ужас. Поскольку фашистский надзор становился все более жестким, он ушел в горы, хотя и понимал, что это доставит «лишние огорчения маме». Просто однажды рано утром он уехал. Пьер Паоло проводил его на станцию, братья купили билет до Болоньи, чтобы отвлечь внимание полиции. Гвидо отправился в Спилимберго, а оттуда в Пьелунго, где присоединился к дивизии Озоппо.* Это было утро, когда свет зари над морем разгорался мечтательно на розовом горизонте: каждый стебелек травы, вытянувшийся с трудом, был продолжением лучей этого света, вечного и неясного. * Партизанская бригада Озоппо, сформировавшаяся 25 ноября 1943 года, получила название по маленькому городку Озоппо, который во время национально-освободительной борьбы Рисорджименто оказал (в 1848 году) беспримерный отпор австрийским войскам. 134 Мы молча шли по почти незаметной тропе вдоль железной дороги, мы ощущали легкость, но были еще разгорячены после нашей последней ночи, которую мы провели в пустом амбаре посреди поля, ставшего нашим убежищем. Где-то далеко белели дома Казарсы, замершей от ужаса, вызванного последним воззванием Грацианти; вокзал, освещенный солнцем, возвышался на фоне гор. Он был пуст, вокруг только деревья: сухие шелковицы, и рельсы, между которыми проросла трава, а на них поезд в Спилимберго… Я смотрел, как он уходит с чемоданчиком, где в книге Монтале был спрятан завернутый в тряпку револьвер. Он удалялся в белом свете солнца по выцветшей траве. Пиджак немного жал ему в плечах, Этот пиджак был раньше моим, из воротника выглядывала беззащитная мальчишеская шея… Я вернулся обратно по выжженной дороге ⟨…⟩16 Что заставило Гвидо принять это решение? В письме к Серре от 21 августа 1945 года – благодаря этому письму мы можем непосредственно судить о том, что означала для Пьера Паоло гибель брата, – мы читаем: «Ты помнишь восторженность Гвидо, так вот, внутри меня в эти дни созрело убеждение: он не мог остаться в живых именно из-за этой своей восторженности. Это был молодой человек, мальчик, невообразимо великодушный, смелый, чистый. Он был 135 лучшим из нас. Я вижу его, вижу его живой образ, его волосы, его лицо, его пиджак, и чувствую, как внутри меня нарастает нечеловеческое беспокойство».17 Гвидо уехал. Ему было девятнадцать лет. Он присоединился к боевому отряду партизан, входившему в партизанскую бригаду Озоппо-Фриулия. Сюзанна мужественно отнеслась к решению сына: она знала, что его решение уйти в партизаны было зрелым и взвешенным, что его волю невозможно было сломить, он не отступил бы ни перед какими препятствиями. Его партизанской кличкой стало имя Эрмес. Он писал домой, адресовал письма матери, называл ее в них «толстушкой», подписывал их «Амелия», рассказывал от женского имени о своей жизни в горах. Например (письмо, которое можно датировать 23 октября): Там, где я решила заняться «зимним спортом», снег пойдет через несколько дней. Мне совершенно необходима зимняя экипировка, свитера, башлыки, перчатки, теплые носки и лишняя пара обуви (то, что у меня на ногах, вотвот развалится). Поэтому я прошу, чтобы ты или Джаннина вместе с синьориной Пина привезли мне, вы знаете куда, все эти вещи как можно скорее! Путешествие для женщины не представляет никаких сложностей. Пусть Пьер Паоло не беспокоится… И не забудьте, когда будете в Удине, купить побольше «Мома» (порошок против насекомых), мне он нужен как хлеб! Привезите также побольше мыла. В другом письме он благодарит за посылки, беспокоится о брате, хочет, чтобы он ему написал и чтобы он написал для него и его друзей какую-нибудь фриульскую песню. «Пришли мне, как только сможешь, “Стихи в Казарсе” и “Стролигут”, и вообще все, что сможешь, из написанного 136 Пьером Паоло. У меня есть друг, который просто умирает от желания это почитать». И еще: «Я пожалела, что подсказала тебе мысль приехать ко мне: путешествие может оказаться очень опасным и неприятным. К счастью, Пьер Паоло тебя отговорил». В это время усилились бомбардировки железнодорожного узла Казарсы – весь исторический центр города был разрушен. Сюзанна и Пьер Паоло вынуждены были переехать в Версуту. Вокруг меня были одни крестьяне, я жил славной жизнью беглеца, скрывающегося от жестокого закона ⟨…⟩18 Эта славная жизнь была наполнена научными занятиями, поскольку всякая общественная деятельность замерла из-за того, что война все более ужесточалась. Там, в Версуте, Пьер Паоло познакомился с четырнадцатилетним парнишкой, сыном крестьянина. Его звали Тонути Спаньол. Он занимался с ним, научил его писать стихи, и Тонути написал несколько стихотворений. В эссе «Диалектальная поэзия в двадцатом веке» Пазолини посвятил ему несколько строк: «Необходимо заметить, что Тонути Спаньол – простой крестьянин, который начал писать «sonarel»*, – показал в нескольких коротких стихотворениях, что обладает чувствительной душой и прекрасным слогом, хотя обычно необразованные поэты его типа впадают в сентиментализм и подражание»19. К Тонути, задолго до Нинетто Даволи, Пазолини испытывал настоящую и искреннюю любовь. Любовь эта закончится только много лет спустя, когда Тонути вырастет, станет мужчиной, и только воспоминания о Версуте будут тревожить сердце. * Sonarel (фриульск.) – короткие стихотворные зарисовки. 137 В общем, Пьер Паоло написал Гвидо, послал ему стихи. Гвидо-Амелия так ответил «дорогой Толстушке»: «Я получила письмо от Пьера Паоло, оно меня полностью успокоило, я ему очень за это благодарна. Стихи странным образом абсолютно соответствуют тому душевному состоянию, которое охватывает меня в ветреные солнечные дни: ⟨…⟩ я была наверху, на самой вершине, подо мной расстилалась до самого моря, до Истрии, равнина; селения (красные крыши домов) там и сям выделялись на еще зеленой равнине (зеленый цвет очень бледный, увядший…). Я с жадностью нашла белую ленту Тальяменто: в каком-то месте пейзаж скрывался в голубом тумане, терялся в легкой дымке. Там, далеко, были все вы; может быть, вы думали обо мне. Попроси Пьера Паоло написать мне еще, если у него будет время. Это принесет мне огромную радость». В этом же письме он добавляет: «Мне необходимы книги по итальянской новой и новейшей истории, прежде всего “Эпоха Рисорджименто” Омодео». Гвидо нравились девушки. В его записях, сохранившихся дома, была найдена записка, где много слов вычеркнуто. Она не закончена, положена в отдельный конверт, на котором нет адреса получателя: «Моя дорогая Вильма, я уж и не помню, когда получал от тебя хоть какую-нибудь весточку… Иногда, думая об этом, я начинаю сомневаться, знал ли я тебя, воспоминание о тебе превращается в прекрасную нереальность, похожую на несбыточную мечту… Но твои вещи, которые по-прежнему меня окружают, вполне реальны, из-за них я испытываю огромную отчаянную тоску, я безумно скучаю». Первая бригада Озоппо-Фриулия действовала в зоне, расположенной километрах в двадцати к северу от Удине, 138 их ближайшим соседом была вторая бригада Гарибальди. Гарибальдийцы были коммунистами, озованцы – членами Партии действия. Союзники в октябре 1944 года остановились южнее Болоньи. Борцы за свободу Италии готовились к долгой и полной лишений зиме. Нацисты и фашисты продолжали яростно бороться с партизанскими отрядами. В этой критической ситуации коммунисты и члены Партии действия, действовавшие на территории Фриули, подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Так образовалась дивизия Озоппо-Гарибальди. В дивизии были получены данные о том, что союзники в освобожденных областях начали разоружение партизанских отрядов. Для озованцев это известие ровным счетом ничего не значило, их целью было просто освободить Италию. Но гарибальдийцев это не устраивало. В этих условиях и появилось предложение маршала Тито принять в ряды Словенской армии дивизию Озоппо-Гарибальди. Командир дивизии Сассо, гарибальдиец, колеблется; Болла, заместитель командира, озованец, решительно отказывается. Посланцы Тито недовольны: они вернутся к себе и будут действовать в соответствии с ситуацией. В ночь с 26 на 27 октября 1944 года немцы на бронепоезде атакуют участок между Реаной и Тричезимо . Атака очень напряженная, гарибальдийцы и озованцы отброшены, рассеяны, многие попали в плен. Словены, хотя и могли бы помочь, бездействуют. Хуже всего пришлось озованцам, которые были не в ладах со своими товарищами по оружию – коммунистами. Гвидо в подробном письме к Пьеру Паоло, датированном 27 ноября, рассказывает об этих событиях. 139 Гарибальдийские дозоры, которые мы встретили по дороге, сделали все, чтобы деморализовать нас и заставить снять трехцветные эмблемы. В Менико гарибальдийский комиссар наставил на меня пистолет за то, что я сказал ему в лицо, что он понятия не имеет, что значит быть свободным, и что он рассуждает, как настоящий фашист (действительно, в рядах гарибальдийцев можно свободно хвалить коммунизм, а все другие либо «враги пролетариата» – ни больше, ни меньше! – либо «идеалисты, сосущие кровь народа» – ты только послушай!). С высоко поднятой головой мы заявляем, что мы – итальянцы, и собираемся сражаться за итальянское знамя, а не за «красную тряпку».20 Оставшиеся в живых озованцы собираются в районе Просенико-Субит-Порцус и переформировываются. Они снова начинают переговоры с гарибальдийцами. Ходят слухи, что гарибальдийцы присоединились к словенам, но оказывается, что это только слухи. 7 ноября, в годовщину советской Октябрьской революции, распространяется сообщение о том, что отряды итальянских коммунистов объединились со Словенской армией. Разочарование велико, даже в рядах самих гарибальдийцев. Гвидо пишет: «Многие плачут от бессильной ярости, они не хотят менять трехцветную звезду на красную. Некоторые переходят в ряды Озоппо и рассказывают, что гарибальдийские комиссары запугивают бойцов». Приходит приказ маршала Тито, чтобы бригада Озоппо освободила территорию или «по крайней мере не пыталась противодействовать словенским отрядам». «Озоппо» отвечает созданием собственной газеты под названием «Защитники трехцветного знамени». Гвидо в одном из писем просит Пьера Паоло написать статью или прислать стихи. Он говорит: «Ты должен быть итальянцем, который обращается к итальянцам». 140 В этой обстановке назревает ужасающий эпизод итальянского Сопротивления, получивший название «Бойня Порцус». Гвидо Пазолини был убит «вражеской рукой брата». Все произошло по целому ряду сложных причин, и словенский вопрос послужил здесь детонатором. На сегодняшний день представляется совершенно ясным – об этом говорили в ходе двух процессов, которые помогли прояснить все имевшие место события (Удине, 1945 год, и, в большей степени, Лука, 1951–1952), и писали в исторических исследованиях, посвященных этим событиям21, – сейчас нет сомнений, что формирования озованцев были использованы местным руководством Сопротивления исключительно в антикоммунистических целях. Поэтому коммунисты были введены в заблуждение их действиями, особенно теми, которыми руководил, пользуясь идеалистическим настроем своих бойцов, командир Болла, то есть Франческо Де Грегори, ярый сторонник монархии, у которого и служил Гвидо Пазолини. Говорили о контактах с фашистами, и они действительно имели место, при посредничестве архиепископа Удине: на этих переговорах речь шла о перемирии или прекращении огня, но они ни к чему не привели. Однако этого было достаточно для коммунистического руководства, которое не имело никаких других данных и поэтому решилось на применение силы, что и привело к бойне. Озованцев командира Боллы обвинили в предательстве. 7 февраля 1945 года колонна, состоявшая в основном из членов Групп патриотического действия,* очень юных и ничего не знавших об истинных целях операции, поднялась * Группы патриотического действия (Gruppi per azione patriotica, (GAP) – партизанские формирования, созданные итальянской коммунистической партией в сентябре 1943 года. 141 на альпийские пастбища Порцуса. В тот же день были убиты Болла, командир, который мог бы его заменить, известный под именем Эней (настоящее имя Гастон Валенте), и предполагаемая шпионка, Эльда Туркетти. Всех троих приговорил суд, который был совершенно незаконен. Другие четырнадцать озованцев, среди которых был и Гвидо Пазолини, были захвачены в плен и убиты в один из последующих дней. Их убили не в горах, а на равнине. Говорили, будто с ними покончили, ударив по голове молотком. Однако это просто плод народного воображения. Палачи ничего не сказали своим жертвам о том, что их ожидает. Пленных привели на равнину вечером 8 февраля и собрали на «политбеседу». Беседа эта была прервана Гвидо, который в ответ на речи о справедливости закричал, что коммунисты признают только одну справедливость – «выстрел в затылок». Ему не ответили. В последующие дни четырнадцать пленных разделили на маленькие группы. Кажется, Гвидо удалось вырваться из рук исполнителей буквально за несколько мгновений до казни.22 Автоматная очередь ранила его в плечо и правую руку. Он укрылся в доме старой крестьянки Либеры Пьяни. Попросил о помощи, сказал, что ранен. Она перевязала его, сделала ему кофе с молоком, налила граппы. Вошли двое гарибальдийцев, сказали, что отвезут молодого человека в госпиталь... Гвидо был очень слаб, его буквально выволокли наружу. Его привели в дом к Лине Мадалони, где жил представитель КНО* из Доленьяно. Сюда пришел еще один гарибаль* Комитет национального освобождения (Comitato della Liberazione Nazionale, CLN) – комитет оппозиционных фашистских партий, созданный в 1943 году и возглавивший движение Сопротивления. 142 диец, который узнал Гвидо Пазолини и сказал другим: «Если он убежит, я с вас шкуру спущу». И пошел искать велосипед. Он вернулся, взгромоздил на раму раненого, потерявшего много крови. Других он заверил, что отвезет его в госпиталь в Кормонс, а сам отвез его туда, откуда он сбежал. Его положили в уже вырытую могилу. По всей вероятности, его застрелил из пистолета один из командиров отряда. Все это произошло в Новокуцци, видимо, 10 февраля. Слухи о бойне распространились сразу же, но это были очень противоречивые слухи. Говорили, что ее организовали словены, что это было нападение фашистов. Через несколько дней стали поговаривать о членах групп патриотического действия и о гарибальдийцах. Федерация коммунистов Фриули провела расследование. Местный КНО был на грани развала, и это в дни Освобождения, в конце апреля. Но раскола удалось избежать. Раскол внутри партизанского движения произошел позднее, в разгар холодной войны, в дни процесса в Луке. «Словенский вопрос» снова всплыл: посыпались обвинения в предательстве, в попытке расколоть национальное единство и нарушить территориальную целостность государства. Процесс послужил поводом для яростной антикоммунистической кампании. КПИ* ответила, что этот эпизод необходимо рассматривать в свете жестокой политической ситуации тех лет, сложившейся на границе Фриули. Риск словенской оккупации ожесточил людей, поглощенных партизанской борьбой. Фашисты, иногда с успехом, пользовались трещинами, возникавшими внутри вооруженного антифашистского сопротивления. Югославы, со своей стороны, действовали безответственно, как будто стремились сделать ситуацию еще более конфликтной и напряженной. * Коммунистическая партия Италии. 143 Вынесенный в Луке приговор, по которому были осуждены тридцать шесть человек, объяснил произошедшее враждебностью и соперничеством, сложившимися между гарибальдийцами и озованцами на почве идеологических разногласий. Историки утверждают, что речь идет о горькой странице классовой борьбы, которая развернулась в то время параллельно с войной за национальное освобождение: то, что формирования озованцев использовались для осуществления антикоммунистической пропаганды, не могло не привести к трагедии. Цель была ясна: рискнуть и разыграть несколько карт, имея в виду будущее политическое противостояние в освобожденной области Фриули. Для некоторых подобная интерпретация означает уход от персональной ответственности. Это не так, поскольку персональная ответственность была определена приговором, ответственность за это понесли и некоторые коммунистические руководители, и представители Групп патриотического действия, по инициативе которых была организована бойня. Приговор, вынесенный в Луке, в любом случае положил конец всем спорам: он снял все обвинения в предательстве и в посягательстве на территориальную целостность государства. Пазолини достоверно узнал о том, что Гвидо был убит в Порцусе, от Чезаре Бортотто 2 мая 1945 года. Вместе с двоюродной сестрой Анни он возвращался из Версуты. Бортотто возвращался с гор, где партизанил. Тут он все и рассказал. Паоло буквально лишился дара речи. Официальное извещение Сюзанна Пазолини получила только через несколько дней. Гибель Гвидо встала перед матерью и братом как «огромная непреодолимая гора». Об этой горе Пьер Паоло написал Серре 21 августа 1945 года: «чем больше мы от нее уда144 ляемся, тем она кажется выше и ужаснее, закрывая весь горизонт».23 Гвидо был убит «на границе». За этой «границей» для Пьера Паоло открылась новая трагическая реальность, которая прежде скрывалась за туманным покровом лингвистических проблем. Мир «границы» мог потребовать даже человеческих жертв, что полностью лишало его утешительной литературной притягательности. Это событие, с одной стороны, утвердило в экзистенциальном опыте Пьера Паоло идею смерти; с другой стороны, оно побудило его искать если не политических оправданий, то, по крайней мере, политический способ уничтожить межэтническое непонимание и конфликты (обостренные фашизмом и войной), которые привели к трагической бойне. Казарса времен его юности была уничтожена бомбардировками. Не было больше «Казарсы его мечты», развалин церкви, на стенах которой сохранялись древние фрески «в холодных голубых тонах и с фигурами, отдаленно напоминавшими готические». В мае 1945 года перед глазами Пазолини раскрывается настоящая Казарса. В нем пробуждается интерес к местной политической жизни. Горячие дни Освобождения, последовавшие за ними месяцы потребовали от многих, даже от самых отстраненных интеллектуалов, исполнения гражданского долга. Для Пазолини воплощением выполнения этого долга стало создание многочисленных общих воззваний. Он погрузился в бесконечные споры. В «Богатстве», написанном лет через десять-двенадцать после этих событий, он пишет, что дожил «до дней Сопро145 тивления, не зная о жизни ничего, и очень немного о литературном стиле». Этот «стиль» был «чистым светом» – «чистым светом» стало и отчаяние Сюзанны. И пришел день смерти и свободы, день мученичества, и воссиял новый свет… Это был свет надежды на правосудие, я не знаю, на какое правосудие я надеялся, просто на Правосудие. Свет всегда подобен другому свету. Потом все изменилось: свет стал неверным светом зари, зари, которая разгоралась, заливала все небо, простиралась над фриульскими полями, над холмами. Он осветил батраков, которые работали в полях. И так рождающаяся заря стала светом, светом, не принадлежавшим вечному свету поэзии…24 В стихах иносказательно описывается поворот, который произошел в сознании Пазолини: «вечный свет поэзии» предвосхищает литературные иллюзии «Стихов в Казарсе» и первых выпусков «Стролигута»; «рождающаяся заря» – это осознание конкретных проблем, которые возникли в послевоенный период. Свидетельством этого поворота могут быть два отрывка, посвященные гибели Гвидо, которые были найдены в бумагах Пьера Паоло после его смерти и, несомненно, предназначались для обнародования. В них рассказывается, как боль и онемение сублимировались в душе Пьера Паоло и преобразовались в спокойное и взвешенное мнение о том, что произошло. Первый из двух отрывков, должно быть, был задуман сразу после Освобождения – может быть, для первого дня 146 памяти погибших в Порцусе. Свидетельство о смерти Гвидо, присланное Сюзанне командованием IV дивизии Озоппо и подписанное командиром Эмилио из XIV бригады, датировано 21 июня 1945 года. В этот день тело Гвидо было перенесено в Казарсу, там его и похоронили. Возможно, что Пьер Паоло написал эти слова для церемонии перезахоронения (можно догадаться, что Карла Альберта нет: в тексте ни словом не упоминается его скорбь).25 Я говорю не потому, что мне это поручили, и не потому, что у меня есть какие-то особые заслуги. Я говорю только потому, что я брат одного из этих мучеников. Боль моей матери, мою собственную, боль других матерей и братьев я не в силах выразить. Конечно, это слишком тяжело осознать, понять, что они умерли. Эту боль наши человеческие сердца не могут вместить. Они ушли, и унесли с собой все прошлое своих семей, все наше прошлое, и оставили нас одних на этой земле, которая теперь кажется нам чужой. Что касается моего брата, то я могу сказать, что это была судьба восторженного молодого человека, который не мог жить, испытывая такой восторг. И вот идеалы, ради которых он погиб, его драгоценное трехцветное знамя – они отняли его у нас. И вместе с ним его товарищей. Они все герои. И только мы, родственники, можем оплакивать их, хотя и мы не отрицаем, что гордимся ими, поскольку убеждены, что только их мученическая гибель смогла дать нам всем силы, чтобы бороться с низостью, жестокостью и эгоизмом во имя тех идеалов, за которые они погибли. Только мы можем оплакивать их, потому что знаем, как они говорили, как смеялись, как они нас любили. Только мы можем оплакивать их, потому что знаем, какими они были при жизни, как горячо желали вернуться к нам, домой, в милую прежнюю жизнь. Чужие не могут оплакивать их, во всяком случае, их скорбь будет быстротечна. Для чужих это 147 просто трагический эпизод, мученичество, которое они должны были неизбежно принять. Это справедливо, это гуманно, так и должно быть. Но мы не требуем оплакивать их всем миром, мы требуем справедливости. Второй отрывок написан два года спустя: возможно, это тоже речь, произнесенная в ходе памятной церемонии. Пазолини в это время уже активный сторонник левых сил, но и на этот раз некоторые его идеи носят полемический характер. В воскресенье в Субите (поскольку погода не позволила подняться на пастбища Порцуса) прошла церемония в память о Болле, Энее и их товарищах, убитых бандой озверевших гарибальдийцев. Как брат Эрмеса, одного из мучеников, я должен, прежде всего, поблагодарить организаторов этого трогательного паломничества, а также и всех его участников. Их верность памяти павших действительно очень важна для родственников и друзей. Прошло два года с того дня, когда они были убиты, но и сегодня я не могу еще смириться с «неизбежностью вечности», которая охраняет жизнь моего брата и жертву, которую он принес, от нашего суетного вмешательства. С этим мальчиком, кажется, погибли великодушие и чистота, с которыми он добровольно отправился на смерть. И все же в одном я могу быть уверен: мне дозволено говорить от его имени. И от его имени я могу сказать, что, к сожалению, церемонии в Субите не хватило искренности, искренности, а не доброй воли. Смерть Энея, Боллы, моего брата, Д’Орланди и всех других рассматривается с точки зрения патриотизма (насколько в общем смысле понимать это слово – сейчас не стоит обсуждать), а не с точки зрения морали. Поэтому павших в Порцусе не было с нами в это воскресенье, их гибель была только абстрактным предлогом. Я думаю, что их взаимоотношения с гарибаль148 дийцами, которые их убили, были не чем иным, как взаимоотношениями Добра и Зла; они погибли во имя той духовности, которая присутствует даже в идее коммунизма, даже в худшем из людей. Если мы хотим, чтобы они во имя этой Духовности продолжали жить рядом с нами, мы должны думать о НИХ, а не о символах, ради которых они отдали жизни. Подумайте о моем брате и о его друге Д’Орланди. В тот день они возвращались в Порцус из Музи, их предупредили о предательстве их товарищи, которым удалось спастись, но они не захотели бежать, они решили помочь своему командиру, и это героическое решение привело их к гибели. Как можем теперь мы, их близкие, считать, что их мученическая смерть была бессмысленной только потому, что Италия должна подписать несправедливый мир и потерять часть территории? Это мученичество было исполнено глубочайшего смысла. Точка зрения Пазолини ясна: он выступает против тех, для кого территориальные уступки оказались важнее любой «моральной» оценки убийства. Хотя сам он согласен на компромисс при подписании мирного договора с Югославией. Чтобы придать «моральной оценке» гражданское звучание, Пазолини готов открыто рассказать о боли, испытанной им при известии о гибели брата. Эта гибель стала символом, источником света рождающейся зари, «не принадлежащей вечному свету поэзии». Знаки в словах Идеал чистой литературы и классическая мечта высокой поэзии не теряют своего значения для Пазолини. Они останутся с ним надолго, будут связаны с ностальгией, которую он время от времени будет ощущать с новой силой. 149 Пьер Паоло писал в то время стихи и на итальянском языке. Он опубликовал сборник, датированный 1945 годом. Это книжечка, вышедшая тиражом в 105 экземпляров. Она не предназначалась для продажи и была посвящена памяти Гвидо. Называется она «Стихи» и отпечатана в типографии «Примон ди Сан Вито» в Тальяменто. Это та же типография, где печатался «Стролигут». В этих стихах особенно ощущается его любовь к Фосколо и Леопарди. В одном из примечаний к сборнику он говорит об этом откровенно и скромно: По поводу языка этих стихотворений я бы мог сказать много, поскольку вижу, что и в других, не оконченных мной, стихотворениях есть те же достоинства и недостатки. Достаточно сказать, что я не совсем определился с синтаксисом, с подбором определений, не совсем уверен в правильности выбора традиционной манеры. Поэтов, которые послужили мне образцом, от самых древних и до современных, образованный читатель может назвать сам. Но я признаюсь, что в марте 1945 года отдавал особое предпочтение поэзии девятнадцатого века, Леопарди, Фосколо, Томмазео и Каттанео. Таким образом, Пазолини в стихах работает с литературным итальянским языком, но решающее обращение к нему еще не произошло. Серре 24 января 1944 года он сообщает наряду с прочим, что пишет три «фриульские» книжечки и одна из них, последняя – «Соловей католической церкви», – должна содержать религиозные размышления. И далее: «Я много писал по-итальянски, однако успехов здесь у меня гораздо меньше. На сегодняшний день из множества стихов, написанных мной в этом году на итальянском языке, только пять или шесть можно кому-нибудь показать».26 150 О переходе на итальянский язык, об отдалении от родного языка, вызванном не только поэтическими причинами, «Религия моего времени» говорит еще раз, давая довольно исчерпывающее объяснение: И все же, Церковь, я пришел к тебе. Томик Паскаля и «Песни греческого народа» я сжимал в пылающей руке, как если бы таинственный крестьянин, тихий и глухой, летом сорок третьего среди полей и виноградников у Тальяменто оказался в центре земли и неба ⟨…⟩ Среди разбросанных книг голубоватые цветы и трава, чистая трава пастбищ. И я принес их Христу вместе со всей моей невинностью и всей моей кровью. ⟨…⟩ ⟨…⟩ Сопротивление смело сон о краях, объединенных верой в Христа и его пылающего соловья. И принесло иные сны. И ни одна из истинных страстей людских не проявилась в словах и деяниях Церкви ⟨…⟩27. Строки горькие, за ними скрывается глубокое разочарование. То, что должно было показаться чужому взгляду эстетическим и декадентским удовольствием, испытываемым 151 от католических обрядов (я вспоминаю свидетельство Джованны Бемпорад, которая, как я уже говорил, видела в том, как Пазолини изучает церковь в Казарсе, литературное следствие «католической» традиции, которая питалась ощущением печати проклятия и чувством вины, возможно, подсказанными Верленом), – на самом деле это было что-то иное, что-то большее: в нем было нечто от политики («края, объединенные верой в Христа»), оно возникло у молодого поэта благодаря внимательному изучению Фриули, края крестьян и добрых католиков. Во времена Сопротивления (которое «смело» старые сны) жар соловья превратился в критическое осмысление, в попытку познать. Отсюда и необходимость освободить этот «жар» от певучей романтики, свойственной фриульскому языку, с тем чтобы вернуть его на почву рационального, идеологизированного итальянского языка. «Истинные страсти людские» должны превратиться в самые общие коммуникативные знаки. «Соловей», хотя и ощущает себя таковым, и любуется собой, для того чтобы выжить в мире, полном зла, должен превратиться в гражданского поэта. Все это кажется ясным, когда смотришь на все издалека. Естественно, ход вещей был гораздо более сложным, путь, пройденный автором, – более утомительным. Именно в тот период, 18 февраля 1945 года, «фриульское творчество» Пазолини достигло своей высшей точки. Была основана «Academiuta di lenga furlana». Изначально Академия была воплощением мечты об Аркадии, чем-то вроде местного фелибризма*. Она должна была возродить особый идиллический дух, свойственный * Фелибризм – движение за возрождение провансальского языка и литературы. 152 сельской жизни, а с другой стороны – послужить воплощением особого исторического мира, существующего только в воображении нескольких двадцатилетних юношей. Два выпуска «Стролигута», которые уже были опубликованы к тому времени, стали предвестниками Академии – если, конечно, не считать ее истоком стихотворения на фриульском языке Пазолини, Риккардо Кастеллани и Чезаре Бортотто, опубликованные в «Иль сетаччо». Авторы этих двух изданий и стали членами Академии; среди них были ребята, которые учились в школе у Пазолини, им было по пятнадцать-семнадцать лет, и Кальц, Рико де Роко, Вирджилио Трамонтин. В августе 1945 года (Avost MCMXLV) все в той же типографии «Примон ди Сан Вито» вышел новый номер «Стролигута». Под названием был девиз: «O crisian furlanut / plen di veca salut»*. Номер открывается учредительным актом Академии: «Герб Академии – куст рапунцеля ⟨…⟩ Фриули, со своей уникальной историей и трепетным отношением к поэзии, присоединяется к Провансу, Каталонии, Граубюндену, Румынии и всем другим малым родинам романских языков. У Академии еще очень короткая история». Символ веры, составленный совершенно в духе Пазолини, гласит: В нашем фриульском языке мы находим живость, непосредственность и христианский дух, благодаря которым он может вырваться из уз скудной поэтической предыстории. Нашим литературным фантазиям необходима не только устная традиция. И это не может быть фриульская традиция, поскольку она, за исключением нескольких второсте* «О фриульский крестьянин, дышащий природным здоровьем». 153 пенных поэтов, изначально устная, в особенности в девятнадцатом веке, когда появилась красноречивая муза Дзорута. Поэтому мы отправимся искать свою традицию в те времена, когда бурная история Фриули лишила нас ее, то есть в четырнадцатый век. Там мы найдем мало литературы собственно на фриульском языке, но зато разнообразную литературу на романских языках, из которой и должна была бы развиться фриульская литература, если бы ей это было позволено. И, наконец, традиции, которым мы должны следовать, мы, несомненно, найдем в итальянской и французской современной литературе. Кажется, что литература уже полностью истощила эти языки, а наш язык остался чистым и нетронутым в своей сельской первозданности. Литературная, лингвистическая и историческая концепции Пазолини изложены здесь предельно ясно; просматривается и политическая тема: «Мы, несомненно, питаем самую самоотверженную и преданную любовь к Италии, мы хотим сразу же заявить, что мечтаем об автономии нашей Малой Родины, пусть и только частичной, хотя и понимаем, что нашим мечтам не суждено сбыться. По крайней мере, фамилии и названия во Фриули должны снова стать фриульскими». И еще: «Мы тоже творим на нашем маленьком языке, работаем для вечности, и нам очень хотелось бы, чтобы снова зазвучали наши родные слова (mari, pais, camp*), вызывая в воображении вечные и всеобщие образы, которые люди с самых стародавних пор хранят в памяти». Пазолини, заговорив о «малых родинах», то есть о региональной автономии, интуитивно затронул одну из самых * Море, селение, поле (фриульск.) 154 важных политических проблем итальянского общества, и это было не просто мечтой горстки литераторов. После фашизма в стране наблюдалось возвращение к местной идентичности через местные диалекты. Собственно, учреждение Академии и публикация «Стролигута»№1 имели одно значение. Совершенно понятен и выбор эпиграфа к подборке стихов. Это фраза Карло Каттанео, который сказал: «я не приемлю всего того, что стремится к единообразию, всего того, что нам чуждо и искусственно. Слабые диалекты оживают в утвердившихся и независимых языках, поскольку именно они существовали с момента существования рода людского». Собрания Академии, которые происходили в деревенском доме в Версуте, предполагали чтение стихов. Академики, все очень молодые, едва вышедшие из юношеского возраста, читали собственные сочинения. Пьер Паоло исполнял обязанности «дирижера хора»: он комментировал то, что они читали, рассказывал со всем красноречием, на которое был способен, об истории и языке Западного Фриули. Идея появилась в феврале 1945 года: Чезаре Бортотто время от времени спускался с гор, где партизанил, встречался с Пазолини. Двух молодых людей объединяли общие культурные интересы. Однажды они заговорили о том, что нужно организовать лингвистический кружок в Казарсе в противовес Филологическому обществу в Удине. Общество в Удине объединяло вовсе не филологов – это было сообщество бездельников, которые занимались восхвалением собственных заслуг, «zoruttismo». Пазолини искал в словах следы истории. Во втором номере «Стролигута» за 1946 г., в очерке «Поэтическая воля и эволюция языка», он писал: 155 ⟨…⟩ в эпиграфе к учредительному документу Академии «cristian»* назван furlanut** (слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом). Слово это означает и «крестьянин», и «христианин», и это подчеркивает тот факт, что язык остался неизменным с тех пор, когда новая религия еще только утверждалась в Европе, вместе с романскими языками. А слова «plen de veca salut»***, можно отнести к речи, слова которой произносит живой голос, вызывая в памяти пейзаж, похожий на тот, который мы видим сегодня, но существовавший десять веков назад, во времена незапамятные, когда подобные слова, и на латыни Серебряного века****, и в неведомых краях прароманских языков обозначали вещи и факты девственные, едва появившиеся благодаря новой религии. Лингвистический остров, таким образом, сохраняет не только архаические выражения языка как физиологический факт, но и внутреннюю форму языка, в том случае, когда этот остров располагается не только в пространстве, но и во времени. Вот тут и возникает вторая проблема – вторая, но не второстепенная: расширить сферу действия фриульского языка. Это больше не поиски языка для «чистой поэзии», это возвращение к тому моменту, «когда Адам произнес первые слова»: «Для нас писать на фриульском языке – это удачный способ запечатлеть то, что пытались запечатлеть символисты и музыканты девятнадцатого века (наш Пасколи тоже пытался сделать это, хотя и непоследовательно), а имен* Крестьянин (фриульск.). ** Житель Фриули(фриульск.). *** «Дышащий природным здоровьем». **** Веком Серебряной латыни принято называть послеклассическую латынь 2-ой пол. I–II в. н. э. Ключевыми авторами этого периода являются Сенека, Тацит, Ювенал, Марциал, Апулей. 156 но – «бесконечную мелодию»; это поэтический момент, когда дозволен эстетический уход в бесконечность, которая простирается рядом с нами, хотя «invinciblement caché dans un secret impénétrable»* (Паскаль)». Как же узнать эту «secret impénétrable»? Необходимо отождествлять поэзию с повседневной жизнью. В двух номерах «Стролигута» можно прочитать дневниковые записи Тонути Спаньола: мальчик совершенно бесстрастно описывает поля, сцены полевых работ. Он записывает разговоры, реплики, ответы, изящно вплетая в рассказ прямую речь. Что же в этих текстах представляет собой «природа»? Где проект обретает плоть? Вот в таких и подобных этому рассказах – cаbule,** проникнутых острым чувством настоящего, которые сам Пазолини писал и подписывал «Пьер Фумул»,*** – можно найти содержание, полностью соответствующее деятельности Академии. Экспериментальный метод Пазолини зародился именно так, из фантастического проекта. Он должен был дать жизнь всему, что эта самая фантазия подсказывала, для того чтобы полностью изменить облик литературы. Но у истока его лежала и сокровенная месть, стремление отплатить за жестокую гибель Гвидо. * «Надежно скрыта непроницаемой тайной» (фр.). ** Cаbule – рассказы (фриульск.) *** Fumul – мрачный, темный (фриульск.). 157 ФРИУЛЬСКИЙ ЭПОС Жизнь в Казарсе В старой Казарсе, с дюжиной домов с потрескавшимися стенами, построенных в шестнадцатом веке, с крытыми проходами, ведущими во дворы, видевшие жизнь нескольких поколений, с крытыми черепицей внутренними двориками, с огородами, садами, конюшнями, оградами, каменными стенками, частенько встречаются нежно-голубые или черные изображения, принадлежащие кисти какогонибудь художника, вероятно, эпохи Возрождения; говорят там на суровом и мрачном фриульском языке, все еще неизменном и образцовом в своей архаичности. На этом языке Казарсы говорят в семьях мелких землевладельцев, в которых частенько заключают браки между родственниками и традиционно чтят церковь. Это объясняет, с одной стороны, живучесть некоторых традиций – иначе невозможно объяснить их существование на этом перекрестке культур; а с другой стороны, может оправдать ощущения того, кто замечает в этой речи какую-то мрачность, густой запах ладана, неподвижную воскресную скуку, эхо литургических песнопений, исполняемых в полутьме абсиды мальчиками и стариками, причесанными по католической традиции на пробор, с челками, закрывающими лбы, с неправильными и грубыми чертами лица. Если пойти от вокзала по длинной и мрачной аллее, которая соединяет два селения, то попадешь в Сан Джованни. Какой радостью (пусть ее не всегда можно выразить, но она постоянно ощущается) пронизан воздух Сан Джованни! Здесь постоянно можно встретить веселые компании, готовые к теплой дружеской пирушке! Иным 158 летним вечером, бывает, проедешь через три-четыре селения на велосипеде и попадешь в Сан Джованни. И тут же увидишь веселые огни, услышишь, как кто-то негромко поет, как звуки теряются, затухают в пыли, сырости, в самом духе летнего вечера в деревне. Нет такого местечка, которое могло бы сравниться с Сан Джованни в свежести чувств, объединяющих компании друзей на площади, в оживлении на улицах, в неожиданных криках, которые вдруг раздаются из какого-то дальнего сада, неразличимого в сумерках, в разнообразии мелодий песен, доносящихся издалека. ⟨…⟩ Эхо взрывов смеха, шуток, стук кулаков, разбивающих руки спорящих, там никогда не умолкает.1 Воскресенья стали еще прекраснее, когда закончилась война. Работа стала приносить больше радости, радостной была и возможность вернуться к прежним привычкам. Пьер Паоло жил в Казарсе, он больше не вернулся в Болонью: Болонья оставалась местом учебы, местом встреч с друзьями, и все. Фриули, земля его матери, занимала все его воображение. Два селения, между которыми протекала его жизнь, Казарса и Версута, находились как бы на противоположных полюсах: одно принадлежало обрядам католической церкви, другое – веселым крестьянским праздникам, непосредственным и простым. В Казарсе Пьер Паоло организовал клуб любителей кино. Фильмы приехал показывать Фриц Ланг. Он, актер и режиссер, сколотил театральную труппу и поставил несколько пьес современных авторов, среди которых был и Юджин О’Нил (одноактная пьеса «Веревка»). Общественная работа помогает Пазолини выйти из депрессии, вызванной гибелью Гвидо, и возвращает ему внутреннее спокойствие. 159 После гибели сына Карлу Альберту разрешили досрочно вернуться из Кении, где он был в плену. Он приехал в Казарсу поздней осенью 1945 года. Той же осенью, 26 ноября, Пьер Паоло защитил диплом по филологии на «отлично с отличием». Он написал дипломную работу под руководством Карло Калькатерра, как и предполагал. Тема работы – «Антология лирики Пасколи (введение и комментарий)».2 Оригинальность этой антологии – Пазолини отбирал тексты согласно своим представлениям о границе между поэзией и непоэзией – заключается в особом внимании к лингвистическим аспектам и проблемам сравнительно-исторического языкознания. Если считать, что стиль определяется академическими задачами, хотя и не может избежать некоторого субъективного влияния, то в этом тексте легко проследить автобиографические моменты. Пазолини полагает, что Пасколи – это поэт, который овладел языком «через родной диалект», он говорит, что Пасколи не свойственен «современный итальянский язык», что его язык – общероманский, почти диалект, то есть он пользуется языком «малой родины». Он с удовольствием сравнивает его с Томмазео, находит, что у них похожий «глухой и монотонный стиль, неприятная изысканность, отсутствие чувств». В свете этого суждения он рассматривает и романтизм «Myricae*» и «Пиршественных поэм»: «Стремление к познанию заставляло его пользоваться словом как единственным надежным средством. Для него открыть образ, оригинальную связь означало погрузиться в безразличие непознаваемого мира». Пасколи, оказавшись между религиозным отчаянием Рембо и надрывным богоискательством Рильке, не смог испытать до конца опыт существования в соб* Myricae – мн. число от myrica (лат.) – тамариск. 160 ственном saison en enfer,* то есть болезненное отсутствие Бога, из-за косности моральной и литературной традиции, от которой не смог избавиться ни он, ни современная ему итальянская культура. И где же здесь автобиографический момент? Здесь речь идет о скрытом автобиографическом моменте. В этой дипломной работе подразумевается поэтика, которую Пазолини начал вырабатывать, которая постепенно вырисовывалась, для которой он искал доказательств и подтверждений. Это замысел критического проекта. Такие доказательства может подсказать и сама жизнь. В том, что Пазолини так активно участвует в общественной жизни Казарсы – театральные постановки, сельские праздники, совместные воскресные прогулки, танцы по праздникам казались отдельными островками среди толпы, сошедшей с ума от радости, – ощущается кроме юношеской непосредственности также и дух волюнтаризма. Тот, кто хочет так активно жить жизнью других, зачастую бежит от своей собственной жизни. Внутренняя жизнь Пазолини была для него самого тщательно освещенной сценой: то, что происходило, требовало какого-то выхода. Жизнь Казарсы, которую он вкушал во всех доступных формах, и была подобным выходом, но этот выход, в свою очередь, нуждался в свете. Примитивная сцена открывалась перед другой сценой, один театр влек за собой другой. Таким образом, интеллектуальные размышления соприкасаются с действительностью. Естественно, друзья были непременными участниками этих сцен. Но от них Пазолини ждал не только простого при* Saison en enfer – «Одно лето в аду» – поэтическая книга А. Рембо (1873). 161 сутствия. Он делился своими мыслями, подбадривал, судил с великодушной страстностью, часто граничащей с риском. Джованна Бемпорад снова приехала к нему. После войны девушка поселилась в Венеции, ставшей очередным этапом в ее постоянном странствии. Иногда она проводила праздничные дни в Казарсе, Пьер Паоло заставлял ее участвовать в деревенских танцах, в пирушках, говорил, что она должна перестать строить из себя мученицу-эстетку. В письме от 20 января 1947 года он написал ей (Джованна приезжала к нему на Новый год): Дорогая Джованна, я не передал привет твоим рисункам, мне показалось, что это твое желание слишком уж эгоистично. Почему тебе не пришло в голову передать привет нашим друзьям из Казарсы, с которыми мы встретили Новый год? Ты, видно не хочешь им простить того, что они не пишут стихов? Я знаю, ты сейчас чувствуешь себя оскорбленной, извини меня. Люди глупы, трусливы, потеряны, но в них еще живет желание, у них есть некий комплекс неполноценности, который можно рассматривать как своего рода остаточную доброту. Это очень важно, этим нельзя пренебрегать. В особенности мы не можем об этом забывать, потому что у нас еще есть совесть. Вообще-то у тебя очень романтический взгляд на то, что есть поэт. Ты хочешь, чтобы тебе многое прощали только потому, что ты пишешь стихи, что у тебя есть Божественная искра. Но ты не настолько выше всех остальных, чтобы обижаться, если тебя не прощают. Через одиннадцать дней в ответ на письмо, в котором, очевидно, были кое-какие объяснения, Пьер Паоло пишет: Дорогая Джованна, спасибо за твое доброе письмо. Иногда кажется, что ты совсем потерялась в беспокой162 ной фатальной тьме, а ты снова тут как тут, чистая и простодушная. У тебя бывают восхитительные возвращения. Когда же ты позволишь себе вернуться в мир? Когда твое лицо, твои очки, твои носочки будут светиться добротой? Когда ты будешь напевать Седьмую симфонию вполголоса, а не оскорблять слух окружающих громким пением? Если отвлечься от конкретной ситуации, из этих слов становится понятно, что Пазолини чувствовал себя учителем не только среди друзей, но и по отношению к обществу в Казарсе. Это менторское чувство является продолжением того чувства, которое любой интеллигент, по его мнению, должен культивировать в себе («у нас еще есть совесть»). Как бы то ни было, именно в этих словах можно услышать отзвук того, что заставило Пьера Паоло заняться политикой и преподаванием в школе. В этот момент Фриули, и в особенности Казарса, становятся для него тем местом, где он может вершить собственную эпическую судьбу. Активная политика Первым шагом Пазолини в политике стало движение за автономию Фриули. 30 октября 1945 года он примкнул к ассоциации «Patrie tal Friul»,* основанной в Удине Тициано Тесситори. Ассоциация имела откровенно сепаратистскую политическую программу. Для Пьера Паоло было трудно принять ее: угроза аннексии к Югославии с одной стороны, остатки фашистской риторики – с другой делали программу сторонников автономии запутанной и откровенно истеричной. * «Наша Родина – Фриули» (фриульск.) 163 Идет бурная дискуссия, нужно ли действовать в провинции, а для земель di cà da l’aga* провинция – это провинция Порденоне. Пазолини выступает с речью по этому вопросу и, обосновывая собственное «нет» по поводу этого искусственного образования, четко формулирует свою идею автономии. Его речь опубликована в «Либерта», газете, выходящей в Удине, 6 ноября 1946 года под названием «Что такое Фриули». «Порденон – это лингвистический остров, расположенный почти в сердце Фриули, это не случайное стечение обстоятельств, на которое можно не обращать внимания. Это другая история, другая культура (в смысле ментальности). ⟨…⟩ Герцогство Порденон, находившееся в непосредственной зависимости от Австрии, слишком долго оставалось независимым от Патриархата Фриули, а когда австрийское владычество закончилось, оно отошло, уже во многом утратив свои фриульские корни, под власть Венецианской республики. ⟨…⟩ Достаточно сесть на поезд (например, тот, который проходит через Казарсу в семь утра) и сравнить студентов и служащих из Порденоне со студентами и служащими из Казарсы, а в особенности из Кодроипо и Базилиано: «венецианская» манера поведения и речи очень отличаются от «фриульской». В этом фонетическом и лингвистическом уточнении (которое, должно быть, восходит к антропологии и коллективной психологии) четко прослеживается концепция автономии Пазолини: «В глубине души, иррационально мы понимаем, что Фриули – это Италия, с этим никто не спорит, но нам остается только краснеть и признавать это, почти ужасаясь, что может существовать и высказываться противоположная точка зрения». * «По эту сторону» (фриульск.) 164 Идею автономии Фриули необходимо претворять в жизнь для того, чтобы укрепить границы Италии, а не для того, чтобы ослабить их. «Нет лучшего способа противостоять коварной славянской экспансии в регионе Фриули, чем культивировать чувство собственного достоинства, усиленное тем, что он по праву обладает собственным языком, своими обычаями, собственной экономикой». Региональная автономия – это фактор социального и гражданского прогресса, а не подстрекательство к кампанелизму,* к сентиментальным местным говорам. В то время, когда Конституционная Ассамблея обсуждала будущее региональное устройство и проектировала создание региона Фриули – Венеция – Джулия, Пазолини публикует на первой странице газеты «Либерта» две статьи (31 декабря 1946 года и 26 января 1947 года). Полемическая цель этих статей двойственна: с одной стороны, патетический регионализм человека, который видит в защите фриульских обычаев возможность сохранить политическую и культурную стабильность, с другой – позиция левых, в особенности коммунистов. Демохристианская партия поддерживает идею фриульской автономии, более того, поддерживает и кампанелизм фриульцев как естественное препятствие филославизму, который распространяется все больше. КПИ выступает против. Наступил уже 1947 год, страна накануне раскола КНО, и КПИ пытается не допустить распространения идеи автономии. Политика Тольятти в то время была «политикой единства», политикой национального единения. * Кампанелизм – чрезмерная любовь к своему родному городу, селению, сочетающаяся с презрением ко всему чужому (от итал. campanile – колокольня) 165 Но Пазолини, начиная статью от 31 декабря словами «поскольку мы тоже коммунисты», не удерживается от нескольких возражений против официальной линии Коммунистической партии. 6 января 1947 года он пишет: Именно коммунистам следовало бы сделать все возможное, чтобы новые региональные объединения (Фриули, Венето, Ломбардия и другие) не превратились в рассадник местных интересов, проявлений кампанелизма – словом, всяческой реакции, а стали бы как можно скорее полем общественного прогресса. ⟨…⟩ Коммунисты боятся, что в регионах укоренится буржуазный и клерикальный консерватизм? Нет, если бы от них зависела разработка и утверждение новой ментальности, способной превратить преисторию в историю, природу в сознание, все бы кончилось их обычной ленью. Мы, с нашей стороны, убеждены, что только коммунизм способен в настоящее время создать новую культуру, «истинную» культуру, которая будет воплощением нравственности существования». В официальной позиции коммунистов Пазолини усматривает тактический ход: коммунисты выступают против автономии только потому, что христианские демократы занимают противоположную позицию, то есть по политическим причинам. Но он будет настаивать, даже год спустя, 28 февраля 1948 года, на страницах венецианской газеты «Маттино дель пополо», на том, что «много раз пытался доказать, что подход левых к проблеме автономии имел основания, и довольно солидные». Однако в то время он заявляет о своем выходе из Народного фриульского движения, в организации которого он принял участие в январе 1947 года. (Это движение очень быстро изменило свою ориентацию, после того как 27 июня 1947 года парламент принял закон об автономии Фриули, 166 и превратилось в ассоциацию в поддержку Демохристианской партии, в светскую организацию, которая помогла партии выиграть выборы 18 апреля на территории между Удине и Порденоне). Пазолини теперь интеллигент-коммунист,3 и политические проблемы он рассматривает в рамках линии партии. Он сблизился с КПИ в 1946 году по причинам, которые могут показаться некоторым абсурдными: главной причиной была гибель брата Гвидо в Порцусе. Этому его поступку можно было бы дать очень простое объяснение, которое может показаться провокационным. Пьер Паоло видел в коммунизме диалектическое и рациональное оружие. Он написал об этом в статье от 31 декабря 1946 года: коммунизм – это способ «преобразовать преисторию в историю, природу в сознание». Возможно, его убежденность была иллюзорной и он обманывал себя. Но ведь нельзя с уверенностью сказать, что он не осознавал иллюзорности подобной веры. Однако он был убежден, что воздействие разума невозможно без постоянной подпитки чувствами. Это его убеждение спасло его раз и навсегда от банальной слепой веры в коммунизм. Объясняя его коммунистический выбор, нельзя недооценивать и то, что он идеализировал «народ». В этой своей идее он особенно утвердился в 1943–1945 годах. Необходимость воздаяния и социального возрождения стала особенно острой во время нацистской оккупации и партизанской войны, когда он жил во Фриули. Ячейка Коммунистической партии, в которую Пазолини вступил, вероятно, в 1947 году, находилась в Сан Джо167 ванни, неподалеку от Казарсы. Эта ячейка славилась особо непримиримой антиклерикальной деятельностью (что вполне объяснимо, принимая во внимание клерикальные убеждения, главенствовавшие в соседней Казарсе). На выборах 1946 года в Сан Джованни семьсот голосов было отдано за КПИ и четыреста двадцать – за ХД. Христианско-демократическая партия была яро антикоммунистической. В ответ члены коммунистической партии действовали столь же агрессивно. Руководство региональной федерации коммунистов в Удине не раз напрасно пыталось утихомирить жителей Сан Джованни. Когда в 1949 году Пазолини стал секретарем этой ячейки, полемика стала еще более острой и язвительной, поскольку, хотя он и был антиклерикалом и выступал против демохристиан, он не собирался отказываться от христианских принципов. На маленькой площади Сан Джованни, слева, если смотреть от Казарсы, есть маленькая лоджия в венецианском стиле: две стрельчатые арки спереди, одна сбоку. На втором этаже – окна, украшенные растительным орнаментом в стиле пятнадцатого века. Так же украшен и карниз здания. Этакое свидетельство прежнего благосостояния города-коммуны. Под этой лоджией – по всему ее периметру тянется каменная скамья – расположены стенды, на которых политические партии вывешивают свои листовки и воззвания. Для листка КПИ Пазолини, когда был секретарем ячейки, писал тексты на итальянском языке и на диалекте.4 В этот момент подписывается Атлантический пакт, в Париже проходит Конгресс в защиту мира (Пьер Паоло едет на этот конгресс в составе делегации вместе с Марио Лидзеро). В это же самое время папа Пий XII отлучил от церкви коммунистов. И вот что ответил Пазолини: 168 Призыв христиан к миру На всемирном Конгрессе в защиту мира в Париже присутствовали священнослужители всех конфессий. Там были англиканцы, православные, протестанты, кальвинисты и КАТОЛИКИ. Аббат Булье, католический священник, участвовал в конгрессе и произнес много высоких слов, новых, трогательных. Ко всем христианам из Парижа было адресовано обращение, из которого мы приведем несколько слов: «царство Божие – это царство мира». Христианин не может ожидать пришествия этого царства, если он не готов трудиться ради него здесь, на земле. В 1949 году пропаганда стала натравливать христиан одобрить крестовый поход против Советской России. Во имя Христа, нашего общего учителя, мы призываем всех христиан понять, что такой крестовый поход будет преступлением против человечества, и христианин не может отягощать свою совесть подобным преступлением. Тексты на диалекте носят менее общий, но более ироничный характер. L’anima nera Se esia duta sta pulitica c’a fan i predis cuntra di nualtris puarès? A saressin luor c’a varessin da vei il nustri stes penseir; a ni par che i nustris sintimins a sedin abastansa cristians! Sers democristians a si fan di maraveja se i comunisc a van a messa quant che i comunisc a podaressin fassi a mondi di pì maraveja par jodi chei democristians c’a van a messa cu l’anima nera coma il ciarbon.* * Черная душа Что же за политику осуществляют попы по отношению к нам, беднякам? Это им нужно было бы разделять наши мысли и заботы, поскольку нам кажется, что мысли у нас вполне христианские! Некоторые члены христианско-демократической партии удивляются, 169 Или еще: Li sodisfassiòns dal pindul In vila a erin doi omis ch’tabaiavin. Un al dizeva ch’è miej no impassasi di pulitica, e di lassà che il mond al vadi coma ch’al voul, zà è sempri stat cussì, e sempri a sarà, che i siors a son sempri stàs e sempri a saran e cumpagniabiela. Chel altri al si inrabiava e al dizeva: «Nualtris comunisc i no razonàn cussì, no bisugne lassasi ciapà pal cuel da chei ch’ni àn ciapàt fin adès; a è ora ch’basti!» E il prin: «Ben almancul adès i vin la libertàt». E il secont: «Quala libertàt: di patì la fan». E il prin: “Parsè no? Magari i soi muart di fan ma i pos zì là di De Gasperi e dizighi “ti sos un stupit”». Al fa il communist: Ches a son li sodisfassion dal pindul»*. В диалоге между демохристианином и коммунистом, в котором последний вспоминает евангелькое учение «di amа il prossin, di no faighi a chei altris chel ch’t non ti vous c’а ti fedin a te e tantis altris robis»**. За этим следует вывод: когда видят, что коммунисты идут на мессу. А ведь коммунисты должны были бы удивляться еще больше, видя, как на мессу идут христианские демократы с душами, черными, как уголь. * Слабое утешение На площади разговаривали двое. Один говорил, что лучше не интересоваться политикой, пусть все идет как идет, потому что так всегда было, есть и будет, потому что богатые всегда были, есть и будут. Другой злился и говорил: «А мы, коммунисты, так не считаем, нельзя позволять брать себя за горло. Мы долго молчали, а теперь хватит!» А первый: «Ну, по крайней мере, теперь у нас есть свобода». А второй: «Какая свобода? Это свобода умирать от голода». А первый: «Ну и что? Я буду умирать от голода, но я могу пойти к Де Гаспери и сказать ему, что он дурак». И тогда коммунист ответил: «Это слабое утешение». ** Возлюби ближнего своего, не делай другому того, чего не желал бы, чтобы сделали тебе, и не желай ничего, принадлежащего другим. (фриульск.) 170 No joditu che s’a esist timour di Diu al è propit par nualtris e chei c’a son cuntra di nu a no àn nencia il prinsipit di religiòn, però a son cussì furbus che lour a apogin dut se c’a è ben, però lour a àn duties li niquitàs e sensa nissun scrùpul e nualtris che lavoràn ducius i dis a no ni resta tant murbin però i sin i prins a sintilis e chistu al è il Vanzeli dai siors! Però ogni tant il plevan al dis ch’è pì diffissil che un sior al vadi in Paradis che un camelia pasà par un bus di gusiela. Eco il nustri cunfuart.* Эти листовки относятся к весне и лету 1949 года. Годы, которые Пазолини провел во Фриули, закончатся драматически, и эти споры, политические и furlane**, сыграют свою роль в финале этой драмы. Необходимо очертить и культурную, и интеллектуальную обстановку, в которой они создавались. Путь, проделанный Пазолини от «Стихов в Казарсе» до этих текстов, был очень длинным. Его совершенно перестала интересовать идея «вечности поэзии», она конкретизировалась, превратилась в восприятие нравственного мира крестьян. На этой основе возникла попытка уравнять христианство и коммунизм, евангельскую доктрину и коммунистическую. Популизм, манихейство (хорошие – направо, плохие – налево) составляют основу аргументации Пазолини (однако здесь возникает подозрение, вполне обоснованное, что он прибегает к ним, чтобы привлечь на свою сторону не очень * Разве ты не видишь, что если и существует еще какое-то уважение к Богу, то это благодаря тому, что есть мы. Те, кто против нас, вообще лишены религиозного чувства, но они хитрые, они готовы поддержать все, что несет им выгоду, они бессовестны и несправедливы. Мы работаем целый день, нам некогда радоваться и веселиться, а они нас постоянно упрекают. Вот это и есть Евангелие от богатых! А священник еще говорит, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в Рай. Вот и все наше утешение. ** Фриульские (фриульск.) 171 образованных читателей). И в то же время он рассматривает католические ценности с точки зрения «левых». Все это происходило в 1949 году. Папа Пий XII находится в зените своей власти: он превратил католичество в идеологию, а сам стал хранителем, гарантом и капелланом общества. В листовках Сан Джованни прослеживается и другая мысль: согласно мнению Пазолини, религия – это форма существования беспокойной совести человека, благодаря которой он может осознать свои ошибки и свое отступничество. В свете этого «причаститься» к марксизму можно и без непременного страдания. Эти листовки проникнуты здравым смыслом, свойственным крестьянам. Теперь, по прошествии времени, они представляются чем-то вроде хайкай* на романский лад, притчами в духе Брехта, вдохновленными евангельской идеей любви. Но в них прослеживается и другое: архаическое, присущее сельской общине понимание жизни. Эта жизнь является непрерывной цепью отношений, в которых человек находит опору своего существования и возможность гражданского диалога. Политика и культура Листовки 1949 года являются кульминацией политической активности Пазолини во Фриули. В регионе он стал заметным политическим деятелем. На фотографии мы видим его среди основателей Федерации коммунистов провинции Порденоне в 1948 году. Он на сцене, украшенной * Хайкай – направление в японской литературе, объединявшее комические жанры. 172 флагами, за столом, рядом с видными представителями партии. В нем было сильное стремление к власти. Не нужно понимать это в отрицательном смысле: об этом свидетельствуют идеи в области культуры, которые он провозглашал. Он проводит конференции, митинги, диспуты, пишет для разных газет передовицы. Что же касается литературы, то он уже не просто многообещающий писатель и лингвист, который издает «Стролигут»5. Он сотрудничает в журнале «Фьера леттерариа», привлекает внимание уже не только фриульских писателей, но и других молодых литераторов, не связанных с какимлибо определенным регионом или провинцией.6 В 1947 году он принял участие в конкурсе на премию «Свободная печать», учрежденную кантоном Тичино. В жюри был Джанфранко Контини. Друзья помогли ему укрепить свои позиции на общенациональном уровне. Энрико Фальки пригласил его сотрудничать в журнале «Поэзия», попросил написать критические статьи для третьей полосы газеты «Иль маттино ди Рома». В Венеции 29 марта 1947 года он получил премию «Анджело» – премию за стихи на фриульском языке и венецианском диалекте, учрежденную художественными критиками и художниками. Председателем жюри был Джузеппе Маркиори. У него были друзья-художники. Он и сам рисовал, пользуясь не только красками, но и природными материалами, соками растений, кофе. Его детская страсть к живописи не умерла. Из этих друзей надо особо сказать о Джузеппе Дзигаина. Дзигаина и Пазолини познакомились в 1945 году в Удине на выставке, где оба выставлялись. Их связывала не только общая малая родина: Дзигаина был из Червиньяно, он часто участвовал в поездках Пазо173 лини, когда тот изучал местные говоры в окрестностях Казарсы. Оба они были членами коммунистической партии, часто выполняли вместе партийные поручения. Благодаря этой дружбе возник сборник «Где моя родина», где были собраны стихи Пазолини, написанные между 1948 и 1949 годами, и рисунки Дзигаины. Сборник был опубликован Академией в 1949 году. Эти стихи возникли из строк, которые он услышал от «носителей языка», сам «разговорный язык» был тщательно сохранен и полностью соответствует диалектам Каорле, Вальвасоне, Корденоне и Порденоне. В нем представлена полная лингвистическая география, изложенная в стихах.7 Посткубизм Дзигаины рядом с романским экспериментом Пазолини. Посткубизм был тем стилем, благодаря которому итальянские реалисты в те годы интеллектуальной лихорадки открывали для себя Европу. Это был стиль, в котором смешалась политическая вера и нравственная истина. В общем, это был эпический стиль, тот же самый эпический стиль, которым с увлечением пользовался Пазолини во фриульский период своего творчества. Ты помнишь тот вечер в Руде? то, как мы вместе предавались игре страстей, единственному мерилу нашей грубой юности, нашего сердца, едва повзрослевшего? ⟨…⟩ ⟨…⟩ один рядом с другим, мы выкрикивали слова, они были едва понятны, но обещали, клялись, говорили о любви. 174 Это терцины из «Фриульских тетрадей» (1955)8. Фриули для Пазолини, автора этих строк, уже превратился в фон давних поэтических воспоминаний: это митинг, который он проводил вместе с Дзигаиной на площади в Руде. Там были «батраки, одетые в праздничные одежды», «ребята, приехавшие на велосипеде / из соседних селений». Это и воспоминание об общей страсти, нашедшей свое отражение в «Живописи Дзигаины»: В воздухе дух праздника твоих первых картин, на которых зеленый цвет был юным, цветом-ребенком, а желтый казался застывшим воском ⟨…⟩ В этой живописи соединились идеальные порывы и «зеленый, / резкий запах травы и запах навоза, которые / ветер перемешивает». Это жизнь полей во всей ее волнующей сложности; но это и указание на появление новой культуры, в которой посткубизм сгорел, испепеленный натурализмом, почти мистической чувствительностью к физическим и экзистенциальным фактам. «Застывший воск» живописи Дзигаины соответствовал застывшему «золотому голосу» фриульского языка. Каковы же отличительные черты этой культуры? Пазолини не отрицал, что разработал проект этой новой культуры, когда лично участвовал в том, что на языке «левых» называлось «культурной работой». «Существует ли новая, прогрессивная культура? Такой вопрос мне мог бы задать рабочий или крестьянин. Но это вопрос преждевременный. В Италии культура остается буржуазной». Это слова из выступления на Первом съезде Федерации коммунистов Порденона. Пазолини не 175 смог выступить, текст был опубликован в бюллетене под названием «За мир и труд» в марте 1949 года.9 Отношение интеллигенции к буржуазии «вызывает много споров», что же касается «творчества», то тут вообще «нет никакой ясности». Пазолини «хорошо знает», как создается искусство, его выступление носит примирительный характер в духе демагогии тех лет. Существует буржуазная литература, которая удовлетворяет большинство населения, – литература дурного вкуса, лицемерная, пуританская, сентиментальная и порнографическая. Но существует и другая литература, которая не отвечает запросам буржуазных масс. Это умная, богатая фантазией, смелая литература, лишенная предрассудков… Разделение на «правых» и «левых» существует и в литературе. Там это разделение происходит по чисто литературным причинам, и не всегда тот, кто придерживается левых взглядов в литературе, поддерживает «левых» в политике. И наоборот. Таким образом, ведется двойная игра между авангардизмом в литературе и в политике. Вообще-то сегодня литератор не обязательно является слугой капиталистов, как раньше он был слугой знати и короля. Его зависимость носит непрямой характер, она обусловлена буржуазной средой, в которой он был воспитан. Литератор вообще всегда готов предать свой класс. То, что для марксизма было непосредственной и прямой связью между «базисом» и «надстройкой», между экономическим положением класса и выражением этого экономического положения, для Пазолини превращается в сложную связь, во что-то подобное игре отражающих друг друга зеркал. «Не всегда тот, кто придерживается левых 176 взглядов в литературе, поддерживает “левых” в политике» – это вывернутый наизнанку тезис Лукача о Бальзаке. Но это смелый поворот мысли – не всегда намерения «я» совпадают с тайными побуждениями, с естеством. Пазолини, кажется, ставит под сомнение (как он сделает это и потом, в годы «Цеха») прогрессивный план неореализма, и в своей полемике, хотя и не лишенной некоторого морализаторства,10 существенно расширяет круг обсуждаемых проблем. То, что теперь требуется от интеллигента, не может быть легким и приятным: речь идет об отказе. Пусть он пристально вглядится внутрь себя, пристально, критически, что, впрочем, является жизненно необходимым упражнением для человека умственного труда, для мыслителя; упражнение это прежде всего и главным образом очень личное, но без него нельзя стать художником. Пусть он постарается в этой внутренней работе быть предельно объективным, даже, скажем, настоящим христианином, пусть он найдет свое место в человеческой истории. Сначала этот его историзм будет далек от марксизма-ленинизма, в нем будет много от идеализма, католицизма, анархизма, гуманизма, но там будет и много реальной жизни, желания обновления. Вот что, как я полагаю, требуется сегодня от литератора. Именно это и имели в виду Банфи и Маркези, когда утверждали, что писатель-коммунист должен быть абсолютно свободен делать все что ему угодно в литературе, но оставаться верным товарищем по партии, когда речь идет о политике. За этими словами стоят не только Лабриола и Кроче, за ними – опыт европейского декадентства, позитивно переосмысленный как неотъемлемый элемент реалистического подхода к проблемам культуры. 177 Педагогика11 1947 год. Вальвасоне, двенадцать километров от Казарсы по пыльной дороге. Групповая фотография: класс средней школы – ребята в коротких штанишках, некоторые в брюках, на ногах теннисные туфли, сандалии, кое-кто босой, заплатанная одежда, как и повсюду в Италии, обнищавшей после войны, слабые улыбки, открытые улыбки, три девочки в черных передниках – они выглядят опрятнее, чем мальчики, и при этом прекрасно сознают, что уже почти взрослые. Это класс учителя Пазолини. Учитель – среди учеников, на нем двубортный темно-серый костюм, белая рубашка, галстук, слева надо лбом пробор. Кончилось время частной школы в Версуте, закрытой по «приказу начальства». Пьер Паоло преподает теперь литературу и язык в государственной школе, но не отказывается от своей собственной методики. «Видеть, как мои ученики пытаются изъясняться на латыни, было все равно что видеть нищего попрошайку во фраке и в цилиндре. Они вызывали жалость. Мы вызывали жалость».12 Из Казарсы в Вальвасоне он ездил на велосипеде. Кроме произведений, предусмотренных министерской программой, он читал с учениками стихи (его чтение завораживало учащихся). Они читали Чехова, новеллы Верги, «Антологию Спун-Ривер»*, тексты американских спиричуэлс, Унгаретти, Монтале, Сабу, Пенну, Кардарелли. Он предлагал ребятам самим писать стихи, попробовать открыть для себя возможности письменного использования «furlan di cà da l’aga».** Он сам импровизировал и читал им свои стихи. * «Антология Спун-Ривер» – книга американского писателя Эдгара Ли Мастерса (1868–1950). ** Фриульского по эту сторону реки (фриульск.). 178 Darzin (Арцене) «Dulà vatu?» «A Darzin.»* Его голос подобен дуновению ветра. Молодой механик склонился над рулем, волосы падают ему на глаза, Его голубая спецовка Кажется небом на земле… Скрипит колесо по шелковой грязи… Вот и Арцене. Парень поднимает голову: плавные повороты дороги, луга… церковь как будто висит над землей… Он приехал в свой голубой Арцене. «Bundì Pauli»,** и он улыбается и тормозит. Колодец в Доманинсе Как белая лодка в желто-зеленом море солнца, Доманинс теряется в свете. Старушка вертит колесо колодца на пустынной площади. Как рулевой этой лодки цвета сливок, старушка устала, * Куда ты едешь? – В Арцене (фриульск.). ** Добрый день, Паоло (фриульск.) 179 она потерялась в желтом и зеленом свете солнца. Бьют часы.13 Импрессионизм, пейзажизм, подражание Пасколи (особенно в использовании строки, которая ломается, чтобы подчеркнуть неровный ритм) – это отличительные черты стихов Пазолини, которые он продиктовал ученикам. Они похожи на упражнения для развития пальцев при обучении игре на фортепьяно. Учитель показывает, как вся жизнь, которую можно увидеть, которая ощущается в биении сердца, может стать совсем другой, если попробовать выразить ее словами, сложить в стихи. А ведь это жизнь окрестных селений – Арцене, Доманинса, это жизнь старушки, которая с трудом вытаскивает ведро из колодца, или механика на велосипеде в голубой спецовке, с челкой, упавшей на глаза. Образ спецовки, цвет которой «кажется / небом на земле», можно интерпретировать по-другому, в нем ощущается что-то личное, трепещущее, сексуальное, это не просто «упражнение для обучения игре на фортепьяно». Становится понятно, что поэт не мог избавиться от своих страданий, что преподавание не помогало ему справиться с проблемами. Он преподавал в школе два учебных года, 1947–48 и 1948–49. В сентябре 1949 года школьники узнали, что у них будет другой учитель языка и литературы. Родители направили в Комитет образования Удине просьбу вернуть учителя Пазолини, но просьбу не удовлетворили. Разразился скандал, который мог полностью изменить жизнь незаменимого педагога. Его работа в школе не прошла незамеченной. Об этом вспоминает Андреа Дзандзотто: «Рассказывая коллегам об 180 экспериментах Пазолини, директор Натале Де Дзотти, у которого он работал, назвал его удивительным педагогом».14 Пазолини тогда проводил эксперименты с «активной педагогикой», старался оживить «застывшую латинскую грамматику». Дзандзотто также вспоминает: «Он разбил садик в углу школьного двора и рассказывал, как растения называются на латыни, он рисовал цветные таблицы, придумывал сказки – например, он сочинил историю о чудовище по имени Узерум, чтобы ребята запомнили окончания прилагательных: -us, -er, -um». Он пришел к этим педагогическим приемам интуитивно, корни их нужно искать в области психоэротики. Вообще всякая связь «учитель–ученик» имеет некий сексуальный оттенок. «Пазолини, будучи прекрасным учителем, все же понимал, что для того чтобы жить в мире (хотя бы относительном) с самим собой и чтобы найти оправдание своей яростной педагогической привязанности, он должен изменить культурные и социальные каноны» – пишет Дзандзотто. Возможно, он попробовал оправдать эту свою исключительную форму любовного насилия и по-другому. Он мог пойти по пути, который обходил эту проблему, исключительно психологическую, личную, и уводил его в область творчества. Это был путь, который вел его к роману: воображение и жизненные наблюдения, фантастические проекции и автобиографические данные. Пазолини интуитивно чувствовал, что творчество, написание романа могло бы помочь ему избавиться от мучительного желания, которое овладевало им с небывалой силой. Его жизнь во Фриули проходила в постоянной тревоге, вызванной сознанием того, что он «другой», не такой как 181 все. Ни его коллеги-преподаватели, ни его друзья из Болоньи и не подозревали о подобной проблеме. Это, однако, не означает, что его чувство не пыталось вырваться наружу, найти какое-либо воплощение. Amado mio* Весна 1948 года. Пазолини полностью погружен в творчество. Семьдесят пять страничек, напечатанных через один интервал. Четыре главы. Название – «Amado mio»15. На титульном листе кроме названия и даты надпись: «Незаконченный роман». «Возлюбленный мой» – это история любви. Дезидерио, герой с весьма символическим именем,** воспылал страстью (это происходит с ним внезапно, как удар молнии) к мальчику Бенито, с которым познакомился на сельском празднике. Сначала Бенито ему отказывает, потом уступает, позволяет нечто большее, чем просто поцелуй, потом опять отказывает. Дезидерио в отчаянии. Все это происходит летом. Он встречает Бенито (он, как у Жида, меняет имя, называется теперь Иасис) на отмели Тальяменто, где ребята купаются, где проводят счастливые утренние и вечерние часы. Танцы по воскресеньям, пирушки; поля, освещенные солнцем, меняющие цвет ночью, на закате и на рассвете; велосипедные прогулки по долине; купанье в море в Каорле в ясный и тихий день в начале сентября. После того как он долго отказывался (отказ этот объясняется стыдом, но он так и не решается в этом признать* Возлюбленный мой (исп.). ** Desiderio (итал.) – желание. 182 ся), Иасис говорит – как раз в конце дня, который они провели в Каорле, они идут в кино, на экране Рита Хейворт* поет «Amado mio», в зале за ней зачарованно следят ребята, – Иасис говорит: «Сегодня вечером». Все рассказано, все представлено: Пазолини написал идиллическую повесть в александрийском духе, прямо со страниц «Палатинской антологии»**, в которой запечатлел счастье нескольких прекрасных месяцев, эротические переживания, связанные с этими чудесными днями, и сделал это невинно и целомудренно. На этих страницах он объяснил, какое значение, какая радость были связаны для него с отмелями Тальяменто, реки, которая течет между зарослями акации, с ее чистыми водами, с веселыми группами ребят. Нечто невыразимое: мальчик пятнадцати-шестнадцати лет, мокрые трусы, стыдливо заколотые булавкой, крепкие руки, еще совсем детские члены, восторг при виде первых проявлений мужской природы – все это Пазолини излагает изящной, точной, недвусмысленной прозой. Несчастная любовь, кажется, является неизбежным спутником любой гомосексуальной связи. В неожиданной концовке, в ответе Иасиса: «Сегодня вечером», в эротическом вихре, в котором звучит этот ответ, «Возлюбленный мой» – это некое новое начало. Новизна заключается в принятии, абсолютном и ничем не омрачаемом, собственной приро* Речь идет о кинофильме «Джильда» (1946 г., реж. Чарльз Видор), главную роль в котором исполнила кинозвезда Рита Хейворт (1918–1987). Песня «Amado mio», была написана специально для этого кинофильма Аланом Робертсом и Дорисом Фишером. Героиня Риты Хейворт исполняет эту песню голосом американской певицы Аниты Эллис (род. 1920). ** «Палатинская антология» – собрание греческих эпиграмм, осуществленное византийским грамматиком X века Константином Кефалой. 183 ды, собственной судьбы – судьбы, которая несет с собой в равной степени счастье и боль, как это, впрочем, и свойственно человеческой жизни вообще. Дезидерио плачет горькими слезами, но «невыразимое» должно произойти. Он ведет мальчика за кусты, окружающие танцплощадку, под лунный свет; потом на каменистую отмель, где лунный свет особенно ярок. В глазах Иасиса все время мечется страх, угрызения совести. Пазолини особенно удается изображение этого смущенного трепета мальчика, который готов на все; в этом он проявляет свой дар непревзойденного рассказчика. Дезидерио подошел к нему и обнял. Бенито лежал на спине и смотрел вверх. Дезидерио снова его поцеловал в губы: когда он легонько разжал ему губы языком, Бенито не пошевелился, он лежал неподвижно, как прежде. Дезидерио поцеловал его еще три или четыре раза. Поцелуи длились бесконечно. Но вдруг Бенито выскользнул и бросился бежать к бетонным плитам, залез на них и оттуда стал смотреть на рыб, которые резвились в воде, прозрачной, как воздух. Дезидерио еще раз подошел к нему, тихо-тихо, и стал смотреть на рыб вместе с ним. Где конкретность и правда в этом рассказе? Он полностью реален и правдоподобен, поскольку соответствует истинной психологической картине, которая обусловлена тем, что Дезидерио от его друга отделяет не только разница в возрасте, но и разница в образовании, воспитании, культуре. В тексте постоянно упоминаются имена Томмазео, Ньево, Гете. Дезидерио читает: когда Иасис, как ему кажется, отказывает ему окончательно, на берегу реки он читает «Песни греческого народа» и находит в них отражение собственных страданий: 184 ⟨…⟩ я воздуху скажу, чтобы передал тебе привет от меня и сказал тебе, что один молодой человек умирает из-за тебя ⟨…⟩ В тексте встречаются имена Кафки, Достоевского, Пруста; они упоминаются не просто как символы, а скорее в контрапункте, который представляется почти металитературным. Расстояние между двумя героями рассказа, на котором сосредоточивается Пазолини, и делает любовь особенно острой и трудной. Дезидерио взрослый, он покорен невинностью своего Иасиса, но невинность, именно поскольку она такова, остается беззащитной перед собственным концом. Это чувство темное, сильное, которое можно победить только своеобразным ритуалом, полным коллективным искуплением. Прогулка в Каорле. День проходит тихо: купание, лодка. Дезидерио и Иасис отправились на заре. Иасис никогда не видел моря. С ними поехал Джильберто, друг Дезидерио, такой же любитель чтения, как и он, и его маленький возлюбленный. И вот эти четверо встречают друзей, выходят в море, заходят в устье Ливенцы. Дезидерио хочет вернуться пешком. Он жаждет одиночества, хочет насладиться обществом своего мальчика, надеется на поцелуи, объятия. И вот они идут по песчаному берегу, но их глазам открывается ужасное зрелище: На правом берегу, там, где река слегка поворачивала, приливы нанесли огромное количество грязи и отбросов: естественно, подальше от моря и по краям было то, что полегче: водоросли, морские звезды, кости, ракушки; ближе к морю и к реке – то, что потяжелее: трупы собак, ко185 шек, птиц, груды костей, которые невозможно было распознать, отполированные водой кости, которые блестели, как шелк и серебро под лучами солнца. Некоторые останки были еще совсем свежими, от них исходило резкое зловоние. Собаки с открытыми ртами, с оскаленными зубами, их пасти были чудовищного ярко-красного цвета, вылезающая шерсть, пергаментные уши. На фоне этого отвратительного пейзажа, беспощадно освещенного солнцем, Иасис решительно говорит «нет». Дезидерио отвечает: «Тогда лучше нам больше не встречаться». А Иасис «молчит, его голубые глаза слегка затуманились». Дезидерио в полном отчаянии, это прощание вызывает слезы на глазах. Но проходит совсем немного времени, они идут в кино, и происходит сцена инициации и примирения. Это кинотеатр под открытым небом. Светит луна. Ребята кричат от радости, а Дезидерио погружен в скорбь. Может быть, виной всему был этот разительный контраст между залом и небом, силуэт тростниковой изгороди, освещенный луной; может быть, этот прекрасный мальчик с чудесными темными волосами, который, повернувшись к друзьям, хвастался, что стал мужчиной; может быть, наконец, это был особый чувственный аромат, который чужой, такой как Дезидерио, чуял в самых слабых проявлениях в незнакомых местах, этот рассеянный повсюду, коллективный, чуть не фольклорный эрос, который преломляется и рассеивается в толпе незнакомцев, одетых в лучшие свои костюмы… Но Дезидерио казалось, что вся его душа – одна сплошная рана, причиняющая ему ужасную боль. Свет погас, все затаили дыхание, начинается кино, «самый прекрасный фильм из тех, которые видел Дезидерио». 186 На «Джильде» со зрителями произошло нечто удивительно знакомое всем. Музыка «Возлюбленного моего» сводила с ума. Сводили с ума и крики, которые раздавались со всех мест в зрительном зале: «Смотри, у тебя пуговицы со штанов посыпались»; «И сколько раз ты сегодня кончишь?» Казалось, они растворились в ритме, который замедлял течение времени, обещая отсрочку, которая не могла привести к счастливому концу. Дезидерио обнял Иасиса, но даже когда Иасис в ответ на это положил ему голову на плечо, в этой атмосфере всеобщей оргии, происходившей вне времени, на краю гибели, и в груди Дезидерио наконец, растаял ледяной ком, он испытал чувство такой силы, что набежавшие уже слезы застыли у него в глазах. Рита Хейворт с ее восхитительным телом, с ее улыбкой, с грудью, которая бывает только у сестер и проституток, одновременно вызывающая и похожая на ангела, глупая и таинственная с этим своим близоруким прищуром глаз, холодным и нежным до приторности, Рита Хейворт пела из своей далекой послевоенной Латинской Америки, пела невыразимо нежно. Для Дезидерио все становится символом «трагического успокоения»: и «крестьянская» красота актрисы, и изнеможение post amorem*. Именно в этот момент – под влиянием «оргии, проходившей вне времени» – Иасис шепчет: «Сегодня вечером». У филологов будет широкое поле для сравнений. Морской пейзаж, волнение на море, белые барашки волн, видение оргии, возникающее при просмотре фильма: бесконечное расширение выразительности образов, двусмысленность повествования, проникнутая особым лиризмом, – все * После любви (лат.) 187 это позволяет рассмотреть в этой повести руку будущего автора «Шпаны» и «Жестокой жизни». Есть страницы, позволяющие рассматривать «Возлюбленного моего» как первый вариант небольшой фриульской фрески, которая будет написана позже (я имею в виду «Мечту о чем-то»): танцплощадки и кукурузные поля, группы ребят на дорогах долины, небо, расписанное солнцем, совсем в венецианском стиле. Но такое прозрачное описание собственного эроса на фоне всеобщего сумасшествия и истерической радости у Пазолини больше, пожалуй, нигде не встречается. Это впервые, это совершенно необычно. Кажется, что читаешь листы персидской рукописи, украшенной миниатюрами. На последнем – описание неожиданно начавшегося пожара. Это образ, связанный с личным проявлением сексуального чувства, которое внезапно возникает и утихает после самоудовлетворения. Обычные отрывки произведений о гомосексуализме – такие как «Nourritures terrestres»* Жида – на этом фоне полностью теряются. На экране Рита Хейворт «с ее великолепным телом», явление непознаваемой природы, конечная точка физического напряжения, которое ощутимо и заметно («Смотри, у тебя пуговицы со штанов посыпались»), и женщина, «крестьянка», своим томным видом искушает, соблазняет, приобщает к райскому блаженству. Кажется, что это именно она, в тот миг, когда снимает перчатку «с изящной похотливостью и яростным терпением», подталкивает Иаcиса к его «сегодня вечером», и в этот миг раздается «крик радости, сладостный вопль». С точки зрения клинических проявлений, я думаю, можно говорить о том, что либидо остановилось в своем * «Земные яства» (1897) – роман А. Жида, написанный ритмической прозой. 188 развитии на подростковой фазе. Но в нем настойчиво дает о себе знать и отцовское покровительственное чувство. Дезидерио с силой обнимает мальчика за плечи, тот кладет ему голову на плечо: отношения между ними двусмысленные. Писатель, несомненно, не знает, как их определить, в них присутствует и одно чувство, и другое. Это отношения отца и сына, которых связывает проявление страсти при виде неотразимой женственности. «Джильда» и Рита Хейворт – это не нуждается ни в каких пояснениях – были символами безграничной сексуальности, той, которая царила после войны, как точно подмечает Пазолини. Но это единение отца с сыном, и наоборот, – единение, которого читатель ждет с таким напряжением, а оно постоянно на протяжении всего рассказа, – происходит в темном чреве кинозала; оно как бы усиливает материнскую, женскую символику: женщина, вот она, там, на экране, призрачная искусительница, которая поет, танцует, соблазняет, возбуждает. Вот здесь я хотел бы высказать одно предположение. Слова «Незавершенный роман» на титуле говорят не о том, что текст не закончен, – это указание на незавершенное отношение с отцовским образом, который Пазолини хранил в своей душе. В то время, когда он создавал свой текст, стараясь как можно ближе подойти к Кавафису (этот греческий поэт тоже цитируется), освободил свой «пол» из рабства и придал ему определенность, лишив двойственности, он оказался в положении, когда невозможно было пойти дальше предположения (совершенно фантастического) о том, что это было объятие одной стороны его собственного «я», которая была «отцом», и другой, которая была «сыном». Отсюда возникает отчаянная потребность в любви, 189 любви физической, потребность в тепле и отношениях, от которых он постоянно отказывался, но которых постоянно желал. В этой повествовательной незавершенности – незавершенности скорее предполагаемой, чем реальной – Пазолини скрыл из-за неожиданно появившегося желания отложить, отсрочить все объяснения, что часто случается в мире искусства, собственное навязчивое и болезненное желание: стать отцом своего собственного сына, чтобы он был его отражением, чтобы возместить своими объятиями все свои собственные неудовлетворенные сыновьи чувства. В то время произошло одно событие. Нико Нальдини купил книгу «Канцоньере» Умберто Саба, издание, в котором впервые были собраны все произведения поэта, автора поэмы «Триест и женщина». Пьер Паоло попросил ее на время. Однажды, вернувшись домой, он увидел, что открытая книга лежит на его письменном столе. Отец отметил в ней сонет из цикла «Автобиография», где говорилось: Мой отец был для меня «убийцей» до того дня, когда мне исполнилось двадцать лет. Потом я увидел, что он ребенок и что мой дар я получил от него. У него был мой взгляд, мои голубые глаза, улыбка, жалкая, милая и рассеянная, он был странником в мире, он любил многих женщин, и был любим. Он был веселым и легкомысленным; моя мать одна несла все тяготы жизни. Он ускользнул из ее рук, как воздушный шар. 190 «Не будь таким, как твой отец», – твердила мать. И только позднее я понял: они были вечными соперниками на древнем турнире. Карло Альберто пытался завоевать сына, сына, которого он делил с матерью, которого мать от него отделила. У Саба он прочитал что-то о себе самом, ему показалось, что поэт пишет именно о нем («был веселым и легкомысленным»). Кто знает, смог ли он пройти до конца тот путь, на который его древнее соперничество с Сюзанной обрекло его сына. В повести «Возлюбленный мой» Карл Альберт не «убийца». В минуту счастья случилось так, что Пьер Паоло позволил себе мечтать об отце-благодетеле. Это была только мечта. Это был мимолетный эпизод, возможно, связанный с чувствами, испытанными во время просмотра «Джильды». Это, скорее всего, было летом 1947 года и как раз в Каорле. В Каорле летний кинотеатр сиял электрическими огнями, а вокруг царила угольно-черная ночь. Ее бесконечный занавес скрывал все, что было за временным забором из тростника, который огораживал зрительный зал. В статье, посвященной фильму, он рассказывает о «крике радости, сладостном вопле», который исходил с экрана. Те же слова перекочевали с газетной полосы на машинописную страницу повести. Там есть и Рита Хейворт, и разгоряченный зрительный зал, есть мальчик по имени С. Сюжетный ход повести, которая должна была принести облегчение и свободу, был слишком реален. Александрийская идиллия была заперта в ящик и предоставлена собственной «незавершенности». За торжество тела, которое в ней было представлено, необходимо было дорого заплатить. 191 Дни приговора Де Гаспери Это были годы, когда итальянской литературе был необходим роман о подвигах народа. Литература стремилась приобщиться к судьбам людей, которые жили на окраинах городов, на периферии истории, забывая о нравственности и морали. Это была щедрая иллюзия неореализма, отдельные плоды которой были и лирическими, и строго документальными, тесно связанными с автобиографическими моментами. Я имею в виду роман «Христос остановился в Эболи» Карло Леви. Эпоха неореализма была эпохой живой полемики. Это была также и эпоха, когда литераторы вновь обратились к эксперименту. Элио Витторини и Чезаре Павезе были братьями-Диоскурами этих экспериментов. Пазолини жил вдали от этих споров, он предавался раздумьям во Фриули. Пазолини пробовал писать прозу и до повести «Возлюбленный мой». Он написал несколько статей для третьей страницы газеты «Либерта». Это настоящие прозаические произведения (мечты, кошмары, сюрреалистические образы). Они были опубликованы между 1946 и 1947 годами. Но были и более ранние опыты, гораздо более значительные. Похороны в сентябре. Похоронное бюро в Казарсе. Погребение в Казарсе. Молнии, освещающие небо. Белые облака, летящие в вышине. Естественно, все поля блестят и сияют. Дорога между Понте и селением Меонис. Под облаками группы людей бредут по глубоким лужам. Мужчины, одетые в воскресные костюмы, старушки в платочках и в черных юбках. Приходит священник, он очень торопится, проходит через толпу людей, которые тихо переговариваются. С ним несколько мальчиков-служек, как и он, 192 одетых в белые сутаны, отделанные черным. Свечи и кресты. Вся эта группа исчезает в воротах. Идет дождь, но солнце продолжает сиять. Приходят с флагом дети из приюта, еще кто-то. Вот из ворот выходят Альдо и Джованни, они несут гирлянду, за ними идут четверо мужчин. Они несут на плечах гроб старого Чезарина. Страничка, напечатанная на машинке, вложенная в стопку листов со стихами (все датированы временем до 1944 года и озаглавлены «Эпитафии»).16 Это линейная проза, почти безглагольная, уже почти «кинематографичная» и в этой кинематографичности своей вдохновленная эпическими образами. Крестьянский эпос укоренился в сердце Пьера Паоло. Его интеллектуальная и политическая направленность может найти выход в искусстве, в романе о коллективных деяниях, к которому стремилась литература того времени. Это случилось в начале 1947 года. 17 января около трех тысяч человек вышли на демонстрацию в Сан Вито на Тальяменто, чтобы потребовать исполнения «приговора Де Гаспери», обещанного два года назад. Под «приговором Де Гаспери» нужно понимать политическое решение, вынесенное Альчиде Де Гаспери, по которому в 1946 году испольщикам-арендаторам* должны были выплатить определенную компенсацию за невозможность производить работы и за убытки, понесенные во время войны. «Приговор» предусматривал также трудоустройство для безработных. * Испольщина – вид аренды земли, при которой арендная плата, уплачиваемая собственнику земли, составляет половину урожая; переходная форма организации сельского хозяйства от феодализма к капитализму. 193 Волнения среди крестьян Сан Вито продолжались до 12 января. Землевладельцы обещали принять на работу сто двадцать безработных – по затратам это было примерно 4 процента от суммы, которую они получили на восстановление хозяйств. 13 января переговоры закончились полной неудачей. В это же время суд в Удине решает, к какой части провинции можно применить «приговор», который должен применяться почти исключительно к тем местам, где испольщиков больше всего. В провинции Удине под действие «приговора» попадали часть Карнии и часть Червиньано – пятая часть всей территории, а для оставшихся четырех пятых судебная комиссия предусматривает небольшие выплаты. Начинается новая фаза социальных противоречий. В сельской местности вокруг Сан Вито на Тальяменто из испольщиков и безработных формируются комиссии, которые отправляются на различные сельскохозяйственные предприятия для заключения индивидуальных договоров, независимо от решения суда в Удине. Это движение принимает широкий размах еще и потому, что его поддерживает законно избранный мэр. В ситуацию вмешивается полиция, стянувшая довольно большие силы, чтобы воспрепятствовать любому выступлению. Наступает утро 28 января. К этому моменту, несмотря на репрессивные меры, все же удалось добиться некоторых результатов: работу получал один безработный на каждые пять гектаров. В это утро, когда комиссия испольщиков пришла на виллу землевладельца Рота, там вспыхнули большие беспорядки. Управляющий не показывался. Демонстранты взломали ворота, вошли в дом и никого не нашли: там не было даже слуг, только собака и кошка. Управляющий, по слухам, был в Кодроипо. 194 Чтобы справиться с беспорядками и самовольным занятием виллы, командир карабинеров попросил помощи у военных и у полиции Падуи и Местре. В ожидании подкрепления он попытался остановить демонстрантов у задней части здания, противоположной той стороне, где были сломаны ворота. Сотня женщин набросилась на карабинеров с кулаками, они били их и пинали ногами. Карабинеры были вынуждены отступить. Немного позднее они вернулись на броневике, в сопровождении военных и полиции. Демонстранты забаррикадировались внутри ограды виллы. Броневик протаранил ворота, но его опять остановили подоспевшие женщины. Демонстранты укрепили свои баррикады и еще раз вынудили силы правопорядка отступить. Вечером, когда поступило сообщение, что управляющий Рота подписал соглашение с испольщиками, подобное тем, которые уже были заключены другими управляющими, крестьяне освободили виллу и разошлись. На следующий день подобные демонстрации произошли в Кордовадо. И там тоже были подписаны соглашения, удовлетворявшие требования испольщиков. Несмотря на это, полиция обрушила на демонстрантов дубинки и гранаты со слезоточивым газом. В знак протеста на 30 января была назначена еще одна демонстрация, в ней приняли участие пять тысяч человек. Тогда из Удине прислали представителя префектуры, который гарантировал, что в дальнейшем переговоры будут проходить мирно. Захват виллы Рота стал предметом судебного разбирательства: тридцать человек предстали перед судом, двадцать были осуждены. Демонстранты, которые проникли в дом, были обвинены в краже: они, якобы, украли пару носков и рубашку, а один из них поменял свои деревянные башмаки на ботинки с гамашами. 195 Пазолини задумал написать, основываясь на этом эпизоде крестьянской мести, роман о своем Фриули. Роман увидит свет много лет спустя, в 1962 году, – «тщательно отделанный, восстановленный, подкрашенный и обрамленный», под названием «Мечта о чем-то» – этой мечтой (слово это взято из письма Маркса Руге 1843 года) – была надежда на социальное обновление, которую люди лелеяли в глубине души под крылом своей совести. В редакции 1962 года роман состоит из серии отдельных эпизодов, в которых рассказывается о несчастной судьбе трех молодых фриульцев, ищущих работу. Они живут легко и счастливо, наслаждаясь своей юностью: танцы по воскресеньям, дружеские пирушки, вино течет рекой, любовь, боль утрат. Демонстрация в январе 1948 года – это что-то вроде итога, момента истины, когда политические страсти (герои романа – коммунисты) выплескиваются в столкновение со стражами буржуазного порядка. Они голодают, им нужно найти работу, их порушенные надежды дополняются в этот миг роковым содержанием. Эпическое дыхание соединяется в этом романе с плутовским сюжетом, с любовью к авантюре, которая присуща всем трем героям. К этому структурному и стилистическому решению Пазолини придет после написания романа «Шпана». «Мечту о чем-то» нужно рассматривать как мифический и крестьянский фон «римского» романа, как образец романа о жизни римской бедноты. Он родился совсем в других краях. Об этом говорят незаконченные наброски 1948–49 года, не случайно названные «Лучшие из молодых».17 Это название Пазолини потом даст сборнику своих самых удачных лирических стихов, написанных во Фриули, настоящему эпосу его собственной 196 юности, к размышлениям о которой он вернулся спустя несколько лет. С народной историей в этой первой редакции переплетаются две другие, связанные с первой. Все вместе они и должны были составить роман. Это история о молодом священнике, который старается организовать досуг крестьянских детей, и история образованной молодой женщины, члена коммунистической партии. Она пишет тексты воскресных листовок для своей ячейки. Священник, дон Паоло, занимаясь с детьми, переживает гомосексуальное влечение к мальчику; молодая женщина, Рената (в другой редакции речь идет о мужчине по имени Ренато), благодаря своей коммунистической вере устанавливает чисто духовные отношения со священником. Оба они стремятся выйти из жестких политических и идеологических рамок, в которые их поставили, преодолеть их, поскольку испытывают потребность в нравственной свободе, которой политика может помешать. В образах этих двух персонажей, хотя они и не выписаны и остались незаконченными, как и весь роман, прослеживается образ самого Пазолини, со всей свойственной ему раздвоенностью. Дон Паоло и Рената представляют собой грани его христианского пыла, его увлеченности педагогикой и его страсти к политике. В них есть любопытная «евангельская» жилка, которая может превратить их прямо-таки в культовых святых. Возможно, понимая это, писатель убрал их из окончательной редакции книги. Кроме того, особенно в образе дона Паоло, очевидны прямые автобиографические черты. Дон Паоло – дневник, который он ведет, вставлен в текст повествования – ясно показывает, насколько кризисы и 197 противоречия в душе Пазолини были связаны с его гомосексуальностью. Даже если иногда она и приносит минуты счастья, она же является причиной душераздирающего чувства вины, острых угрызений совести. Молодой священник ищет утешения в текстах «Посланий святого Павла»18 и пишет: «Остаться во плоти»: здесь, очевидно, имеется в виду плотская любовь. Но зачем нужна плотская любовь? Зачем она мне? Боже мой, разве я не достаточно страдал из-за своей плоти?.. Мне совсем не нужно, чтобы мне о ней напоминали. Или вот он рассказывает о том, что с ним произошло в юности, не испытывая ни малейшего стыда: Пока все спали, я ходил по пустым улицам. Моя фиолетовая рубашка, светлые брюки, волосы со свежевыбритой тонзурой – все было влажным от пота. Я был слишком молод, чтобы обращать на это внимание. Я был слишком погружен в мои собственные наблюдения. Я смотрел на портики, подоконники, полосы света, плиты тротуара… Я направлялся к единственному мосту через реку, в последние несколько дней я постоянно туда приходил, он был для меня исполнен особой притягательной силы, уж не знаю почему. Когда я пришел к мосту, я прислонился к парапету и посмотрел вниз. Несколько минут я смотрел на воду, потом поднял голову и заметил одну вещь, которой до тех пор не замечал: на улице, идущей вдоль реки под акациями, стоял старый уличный писсуар, окруженный сплошной металлической стенкой, порыжевшей от ржавчины. Для меня это было нечто совершенно необычное: в моей деревне не было подобных сооружений. Я подошел, зашел внутрь и увидел, что передо мной простая желтоватая мраморная плита, влажная, 198 потому что на нее все время капала вода. Там был острый и застоявшийся запах аммиака. Я, охваченный волнением, как будто собирался совершить что-то запретное, стал мочиться в этом невиданном месте. Вдруг я услышал приближающиеся голоса. Говоривших было двое, они уже вошли, а я еще не успел убежать. Теперь я не мог выйти, и мне пришлось стоять между двумя мужчинами у мраморной плиты, стыдливо склонив голову и ожидая, когда они уйдут… Когда я снова оказался у парапета, снова один, свободный, я почувствовал, что мной владеет сильное волнение, новое, упоительное, захватывающее дух. ⟨…⟩ В этом незнакомом городе мой стыд потерпел удар, такой сильный и неожиданный, что то удовольствие, которое я для себя открыл, удовольствие, которое так отличалось от всего, мной испытанного, превратилось, как мне показалось, в самое сокрушительное искушение. Я еще не мог разобраться в своих чувствах, я просто окунулся в них без оглядки. Но мои мысли с детской неумолимой логикой выстраивались в особый порядок. Я теперь искал способ снова испытать этот удар по моей детской стыдливости. Естественно, у меня в мозгу тут же составился план. Я и так уже давно мечтал узнать побольше о жизни взрослых, отмеченной столькими грехами. Я подумал, что могу прийти к реке, как всегда, а как только кто-нибудь войдет в кабинку с писсуаром, я тоже войду… И вот два дня я в первые послеполуденные часы, когда на улицах никого не было, ходил туда и обратно между двумя писсуарами – тем, который я обнаружил в тот день, и еще одним, который я увидел возле рынка. Когда я стоял перед вонючими мраморными плитами, я слышал жужжание мух, оводов и диких ос. 19 Подавленное возбуждение, чувство греха и ощущение насилия. Здесь нет легкости «Возлюбленного моего». 199 Это плоть, плоть, это в ней причина, это ее надо уничтожить. Иногда ночью я просыпаюсь, лежу, таращу глаза, приподнимаюсь на локте и лежу так иногда минут десять или четверть часа, неподвижно устремив глаза на «что-то». И я вижу это что-то, прекрасно вижу во всех малейших, выгравированных на пластине, высвеченных ослепительным светом подробностях. Страх, что тебя застанут врасплох, страх, что твоя плоть предаст тебя на глазах у других, выдаст твой секрет, твою идентичность, которую ты сам воспринимаешь со страхом. Эти страницы дневника дона Паоло, естественно, воспринимаются как исповедь. Но дон Паоло, как я уже сказал, учит детей, и именно в этом, а не в чистой вере, находит облегчение страданиям своей души. Нужны средства, размышления. Я почитал кое-что о современных дидактических методах (теория активного обучения), которые вполне сгодятся как «средства», которые были бы не просто ораторскими упражнениями преподавателя, они бы могли пожертвовать традиционным авторитетом преподавателя для того, чтобы дети могли принять активное участие в процессе обучения. В общем-то, это справедливо, однако… чтобы заставить школьников учиться, чтобы они учились охотно и с энтузиазмом, нужно что-то другое, а не просто самый разумный и современный метод. Здесь речь идет об оттенках, о рискованных и волнующих оттенках. ⟨…⟩ Метод Монтессори и позитивистов, несомненно, имеет свои преимущества, но то, что он верит в то, что можно приложить силы куда-то вовне, в улучшения постепенные, которые можно предвидеть; этот его оптимизм, который не берет в расчет тайну и непоследовательность, которые, в конце концов, и лежат в основе свободы… Если 200 мы немного изменим терминологию, то увидим, что от этих же недостатков не свободна и образовательная концепция идеалистов, они тоже не принимают во внимание противоречия, иррациональный момент, готовность принять что-то без доказательств, чистую идею существования, – а ведь эти вещи присущи всем людям. Если же принять в расчет все это, то это и будет действительно позитивная педагогика. Ее трудно представить в рамках школьного учебника, поскольку она формирует умение жить в постоянно меняющемся мире духа, устремив взгляд в глаза Провидения. Так воспитывать может только тот, кто умеет любить, кто постоянно живет в присутствии Бога. ⟨…⟩ У меня множество идей, наверное, даже слишком много. Я нарисовал огромные таблицы, на которых специальными приемами, символами и забавными примерами изобразил самые абстрактные грамматические правила. Я поместил сухие рассуждения в разноцветный мир образов. (Где это я читал однажды о феномене, который называется «обусловленное размышление»? Именно таким образом правило должно закрепляться в памяти, через яркое цветное воспоминание об образе, связанном с правилом, а не через стерильное заучивание). Ребята что-то заподозрили, чувствуют, что тут какой-то трюк, но по их глазам видно, что им любопытно и весело. И здесь тоже говорит не герой, а автор, спрятавшийся за своим героем, как за прозрачным занавесом. Становится понятно, каким образом Пазолини сублимировал в педагогику «любовное насилие», которым был одержим. Католический оттенок некоторых его высказываний кажется чем-то вроде заклинания. Христианство было частью его нравственного мира, той самой частью, которая заставляла его спрашивать себя (пусть даже от лица сельского свя201 щенника), так ли уж невозможно заглушить зов плоти («Это плоть, плоть, это в ней причина, это ее надо уничтожить»). Но его тонкая психологическая организация, его критический ум не могли найти выход только в том, что он пытался заострить до трагического звучания зов плоти. Для него все большее значение приобретали требования разума, стремление к осознанию истории. Они все яснее проявлялись в его идеологической концепции и в его творчестве. Отсюда возникает и образ Ренаты, девушки из буржуазной семьи, которая становится марксисткой и «предает собственный класс» («никто из ее класса, даже самый лучший, никогда бы не простил ей этого»).20 В образе Ренаты находит свое воплощение социальный палингенез*, даже желание гибели превращается в этический императив: «Сейчас я могу только понять их [испольщиков, батраков] … вернуться с ними назад, с тем чтобы потом возвратиться на уровень познания. Вот это-то и трудно».21 Но этот призыв «понять» бедных, «вернуться с ними назад» – что это, если не непреодолимый зов антропологического бессознательного? В дневнике дона Паоло сказано: Я заметил, насколько молодежь из народа лучше буржуазной молодежи. Это существенное и абсолютное превосходство, которое не допускает никаких исключений. Его можно сравнить с красотой природы или свежестью плодов. А потом, в то время как буржуазная молодежь, взрослея и старея, будет становиться лучше, поскольку их сознание умеет бороться с упадком и регрессом, молодежь из народа, повзрослев, превратится в ничто, потеряет смысл * Палингенез – здесь: процесс в эмбриогенезе организмов, повторяющий соответствующий процесс филогенеза данного вида. 202 существования, их жизнь будет чередой однообразных событий, смысл которых им не дано понять. Они будут двигаться вниз по наклонной плоскости. Здесь появляется корректирующий элемент: декадентский эстетизм, сверхчувствительность к красоте, к которой часто примешивается ожидание смерти… Дон Паоло не ограничивается социологией и психологией. Молодой священник в соответствии с esprit de la décadence* переходит к действиям. Он хочет, чтобы красота этих крестьянских детей осталась нетронутой. В кульминационный момент романа, во время демонстрации за «приговор Де Гаспери», его убьют полицейские, стреляющие в толпу, потому что он попытается защитить своим телом молодого демонстранта. Он погибает, пожертвовав собой, но кажется, что эта жертва была уже давно задумана им самим в минуту отчаяния. Кажется, что это решение сюжетной линии, связанное с гибелью героя, придумано рассказчиком. Но это одно из тех решений, которые рассказчик принимает, чтобы подчеркнуть неизбежность и фатальность судьбы своих персонажей – слишком уж, созданные его фантазией живыми и мрачными оказываются образы. Что можно сказать по этому поводу? Что история в тот момент, когда все становится явным и очевидным, ставит под сомнение последнюю собственную истину, она уничтожает ее через смерть персонажа. А если посмотреть на все это с высоты сегодняшнего дня, превращается в неожиданное пророчество. Но Пазолини в тот период своей творческой деятельности придавал гораздо большее значение объективности * Дух декаданса (франц.) 203 описания, чем субъективным ощущениям, и именно поэтому и выбрал прозаическую форму, роман. Фриульский эпос должен был разрешить проблему раздвоения собственного «я», помочь снять противоречие между политизацией личности и чувством вины. Этот эпос должен был представить простую, бедную и радостную жизнь крестьян, благоухающую примулами, распускающимися в придорожных канавах, открытую для живительной свежести. Но в результате, разделение личности осталось, затаилось, стало еще более болезненным, неизлечимым. Бесконечная фриульская близость Когда он вернулся, я был в Казарсе, куда переехал во время войны, к матери. Я совершенно потерялся в бесконечной близости, которая делала Фриули настоящим домом. ⟨…⟩ Он остался в Казарсе, как будто снова очутился в плену. Началась его долгая агония, которая продлилась двенадцать лет. Он был свидетелем того, как одна за другой вышли мои первые книжки на фриульском, следил за моими первыми успехами в области критики, был на защите моей дипломной работы по филологии. Но он все меньше и меньше понимал меня. Контраст был разительным. Если бы кто-нибудь заболел раком, а потом вдруг выздоровел, он бы наверное, вспоминал о своей болезни, как я об этих годах. Карл Альберт Пазолини, вернувшись из плена, увидел, что весь мир переменился. Не только Италия перестала быть страной фашизма, но его собственный сын Гвидо погиб, сражаясь с фашизмом, а другой его сын, Пьер Паоло, вступил в коммунистическую партию. 204 Для Карла Альберта изменился и горизонт его физического существования. Он жил теперь не в Болонье, а в Казарсе, не в маленькой квартирке мелкого буржуа, а в крестьянском доме (что было для него несомненным признаком деградации), где звучали слова чужого для него диалекта. И из этих слов его сын складывал стихи, сын, который теперь гораздо больше, чем Пазолини, был Колусси. Пьер Паоло переживал свою собственную «бесконечную близость» с матерью. Эта близость после трагедии, случившейся с Гвидо, стала еще более неразрывной и мистической. Возвращение отца ее нарушало. Исстрадавшееся сердце Карла Альберта, должно быть, почувствовало это. Он с особой горькой любовью тщательно следил за успехами сына. Бережно хранил вырезки из газет. Построил специальное помещение на первом этаже для Академии. Этот сын, для которого он хотел большого будущего, не хотел признавать одну из основополагающих идей, которой просто обязан был следовать представитель итальянских мелкобуржуазных кругов, занимающийся литературой: он предал высокий стиль, так ценившийся его классом, он отказывался говорить языком образованных людей, он рассуждал о «малой родине». Карл Альберт испытывал двойственное чувство: он восхищался сыном и не мог простить ему этого предательства, он не мог ему простить в глубине сердца, в тайных уголках своего сознания. И когда это чувство брало верх, он взрывался, обвинял, протестовал. Из «бесконечной близости» Фриули он был трагически исключен. «Длинная агония» Карла Альберта Пазолини началась именно так; а для Пьера Паоло это была также и тяжелая и ужасная болезнь. 205 Отец лечился вином, и это стало причиной его смерти. Сын пошел по пути самовыражения, следуя старинному убеждению поэтов, что слово – это единственное возможное средство против всякого жизненного зла. Пьер Паоло 6 декабря пишет Сильване Маури, старинной приятельнице тех лет, когда он жил в Болонье: «Возвращение моего отца повергло мою душу в смятение. Однако состояние мое не такое невыносимое, как в прошлые годы». 5 февраля 1946 года он опять пишет Сильване: «Моя жизнь совсем не безоблачна, она была бы более спокойной, если бы не тяжелое состояние моего отца. Врачи говорят, что он страдает паранойей». Отец следит за сыном. Чрезмерная любовь заставляет его читать все, что он пишет. Но эта же любовь совершенно лишает его мужества и самостоятельности: даже в том, что касается политики, он полностью зависит от своих отношений с сыном. Все это, естественно, вместо того чтобы замедлить развитие болезни, его ускоряет. В минуты обострений, которые случаются все чаще, он кричит, что за ним следят, что его обложили, как дикого зверя, обвиняет всех окружающих. Гомосексуальность… Может быть, Карл Альберт и подозревает что-то, может, не хочет замечать. Может быть, как это часто случается с мужчинами, у которых ярко выражено их мужское начало, возможные гомосексуальные наклонности сына не пугают его, он не понимает, насколько это серьезно. Причина его тревоги в другом: то, что он чувствует себя не принадлежащим миру Казарсы (он не ладит со свояченицами, в особенности с Джанниной), возрождает в нем прошлые обиды. Самая большая обида – на Сюзанну: он постоянно вспоминает, сколько раз Сюзанна отказывала ему. Эта 206 обида вызывает другую – обиду на сына. С этого начинается целая цепь обид, которая теряется в бесконечности. У Карла Альберта в Казарсе нет друзей, он и не стремится их приобрести. Он слишком горд для этого: он армейский офицер. Для него все превращается в повод для обид и провоцирует развитие его болезни: даже мелкие домашние дела. Даже уроки, которые дает Сюзанна, чтобы поддержать скудный семейный бюджет. Это ужасные сцены: он обвиняет Сюзанну в смерти Гвидо, обвиняет ее в том, что она довела его до отчаяния. Приступы становятся все более частыми и тяжелыми в 1947 году. Карл Альберт сначала впадает в непроницаемое молчание. Он молчит три-четыре часа, а потом начинает орать, он выкрикивает оскорбления. Он впадает в буйство, падает на землю, бьется в конвульсиях. Он просит, чтобы его убили, его с трудом удерживают, когда он угрожает самоубийством. Каждый раз в конце концов он начинает рыдать, от рыданий слабеет и засыпает. В начале января 1948 болезнь обострилась еще больше. Приступы становились все чаще, во время приступов он выкрикивал оскорбительные непристойности. Пьер Паоло решил показать его психиатру в Удине. Когда Карл Альберт узнал об этом, он пришел в ярость. Он говорит, что мать и сын хотят его погубить, но что он победит, он «разделается с ними». Чтобы показать врачу, что его отец говорит во время приступов, Пьер Паоло стал записывать его бессвязные речи. Получилось пять машинописных страниц. Это ругательства, это короткие реплики, резкие и язвительные. Он ненавидит в сыне его ум, он с ужасом говорит, что жена его – хитрая крестьянка, которая за его спиной плетет интриги. Он сочувствует сыну, которого считает жертвой ма207 теринских «козней», обвиняет его в слепоте. Он в отчаянии от того, что у него больше нет Гвидо, потому что Гвидо, несомненно, принял бы его сторону. Сюзанне он постоянно повторяет, что она ему не жена. Врач поставил диагноз: паранойя. Но фриульская «бесконечная близость» для Пьера Паоло наполнялась не только криками Карла Альберта и страстью, которая все больше разгоралась в его душе при виде отчаяния Сюзанны. Он был молод, счастлив, у него были друзья, он с удовольствием принимал участие в летних праздниках, встречался и переписывался со старыми друзьями из Болоньи. Например, с Сильваной Маури. Отношения с ней были нежными, они часто бывали вместе, заботились друг о друге, казались влюбленными. Сильвана была с Пьером Паоло сразу после 25 апреля 1945 года, когда он узнал трагическую правду о судьбе Гвидо, она ездила с ним в Порцус, чтобы узнать подробности случившегося и посетить места, связанные с трагедией. Любовная связь: близость Пьера Паоло и Сильваны будет длиться несколько лет, пока их отношения не прервутся в 1950 году, в Риме. Но как явствует из писем, которые Пьер Паоло ей писал, – совершенно бесстрастные письма, – эта близость для него основывалась на очень глубоких чувствах. Их привлекал друг в друге богатый интеллект, как это было с Джованной Бемпорад. Потом чувства изменились. Эта дружба, похожая на любовь, пережила трудные моменты, неизбежные в подобных отношениях. В письме от 15 августа 1947 года Пьер Паоло винит себя за то, что «болезненно уколол» Джованну, что позволил «грусти и чувству противоречия» овладеть собой. 208 Отношения их балансируют на грани непроизнесенных слов, но иногда они выражают свои чувства совершенно ясно: «С самых первых дней нашего знакомства, ты, должно быть, поняла, что за моей дружбой стоит что-то большее, но немного большее; симпатия, граничившая с нежностью. Но нечто непреодолимое, скажем даже, чудовищное, вставало между мной и моей нежностью». Слова, которые выделил сам Пазолини, говорят о многом. И это еще не все. Весной 1947 года Пьер Паоло впервые поехал в Рим, в гости к своему дяде с материнской стороны, который был антикваром. В Риме он познакомился с несколькими представителями интеллектуальных кругов. Рим его поразил. Сильвана приехала к нему в Рим. Об этом в письме: Вспомни еще одну вещь, Сильвана, и ты поймешь. Ты снова увидишь, как мы с тобой сидим в том ресторане на площади Витторио, перед нами тарелки с горячим «кальцоне»*. Ты помнишь, с каким жаром я защищал твою подругу-лесбиянку? Не смущайся, пожалуйста, Сюзанна, читая это слово, подумай, ведь правда заключается не в словах, а во мне, и что я, несмотря ни на что, полностью вознагражден за то, в чем мне отказано, моей joy**, моей радостью, которую для меня представляет моя любовь к жизни и мой активный интерес к ней. Все это тебе нужно только для того, чтобы ты могла понять мои колебания, мои недоговорки, ложь, которые, может быть (я специально говорю: может быть), заставили тебя страдать. Мучительная правда, которая скрывалась в привычном дружеском общении, вышла наружу; все же (как сказано в * Сalzone – закрытая пицца. ** Радость (англ.) 209 этом самом письме), «ты единственная женщина, к которой я испытывал и испытываю что-то похожее на любовь». Сильвана в Риме, на площади Испании, увидела, что из кармана Пьера Паоло выглядывает краешек какой-то тетради; она попросила дать ей почитать, но Пьер Паоло не дал. Это был дневник, и, возможно, в нем можно было найти что-нибудь большее, чем признание. Унижение, позор, которые уничтожают любовь. Поэтому появляется письмо от 15 августа, в котором Пьер Паоло пытается все исправить, все объяснить. В этом письме он впускает Сильвану в свое «святая святых», в тесную «каморку собственного я»: «так я смогу рассказать тебе о чувствах, которые к тебе питаю, не испытывая смятения ребенка, которого застали за чем-то недостойным». Признание, с другой стороны, было уже необходимым: Пьер Паоло ездил с семьей Сильваны в горы, в Макуньягу; там недомолвки, удивленные взгляды Сюзанны стали невыносимыми, их чувства могли бы превратиться во взаимную неприязнь. Желание избавиться от мучений лжи превращается для Пьера Паоло в сон. Он пишет об этом в том же самом письме. «Меня озарило: я вспомнил, что сегодня ночью ты мне приснилась. Мы были в Макуньяге, но это была Макуньяга, переполненная счастьем, сияющая, мраморная. Макуньяга без Монте Роза, без горной реки. В уголке гостиной, который мне приснился, я явственно ощутил запах дерева, тепло дивана, увидел столик. Все это в моем сне было мраморным и источало аромат амброзии, а мы сидели там и спокойно беседовали». Их отношения обогатились истиной, истиной едва упомянутой, но высказанной прямо, без иносказаний, и стали еще более близкими. 210 В течение всей своей жизни Пьер Паоло поддерживал отношения с женщинами, отношения совсем не случайные, живые, иногда исключительные. Это были отношения, в которых дружба смешивалась с целым букетом чувств, которые изменяли саму дружбу. Здесь речь идет не о любви и не о сексе, а о сильном эмоциональном притяжении. Было бы ошибкой думать, что эти отношения принадлежат к категории сплетен, которые часто связывают гомосексуалистов с женщинами. Их нельзя также считать попыткой обрести замену образу матери. Образ Сюзанны, связанной с сыном особыми отношениями, никогда не омрачался и не оставлял места для каких-либо двойников. У Пьера Паоло была мощная мужская составляющая, размытая, частично разрушенная его взаимоотношениями с отцом. Может быть, отец, который изменял Сюзанне, уходил из дома на несколько дней (как это случалось перед войной), чтобы найти на стороне удовлетворение желания, в котором ему в супружеской жизни либо отказывали, либо давали скупо, с презрением, – может быть, этот отец и заразил его невротическим томлением по женщине. Его будущее сексуальное поведение может быть представлено как обратная сторона этого томления: Пьер Паоло в безумной ночной погоне за мальчиками. Это не позволяло ему заниматься любовью дома, дом был полностью отдан Сюзанне и любви к ней. Это двойственность, которую несложно понять. Это будет всегда присуще Пазолини. Он взрастил свою собственную сексуальность, и она стала его судьбой. Однако уже во времена «фриульской близости» у него бессознательно сформировался образ женщины, совсем не похожей на его мать, видимо, для того, чтобы не конкурировать с ней. 211 Среди эпиграмм 1958 года есть одна, посвященная «Нерожденному сыну».22 Она свидетельствует о том, что у него были близкие отношения с женщиной («первый и единственный нерожденный сын, / я не сожалею, что ты так и не смог посетить этот мир»). Пазолини говорил, что это был его единственный опыт гетеросексуальной любви с «девочкой, уже ставшей матерью», «приехавшей из Витербо»: ⟨…⟩ она оказалась быстрее, подбежала к моей машине, наклонилась к окошку, она была так самоуверенна, что я просто не смог ей отказать. Она села в машину весело, по-детски, и велела мне ехать в сторону дороги Кассия ⟨…⟩ Никакой разницы с тем, как он обычно знакомился с мальчиками: машина останавливается, мальчик садится, и они отправляются на какую-нибудь маленькую пустынную улочку. И на проститутку-«девочку» он смотрит точно так же: «она села в машину весело, по-детски». Я думаю, что в воображении Пазолини у женщины могла быть другая роль: роль, которую подсказывают два персонажа «Теоремы», мать и служанка, дополняющие друг друга. В них свобода и самоотверженная преданность тесно переплелись. Для Пазолини женщина – это создание, обладающее таинственной привилегией, или, можно сказать иначе, абсолютно лишенное привилегии интеллекта; это цветок природы, сивилла-предсказательница, связующее звено между мрачной землей и раем матерей (или матери). Совсем не абсурдным представляется и то, что он мог проводить четкое различие между «женщиной» и «матерью»: ему было необходимо отличать Сюзанну от любой другой женщины, чтобы она могла вынести весь груз его 212 любви и сохранить ее чистой и непорочной. Кто-то вспоминал: однажды он сказал, что у женщин «нет души», за исключением, как он объяснял, женщин, которые стали матерями, – очевидно, он считал, что они приближаются к образу-символу Сюзанны. Он утверждал, что женщины лишены души, но как страстный почитатель «Посланий» святого Павла и «Mon Coeur mis а nu»* Бодлера,23 он не имел в виду ничего унизительного, он хотел сказать, что они являются связующим звеном между жизнью – а жить значит быть мужчиной, и только мужчиной – и областью духа, где эта жизнь черпает свои силы, обретает мощь, истину и оправдание своего существования; воплощением этой области духа является мать. Что же касается служанки в «Теореме», то не случайно в фильме ее сыграла Лаура Бетти, связь с которой в последние годы жизни Пазолини поддерживал с исключительной преданностью и верностью, несмотря на то что она часто приносила ему страдания. «Бесконечная фриульская близость» заставляет Пьера Паоло переживать собственные гомосексуальные наклонности зачастую в полном смятении души, испытывая страдания. К чувству свободы первых встреч примешивается другое чувство, вызванное, прежде всего, тревожным ощущением присутствия отца. Можно предположить, что, находясь в доверительных отношениях с Сюзанной, Пьер Паоло был уверен в ее сочувствии. Но он совсем не мог быть уверен, что и со стороны отца он найдет понимание. Чувство греха, чувство вины в нем очень остро, если судить по содержанию его произведений тех лет. * Обнаженное сердце (франц.) 213 Многообразные и поразительные отрывки неизданных «Дневников» (1945–1949), которые потом войдут в томик «Соловей католической церкви», свидетельствуют о том, что в его душе царит тревога, она охвачена противоречиями. Из этих заметок можно выбрать огромное количество цитат – например: «рабская сексуальная зависимость», «потерянность» («моя жизнь потерялась и заблудилась»), – которые взаимно дополняют и заменяют друг друга. В действительности, разрыв преобладает над чувством удовлетворения. То, что приносит самые большие мучения, – это уступка. Я оказываюсь на развилке греха и уступаю ⟨…⟩ Или еще: Я уступаю… Жизнь, удержи меня на краю. Неужели ты хочешь стереть это создание с прекрасного рисунка вещей, достойных сожаления? ⟨…⟩ Кто меня обвиняет? Приди, Обвинитель, укажи пальцем на мое веселое лицо. Его joy всегда не полна, ее смущает присутствие обвинителя, беспокойство одиночества. Запах моей постели, постели бедного юноши, запах Ангела или денди, который я ощущаю иногда в воздухе слишком цивилизованного города, когда вдали от всего рассказываю себе эпизоды истории моей Славы. Эти эпизоды, кажется, разбегаются к двум полюсам: истина или ложь. 214 Потеряться или притвориться. Долг, небесное наследство, свет детства, блистают на униженном чреве. Я теряюсь и притворяюсь. И я открываю себе… предмет моего презрения и моего прощения, живой предмет зависти, юноша в воображении юноши… О моя судьба, я буду кричать о тебе неизвестным: я больше не буду гранью призмы, и мое одиночество будет воспето. И если среди сердобольных слушателей юноши, который потерялся, блеснет, как солнце, ложь, я увижу всю мою судьбу и мой гений… Долг… И я умру. Здесь присутствует тень Жида: она – в необходимости «исповеди», признания. Это идеи Жида в его «Двери справа» и в «Имморалисте». Жид спрашивает себя, как можно продолжать жить, неся груз «лжи» и «притворства» в сердце. Почему тот, кто себя любит, не расскажет о своем «стыде» и о своем «искушении»? Но у Пазолини эта тревога, кажется, развеяна «славным» обманом: «О моя судьба, я буду кричать о тебе неизвестным»; «мое одиночество будет воспето». В этих словах слышится надежда на то, что он сможет рассказать о собственной «непохожести», если освободит ее от уз «небесного наследства», долга – и «чрево» больше не будет «унижено». Наслаждение от такого крика, от такого пения во весь голос, наслаждение от того, что можешь «обнажить свое сердце»,24 говорит, скорее, не об отсутствии морали, как у Жида, а о бодлеровском дендизме: о поэте, который по собственной воле отравляет свою жизнь ради завоевания свободы, лежащей за пределами морали, по ту сторону добра и зла. 215 Он знает, что Если он боится своего призрака или если неудовлетворенная плоть превращает его в ребенка, он пристрастится только к сексуальным радостям. Он также знает, что сексуальное чувство ⟨…⟩ всегда присутствует в человеке, но его нет у Бога. Но есть ли Бог в этой неведомой плоти? Или еще: Я счастлив тем, что я грешник, поскольку мой грех при свете дня превращается в мраморную тень! Я счастлив, потому что знаю, что выставляю напоказ все мои ошибки, одну за другой. А ты, ЛЮБОВЬ СЫНА, приносишь мне свет, чтобы я втайне мог утешаться своими ошибками. Когда Пазолини писал по одному стихотворению в день, когда он печатал его на машинке на половинке листа веленевой бумаги, он признавался самому себе в своих ошибках, не позволял отчаянному сладострастию полностью завладеть собой. В конце 1947 и весь 1948 год, если доверять написанным стихам, тщательно собранным, пронумерованным и сброшюрованным, как если бы они были подготовлены к печати, Пазолини переживал очень тревожный период, тревоги его были гораздо более острыми, чем в прошлом. Возможно, что кризис, в котором находился его отец, стал для Пьера Паоло причиной тревог и волнений. Даже если казалось, что он полностью захвачен происходящим, что его творчество было как никогда плодотворным – это проявлялось и в написании романа, и в стихах, – 216 «бесконечная близость» была причиной психических травм, внутренних падений и кризисов, которые представлялись фатальными и неизбежными. В письме к Сильване Маури – это письмо, сыгравшее решающую роль в их отношениях,25 было написано из Рима в 1950 году, когда все уже случилось, фриульский эпос был завершен навсегда, гомосексуальные наклонности перестали быть тайной после приговора суда, – Пьер Паоло скажет, оглядываясь в прошлое, что его «медленное сползание в пропасть» началось «в сорок седьмом», «потом превратилось в стремительное падение»: «я все еще не могу спокойно судить о своих мыслях и поступках, а тем более осуждать их, хотя, как мне кажется, это неизбежно». В том же письме сказано: «Я от рождения был спокойным, уравновешенным, нормальным; мои гомосексуальные наклонности были чем-то лишним, вне меня, меня не касались. Я всегда смотрел на это мое «я» как на врага, я никогда не принимал его до конца». Стихотворения в «Дневнике» 1948 года посвящены именно этому врагу – врагу, который нападает, соблазняет, предлагает уклончивые решения, быстротечные радости («радость умереть, предаваясь этим чувствам, была единственным спасением», – говорит он в том же письме к Сильване). Но это враг, с которым бороться и которого победить невозможно. Если Пьер Паоло и мог еще одерживать победу над самим собой, если мог как-то смягчить страдания, вызванные этой непрерывной борьбой, он мог это сделать, только обратившись к католическим корням культуры, воспитавшей его. Это видно на примере его отношений с Тонути Спаньолом. 3 апреля 1947 года он пишет Тонути из Рима, рассказывает ему о своем путешествии: «Я пойду в Ватикан, чтобы 217 пройтись по его музеям. Представь себе, что в Сикстинскую капеллу (свод которой расписан Микеланджело, помнишь, в школе я показывал вам картинки?) ведет коридор, длина которого как от дома Полковника до Версуты, и он весь расписан и тщательно разукрашен». В отношениях с юношей, в письме он принимает привычный тон преподавателя, разговаривающего с любимым учеником, это помогает заглушить голос «врага», однако здесь чувствуется и типично католическая отеческая нотка. Католицизм: Пазолини еще не подверг критике иудейско-христианскую идею о неразрывном единстве сознания. Эта призрачная идея подвергалась нападению, изо дня в день ставилась под сомнение его личной реальностью – реальностью, граничащей с психическим расстройством, где разделение личности действительно имело место. С одной стороны – его гомосексуальные наклонности, с другой – необходимость их сдерживать, скрывать, притворяться. Это притворство нашло выход в педагогике. Несмотря на это, «бесконечная фриульская близость» была разрушена. КАК В РОМАНЕ Рамушелло Рапорт карабинеров Кордовадо, местное подразделение провинции Падуя, 15 октября 1949 года: «Приняты меры в ответ на запрос общественности, поскольку факт этот спровоцировал скандал (sic!). Нам стало известно, что вышеназванный Пьер Паоло Пазолини из Казарсы около десяти дней назад отправился в Рамушелло, где совращал несовершеннолетних». Итак, «общественность» протестовала. Кто-то случайно услышал разговор трех мальчишек (двое были из Рамушелло, а один – из Сан Вито аль Тальяменто). Это произошло 30 сентября, в день святой Сабины; в местечке был праздник, устроили танцы. На танцы пошел и Пьер Паоло с двоюродным братом Нико. Весь последний год Пьер Паоло все отчаяннее и смелее раскрывает свою гомосексуальность. Причиной всему, по его же словам, была необходимость отвлечься от тяжелой семейной обстановки – приступы Карла Альберта становились все более частыми – и необходимость как можно быстрее выйти из личного творческого кризиса. Фриули становился для него тесен. В письме к Тонути Спаньолу, написанном из Рима,1 он писал: «Я на этот раз действительно развеялся и привык к интеллектуальной и общественной жизни, которая, к сожалению, в Версуте совершенно невозможна». Гомосексуальные отношения делали секретаря коммунистической ячейки Сан Джованни очень уязвимым. Это могло иметь политические последствия. 219 Лето – атмосфера «Возлюбленного моего» – предлагало новые возможности быть счастливым, и Пьеру Паоло было трудно удержаться. Он рискнул. В июле–августе этого 1949 года священник застал его на месте преступления и стал шантажировать. Он сказал, что либо Пьер Паоло перестанет заниматься политикой, либо попрощается со своей школьной карьерой. Пьер Паоло через посредника ответил ему очень резко. В подобной ситуации оказался некоторое время тому назад представитель демохристианской партии. Провинциальная жизнь постоянно требует скандалов и сплетен. Если ктонибудь оказывается на виду, он должен заплатить свою дань сплетникам, пережить позор и унижения. Для «общественности» была нестерпимой сама мысль о том, что коммунистические идеи могут уживаться с гомосексуализмом. Во Фриули уже просматриваются причины постоянной агрессии, которая будет направлена против Пазолини на протяжении всей его общественной деятельности. Во Фриули он сталкивается с шантажом со стороны сельского священника, к этому прибавляются и политические интриги. Нико Нальдини случайно встретился с директором лицея, в котором учился в Удине, с Джамбаттистой Кароном, избранным 18 апреля 1948 года депутатом парламента от христианско-демократической партии. Карон был человеком высокой культуры, читал французских спиритуалистов. Он сказал Нальдини, что для его двоюродного брата было бы лучше прекратить участвовать в коммунистической пропаганде. Листовки, которые он вывешивал в лоджии Сан Джованни, могли вызвать резкую ответную реакцию. Пьер Паоло и Нико не придали особого значения его предупреждению. 220 И тут все узнали о случившемся в Рамушелло. Был праздничный день. Пьер Паоло встретился с тремя мальчиками – одному шестнадцать лет, двум другим – и того меньше. Между ними возникло согласие и взаимопонимание. Нико тоже при этом присутствовал. Но Нико остался посмотреть на танцы, хотя Пьер Паоло и позвал его с собой. В тот миг Пьер Паоло был захвачен суматохой танцев, его, как пламенем, охватил эрос; возбужденный вином, успокоение он находил в движении тел, в том, что от танца к танцу кровь все быстрее бежала в жилах. Все это создавало особое состояние опьянения – опьянение сельским праздником. Итак, он вместе с мальчиками ушел с танцплощадки подальше от ограды. Вернувшись, он сказал Нико, что это был «незабываемый вечер». Потом мальчики из Рамушелло говорили друг с другом о чем-то, что можно было интерпретировать как взаимную мастурбацию. Кто-то их случайно услышал и донес. «Общественность» обратилась к карабинерам. В протоколе бригадир карабинеров из Кордовадо ссылается на «людей беспристрастных и достойных доверия», на «опрос несовершеннолетних» – родители так и не появились. Все это случилось 14 октября. 21 числа того же месяца бригадир вызвал глав семей, которые «хотя и колебались, но выразили желание сохранить за собой право обратиться с иском». Но к этому времени «факты уже стали достоянием общественности»: бригадир в своем рапорте говорит и о беспристрастности суждения, и о силе обстоятельств. Поскольку 221 «негодование стало всеобщим» и поскольку Пазолини преподавал в средней школе, появляется «составленный в трех экземплярах» протокол. Иск со стороны родителей мальчиков так и не был подан. Но осведомитель карабинеров об этом сообщил, общественное мнение было сформировано, и мировой судья Сан Вито аль Тальяменто обвинил Пазолини в совращении несовершеннолетних и в непристойном поведении в общественном месте. Вместе с ним обвинение было предъявлено и шестнадцатилетнему юноше. 28 декабря 1950 года он был оправдан по делу о совращении несовершеннолетних, но приговор суда признал его виновным в совершении непристойных действий в общественном месте. Суд вышестоящей инстанции в Порденоне снял с него эти обвинения ввиду недостаточности улик. Если потом, с течением времени, «скандал» забылся и перестал быть темой сплетен, то в первый момент в Казарсе страсти кипели. Пьер Паоло был вызван на допрос к карабинерам 22 октября. Командир потребовал от него объяснить происшедшее. Он объяснил все примерно так: «Я прочитал роман о гомосексуальных отношениях и решил испытать все сам, получив, таким образом, новый эротический и литературный опыт». Он назвал имя автора романа, Жида. В общем, Пьер Паоло не отрицал фактов. Он попытался призвать на защиту литературу: Жид получил Нобелевскую премию в 1947 году. Он полагал, что ссылка на произведения такого знаменитого писателя может его спасти. Но протоколы и заявления делают свое дело. Командир карабинеров поставил в известность свое командование. Они сообщили в Отдел народного образования и печати. 222 Газета «Мессаджеро венето» 28 октября опубликовала показания Пазолини – показания по поводу совершенного преступления. И другое издание, «Гадзеттино», в тот же день опубликовало подобное сообщение. На площади Казарсы продавцы газет выкрикивали эту новость. Если у этой интриги была политическая подоплека – как предупреждал Карон, – то коммунисты попались в ловушку. 26 октября руководство федерации коммунистов Порденоне по требованию региональной федерации Удине и членов ячейки компартии Казарсы исключило Пазолини из членов КПИ «за аморальное поведение, недостойное члена партии». Местный выпуск газеты «Унита» в ответ на публикации «Мессаджеро венето» и «Гадзеттино» сообщил об исключении Пазолини, обвинив его в интеллектуальном «уклонизме», вызванном чтением «буржуазных писателей-декадентов». Решение коммунистов не было единогласным, против выступила Тереза Деган, его коллега по школе. Ее заступничество легко объяснить. В разгар холодной войны чистота политических взглядов и высокие нравственные качества вменялись коммунистам в обязанность. Партии Тольятти показалось невозможным публично оправдать своего члена, обвиненного в гомосексуализме, тем более что Пазолини и не отрицал данного факта. «Что же касается меня, то я проявила непростительную доверчивость» – написала Тереза Деган через несколько недель.2 В федерации коммунистов Порденоне появилось мнение, что поскольку Пазолини больше не коммунист, на суде это ему может помочь. Такой хитроумный ход, однако, показывает, в какой зависимости находилась партия от законных органов власти: практически невозможно было 223 защитить на суде члена партии, которому было предъявлено порочащее его обвинение. Исключение из Коммунистической партии было для Пазолини болезненным ударом. «Был момент, когда я мог утонуть в выгребной яме буржуазной ненависти» – пишет он в письме к Деган. Злость, которую он испытал, когда узнал об исключении, поставила под сомнение все его поступки, даже сам факт вступления в КПИ после гибели Гвидо. Но в письме к Фердинандо Маутино, секретарю федерации коммунистов Удине, он с достоинством и твердо заявил, что считает свое исключение неправомерным: Я не удивляюсь дьявольскому коварству демохристиан; я удивляюсь вашему бесчеловечному поведению; ты прекрасно понимаешь, что вовсе не глупо говорить об идеологических расхождениях и уклонах. Что бы вы ни думали, я остаюсь и всегда буду коммунистом в самом подлинном смысле этого слова. Но о чем я? Вплоть до сегодняшнего утра меня поддерживала мысль о том, что я пожертвовал собой и своей карьерой ради верности идеалу; теперь у меня нет такой уверенности. Другой бы на моем месте покончил с собой, но я, к несчастью, должен жить ради моей матери.3 «Что бы вы ни думали…». Это полное неприятие тактической линии партии, соображений политической целесообразности (или беспринципности), от которых он отказался во время полемики по вопросам региональной автономии. На этот раз речь идет о нем самом, о его личной жизни, о самом его существовании. «Я остаюсь и всегда буду коммунистом…». Это «самый подлинный смысл» его гражданского долга, который Пьер Паоло намерен выполнить до конца. Он знает, что, преж224 де всего, несет интеллектуальную ответственность перед обществом, на этом и основывается его представление о нравственности. Он верит в идеал: он исключает возможность найти решение политических проблем в практической сфере, он больше не желает активно принимать участие в жизни партии. Ему остается только последовательность собственного мышления, логика, которая обуславливает выбор не сиюминутных решений, а тех, которых требует весь процесс исторического развития; этот выбор нельзя предать, его не могут изменить ярость и горечь, его не может уничтожить чувство одиночества или сознание собственной исключительности. Приговор суда отнял у него возможность преподавать, он не только разрушил его счастливые и наполненные особым смыслом отношения с учениками, но и лишил его экономической независимости. Далее в письме: «Я желаю вам продолжать вашу работу, работать четко и страстно, как я пытался это делать. Из-за этого я предал интересы своего класса и то, что вы называете буржуазным воспитанием, и теперь те, кого я предал, отомстили мне самым безжалостным и ужасным образом. И я остался один на один со смертельной болезнью моего отца и страданиями матери». Маутино, которому было адресовано это письмо, хорошо знал Пьера Паоло. Он был партийным деятелем и журналистом, во время войны был в партизанах под именем Карлино. Это он объяснил Пьеру Паоло, что произошло в Порцусе, рассказал о двойственном положении коммунистов и о роковом стечении обстоятельств. Узнав о том, что он тоже проголосовал за решение исключить его из партии, Пьер Паоло почувствовал, что его предал и товарищ по партии, и близкий друг. 225 Казалось, рухнуло все. Продавцы газет кричали об этой новости на площади. Карл Альберт вернулся домой с газетой в руках. Пьер Паоло и так уже жил в постоянной тревоге, ожидая самого худшего. И это самое худшее было теперь в двух шагах от него. Карл Альберт в ярости прокричал в лицо Сюзанне, что он думает о сыне. Сюзанна заперлась в своей комнате. Пьер Паоло вместе с Нико отправился на велосипеде в Сан Вито аль Тальяменто, чтобы найти адвоката. Потом Нико, тетя Джаннина и адвокат поговорили с родителями мальчиков. Друзья тоже оказали поддержку: Пьер Паоло позвонил Дзигаине, Дзигаина приехал на поезде из Вилла Вичентина, в окрестностях Червиньяно. Он увидел, что семья погружена в молчание и глубоко потрясена. Пьер Паоло сказал, что хотел бы покончить с собой. В письме к Маутино написано: «Вчера моя мать чуть не сошла с ума, мой отец находится в очень тяжелом состоянии, я слышал, как он плакал и стонал всю ночь». Начались долгие дни отчаяния. Проходили недели, трагедия постепенно теряла свою яркость и отчетливость, на первый план выходили ее тяжелые последствия – отсутствие работы, невозможность найти частные уроки. На Пьера Паоло поставлено клеймо: он растлитель несовершеннолетних. В глазах общественного мнения он «другой», Фриули внезапно стал для него чужим, враждебным. «Враг» приобрел вполне осязаемый вид. Разве ты думала, что мир, чьим слепым и влюбленным сыном я являюсь, совсем не приносит радости твоему сыну, мечтателю, вооруженному 226 добротой, напротив, этот мир – древнее владение чужих, которые превращают жизнь в тревожное изгнание? Это несколько терцин из «Открытия Маркса», последней части «Соловья»; они относятся к 1949 году и посвящены матери. Пьер Паоло теперь живет на «чужой» земле, в «изгнании». Нравственные условности жестоки, они мощнее и крепче радостной и абстрактной силы литературы. Карл Альберт – ярый приверженец этих условностей, самых ретроградных и мрачных. Его болезнь после того оскорбления, которое, как он считает, нанес ему сын, прогрессирует. Жизнь дома превратилась в ад. Дни идут один за другим, не видно никакого просвета в мрачной череде будней. Безденежье стало хроническим, нужно принимать какое-нибудь решение. «Зимой 1949 <…> года мы с мамой бежали в Рим, как в романе».4 Роман. Решение было принято в тайне от Карла Альберта. Он принял это решение и сообщил о нем Нико и Дзигаине, занял денег у кого-то из друзей. Рано утром, когда небо еще было темным, а поля были покрыты изморозью, они первым поездом уехали на юг. В Риме живет дядя Джино, он им поможет. Сюзанна взяла с собой свои украшения, только потом оказалось, что их цена смехотворна. Позднее Пьер Паоло признается, что отъезд принес ему облегчение, он был почти счастлив: ему удалось вырвать мать из ада Казарсы, оторвать ее от отца. Мембрана Фриули, превратившаяся в клетку, во что-то вроде неотвязной привычки, была разорвана. 227 Решение это созревало медленно. В письме к Сильване Маури, написанном в это время, Пазолини писал: «Я уеду. Куда? В Рим, может быть, во Флоренцию, если дело примет определенный оборот, может, даже и в Ливан… Я постепенно схожу с ума, этакий Рембо, лишенный таланта». «Рембо, лишенный таланта» уезжал в Рим, когда на небе занималась печальная зимняя заря. У него тоже было cœur supplicié*: он тоже мог горько и жестоко петь: «Mon triste cœur bave à la poupe**». И еще: «Il s’agit d’arriver à l’inconnu par le déréglement de tous les sens»***. Уезжая, он оборвал все связи. Он оставил девушку, почти невесту. Его всегда мучила двойственность и противоречивость чувств, в последний год он ухаживал за молоденькой учительницей из Сан Вито. Ее звали Мария. В его бумагах сохранилась записка, подписанная «Мария», даты нет. Девушка приглашает его на вечер, организованный Ассоциацией рабочих. Она хочет потанцевать с ним румбу. «Я научилась танцевать, но, знаете, еще не очень хорошо. Я бы хотела, чтобы вы меня немного поучили, вы танцуете лучше всех, может, и я у вас научусь». Меланхолический взгляд, круглое лицо: фотографии тех лет объясняют, что он нравился девушкам, они даже писали ему такие записки. Была помолвка с Марией. Нико пришлось пойти к ней и объяснить, что произошло. Девушка расплакалась. Она была маленького роста, изящная, они были бы прекрасной парой – все так говорили. Но фриульский эпос был завершен навсегда. * Измученное пытками сердце (франц.) ** Слюной тоски исходит сердце (франц.) *** Понять непознанное через разнузданность всех чувств (франц.) 228 Затмение Фриули Только в последний год своей жизни Пазолини вернется во Фриули своей юности. Он снова вернется, через затеянную дискуссию об антропологическом исчезновении крестьянской Италии, через язык «малой родины», «родной» язык, к старым стихам сборника «Лучшие из молодых». Он напишет сухие, горькие и безжалостные стихи для книги «Новая молодежь». Фриули останется и в «исторических» поэмах сборника «Романсеро» (1953), и в «Прахе Грамши», и в «Религии моего времени», и в тексте трагедии, навеянной смертью Гвидо. И всегда будет местом, связанным с одиночеством и отчаянием: ⟨…⟩ Я проживал часы самого прекрасного времени, отпущенного человеку, весь мой день в юности был полон любви, и сладость этой любви до сих пор вызывает у меня слезы… Я жил среди книг, среди светло-голубых цветов в высокой жесткой траве. Я приносил Христу всю мою невинность и мою кровь.5 Пазолини отторгал от себя Фриули и вместе с тем знал, что именно это место воплощало для него его целостную сущность. Он физически отказывался от этого места, хотя сам этот отказ оставался для него болезненной страницей его памяти. В нескольких письмах, написанных из Рима, начиная с 1950 года, Тонути Спаньолу, отчетливо прослеживается эта болезненность. 229 Кто знает, сколько ⟨…⟩ нам еще осталось общаться. Твоя жизнь сверкает для меня всеми оттенками юности: ты в самом расцвете сил, дорогой мой Тонути. Лыжи, контрабанда, мотоцикл (и девушки, я думаю). Моя жизнь не поддается такому краткому описанию, еще сложнее найти для ее описания веселые и радостные слова: она такая огромная, безликая, в ней есть и хорошее, и плохое, в общем, она немного похожа на Рим. ⟨…⟩ Я тебе сейчас скажу одну вещь. Из-за этого я никогда не смогу забыть тебя, ты всегда будешь в глубине моей памяти, ты станешь одним из смыслов моего существования. ⟨…⟩ Нет ничего такого, за что я был бы так благодарен жизни, как за то, что любил тебя. Это слова 1950 года, может быть, 1951: все уже ушло в прошлое, с которым осталась только одна связующая нить – счастливое воспоминание, но жизнь становится жестокой. 25 сентября 1955 года (Тонути продолжал писать ему и присылать свои стихи, Пьер Паоло посоветовал опубликовать их, написал, что упомянул его в предисловии к «Антологии диалектальной поэзии») в записке сказано: В начале августа прошлого года я был проездом в Казарсе. На этот раз она произвела на меня не такое грустное впечатление; мне кажется, что там все давно уже погрузилось в печаль, но в этой печали постепенно начинает вырастать древняя радость, почти забытая. Какого дивного зеленого цвета наши поля, какой свежий воздух; может быть, мы когда-нибудь туда вернемся, а, Тонути? Воспоминания делаются все более туманными. В очень коротком письме, отправленном 19 декабря того же 1955 года Чезаре Бортотто, Пазолини написал: 230 К моему большому удовольствию, ты время от времени даешь о себе знать, и тогда дуновение далекого 1943 года касается моей памяти и оживляет воспоминания о той ужасной и всеразрушающей атмосфере. Ужасная и всеразрушающая атмосфера, радость прошлых лет стали полузабытыми, они питают лирическое воображение, но вновь пережить все это невозможно. Там все «погрузилось в печаль». 5 октября 1959 года, снова из Рима: Дорогой Тонути, передо мной на столе лежит твоя пасхальная поздравительная открытка. Мне очень стыдно, что я столько времени не отвечал тебе, но даже если не принимать во внимание, что я веду очень напряженную жизнь, сам факт того, что я должен написать тебе, меня тяготит и тревожит и ты прекрасно понимаешь почему. Это наша дружба, те лета и зимы, ранняя юность, те чувства, почти абсолютные, – все это было, возможно, временем самых высоких чувств в моей жизни. Прости мне это невежливое молчание, это просто страх обернуться назад. Тонути совсем другой: он стал мужчиной, служил в армии, встретил девушку, женился, работает. Из-за этого Пьеру Паоло еще более трудно и страшно «оглянуться назад». Этот страх, несомненно, живет в нем, он сумел сказать о нем словами. За десять лет примитивный отказ от прошлого превратился в чувство страха: «время самых высоких чувств» осталось в прошлом, замкнутое, непроницаемое. Поэзия исчезла из его жизни; настоящее жестоко, очень жестоко. В письме от 25 сентября 1955 года было также написано: 231 Здесь, в Риме, жизнь жестока. Если ты не будешь тверд, упорен, готов к борьбе, тебе не удастся выжить. Мне кажется сном, что у меня были дни, недели, месяцы, когда у меня не было других занятий, кроме игры в футбол или танцев во время сельского праздника. В общем, изменилось нравственное содержание жизни Пазолини. Он полностью отказался от Фриули: родная земля предала его и отвергла. Теперь перед ним только творчество. Стихи и роман, листочки веленевой бумаги, бесконечные исправления карандашом. Фриульские стихи будут собраны в 1954 году под названием «Лучшие из молодых». Он выберет наиболее удавшиеся стихотворения, тщательно исправит все выражения, выстроит их безупречно с точки зрения грамматики. Они приобретут оттенок сожаления (само название, взятое из стихотворения «Черное знамя», можно рассматривать как посвящение Сопротивлению вообще и Гвидо в частности).6 В своем творчестве он постепенно отходил от фриульского диалекта и стал писать по-итальянски. В том же 1954 году он опубликовал небольшой сборник «Из дневника (1946–1947)». В нем 16 стихотворений и небольшая поэма «Европа». В 1958 году выходит «Соловей католической церкви». В это время он уже известен как автор «Праха Грамши». А в 1962 был опубликован роман «Мечта о чем-то». Когда речь идет о таком писателе, как Пазолини, кажется, что каждое произведение создает для него страницу биографии. Эти две книги могли бы быть опубликованы и после его смерти, поскольку подводят некий итог, в них слышится эхо его борьбы за существование. Их элегический тон был порожден «страхом оглянуться назад». 232 Соловей Ночная песня, мед сердца, звук бегущей воды, «ангельская» поэзия, «смесь камня и глины». «Соловей католической церкви» – это исключительная книга. Ее трудно считать принадлежащей к какой-либо школе, к какому-либо стилю, ее можно объяснить только особой психологией автора, мифами, которые вдохновляли его и продиктовали ему эти строки. В «Дневниках» Пазолини, написанных между 1943 и 1949 годами, уже сформулированы и обозначены все основные идеи этой книги. Пьер Паоло рассылал большинство из составивших ее стихотворений на разные литературные конкурсы. Так, «Италия» была послана Джачинто Спаньолетти, который включил ее в свою «Антологию современной итальянской поэзии». Некоторые страницы из первого раздела были опубликованы на фриульском языке в «Стролигуте», соответственно, в апреле 1944 и в августе 1945 года. «Соловей католической церкви» отобрал и собрал вместе всю поэтическую юность Пазолини, в нем нашла свое воплощение деревенская тайна и дионисийская безудержность. Но это не книга о юности. Пение начинается приглушенно, под сурдину: тает заря, растворяются сумерки, «дни летят, как тени». Короткие разговоры стариков и юношей, тихий шепот посреди полей. Христианская экзальтация мессы и воскресная радость. Эпизоды жизни с любовью представлены в их естественном течении. Все это видят блестящие глаза мальчика. Мать – зеница его очей. Действие разворачивается всегда в полях, у свежих родников, на краю канавы, заросшей примулами. После прелюдии ранней юности следует завязка, конфликт. Это конфликт между грехом и спасением, самовлюб233 ленностью и чувством божественного, нападками «врага» и необходимостью сублимации. Христианская вера здесь присутствует постоянно: она ищет истину во плоти, страдает от того, что находится в жестких рамках доктрины. Христианское чувство совпадает с природой, а природа находит свое выражение в чувственности. Грех является одновременно и благом, он же вызывает и боль и, может быть, даже является выражением свободы. Секс становится неиссякаемым источником жизненных сил, а сама жизнь – это невинная красота. Малыш, ты чудовище, ты мучаешься угрызениями совести за то, что делаешь в семье, и прячешься за надуманными преградами. Ты все прекрасно знаешь (мне весело на тебя смотреть), ты все понимаешь и, тем не менее, не пытаешься сдержаться, для тебя все доступно и открыто. Трудность, экзальтированная суровость этой поэзии заключается в игре слов, в намеренной двусмысленности выражений. «Испорченная невинность», «грязь» и «слоновая кость», среди которых освещенное светом лампы обнаженное тело кажется мистическим подношением, видением, символом жертвы. Пьетро Читати написал, что «в “Соловье Католической церкви” Пазолини предался психологической оргии»7. Это оргия в одиночестве, при неясном свете, она происходит в замкнутом пространстве исповедальни. Поэт – священник, сам себе исповедующий свои грехи и оправдывающий самого себя. Ему удается посмотреть на свою обнаженную грешную плоть как бы снаружи, окрасить ее грустью, ме234 ланхолией, заставить собственную плоть сверкать, как слоновая кость. «Психологическая оргия» (которая отрицает существование а-психологизма, присущего двадцатому веку, у таких авторов как Элиот, Монтале, и обнажает до живой плоти «человека страдающего», созданного Унгаретти) нацелена на трансформацию «я», хочет превратить лихорадочное желание греха (или того, что ощущается как грех) в самую настоящую жизнь. Я спокоен спокойствием смерти: я смотрю на мое ложе, которое ждет и хочет принять мои члены, и на зеркало, которое отражает мои мысли. Я не могу победить холод тревоги, не могу смыть его слезами ⟨…⟩ Но есть возможность избавления от этих сладчайших мук. Поэт, написавший «Италию», уже ощущает гражданский подъем, который был свойственен поэзии Фосколо. В строфах этого стихотворения звучат слова радостной песни времени становления: это Италия празднует победу Сопротивления. Италия возрождалась с рассветом, девственная земля благоухала ирисами и цикорием, она совершенно не желала понимать язык, на котором я, завидуя утреннему свету, хотел поговорить с ее душой. В порыве оптимизма этот драгоценный сборник, постоянно раскачивающийся, как маятник, между противоположными смыслами слов, между изысканным и лихорадоч235 ным декадентизмом, наконец, успокаивается, находит точку опоры.. «Политическая» перспектива закрывает проходы лабиринта декаданса, дает отпущение всех грехов. Эта политическая перспектива называется «Открытие Маркса». Грехи плоти, грехи разума – все поглощает жестокая нежность, чистая и трагическая. От участия в «Страстях Христовых» (такие описания как: «Христос ранен / фиалковая кровь / страдание в светлых / глазах христиан! / Распустившийся цветок / на далекой горе, / как мы можем / оплакивать тебя, о Христос?» – где отношения между Христом и его мучителями носят характер гомосексуального влечения или где появляется святой Иоанн – «нежный мальчик, / с легким телом / и светлыми кудряшками», – показывают, как хорошо усвоил поэт лекции профессора Роберто Лонги о «живописной манере итальянской поэзии»), от очень автобиографического описания участия в христианском таинстве Страстей Господних он приходит к пониманию превосходства разума и познанию истории, изучает труды Маркса. Это не просто чтение книг, это интенсивная практическая деятельность. Для него всегда было необходимо найти реальную, конкретную связь между плотью, чувством и жизнью крестьян. Ему было необходимо проникнуть в суть бытия, войти, если это вообще возможно, во взрослую жизнь. Тема перехода от Аркадии к Истории сжимает в кольцо разума поэзию «Соловья». Этот импульс направляет его к движению по бесконечной спирали. Поэтический канон Пазолини требует постоянного упражнения разума через поэтическую утонченную чувственность. Это самый главный вызов. Пазолини интуитивно понял, что только подоб236 ное упражнение может избавить его от противоречий, которые постоянно его мучили. Эта книга проникнута также беспредельным усилием познать судьбу. Можно было бы свести все к скандальному содержанию, абсолютно посредственному, можно найти в ней следы «порока», мучительный и нарочитый мазохизм автора. Но поэзия оказалась гораздо важнее обычной клинической картины душевного расстройства. Книга рассказывает о судьбе, которая обычно выпадает на долю любого поэта: он обречен идти по жизни смело и простодушно, идти до конца, не обращая внимания на боль и непристойности. Упражнение разума как завоевание области, подвластной Истории, может принять форму постоянного бега вперед. Греховный опыт, смятение перед лицом темных сил, которые овладевают сердцем, подталкивают Пазолини к утопическим идеям, к надежде на то, что только утопия может победить эти силы. Такое бегство вперед, однако, непоправимо привязывает его к постоянному любованию чистым и невинным прошлым. Может случиться так, что прошлое из-за своей «жестокой» невинности будет не только систематически обесценивать настоящее, но и разрушать и смешивать с прахом утопию. Этот риск всегда будет свойственен разуму Пазолини и его поэзии. Он никогда не будет отступать перед лицом этого риска, поскольку ему всегда будет хватать поэтической смелости. Но он сознавал, что за поэзию нужно заплатить дорогой ценой, иногда даже ценой собственного уничтожения. Все это в «Соловье католической церкви» переплетается с мягкостью юношеских иллюзий. «Запах ладана», «звон колоколов», свет, который «угасает в облаках», частота 237 повторения некоторых слов (тайна, очарование, смерть, плач, кровь, заря, зеркало, птичка и соловушка, грудь, лоно, губы, плоть, сердце) – все это позволяет говорить о сильном влиянии поэзии декаданса. Если прозрачные диалоги первой части книги напоминают Жида, его «Топи» или «Земные яства», то четверостишья с закрытой рифмой (А, В, В, А) второй части вызывают в памяти Верлена. Кажется, что автор «Соловья» постоянно твердит про себя эти строки из «Мудрости»: Ecoutez la chanson bien douce Qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère: Un frisson d’eau sur la mousse!* Пазолини говорил, что Верлен более велик, чем Рембо. Не случайно на титульной странице первой части книги кроме литургического стиха приведено и полустишие Верлена. Но присутствие Рембо тоже вполне ощутимо. Можно даже воспринимать весь сборник «Соловей» как подражание Рембо, как напевную вариацию «Предчувствия»: Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, Picoté par les blés, fouler l’herbe menue: Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue** ⟨…⟩. * Послушай нежной песни лепет. Она заплачет, утешая, Такая скромная, простая, Как ручейка над мхами трепет. (Перевод Ф. Сологуба). ** Глухими тропами, среди густой травы, Уйду бродить я голубыми вечерами; Коснется ветер непокрытой головы, И свежесть чувствовать я буду под ногами. (Перевод М. Кудинова.) 238 Вкус лирического восторга он мог почувствовать, читая Мачадо; но на страницах «Соловья» прочно обосновалась присущая Рембо экзальтация – как способ нивелировать (или театрализовать) собственное «я». Oisive jeunesse à tout asservie, par délicatesse j’ai perdu ma vie. Ah! Que le temps vienne où les coers s’éprennent. Je me suis dit: lasse, Et qu’on ne te voie ⟨…⟩* Но связь с Рембо не ограничивается стилистическим колдовством. В «Соловье» чрезмерная забота автора о форме является чем-то вроде способа укрыться в литературных формах от ловушек, которые строит жизнь своими губительными прелестями: Меня изгнали из-за глупости. Цветок запел и теперь молчать не может ⟨…⟩ И вот живое слово! Я ждал его. Я закрываю холодный текст, * Молодости праздной Неуемный пыл, С чувством сообразно Я себя сгубил. Время б наступило, Чтоб любовь царила! Сам себе сказал я: Хватит! Уходи! (Перевод М. Кудинова.) 239 из которого оно возникло, и возвращаюсь на мое распутье. Рембо и Верлен для молодого Пазолини больше чем учителя. – Они создатели особой духовной атмосферы. Они сообщники. Кроме Рембо и Верлена есть еще и Бодлер – поэт, увлечение которым основано на мучительном раздумье. Ум – это то божество, которое особо почитал Бодлер. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade; celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre ⟨…⟩* И еще: Sentiment de solitude, dès mon enfance. Malgré la famille – et au milieu des camarades, surtout – sentiment de destinée éternellement solitaire.** И, наконец: De l’Obsession, de la Possession, de la Prière et de la Foi. Dynamique morale de Jésus.8* * В каждом человеке всегда присутствует два одновременных стремления, одно к Богу, другое к Дьяволу. Стремление к Богу, или духовность, – это желание подняться как можно выше; а стремление к Дьяволу, или скотское начало, – это радость падения (франц.). ** Чувство одиночества, с детства. Несмотря на семью – и, особенно, среди одноклассников – чувство, что мне предначертано вечно быть одиноким (франц.). *** От одержимости, от обладания, от молитвы и от веры. Нравственная динамика Иисуса (франц.). 240 Хотя горькое, обостренное мироощущение денди Бодлера и пропущено через фильтр туманных и высоких образов «Соловья», оно все же ощутимо присутствует в тексте Пазолини. Напор Бодлера, так сказать, вывернут наизнанку: самовлюбленность может превратиться в мазохистское упоение. Мы будем принесены в жертву на кресте, на позорном столбе; в наших зрачках будет светиться дикая радость, мы выставим напоказ капли крови, стекающей с груди до колен. Безвольные, смешные, дрожащие от борьбы разума и страстей сердца, горящего огнем, мы будем свидетелями шумного скандала. Предвидение? Искусство предсказывает события реальной жизни? Яростное желание следовать своей судьбе, предсказанной гороскопом? На подобные вопросы невозможно найти сколько-нибудь обоснованный ответ. Можно высказать предположение, что maudit* дендизм превратился у Пазолини в потребность присутствовать при «шумных скандалах». В этот момент скандал – только предположение, вполне осознанное, совершенно не свойственное двадцатому веку, это «психологическая оргия» в стихах: это скандал, который может произойти внутри окололитературных кругов. С другой стороны, для этих кругов скандальным является и «Открытие Маркса», стремление уйти в гавань разума, который рассматривается как «восхитительный дар». Поэт, который на школьной и на студенческой скамье обожал свет и тени терцин Уго Фосколо – * Проклятый (франц.). 241 И омывал слезами кровоточащую грудь томного юноши ⟨…⟩ – мог бы прошептать матери: ⟨…⟩ Ты посвятила меня в тайну пола, раскрыв суть разумного Создания. Так он мог бы открыть наряду с силой разума разрушительную силу христианского смирения; он бы научился постигать сладостное воздержание святых, которые готовы обнять весь мир. Этому он мог бы противопоставить разработку собственной идеологии, страстную борьбу левых, которая и была страстью, похожей на страсть Рембо. «Рембо без таланта», «бедный денди», Пазолини уже готов к покорению следующей вершины: «Прах Грамши» станет образцом поэзии другого «скандала»: Скандально противоречить самому себе, быть с тобой и против тебя; с тобой в сердце, на свету, против тебя в мрачных потемках ⟨…⟩ В пучке веток с распускающимися почками, который представляют собой его «Дневники», цветок, заключенный в «Соловье», объединил, как в драгоценном гербе, некоторые символы его будущего искусства. Если счастливая эротика «Возлюбленного моего» полностью расцветет в фильме «Тысяча и одна ночь»; если декадентская и рациональная «тайна» «Распятия» предвосхищает декадентскую и рациональную сложность «Овечьего сыра»; если нравственная динамика Христа, Бога и Дьявола появится на страницах «Теоремы», то взгляд нахмурившегося Христа: В какие выжженные поля, далекие от него, устремлен его взгляд?9 – это тот же взгляд, который Пазолини запечатлел на пленке «Евангелия от Матфея». Мрачный Рембо фриульской провинции, уезжая с матерью зимним утром в Рим, «как в романе», увозил с собой неисчерпаемый запас творческой энергии. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТКРЫТИЕ РИМА Восхитительная монотонность тайны Рим, 1950 год. «Как в романе», «Рембо без таланта» приехал с матерью в столицу, готовый начать совершенно новую жизнь. И она действительно была новой. Как и художники эпохи Возрождения, маньеристы, великий Караваджо, которые из маленьких городков Паданской равнины приезжали в Рим, чтобы познать там секреты стиля и тайны жизни, услышать оглушающий шум действительности, Пазолини в Риме узнал новую любовь и был ею поражен и побежден. Это Чезаре Гарболи провел параллель между «всем подрывным римским опытом Пазолини» и Караваджо. Посредником был Роберто Лонги. Именно Лонги в 1951 году в Милане организовал большую выставку произведений Караваджо, которая тоже произвела впечатление разорвавшейся бомбы. «Если прочитать его произведения, – пишет Гарболи, – то покажется, что Пазолини творил не просто 247 как двойник Караваджо, а как двойник Караваджо римского периода, каким его представил Лонги».1 Полное погружение в огромное чрево Рима. Маленькие Вакхи и святые Иоанны, которые в жизни просто воришки или «мальчики» в остериях*; Мадонна в сцене успения – беременная проститутка, утонувшая в реке; многочисленные Магдалины – чочары**; которые приходят рано утром в город, чтобы продать на рынке свежий творог. Пазолини тоже совершил это погружение, оно было жизнеутверждающим, замечательным, творческим. Это было возрождение. Обратим внимание на даты. Первая часть «Шпаны» была опубликована в журнале «Парагоне» (смотрите, какое совпадение: этот журнал был создан Роберто Лонги), в июньском номере за 1951 год. Это первая глава плутовского романа «Ферробедо». По сравнению с окончательным текстом там есть небольшие отличия, и все же мы читаем: «Был жаркий июльский день. Лючá должен был в первый раз пойти к причастию и получить миропомазание» и так далее. Так и хочется сказать, что все сразу решится, найдет свое воплощение в слове. Лучá, или Ричетто***, совсем не нужно было превращаться в маленького Вакха с венком из виноградных листьев: он и был им, пластическим воплощением мифа. В самом его теле переплелись плотская сущность и культура. Роберто Лонги, которого Пазолини еще в Болонье попросил стать его научным руководителем при написании дипломной работы, не выразил никакого энтузиазма. Этот гениальный юноша казался ему мало способным изучать * Остерия – тип итальянского «домашнего» ресторана. ** Чочара – крестьянка, жительница области к юго-востоку от Рима. *** Riccetto – главный герой романа «Шпана». 248 историю искусств. Несмотря на это, он все-таки взялся им руководить. Но война все изменила. Вокализм и чувство цвета, способность ценить диалект как прямую связь с действительностью помогли Пазолини достичь в поэзии того, чего ему не удалось сделать в истории искусств. Молодой фриульский поэт благодаря кризису, вызванному судебным разбирательством в Рамушелло, открыл в себе маньериста и реалиста одновременно и смог, так сказать, вплотную приблизиться к Ричетто, сойтись с ним врукопашную. Это была любовная схватка, к которой никого не надо было подталкивать. В Казарсе он чувствовал, что «грешит». В Риме он верит, «что больше не грешен». Судьба избавила его от кошмара – кошмара, который пережил по его воле дон Паоло в первой редакции «Мечты о чем-то». За это освобождение он дорого заплатил: линчевание, потом бегство, нищета. И еще одно: разрушение образа матери. По приезде в Рим Сюзанна и Пьер Паоло обратились за помощью к дяде Джино. Дядя Джино сделал что мог. Он снял им жилье на площади Костагути, в гетто. Для Пьера Паоло он снял комнату, а Сюзанну устроил домработницей в семью архитектора Педикони. Таким образом, она могла немного зарабатывать и жить рядом с сыном, тоже на площади Костагути. Ей нужно было гулять с ребенком, и в этом Пьер Паоло мог ей помогать.2 Все это было причиной бесконечных терзаний, вызывало горькое чувство одиночества. Но в этой глубокой горечи душа находила возможность счастья – абсолютную эротическую свободу. В письмах, которые он пишет из Рима Сильване Маури, возникает образ Пьера Паоло, сломленного судьбой, как 249 мы уже видели. Но там появляется и другой Пьер Паоло, тот, который принимает собственную гомосексуальность, хотя и с трудом. И тот и другой образы достоверны. Он мог надеяться «выздороветь». Но эта надежда лежала на поверхности его сознания, как пленка на поверхности воды, скрывающая глубину. Правда слов, написанных Сильване, скрывала другую истину, о которой говорят образы Арнардо, Лучá, Бьондоморо* и многих других, которые стали прообразами Ричетто. Тот, кто начинает писать «Ragazzi de vita»** (таким было первое название романа), пишет в состоянии покоя и умиротворенности, в полном ощущении счастья. Ричетто – и множество других «рисковых» парней – одержим тем же демоном, что и автор. А сам автор «ублажает» своего демона, доставляет ему моральное удовлетворение, как мы читаем в письмах к Сильване и в стихах в дневнике, который он вел в Риме в 1950 году.3 Тот, кто грешил, ощущая привкус линчевания, всегда чист, если не научился ненавидеть, и в его глазах еще разгорается свет, исполненный любви и мужества. Психологическое раздвоение позволяет Пазолини выйти на новый экспрессивный уровень: он приближается к новой, неожиданной эротической реальности через лингвистический мимезис. Поэт, который пишет стихи дневника «Рим, 1950 год», тщательно работает над старинным одиннадцатисложным стихом. Он убежден, что Поэзия после Рембо умерла. Пи* Герои рассказов Пазолини 1950 года. ** Ragazzi di vita (диалект.) – шпана. 250 сатель, который создает Ричетто, пользуется языком, который, по его мнению, соответствует духу Истории. В Риме Пьер Паоло живет своими выкристаллизовавшимися гомосексуальными наклонностями и вынашивает идеи «Открытия Маркса». Перед ним открываются новые горизонты: «африканский» Рим. И он стремится к нему. Итак, можно задать себе вопрос: разве трагедия Казарсы и последовавшее за ней бегство хоть немного успокоили нравственные волнения и томление плоти, которые испытывал автор «Соловья»? В «Риме, 1950 год» читаем: Взрослый? Я им никогда не стану, никогда, как бытие, которое не может созреть – и остается всегда зеленым, переходя от одного прекрасного дня к другому – я могу только оставаться верным поразительно прекрасной монотонности тайны. Эта непреклонность, которую он водружает перед собой, как знамя, еще больше укрепляет Пазолини-человека в его верности собственным переживаниям, собственному прошлому. Сюзанна вынуждена «пойти в услужение», но это социальное падение с лихвой вознаграждается. В стихах «Рима, 1950 год» далее сказано: Вот почему в счастье я не покинут – вот почему в моих грехах я никогда не ощущал подлинного раскаяния. В диалектике бессознательного «подлинное раскаяние» полностью уничтожило бы чувство вины, перевело его на 251 язык разума. Пазолини не готов принять подобное решение, он переживает «поразительно прекрасную монотонность тайны», в которой он Всегда сохраняет верность истоку, всегда остается тем, что он есть. Но это то, что «не в силах выразить», этот «исток всего» вмещает все: и грех, и отсутствие греха, и чувство социального падения, которое терзает Сюзанну, и счастье от того, что она наконец принадлежит только ему одному, тревогу из-за пережитого страдания и ее противоположность – плодотворное и радостное удивление тому, что он может свободно выражать свои чувства. В Риме легко найти гомосексуальных партнеров – мальчики из низших кругов общества всегда готовы предоставить свое тело. Однако нужно хоть немного денег. Пьер Паоло пишет своему двоюродному брату Нико в Казарсу. Нико едет в Венецию и добывает деньги, продав латинских и греческих классиков, изданных Тебнером, и итальянских, издания Латерца. Эти книги Пьер Паоло собирал все предшествующие годы. «Жестокая жизнь»* набирает обороты. Недопустимое существование В первые римские месяцы ему приходится очень тяжело. Трудно найти работу. Пьер Паоло обращается к писателям, с которыми до тех пор поддерживал переписку, например, к Джорджо Капрони. Но Капрони не знает, какую работу можно ему предложить. Сильвана Маури ищет для него частные уроки. Пьеру Паоло удается свести концы с концами благодаря журна* «Жестокая жизнь» – роман П. П. Пазолини (1959). 252 листике. Он правит заметки, пишет для второстепенных изданий, в основном поддерживающих правительство. В этом ему очень помогло исключение из партии. 9 марта 1950 года в газете «Либерта д’Италия», в рубрике, посвященной литературе и искусству, он публикует свою первую статью, написанную в Риме. Это рецензия на «Сказки о диктатуре» Леонардо Шаши. 12 марта статьей под названием «Римский диалект 1950 года» (это рецензия на сборник диалектальных стихов Марио дель Арко) начинается его сотрудничество с «Квотидьяно», изданием римской курии. В нем он опубликует кроме статей на литературные темы несколько своих очерков под псевдонимом Паоло Амари. Он пишет для «Пополо ди Рома», для неаполитанской «Джорнале», для генуэзской «Лаворо». Публикует несколько рассказов в «Мондо». Сотрудничает, как и в предыдущие годы, с «Фьера леттерариа». Очень часто на третьей странице газет, посвященной вопросам культуры, он публикует свои рассказы. Пьер Паоло достал «из ящика» несколько глав «Возлюбленного моего» («Адриатическое приключение» в номере «Квотидьяно» от 31 мая 1950) и несколько глав из наброска, который потом получит название «Мечта о чем-то». Рим его уже покорил. «Рим, оставаясь вечным городом, – самый современный город на свете. Он современный, потому что он всегда идет в ногу со временем, он впитывает время» (так сказано в «Римском диалекте 1950 года»). Пазолини начинает писать о «шпане», в газетах появляются его заметки и очерки. В них диалектальные выражения проскальзывают еще только иногда в диалогах. В очерке «Мальчик и Трастевере»* («Либерта д’Италия», 5 июня 1950 года): «Что касается меня, то мне бы очень * Народный район Рима. 253 хотелось узнать, каким образом устроено его сердце, как в нем уживается весь Трастевере, бесформенный, разрушающий, порочный… Где заканчивается Трастевере и где начинается мальчик?» Литературная гомосексуальность «Возлюбленного моего», кажется, становится суровой и настоящей в Риме, где так много маленьких киношек – они в каждом квартале, – где люди гроздьями свисают из переполненных автобусов и трамваев, где постоянно звучат крики бродячих торговцев, где безудержно веселятся на улицах младшие братья чистильщиков обуви. Фриульский мир и мир римский смешались, растворились один в другом, по крайней мере, в литературе. Если жизнь в Риме послужила для Пьера Паоло неким алхимическим катализатором чувств, то в литературе он занят более тонкой работой: он аккуратно штопает прорехи, которые открылись в ткани его повествований. Между фриульским и римским миром могут произойти и отдельные перестановки и замены, как, например, в рассказе «Ласточка Пакера» («Квотидьяно», 6 сентября 1950). В финале этого рассказа, действие которого происходит на холмах Кордовано, происходит сцена, похожая на финальную сцену рассказа «Ферробедо», который появился, как уже было сказано, в «Парагоне» год спустя. Вот что мы читаем в «Квотидьяно»: Когда Эрио приблизился к ласточке, Велино увидел, что он протягивает к ней руку, чтобы схватить ее, но каждый раз, как только он до нее дотрагивался, он руку отдергивал, как будто боялся чего-то. «Ты чего? – закричал Велино. – Почему ты ее не берешь?» – «Она клюется!» – ответил Эрио. Велино засмеялся, слез с тополя и подошел побли254 же. Теперь он стоял в воде. А Эрио, наконец, решился схватить ласточку и теперь потихоньку плыл к берегу; как только он доплыл, Велино взял у него из рук ласточку. «Зачем ты полез ее спасать? – спросил Эрио. – Было бы здорово посмотреть, как она тонет». Велино не ответил, он держал ласточку в руках и смотрел на нее. «Она маленькая, – сказал он. – Давай оставим ее, пусть посохнет». Она высохла очень быстро. Через пять минут она уже кружилась в небе Паера со своими товарками, Эрио уже не мог отличить ее от остальных. А вот текст «Ферробедо»:4 Лучá удалялся, сильно загребая воду. Они увидели, как он становится все меньше и меньше, подплывает к ласточке по почти неподвижной воде и пытается ее схватить. «Эй, Лучá! – крикнул Марче во всю глотку. – Ты чего ее не берешь?» Должно быть, Лучá услышал его, потому что сразу послышался его голос: «Она клюется!» – «Смотри, заклюет до смерти!» – закричал, смеясь, Марче. Лучá попытался схватить ласточку, а она вырывалась, била крыльями. Течение относило их к сваям, там оно было очень сильным. «Эй, Лучá! – кричали друзья с лодки. – Брось! Оставь ее!» Но в эту минуту Лучано решился, схватил ласточку и поплыл к берегу, гребя одной рукой. «Давайте вернемся!» – сказал Марче тому, кто сидел на веслах. Они развернулись. Лучá поджидал их, сидя на грязной траве, с ласточкой в руках. «Ну, и на что ты ее спасал? – спросил Марчелло. – Так было забавно смотреть, как она тонет!» Ричетто ответил не сразу. «Она промокла. Подождем, пока она обсохнет!» – сказал он немного спустя. Чтобы обсохнуть, ей понадобилось совсем немного времени. Через пять минут она уже летала со своими товарками над Тибром, и Ричетто уже не мог отличить ее от других. 255 Экспрессивное расширение текста разрушает идиллию «фриульского» варианта. Это вызвано не только римскими интонациями в разговоре героев. Эта «почти неподвижная вода», ласточка, которая вырывается и «бьет крыльями», «грязная трава» показывают, как один и тот же поэтический мир, вырванный из географического контекста, окрашенный новыми языковыми оттенками, подвергается драматической трансформации. Эти ребята, на которых мы сначала смотрим с милой и мягкой улыбкой, неожиданно оказываются освещены лучами света, который их отравляет, их маленькие мраморные торсы, вытащенные из грязи, кажутся напряженными, болезненными, анемичными; они похожи на маленьких зверьков. Пазолини пишет обо всем: об автобусах, которые проходят через центр от Монтеверде до вокзала Термини, о Красном кольце, об общественных туалетах на набережной Тибра, о продавцах жареных каштанов и мальчишках, играющих в футбол, о мальчишках, которые идут воровать, чтобы купить себе голубой свитер, выставленный на витрине, или спускаются под мост, чтобы предложить свое тело «гомику». А вокруг, как театральная декорация, раскинулся Рим, напоминающий картины великих итальянских маньеристов: развалины Колизея, Театр Марчелла, разрушающиеся дворцы времен короля Умберто с тяжелой лепниной, архитектура, превращающаяся в воспоминание об эпохе Возрождения. А небо внезапно озаряется непонятными вспышками, по ночам по нему скользят призраки и видения. «Они гуляли в Большом Цирке под овальным небом. На его металлической поверхности собирались красные и фиолетовые облака, они клубились над городом, а между ними пролетали тонкие, как ножи, тени белых облаков».5 256 Кажется, что Пьер Паоло пишет, не переводя дыхания, чтобы как можно лучше овладеть городом. От описания мелкой детали он переходит к переплетению улиц и переулков, потом его взгляд обращается на вытоптанные поля окраин. Солнце у него «блестящее и пенистое», волосы ребят «растрепаны совершенно диким образом, но в то же время очень живописно», мальчишки бегут, и «на их легких телах свободно болтаются заполненные сухим воздухом широкие штаны». Мир пронизан светом: «простые цвета, оттенки чистые, как будто извлеченные из радуги для какого-то оптического опыта, умы, искрящиеся, как сельтерская вода». Даже если это может показаться совсем не к месту, Пазолини вдруг вспоминает Шагала («Группы пассажиров в автобусе, совсем как у Шагала, развалины, магниевая вспышка, разделяющая пространство на кубы, сферы, – в общем, шедевр очаровательной абстракции»). Но Шагал действительно там присутствует, это не просто метафора: он художник вселенной, пойманной на лету, перекрашенной; а в толковании сновидений полет – это чистое воплощение эротики. Стиль Пазолини делается все более напыщенным, его ритм, выработанный в подражание классикам, сбивается. Оксюмороны, игра слов, основанная на двусмысленности, встречаются все чаще и чаще, заполняют текст. Самое высокое состояние экстаза сменяется едким сарказмом, полная идентификация с описываемыми объектами открывает возможность резкого отказа, язвительной резкости отторжения.6 Город, в основном принадлежащий эпохе барокко, кажется, поймал писателя в свои сети. Он его оглушает, овладевает им не столько благодаря беспорядочному движению улиц, кишащих людьми, которые постоянно громко пере257 ругиваются, сколько благодаря своему собственному стилю: завиткам и змейкам Борромини, мраморной переливчатости Бернини. Итак, Пазолини нужна работа, ему нужны друзья, его тревога не утихла, даже если Рим, даже если сама идея Рима способствовали его изменению. Он живет на площади Костагути в доме 14. Здесь, в комнате в квартире Кастальди, он останется до лета 1951 года. Его друзья – писатели, литераторы. Их круг постоянно расширяется. В Риме он познакомился с Джорджо Бассани. Написал ему записку, и Бассани ответил. Между ними завязались прочные интеллектуальные отношения. Как Пазолини, так и Бассани не находят себя в неореализме, не могут признать правомерным подчинение литературы политике. Но они отказываются от идеалов Сопротивления не поэтому. Демократия в культуре означает для обоих критическое переосмысление интеллектуальных процессов. Демократия, для обоих, – исторический урок, возможность дальнейшего познания для достижения свободы. Бассани был редактором журнала «Боттеге оскуре», посвященного иностранной литературе. Журнал этот основала и руководила им Маргарита Каэтани. Бассани представил Пазолини княгине Каэтани и предложил предоставить ему должность библиотекаря. Княгиня отказалась. Этот поэт, несмотря на всю его образованность, показался ей слишком молодым, слишком болезненным. Для «Боттеге оскуре» Пазолини написал «Беседующих» (теперь мы можем сказать, что этот текст – не что иное, как страстное и исполненное любви прощание с Фриули, в нем нет ни тени сожаления или печали), и журнал «Боттеге оскуре» его опубликовал. 258 Вельсо Муччи, Либеро Биджаретти, Энрико Фалькви – вот некоторые из писателей и литераторов, с которыми Пьер Паоло встречался в первые свои месяцы в Риме. Он переписывался с Джачинто Спаньолетти, Витторио Серени, Карло Бетокки. С Серени он познакомился на вручении премии «Свободная печать» в 1947 году. Он поддерживал с ним связь, имея в виду опубликовать в издательстве «Мондадори» сборник стихов «Соловей католической церкви». Серени работал в этом издательстве, он рецензировал рукописи. О сборнике Пазолини он дал очень трогательный отзыв, но ничем не помог. Тогда Пазолини попробовал обратиться в издательство «Бомпьяни», где работала Сильвана Маури. Но из этого тоже ничего не вышло. Легко понять, как важно для Пазолини было опубликовать свои произведения и добиться известности. Он посылал свои стихи в жюри различных конкурсов. Летом 1950 года «Завет Корана», небольшая поэма, вошедшая потом в сборник «Лучшие из молодых», получила вторую премию на конкурсе «Католика», премию за диалектальную поэзию (в жюри был Эдуардо де Филиппо). Премия была денежная, он получил пятьдесят тысяч лир. На следующий год его стихотворение о любви разделит премию «Семь звезд Синалуна». В 1952 году он снова разделит премию (все те же пятьдесят тысяч лир) на конкурсе «Четыре жанра» в Неаполе. Это была литературная премия, предназначенная для дебютантов. В тот год ее получил Леоне Пиччоне за работу о Павезе, а Пазолини был вторым со статьей об Унгаретти (ему с трудом удалось пристроить ее в журнал).7 Премию разделил с ним Франко Риццо, автор работы о Грамши и Джаиме Пинторе. В составе жюри были Гоффредо Беллончи, Джино Дориа, Джован 259 Батиста Анджолетти, Лучано Анчески, Марио Сансоне, Розарио Ассунто. Анджолетти после этого помог ему устроиться в литературную редакцию на радио. Пазолини рецензировал книги, придумывал лирические отступления. Это его сотрудничество с радио продолжалось до 1954 года. В этой редакции работали, кроме Анджолетти, Леоне Пиччоне и Джулио Каттанео. Был там и Гадда, там Пьер Паоло с ним и познакомился. Это для него было решающим знакомством. Видимо, Гадда заметил у Пазолини особенную чувствительность к языку и особое внимание ко всему, что с языком связано. Язык, сложная совокупность слов и выражений, становится той областью, в которой Пазолини оттачивает свой критический талант. И, несомненно, Гадда, который отличался тонким чувством юмора, прекрасный собеседник, немало сделал для развития этого таланта Пазолини. Я не думаю, что текст «Шпаны» чем-то обязан «Пренеприятнейшему происшествию на улице Мерулана»*. Диалект был для Пазолини, прежде всего, особым языком бедных, обласканных Богом. Для Гадды отказ от традиционной литературной лексики, широкое использование жаргона были способом показа действительности во всей ее полноте (если этот показ действительности потом оказывался неполным, если завершить его не представлялось возможным, если по мере своего осуществления он разрушал саму структуру, из которой возник, то это была уже чисто метафизическая проблема). Как бы то ни было, Пазолини чувствовал себя в интеллектуальном долгу перед Гадда, примерно так же, как он * «Пренеприятнейшее происшествие на улице Мерулана» – роман К. Э. Гадда (1948). 260 ощущал, что чем-то обязан Контини8 – настолько, что обычно соединял этих двух писателей вместе, в одно «созвездие». Среди новых друзей был и Аттилио Бертолуччи. Бертолуччи приехал в Рим, оставив семью на время в Парме, и стал работать над сценарием фильма. Он поселился вместе с Луиджи Малерба и Антонио Марки в доме на улице Тритоне. Он дружит с Бассани. Однажды утром Бассани приходит к нему вместе с темноволосым юношей в белом свитере. Это Пазолини. И с того дня началась его долгая дружба с Бертолуччи. Гибкое тело, игра в футбол на полях в предместьях, море в Остии летом. Пьер Паоло ведет здоровую жизнь, у него спортивный вид. Чуб темных волос, пробор. Он просит Малербу, который знаком с режиссерами, помочь ему найти работу в массовке в кино. Он член профсоюза и может спокойно подрабатывать. Когда речь идет о том, чтобы заработать на жизнь, он не чуждается никакого «ремесла». Любое «ремесло» может стать подспорьем. В письме в начале 1950 года к Сильване Оттьери, в том самом, в котором он ей пишет: «ты всегда была для меня женщиной, которую я мог бы любить, единственной, которая помогла мне понять, что такое женщина», он объясняет: «Моя будущая жизнь не будет связана с преподаванием в университете. На мне печать Рембо, Кампаны, Уайльда, хочу я этого или нет, принимают это другие или нет. Это очень неудобно, недопустимо, это раздражает, но это так. И я, как и ты, не подчинюсь».9 Это не католическое смирение, это ярость апостола Павла, ярость эту питает дух декадентского бунта. Его судьба 261 теперь уже определена: его эпос будет трагическим, судьба будет его постоянно провоцировать. Отец забыт и покинут; сын принял на себя перед лицом всего мира ответственность за собственные грехи. И поэтому он может позволить себе все – от общественных туалетов на набережной Тибра до членства в профсоюзе статистов. Сандро Пенна с удовольствием участвует во всяческих его предприятиях. Пенна ведет веселую жизнь; он беден, но это добровольная бедность, неизбежно царящая среди людей, близких к миру искусства, к художникам, – он живет, покупая картины или обмениваясь ими с другими такими же друзьями художников. Жизнь Пенны очень нестабильна, это «странная радость жить», не особенно задумываясь над происходящим. Мальчики, окраины, теплое солнце римских зим составляют неотъемлемую часть его картины жизни. И Пазолини идет с ним рядом по этой жизни. Становится теплее, они купаются в Тибре, в знаменитых купальнях у Замка Святого Ангела. Это место пользуется в окрестных кварталах славой места сборищ «шпаны», которая еще не знает, что она, собственно, «шпана». Это особенно счастливый период его жизни: он беден и беззаботен. С Пенной у него завяжется соревнование: кому удастся «сделать» больше мальчиков. Пазолини составлял длинные списки, охотно зачитывал их вслух, ему доставляло удовольствие слышать ироничные замечания, вроде «сколько?», «где?» и «неужели столько?». Пьер Паоло не вдавался в детали: он относился ко всему весело, для него это была забавная детская игра, ему нравилось сбивать друзей с толку и разжигать их любопытство, которое он не спешил удовлетворить. Он провоцировал Гадда, и заинтересованный Гадда жадно слушал, потом ему надоедало, и он с присущей урожен262 цам Ломбардии вежливостью говорил: «Ну, это качественный петраркизм, вернее, количественный». Из критических очерков того периода стоит назвать рецензию на «Заметки» Пенны и на «Индейский вигвам» Бертолуччи. Здесь Пазолини уже проявляет достоинства зрелого критика, каким он станет позже:10 он обнажает видимые образы, чтобы раскрыть сложность или внутреннюю напряженность поэзии, которая на первый взгляд представляется банальной, повседневной, разговорной. Пенна по преимуществу «чистый» поэт, неужели у него нет никаких тайн? Чтобы понять это, нужно выйти из рамок заранее установленной схемы. «Это сама жизнь, с ее расточительством, ошибками, навязчивыми идеями, пустотой, унижениями, падениями, недомолвками. Она наполняет эти короткие, в несколько строчек, стихи, позволяет им звучать долго, уже за их собственными пределами».11 Все будущие критические статьи о творчестве Пенны будут основываться на этой идее, выдвинутой Пазолини. Бертолуччи, в свою очередь, можно было бы обвинить в «насмешке» над самим собой. Но на самом деле – нет, это «реакция любви, побежденной робостью»: «лучше всего было читать эти стихи с предубеждением, в том смысле, что за фактами, известными априори, следует их языковое воплощение, всегда неопределенное, размытое, измененное».12 Идеологический разлом, лингвистический разлом. Пазолини обогащает свое восприятие литературы. Не только Рим и его миф внесли свой вклад в то, что его жизненная позиция и чувства изменились. Пазолини живет и творит в непосредственном контакте с культурной тканью города, наблюдает, как в нее вплетаются нити новой литературы. 263 С 1948 года публиковалось первое издание «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши. Они выходили в издательстве «Эйнауди», редактором был Пальмиро Тольятти. Это были годы ждановского постановления: после нескольких лет относительной свободы и оживления Коммунистическая партия отошла на советские ортодоксальные позиции в области культуры. Но Тольятти – и это был очень умный его шаг – превратил то, что Грамши написал в фашистской тюрьме, в обязательный ориентир для идеологических исканий не только Коммунистической партии, но и всех итальянских левых сил. По сравнению с твердыми рамками «социалистического реализма» историческая и материалистическая критика Грамши могла восприниматься как нечто немного отличное, даже альтернативное. Грамши мог представлять собой некий continuum* как в свете марксистской диалектики, так и в свете идей Кроче, а ведь именно на идеях Кроче было воспитано поколение антифашистов. Проблемы были не только политическими или этикополитическими. Они касались и литературы. Грамши была очень близка идея «национальной народной литературы». Эта идея сглаживала и могла заменить жесткую ждановскую позицию, которая безраздельно царила в сталинской России в годы холодной войны. Например, в Италии практически не было дискуссии о «положительном герое», весьма популярной в советском литературоведении. В Италии наблюдался постоянно возрастающий интерес ко всему тому, что фашизм изгонял из культуры как маргинальное, чему отводилось место на периферии языка и культуры, хотя именно там и был слышен голос души народа. Именно эти идеи и привлекли Пазолини, сделали его почитателем Грамши. Более того, они усилили и объеди* Наличие, присутствие (лат). 264 нили все, что он сам узнал благодаря своему собственному опыту во Фриули и благодаря беседам с Контини (и с Гадда). Только необходимо отметить, что маргинальность для него (жаргон, мораль) была физической маргинальностью, маргинальностью, которая выходила за рамки марксистского понятия пролетариата. Маргинальной была фриульская литература, маргинальными были и пригороды Рима, Ричетто и его прототипы. Они-то и стали воплощением идеи «национальной народной литературы» в понимании Пазолини. Я спрашиваю себя: может быть, в этом писатель исходил из христианской концепции, из идеи о том, что пария, чем больше он является таковым, тем больше становится сосудом истины? Несомненно, это так. Но он исходил также и из романтической идеи, согласно которой пария имеет право преступать законы языка, морали и политики. Поэтому он высоко поднимал красный стяг революционной надежды, сжимая его в руках, точно так же, как его держали все, подобные ему, – «шпана». Быть коммунистом для Пазолини было абсолютно естественно. Он исключен из партии во Фриули. В Риме он ходит на вечеринки в «красных» предместьях. В Пьере Паоло, наряду с необходимостью иметь чисто человеческие отношения с «товарищами», жило убеждение, что капитализм разрушает и губит все, что в мире есть доброго и прекрасного. Он верил в коммунизм с силой веры, в которой были воплощены и инстинкт самосохранения, и желание выжить, как Кандид* Леонардо Шаши, для которого коммунизм «был как-то связан с любовью, даже с занятиями любовью». Рим, исторический материализм. Нить, которая связала гуманистическую традицию Юга с теорией Маркса. Эту линию культурной политики провозгласил Марио Аликата. * Герой романа Л. Шаши «Кандид, или Сон, приснившийся на Сицилии». 265 Пазолини были чужды идеи Кроче, однако он заинтересовался этой обширной областью знаний. Коммунистическая идеология предполагала не только жесткие философские рамки, но и политику поиска союзников. Антропология и лингвистика, психология и литература – все это входило в круг интересов Пазолини – могли прекрасно сойтись в целом мире, который открывала история, история могла поставить перед ним политические задачи. Марксизм тех лет требовал от Пазолини не прерывать его интеллектуальную связь с культурой народа. К этому же призывало и его изначально сельско-католическое мироощущение. Если в это время он и переживает внутренний конфликт – этот конфликт явно ощущается в «Шпане» и в «Жестокой жизни», – то он заключается в противоречии между марксистской идеей о том, что «простые люди» должны быть освобождены от их примитивной философии здравого смысла ради высшей идеи благоустройства мира, и католической идеей, что подобная философия представляет ценность сама по себе, как вечная истина.13 Рим, потребность описать его и познать его. Так рождается «Очерк об улице Тестаччо»,14 некоторые страницы которого Пазолини опубликовал в газете. Но этот очерк, относящийся к 1951 году, есть нечто большее, чем попытка познать римский культурный мир: в нем минимальными описательными средствами передано жадное желание рассказывать, которое постоянно возрастает, захватывая самого рассказчика. В общем, писатель отказывается от любых других целей, для него самое важное – с максимальной точностью передать реальную жизнь. Число друзей растет. Наступает момент, когда он получает постоянную работу. Зарплата более чем скромная: двад266 цать семь тысяч лир в месяц. Он преподает в частном учебном заведении в Чампино. Это средняя школа «Франческо Петрарка» на улице Аппия Пиньятелли. Это место нашел для него диалектальный поэт Витторио Клементе, служащий министерства. Для Пазолини это было спасением. Школа находилась совсем на окраине. Район этот представлял собой целую вселенную, открытую для любой партийной агитации и для любых проявлений насилия. Учениками Пазолини были ребята 11–13 лет, в основном из мелкобуржуазных семей, недавно приехавших в Рим. Среди них был и Винченцо Черами. Пазолини носил клетчатый рыжий пиджак. Он учил ребят правильно согласовывать прилагательные с существительными, учил их читать стихи. Сам читал им Унгаретти и Данте. Просил их собирать и записывать песни и частушки, которые их родители запомнили с детства, когда они жили в своих родных краях. Он пытался таким образом спасти их от безжалостной урбанизации, на которую они были обречены, от последствий войны, от которой они все пострадали. Из окон школы открывался вид на луга, на поля, на холмы Альбани. Пьер Паоло начал преподавать в последнюю четверть 1949–50 учебного года. Была весна. Он проработал в школе до конца 1952–53 учебного года и ушел перед переводными экзаменами. Зарплата позволила ему снять дом, Сюзанна могла больше не работать у Педикони. Дом находился на улице Тальери, возле моста Маммоло, неподалеку от Ребиббья. Это тоже была далекая окраина, в северо-восточной части города. А школа находилась в южной части, в предместьях Рима. Чтобы туда добраться, нужно было проделать очень 267 длинный путь: три пересадки на трамвае туда, три обратно. Но ничего другого не оставалось. Кроме того, дом у моста Маммоло был, можно сказать, недостроенным, его построили наполовину, потом не хватило денег. Жизнь в предместье была неустроенной. Это вызвало новое разочарование, которое заглушало эротическую радость открытия Рима. Рим его изменил: Рим сделал из меня язычника, я перестал верить в некоторые добродетели, которые типичны для жителей Севера, а в южном климате Рима кажутся бессмысленными. ⟨…⟩ Тот, кто по этнической традиции живет в мире, населенном экстравертами, чьи тайны, чьи привычки чувственны, а не сентиментальны, не может не интересоваться связями и отношениями как конкретной формой жизни, прожитой как бы вовне жизни общественной в прямом значении этого слова. ⟨…⟩ Вот уже два или три года я живу в мире, который имеет другой «вкус»: я – инородное тело, внедренное в этот мир, поэтому я стараюсь приспособиться, осознать, что происходит, а это требует много времени. Я по натуре немного герой Ибсена, немного лирический герой Пасколи, а здесь я оказался в мире, где царит физическая сила, как бы вывернутом наизнанку, в котором все разговаривают друг с другом как в одной из тех песен, которые я когда-то презирал, где нет абсолютно никаких чувств, а человек представлен таким чувственным, что теряет все человеческое и превращается в некий механизм; где нет никого, кто бы признавал христианские нормы поведения, был бы мягким, снисходительным и т.д. Здесь эгоизм становится законом, является признаком мужества. Приехав с «христианского» севера в «языческий» Рим, Пазолини почувствовал, что изменился. 268 Здесь люди гораздо больше живут страстями, иррациональным, связи между ними всегда очень четко определены, основаны на конкретных фактах. Здесь люди больше зависят от силы мускулов и от положения в обществе… Рим, окруженный адским кольцом предместий, в эти дни великолепен. Здесь постоянно тепло, мягкость климата немного сглаживает все, что в Риме чрезмерно, обнажает и подчеркивает все величие его форм. Это отрывки из письма Сильване Маури, написанного летом 1952 года – вспышка любви к Риму уступает место отстраненному размышлению, он как бы рассматривает его в подзорную трубу и видит, что Рим – это еще и ад.15 ⟨…⟩ настоящая, потрясающая римская весна, которая тебе знакома. Запах, как от раскаленного на солнце крыла автомобиля или металлического листа, смешивается с запахом мокрых тряпок, которые сушатся на солнце, ржавчины, горящих помоек. ⟨…⟩ Я совершенно один и слушаю по радио старую песенку («Вернись, моя малютка»). Это типичная воскресная передача. Неподалеку ребята играют в футбол. Впереди у меня целое воскресенье, без каких-либо планов и дел. Может быть, вечером пойду на танцы с Мариеллой. А может быть, не устою перед искушением пойти в Сеттекамини посмотреть матч юношеской команды, а потом напьюсь с футболистами. Это строчки из другого письма, тоже адресованного Сильване, написанного, вероятно, в 1953 году. Здесь снова звучит пронзительная тревога, безграничное одиночество: это уже не чувство тоски, свойственное всякому изгнаннику, это одержимость эросом, который теперь проявляется, ощущается постоянно, его не нужно скрывать, не нужно притворяться. 269 Прежде всего, не нужно притворяться перед отцом. Карл Альберт Пазолини приехал в Рим и явился в дом у моста Маммоло. Он вошел в дом, прошел по неоштукатуренным комнатам и не сказал ни слова ни сыну, ни жене об их бегстве из Казарсы, как будто речь шла об обычном переезде. Дома он молчал, но если оказывался в компании друзей своего сына, писателей и литераторов, болтал без умолку: казалось, он гордится успехами Пьера Паоло. Пьер Паоло начал работу над двумя антологиями – «Диалектальная поэзия двадцатого века» и «Итальянский канцоньере».16 Карл Альберт, который к тому времени еще не нашел работы, ходил в библиотеку, приносил ему книги, сдавал, был у него секретарем. «Полковник-болтовник» – так прозвал его Гадда, который не раз становился его жертвой. Карл Альберт говорил, а Гадда, всегда учтивый и вежливый, никак не мог прервать эту болтовню. Вот тогда-то и появилось это прозвище; автор «Происшествия» был на них большим мастером. Но «полковник-болтовник» оказался в Риме на закате своих дней. Он болтал в редкие минуты просветления. Чаще он молчал, все больше пил, всегда один и молча. У сына он не вызывал больше никаких трогательных детских воспоминаний. Сюзанна иногда приглашала друзей Пьера Паоло на обед. За столом собирались Бертолуччи, Капрони, Гадда. Они приносили бутылку «Фраскати». Сюзанна надеялась, что перемена обстановки изменит нетрадиционную ориентацию сына. Она надеялась на Мариеллу. Мариелла, о которой он упоминал в письме к Сильване, была высокой, привлекательной девушкой. Ее фамилия была Баудзано, она была подругой Дзигаины. Она увлекалась литературой, написала рецензию на «Стихи в Казарсе» в журнале «Пишущая Италия» и захотела познакомить270 ся с автором. Дзигаина сказал ей, что Пьер Паоло живет в Риме, и она отправилась к нему. В то время Пьер Паоло уже жил у моста Маммоло. Они стали близкими друзьями. Часто катались по Риму на трамвае, ходили на танцы, ездили на море. Часто вместе с ними появлялись Джордано Фальцони и Амелия Россели. Мариелла работала в Национальной библиотеке. Они встречались, как сказано в письме к Сильване, по воскресеньям. Пьер Паоло интересовался всем на свете, его бурная жизненная сила распространялась на все, что его окружало. Мариелле он вскружил голову. Однажды вечером, у нее дома, они обнялись, поцеловались. Пьер Паоло опрокинул ее на кровать, раздел. Мариелла позволила ему ласкать себя, но не отважилась ответить на его ласки. Его страсть казалась неподдельной. Но это было не все. На следующее утро по телефону Пьер Паоло сказал ей, что его смутили эти объятия. Больше об этом эпизоде они не говорили. Пьер Паоло рассказал Мариелле, что на море он один раз был с девушкой лет восемнадцати-девятнадцати, но никакого продолжения этих отношений не последовало. Когда они ходили на танцы, вокруг нее постоянно вертелись молодые люди, простые парни, напористые и грубые. Пьер Паоло говорил Мариелле: «Пойди, потанцуй!» – как будто приглашал ее и в тоже время хотел испытать. Большая свобода, большое доверие. Между ними пролетело только слабое дуновение эроса, иллюзия любви. Это чувство немного отличалось от того, которое существовало между ним и Сильваной, оно было более физическим. (Какой жар, разлитый в воздухе Рима, вызвал это чувство к жизни?). 271 Рядом с рисунком Дзигаины, изображавшим Мариеллу, Пьер Паоло написал четверостишие. Стихи рассказывают об этой иллюзии или намекают на ее существование: Облако в виде женщины. Женщина? Облако? Твоя плоть, женщина-облако, рассказывает облакам о телесном мире. Когда Мариелла встретила мужчину, в которого влюбилась, их отношения закончились. Однажды вечером, за ужином – кроме Пьера Паоло, там были Билл Вивер, Джачинто Спаньолетти, Паоло Вольпони, Чезаре Вивальди, – Мариелла внезапно захотела уйти: она почувствовала, что оставаться для нее невыносимо. Вивальди пошел ее проводить. Вскоре они поженились и больше не бывали у Пазолини. Другие друзья. Тоти Шалойя и Габриела Друди. Шалойя уже пробовал себя в абстрактной живописи и писал изящную сюрреалистическую прозу. Многие из этих его прозаических отрывков вошли в сборник «След веревки» (1953). Пазолини в то время сотрудничал с журналом «Джоведи». Он написал рецензию на сборник Шалойи для этого журнала, но издание неожиданно закрылось, и статья так и не вышла в свет. Тогда он предложил ее «Парагоне», но журнал Лонги Банти не захотел ее публиковать. Между тем дружба между Пьером Паоло, Тоти и Друди, подругой Тоти, крепла. Пьер Паоло в то время выглядел как битник, хотя их тогда еще не существовало. Он хотел нравиться «рисковым парням», постоянно сравнивал себя с ними. Угощал их пиццей, дарил что-нибудь из одежды, пару башмаков. Этого 272 было вполне достаточно, чтобы подружиться с ними. Парни были большей частью стервецы и уродцы, но ему они казались прекрасными. У них у всех были кудряшки, падавшие на лоб, «бандитская» улыбка, от состояния ленивой спячки они вдруг переходили к лихорадочной деятельности. Все эти черты потом он воплотит в Нинетто Даволи. Красота этих парней заключалась в том, что она противоречила любому канону – как буржуазному, так и декадентскому. Именно Пазолини открыл эту красоту (или, лучше сказать, изобрел ее). Для этой красоты обязательными были прыщи, грязные уши и шеи, ленивые и расслабленные движения. Казалось, эта красота связана с экспрессионизмом, именно ее пластика запечатлена на полотнах Ренато Гуттузо. Но оригинальность Пазолини не ограничивалась только пластикой, ему принадлежит и единственный в своем роде лингвистический и социальный опыт, который он обобщит в «Шпане» и в кадрах «Аккаттоне», в непрерывной связи между литературным произведением и кинематографом. Это, прежде всего, «открытие нового мира», отсюда и самоутверждение, и создание собственного стиля, который явился результатом особой логики и особых эмоций. Открытие мира городских предместий до тех пор было визуальным. Я имею в виду газопроводы и Портоначчо* на картинах Лоренцо Веспиньяни. Пазолини обогатил эти картины лингвистическими изысканиями. Римский жаргон сам по себе не представлял никакой ценности с точки зрения лингвистики или выразительности. Пазолини хотел придать этой «не-ценности» эстетическую значимость. Дружба с Шалойей не могла быть долговечной из-за идейных разногласий. Она не выдержала споров о реализме и * Портоначчо – этрусский храмовый комплекс в Вейях, городке к северу от Рима, открытый археологами в XX в. 273 абстракционизме, поскольку в то время неореализм со свойственной ему нетерпимостью стремился уничтожить все, что от него отличалось. Речь шла о политических мотивах и суждениях, основанных на детерминизме, которые не имели ничего общего с культурой. Пазолини написал текст для вернисажа Шалойи в Парме в 1954 году, но, несмотря на это, именно в тот год они и расстались. Этот эпизод не случаен. В тот момент особое значение приобретает политическое размежевание, которое характеризовало итальянскую интеллектуальную жизнь в 50-е годы, разделяя интеллигенцию на противоположные и непримиримые группировки. Для Пазолини его личный выбор стал поводом для стихов. Он написал небольшую поэму «Пикассо» (1953). Она посвящена открытию в Галерее современного искусства в Риме выставки андалузского художника. Он – самый жестокий из врагов класса, к которому принадлежал, потому что долго оставался ему верен. Враг яростный, приверженец вавилонской анархии, неизбежной болезни – выходит в народ и в несуществующее время творит: он творит иллюзию старыми средствами своей фантазии. Ах, чувствам народа чужд этот его безжалостный мир. Эта идиллия белых ураганов. В них нет народа. ⟨…⟩ Выход в вечность не в этой любви, надуманной и преждевременной. Искать спасения нужно в аду, исполнившись твердой решимости понять его.17 274 Они проводили ночи в яростных спорах. Шалойя обвинял Пазолини в том, что он слепо следует Жданову. Пазолини отвечал, ссылаясь на «народное искусство», рассуждал о «предместьях», в которых царит «безудержное веселье и вечный голод», о «кварталах – рассадниках болезней», о «грубых словах диалекта». В конце концов страсти и идеология разлучили друзей. 1953 год принес и значительные изменения в повседневной жизни. Весной Пазолини оставил преподавание в средней школе Чампино. Двоюродный брат Нико пытался его оговорить, умолял его две недели, но Пазолини уволился. Новую работу он нашел в кино. Он начал писать сценарий для фильма Марио Солдати «Женщина реки». Над сценарием он работал вместе с Бассани. Пазолини испытал искушение кино еще во Фриули. Еще в 1945 году он написал первый сценарий для кино, который назвал «Lied*, или Песни». В 1949 году он задумал документальный фильм о батраках Сан Вито аль Тальяменто. Он написал еще несколько сюжетов, в надежде, что ктонибудь ими заинтересуется, когда приехал в Рим. Отрывки из них он читал Мариелле Баудзано. И вот кино – это та работа, та область деятельности, где он будет чувствовать себя как рыба в воде, которой отдастся целиком и полностью. Но и благодаря литературному творчеству его материальное положение улучшится. Издатель Ливио Гардзанти, сын Альдо, интересуется новой итальянской прозой. Издательство «Гардзанти»** про* Песнь (нем.) ** Издательство «Гардзанти» было основано в 1939 г. Альдо Гардзанти на базе издательства «Тревес», которое специализировалось на выпуске научно-популярной литературы в гуманитарных областях, а также энциклопедий и словарей. После смерти Альдо Гардзанти 275 должает политику старого издательства Тревес. Ливио, который в то время редактировал журнал «Иллюстрацьоне итальяна», попытался собрать вокруг этого издания и самого издательства, во главе которого еще стоял его отец, новые имена. Консультантом у него работал Пьетро Бьянки. Бьянки познакомил его с Бертолуччи, а Бертолуччи дал ему прочесть «Ферробедо», главу из «Шпаны», опубликованную в «Парагоне». Ливио Гардзанти захотел познакомиться с автором. Они встретились в Риме, в гостинице в центре города. Однажды весной 1953 года, ближе к вечеру, Бертолуччи и Пазолини вошли в холл гостиницы. Гардзанти беседовал с Пазолини с полчаса. Сам Гардзанти был молодым человеком с ярко выраженными культурными интересами, в нем уживались робость и агрессивность. Вдруг он повернулся к Пазолини и спросил, сколько он зарабатывает. Пазолини сказал, что зарабатывает двадцать семь тысяч как школьный учитель. В ответ он услышал: «Я могу предложить вам вдвое больше, с условием, что вы закончите роман, который начали». Гардзанти будет издателем Пазолини. Жест Гардзанти был вызван особым обаянием Пазолини, которое можно объяснить сочетанием в нем необычайной строгости критических и филологических суждений и декадентских экзистенциальных идей. Две аномальные отличительные черты взаимодополняли друг друга. Результат этого взаимодополнения был исключительным как с общечеловеческой, так и с литературной точки зрения. издательство возглавил его сын Ливио. В 1998 году издательство разделилось. Его литературная редакция вошла в группу «GEMS», а лингвистическая – в группу «De Agostini». 276 В апреле 1954 года Пазолини переехал. Они поселились в квартале Монтеверде Нуово, на улице Фонтейяна, 86. Это мелкобуржуазный квартал; сам факт того, что он живет в квартале среднего класса, вполне удовлетворяет тщеславие Карла Альберта. Он доживал свои дни в одном из «арабских домов предместья», на улице, выложенной потрескавшимся асфальтом, где весна могла быть «ослепляющей известкой, / которую вечер делает белее, чем небо на заре».18 Для Пьера Паоло заканчивался доисторический период, во время которого он собрал несравненный опыт. Фриули и Казарса дали ему возможность узнать деревню и народ; время, когда он работал в Ребиббья, обогатило его опытом жизни среди маргинального населения города. Ах, старый семичасовой автобус! Я останавливаюсь на кольце в Ребиббье, возле двух бараков и маленького небоскреба, такого одинокого, напоминающего одновременно и холод, и жару… Эти лица пассажиров такие будничные, как будто они вышли в увольнение из тоскливых казарм, стараясь казаться исполненными достоинства и серьезными, притворяясь оживленными, как городские жители, пряча за этой оживленностью свой древний страх честных бедняков. Это их утро горело ярким огнем на зелени полей и огородов вокруг Аньене, золото дня оживляло запах помойки. ⟨…⟩ Утренние поездки на автобусе в Чампино, болезненное чувство собственного достоинства человека, который работает за гроши и чувствует, что у него нет никакой надежды 277 на будущее, неощутимое, но агрессивное присутствие города: Пазолини переживал самый мрачный период жизни. Этот отчаянный бег среди стройплощадок, сгоревшие пристани на острове Тибуртина, эти бесконечные вереницы рабочих, безработных, воров, которые выходят, покрытые еще не высохшей серой ночной испариной, они еще хранят тепло постелей, в ногах которых спали вместе с ними их внуки, они выходят из пыльных комнатушек, похожих на вагоны. Одни хмурятся. Другие смеются. Это предместье разрезано на кварталы, похожие один на другой, залитые солнцем, слишком жарким, освещающим заброшенные каменоломни, разбитые обочины, лачуги, мастерские… 19 Все это кончалось, оставалось только далекое эхо, чтото вроде озарения, от которого будет никогда не избавиться. Проклятый мир, мир небуржуазной свободы, приобрел в воображении Пьера Паоло осязаемые формы в этом городском предместье. Ах, дни Ребиббьи! Я думал, вы сгорели в огне необходимости, а теперь я оценил вашу свободу! ⟨…⟩ Мир становился сущностью не тайны, а истории. радость узнавать его умножалась в тысячу раз, как это знает каждый. Маркс и Гобетти, Грамши и Кроче продолжали жить в живом опыте.20 278 В общем, Ребиббья стала временем созревания Пазолини как человека и как интеллектуала. Там закончилась его юность. Годы во Фриули – это годы «проекта», набросок, скорее догадка, чем реальный опыт поэзии и культуры. Можно даже сказать, что все гениальное, что он создал в те годы («Стихи в Казарсе», «Соловей католической церкви»), было отрывочным и случайным. Годы Ребиббьи превращают неясное призвание, неясное предназначение в «живой свет». Об этом свидетельствуют некоторые драгоценные строчки его стихов. Те немногие друзья, которые приходили ко мне утром или вечером на свидание в исправительный дом, видели меня в живом свете: мягким и жестоким революционером. ⟨…⟩ Совесть, которую постоянно тревожила самовлюбленность, возмутилась именно тогда, когда он готов был проститься с предместьем, теснившимся вокруг здания новой римской тюрьмы. Он прощался с пучками выгоревшей травы, по которым будет потом скучать, из которых будет черпать литературные образы. Особенная, характерная черта Пазолини как писателя и человека полностью обозначена оксюмороном «мягкий и жестокий»; в нем он ощущал животворный вкус идеала «политической» миссии: человеческая мягкость и интеллектуальная жестокость. ПОЭТ «ПРАХА» Жизнь истончается 1953, 1954 годы, вплоть до 1961 – это годы самой напряженной работы. Пазолини пишет и публикует лучшие свои произведения: «Шпана» (1955), «Жестокая жизнь» (1959), небольшие поэмы сборника «Прах Грамши» (1957) и «Религию моего времени» (1961), критические статьи сборника «Страсть и идеология». Он становится руководителем и вдохновителем литературного журнала «Оффичина» (1955–1959). Создает тринадцать сценариев для кино. Переводит трагедию Эсхила «Орест», которую Витторио Гассман поставит в 1960 году. И наконец, 1961 год – это год создания «Аккаттоне». Это годы, когда он одновременно занимается множеством дел, которые невозможно перечислить в хронологическом порядке. Создается впечатление головокружительной одновременности: как будто он диктует одновременно нескольким машинисткам. Прозаик пишет для кино, и наоборот. Поэт, написавший «Прах Грамши», обогащает собственный язык языком трагедии Эсхила. Организатор «Оффичины» одновременно является критиком, автором «Страсти и идеологии», а в статьях этого сборника ясно просматривается поэт и прозаик, которые постоянно живут в его душе. Это также годы острой полемики и бесконечных дискуссий. Пазолини сталкивается с недостойными аргументами, подлыми обвинениями, различными методами преследования инакомыслия. Он был ярким представителем своей эпохи, но не стал им в обычном смысле этого слова, то есть он не был представителем культуры господствующего класса. Он был 280 представителем и сыном культуры, которая постепенно угасала, потерпев окончательное поражение – культуры итальянского крестьянства. Чтобы не потерпеть поражения, он посвятил себя борьбе, которую мог начать только поэт; он пропустил через себя – не только через свой разум, но и через чувства – все то, что ему предложила история. Он все поставил на карту – трудно сказать, сознательно или интуитивно. И общественное мнение, печать сразу его заметили. Он оказался героем дня. Среди всех этих дел его существование как бы истончилось, у Пазолини больше не хватало ни времени, ни места для себя самого. Или, лучше сказать, кажется, что он все больше превращает свою личную жизнь в некий ритуал, сводит ее к постоянным привычкам. Он полностью принял «недопустимую» жизнь, он выставляет ее напоказ, она становится чем-то бестелесным, несмотря на множество мучений и страданий, которыми она отмечена. Она постоянно изменяется, когда речь идет о новых встречах и новых интересах, но все же остается собой, всегда неизменной, останавливается в чем-то вроде подвижной вечности. Это существование проходит под знаком отсутствия предрассудков. Но упорный труд, которым оно наполнено, вынуждает его все время урезать время, отведенное для личной жизни, хотя для самой этой личной жизни отведено всегда одно и то же время. Сразу после обеда, летом и весной, когда на спортивных площадках за городом, на полях, в народных купальнях Остии особенно много народа. Поздно вечером, после ужина, часов после одиннадцати, когда начинаются самые рискованные ночные прогулки. Праздничные дни, когда ребята шатаются по улицам 281 окраин или из предместий приезжают «в город» в поисках приключений. Рим в те годы бурлит, жизнь в нем бьет ключом. В Риме особенно громко звучит голос оппозиции, которая привлекает на свою сторону, левых студентов, интеллигенцию и даже широкие народные массы, рассеянные по предместьям. На улицах появляется множество малолитражек и мотороллеров. Политика правящего класса стремилась прикрыться громкими фразами, остатками культуры, о которой постоянно говорила Демохристианская партия, которая в Риме искала себе союзников среди правых. Все казалось абсолютно ясным и понятным, не было сомнений в том, где добро, а где зло. Добро и зло могли поменяться местами в зависимости от точки зрения того, кто о них рассуждал. Но стоило определиться с позицией, и становилось понятно, что добро – здесь, а зло – там. Подобное манихейство не могло иметь отношения к культуре, но культура, и не только в Риме, умело пользовалась таким упрощенным подходом, могла в нем растворяться и чудесным образом скрывать свою абстрактность и бедность. Выход в свет «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши возбудил интерес к истории. Стали появляться новые переводы художественных и научно-популярных произведений иностранных авторов: романы Пруста, работы Фрейда, Юнга. В итальянской литературе, в противоположность тому, что произойдет в следующее десятилетие, царило увлечение настоящим. Главенствующую роль среди литературных жанров приобрел роман. Тот самый «итальянский роман», который, казалось, противоречил всякой традиции. Гадда работал над «Пренеприятнейшим происшествием», но и Палацес282 ки был еще в расцвете творческих сил. И Ландольфи, и Моравиа, и Бранкати сделали свой литературный выбор, появились романы Павезе и Витторини. Благодаря очень тщательной работе с языком (Моравиа и Гадда были в этом взаимодополняющими противоположностями) этот роман как раз и отражал общие подходы к познанию истории: он не руководствуется стремлением зеркально отобразить реальность, а пытается найти возможное объяснение психологическим и антропологическим силам, действующим в данной области. Писатель жил в агрессивной социальной среде и отображал эту агрессивность в своем творчестве. Кроме Гадды роман Моравиа «Римлянка» (1947) и «Римские рассказы» (первое издание 1954), роман Павезе «Дом на холмах» (1948), «Прекрасный Антонио» Бранкати (1949), «Осенний рассказ» (1947) и «La bière du pécheur»* (1953) Ландольфи могли бы составить антологию итальянской литературы этого периода. Сомневаться в художественных достоинствах этих произведений не приходится. Рядом с ним были и другие значительные фигуры, такие как Анна Банти или Марио Сольдати. Появились и новые имена: например, Эльза Моранте, которая в 1948 году опубликовала прекрасный роман «Ложь и колдовство». Потом на литературную сцену вышло совсем новое поколение: Пазолини, Бассани, Кальвино, Кассола, Фенольо, Анна Мария Ортезе, Леонардо Шаша, Наталия Гинзбург, Оттьери, Тестори. К этому же периоду относятся комедии Эдуардо Де Филиппо и исследования Эрнесто Де Мартино о таинственном мире Юга. Эти последние в общей картине итальянской культуры свидетельствуют о появлении совершенно новых тенденций, возможно, не имеющих никаких связей * «Гроб для грешника» (возможный вариант: «Пиво для рыбака») (франц.) 283 с современной им культурной традицией, но следующих в ее русле, поскольку они описывают мир эмигрантов, мир низших слоев населения, примерно так же, как это делает Пазолини. В это же время, в 1953 году, выходит в свет сборник «Tal cour di un frut»* в издательстве «Лингва фриулана», и Контини напишет Пазолини, что эти прекрасные стихи принесли ему «нежданную радость». Антология «Диалектальная поэзия двадцатого века», которую Пазолини составлял вместе с Марио Делл’Арко, была опубликована в 1952 году, а в 1955 вышел томик «Итальянский канцоньере: антология итальянской народной поэзии». В 1954 в приложении к журналу «Парагоне» выходит в свет сборник фриульских стихов «Лучшие из молодых». Анна Банти предлагает там же издать и роман «Шпана». В 1954 году Пазолини также публикует в издательстве «Меридиана», в поэтической серии, которую редактирует Витторио Серени, «Народную песню» – она станет первой частью в сборнике небольших поэм, озаглавленном «Прах Грамши». Как уже упоминалось, он сотрудничает с «Джоведи», еженедельным изданием, посвященным вопросам политики и культуры, редактором которого является Джанкарло Вигорелли (в этом издании сотрудничали писатели и интеллектуалы, которые не считали себя левыми или коммунистами, а поддерживали демократические католические силы). В «Джоведи» в 1953 году регулярно с января по сентябрь появляются критические статьи Пазолини. Его статьи, посвященные творчеству Унгаретти, Сабы, молодым ломбардским поэтам, «открытым» Лучано Анчески, рассказам * В сердце мальчишки (фриульск.) 284 Джанны Мандзини, пользуются большим успехом. О нем заговорили как о критике, обладающем необыкновенной проницательностью. Карло Бертокки, поблагодарив его за рецензию, написал: «Твоя критическая статья – наша общая исповедь». Как филолог, помимо составления антологии диалектальной поэзии, он сотрудничает с «Белли» (1952–1954). Его заметки, в которых он прослеживает тонкие различия между диалектальной поэзий и поэзией художественной, проникнуты сознанием исторической конкретности и могут вызвать оживленные дискуссии. Когда после успеха «Шпаны» Моравиа посоветует Марио Миссироли, который в то время был редактором «Коррьере дела сера», пригласить Пазолини сотрудничать с газетой, Миссироли, этот остроумный церемонимейстер правительственного конформизма, ответит отказом, но добавит: «Передайте от меня вашему другу, что со времен Кардуччи никто не проделывал такой блестящей работы над диалектами, как он». Я уже говорил, что жизнь Пазолини истончалась. Конечно, это произошло не сразу, но именно в это время процесс стал наиболее заметен. Возникают практические неотложные задачи, развивается «литературная» жизнь, в которую он мало-помалу оказывается вовлеченным. Не то чтобы он очень стремился к такой жизни, но любой писатель всегда стремится обрести своего читателя, свою публику. 5 июля 1955 года он пишет Чезаре Бортотто: Дорогой Чезарино, от всего сердца благодарю тебя за твое письмо, хотя и отвечаю на него с таким опозданием. Я получил его здесь, в Ортисеи, где работаю, как негр (над сценарием).⟨…⟩ Прости меня за эту спешку, за беспорядоч285 ный синтаксис, я хотел только сказать, что, когда я читал твое письмо, у меня появилось ощущение, что прошло много лет с тех пор, как мы виделись в последний раз. И ведь правда, прошли годы… Но я тебя уверяю, что мое отношение к тебе осталось неизменным, ты для меня все тот же Чезарино, а ведь только это и имеет значение. И обнимаю тебя с неизменной любовью. Сценарий, над которым он работал, «как негр», был сценарием фильма «Пленник гор» Луиса Тренкера. Он писал его «в четыре руки», вместе с Бассани. В то лето они жили в гостях у Тренкера в Ортисеи. На фотографии мы видим Пазолини и Бассани в горах: Пьер Паоло, как всегда, улыбается; благодаря свежему виду и худощавому телосложению он кажется гораздо моложе своих тридцати с лишком лет. Но в письме к Бортотто говорится о другом. Он стремится рассказать не только о том, как много работает. Он говорит, что психологически уже далек от Фриули. Пазолини ускользнул из этого позолоченного рая. В 1955 году увидел свет роман «Шпана». Он появился в продаже в апреле. Комиссия Совета министров в конце июля обращает внимание прокурора города Милана на этот роман как на «порнографический». «Шпана» Чтобы понять «скандал», вызванный появлением романа «Шпана» в книжных магазинах, его молниеносный успех, споры, разгоревшиеся вокруг него, нужно обратиться к кино и газетам того времени. Порнография. Какая порнография? Многоточия. «Да иди ты…». Педерасты, нарисованные, как китайские тени 286 на картонных стенках киношек на окраинах. Слово «хуй», никогда не произносимое целиком, но постоянно присутствующее на страницах романа. Порнографией сочли дух истины, которым проникнута вся книга, пропитанную пóтом, болезненную плоть героев, их иступленное неистовство, пластику их бесстыдно выставленных напоказ тел. А вот о чем рассказывает кинохроника тех лет. Нравы Италии слегка исправились. Итальянцы сходят с ума от так называемых «женщин с пышными формами». Девушки-участницы конкурсов красоты превратились в символ страны, которая наконец нормально питалась и развивалась: большая грудь, чистая кожа, рубенсовские бедра. Благосостояние принимало роскошные женские формы: миф о Помоне* снова расцветал под тесными драпировками модельеров, заявлял о себе открытыми вырезами летних платьев. Пятидесятые годы – это эпоха реакционного общества, которое не знает еще, как принять европейские обычаи и заокеанские нравы. Неуклюжесть мужских брюк с высокой талией, шляп-борсалино, надетых набекрень, как до войны. Италия того времени – еще не индустриальная держава, которой она станет позднее. Индустриализация в то время едва коснулась Паданской равнины. А вся оставшаяся часть страны – это деревня, деревня милая, но отживающая свой век. Деревенским остается и уклад жизни во многих городах. Скандал Монтези**, в котором смешалась политика и неустойчивость судебной системы, скандал с валютными махинациями, в котором замешан прелат, – в эти годы они сви* Помона – римская богиня плодовых деревьев. ** Предполагаемое самоубийство модели Вильмы Монтези оказалось в центре внимания итальянского общества в 1953 году: обсуждалась причастность к этому делу видных представителей политических и деловых кругов. 287 детельствуют о том, что состояние общественной нравственности вызывает тревогу. На этом фоне культура представляется некоторой аномалией: непонятно, стремится ли она двигаться вперед вместе со всем обществом или чудесным образом движется в другом направлении. Но маховик массификации вот-вот будет пущен: должна начаться великая революция итальянских нравов, их полное изменение (или деградация). «Шпана» – это роман о предместьях, о маргинальном существовании. Пазолини пишет о жизни, которая от жизни сохраняет только видимость, внешний облик. Эта жизнь – не что иное, как обнаженная злобная сущность страны, связанной нравственными и социальными предрассудками, это скелет, спрятанный в шкафу, скелет этот говорит на языке наглом и постыдном. Необходимость преодолеть архаичные схемы производства, преодолеть глубоко укоренившиеся, но мертвые этические принципы – именно этот посыл «Шпаны» порождает обвинение в порнографии, выдвинутые против книги, в которой ничего порнографического нет, где эротика нужна только для того, чтобы изгнать тайный образ смерти. Эта книга несет и разрушительный политический заряд: она обнажает со всей новизной изысканного стиля жизнь на экзистенциальных задворках итальянского общества. Общество это едва залечило глубокие раны, залечило их второпях. Оно заявляет, что полностью излечилось, но скрывает и от себя самого застарелые тайные недуги. Загубленная жизнь Ричетто и его друзей, может быть, даже помимо воли автора стала зеркалом этих недугов. Легче всего было отрицать существование этих недугов, запретив пользоваться зеркалом. Связь поэтического произведения с обществом, в котором оно рождается, несомненно, носит мистический харак288 тер, часто необъяснимый и непонятный. Но иногда случается, что появляются факты, которые проливают свет на эту тайну. Итак, появление «Шпаны» привело в движение комиссию Совета министров. В то время председателем Совета был Антонио Сеньи, и достопочтенный* Сеньи побеспокоился о том, чтобы через пятнадцать дней после его назначения на этот пост прокурору Милана был направлен запрос «о принятии необходимых действий». Прокурору был направлен и сам роман, и сопроводительное письмо, в котором говорилось, что «данное издание носит порнографический характер»1. 29 декабря 1955 года прокурор Милана выписал «повестку по вызову в суд Гардзанти Альдо и Пазолини Пьера Паоло, обвиняемых в опубликовании книги непристойного содержания». После того как Ливио Гардзанти добровольно вызвался предстать перед судом вместо своего отца Альдо, 4 июля 1956 года началось судебное разбирательство. В качестве свидетеля выступил Пьетро Бьянки, как литературный консультант издательства «Гардзанти» выступил Карло Бо, письменные показания представил Джузеппе Унгаретти. Говорили о «религиозных ценностях», о «сострадании к отверженным». Прокурор потребовал прекращения судебного преследования, «поскольку содеянное не является преступлением». Судебное преследование было прекращено, и книга вернулась на прилавки после нескольких месяцев запрета. Результаты уголовного преследования превзошли всякие ожидания. Издателю удалось привлечь внимание политиков к процессу. Общественное мнение сложилось в пользу обви* Достопочтенный (onorevole) – обращение к депутату парламента в Италии. 289 няемого. В постановлении суда было подчеркнуто, что «на процессе царила спокойная и возвышенная обстановка», там подчеркивалось «достойное поведение выступавших, сдержанность государственного обвинителя и защиты». И как писатель, и как режиссер Пазолини не раз сталкивался с обвинениями в свой адрес. Его обвиняли анонимно; подобная анонимность содержит свой собственный приговор, поэтому я не буду об этом говорить. В случае со «Шпаной» поражает, что инициативу взяла на себя политическая власть в лице самого высокого своего института. Римские предместья с их хаотическим переплетением человеческих судеб и группировок создавали вокруг столицы зону постоянной напряженности. Они были открытым обвинением в адрес властей, которые не в силах были избавиться от фашистского наследия. Социальное и городское болезненное состояние этих предместий было порождением диктатуры Муссолини, война и послевоенный период усугубили эту ситуацию. Новая демократия стремилась к экономическому благосостоянию, но эта язва, вопиющая человеческая язва, распространялась все дальше: подобно раковой опухоли, она расползалась метастазами. Книга, написанная изящно и стильно, облекла все это в слова. И, каким бы фантастичным и наивным это ни показалось сегодня, нашлись те, кто захотел заставить эти слова умолкнуть. «Это звуковая дорожка», – говорил Гадда; книга ему понравилась. Сам Гадда, Бертолуччи, Джузеппе Де Робертис, Пьеро Бигонджади, Карло Бо, Кассола, Серени, Анна Банти, Марио Луци и другие вошли в состав жюри, которое летом 1955 года присудило в Парме премию «Коломби-Гвидотти» роману Пазолини. Это была премия, которая заставила замолчать 290 всех тех – и политиков, и людей далеких от политики, – кто нападал на нового писателя и его необычную книгу. К нападкам присоединились и литературные критики. Карло Салинари написал на страницах «Контемпоранео» о «лингвистической двусмысленности» и «двусмысленности концептуальной», о «ложном веризме слов», о «мутном вдохновении».2 Некоторые марксисты отреагировали на описание римского люмпен-пролетариата как настоящие моралисты: они учредили нечто вроде схоластических заповедей, и согласно их мнению, поскольку это произведение явилось плодом «самовлюбленной» экспрессивной чувственности, от него нужно было отречься и отправить его в небытие. Они начинали с обвинений в лингвистическом произволе, а потом отказывались верить в то, что действительность, описанная Пазолини, существует на самом деле. Они полагали, что писатель, стремясь к реализму, пошел на поводу у собственного эстетизма.3 Эти политические размежевания со всей их концептуальной претенциозностью подчеркивают ярко выраженную политическую направленность «Шпаны». Существование городского люмпен-пролетариата было не только эстетической проблемой. В этом и заключалась суть того, что читатель должен был вынести из всего сказанного и написанного Пазолини: его книга прямо указывала на дряхлые остатки фашистской, долиберальной эпохи, которые отягчали национальное сознание. Его идеи рождались не из здравого смысла, а из взрывоопасной субъективности, отмеченной всеми стигматами великой традиции декаданса, а также из того, что в христианском воображении обычно называется «скандалом». Для Пазолини было важно описать обширные и странные области бессознательного, в них он искал существова291 ние «чистой» социальной справедливости; но для него чистота была зовом преисподней, видением Ахерона. Пронзительный вербальный дар, совершенно отличный от дара поэта из Казарсы, стремившегося возродить фриульский язык. Язык в «Шпане» используется как нетрадиционный материал, придающий реальности особый оттенок, автора совсем не волнует мелодика этого языка. Роман не просто описывает действительность, в нем представлена литературная концепция Пазолини, которая и придает книге особенное реальное звучание. «С навязчивостью, постоянно, монотонно Пазолини освобождает мир предместий от всего, оставляя только самые скотские и зверские его проявления. Он уничтожает любое человеческое побуждение, любой намек на человеческие чувства, всякую надежду, любое побуждение, которое заставило бы его персонажей жить, а не умирать» – написал Пьетро Читати.4 Этот ад, где все зашифровано, оказывается, странным образом, счастливым местом: стиль автора превращает его в длинную чреду раскрывающихся образов, придает ему огромную жизненную силу. Создатель этой вселенной, одновременно простодушный и изощренный, заставляет и читателя испытать радостный, бесстыдный трепет, который охватил его самого при этом открытии нового мира. Открытие это эротическое и в то же время экспрессивное. Все его существо испытывает от этого триумф. Это неудержимый эротизм, который внутри него самого необъяснимым образом рождает политические перспективы. Марксисты много спорили по этому поводу. Был ли филологический произвол в использовании римского диалекта, на котором написан роман? 292 Среди многих ребят предместья, с которыми Пазолини был знаком, был один, Серджо Читти, которого он называл «мой живой словарь римского диалекта».5 Это было летом 1951 года. Пьер Паоло впервые увидел Читти на берегу Аньене, у моста Маммоло. Через несколько дней он встретил его у кинотеатра «Аква Булликанте» в Пренестино. Они поболтали. Серджо было восемнадцать лет, его несколько недель назад выпустили из исправительной тюрьмы. Он подумал, что Пьер Паоло социальный работник, и отнесся к нему подозрительно. Пьер Паоло сказал: «Я писатель». А Читти тоже писал, вернее, думал, что пишет рассказы. Парнишка из народа, совершенно необразованный, но обладавший даром необыкновенного воображения и умением рассказать о своих фантазиях в плутовском тоне, в тот вечер Серджо долго разговаривал с Пазолини и понял, что он совсем не такой, каким показался ему при первой встрече. Пьер Паоло рассказал ему о психоанализе, о том, как развивается эротическое чувство в подростковом возрасте. В конце концов они оказались на ступеньках церкви и стали играть в «пальцы» (они тыкали друг друга вытянутыми указательным и средним пальцами), удары были сильными, до крови. Потом Пьер Паоло сказал, что пишет книгу о ребятах из предместий, и попросил Серджо помочь ему. Пазолини и Читти стали встречаться. Они ходили в пиццерию в Торпиньяттару. Это заведение называлось «Золотой орел». В то время Серджо зарабатывал больше, чем Пьер Паоло: он был штукатуром и получал тысячу восемьсот лир в день. Он угощал Пазолини пиццей. Серджо познакомил его с Франко, своим братом, очень печальным и неразговорчивым. 293 Во время этих ужинов к ним присоединялись и другие ребята, начинались рассказы. Жратва и выпивка, сопровождаемая словами и жестами. Пазолини держал перед собой открытую записную книжку, он просил Серджо объяснить некоторые слова, записывал с педантичным и глубокомысленным видом профессионального лингвиста. После ужина он садился на трамвай и возвращался в Ребиббью, на этом его приключение и заканчивалось. Серджо предложил ему сходить куда-нибудь с девушками. Пьер Паоло в ответ предложил ему поучаствовать в его «охоте» на мальчиков. Он, правда, однажды рассказал ему о какойто Франке, но никто ее никогда не видел. Читти не придал большого значения тому, что его новый друг «пишет». Потом они потеряли друг друга из виду. Однажды, листая газету, он увидел фотографию Пьера Паоло. В статье речь шла о литературных премиях и о романе «Шпана» (он номинировался на премию «Виареджо» в 1955 году). Er pasola* или Щеки Паланса (прозвища, которые дали ему эти ребята; второе связано с тем, что у Пьера Паоло были впалые щеки и он поэтому напоминал американского актера Джека Паланса) сказал правду. Прошло почти два года. «Писатель» снова появился в «Аква Булликанте». У него была белая машина, которую он купил с рук. Своим друзьям из предместья он подарил коечто из одежды. Он писал новый роман, их отношения с Серджо возобновились. Так началась история «Жестокой жизни». Серджо не только стал его советником во всем, что касалось блатного жаргона, он принял участие в работе Пьера * Er pasola – фамильярное сокращение фамилии Пазолини. 294 Паоло в кино (которая в то время полностью захватила Пазолини). Они вместе подготовили первую редакцию сюжета «Горбуна», фильма Карло Лидзани (которая, впрочем, осталась невостребованной). Пазолини сыграл в этом фильме роль. Читти в детстве действительно пережил в предместье события, рассказанные Альваро Косанца в его повести «Горбун» (атмосфера этого эпизода черной хроники очень близка романам Пазолини). Серджо помог Пазолини обработать диалоги для «Ночей Кабирии» Федерико Феллини (1957).6 Пазолини хотел, чтобы Серджо сыграл какую-нибудь роль в фильме. Феллини не возражал, но Серджо предпочел остаться возле съемочной камеры и не выходить на площадку. Итак, римский диалект, которому Пазолини научился у Серджо, и был тем самым произволом? Речь шла о жаргоне внутри жаргона, особом языке замкнутой группы, придуманном для того, чтобы скрыть от других то, что говорили между собой друзья, чтобы исключить из общения тех, кто другом не является. Но это одновременно и язык особого гетто, больного маргинального общества. Пазолини был слишком хорошим филологом, чтобы отказаться воспользоваться подобным языком, своим поэтическим открытием. «Субъективность» этого языка неизбежно превращалась в объективность. Фантазия была необходима, чтобы схватить суть вещей. Стилистическое подражание в глазах писателя приобретало абсолютный смысл, было необходимо, чтобы познать эту суть. И таким образом, этот жаргон переставал быть чисто литературным средством. Он применялся для того, чтобы понять и познать суть, он освещал девственный мир предместий, он был лучом света, который разрезал тьму чудовищной колонии полипов. В устах жителей предместий он 295 превращался в язык функциональный, способный возбудить, определить противостояние одного мира, одной преисподней другому миру. И вот промежуточный вывод: ограниченность «римской прозы» Пазолини обусловлена не использованием языка ограниченной группы людей, а тем, что она идеологически запрограммирована, имеет исключительно наставительный характер. От «Шпаны» – к «Жестокой жизни»: период самого большого успеха Пазолини приходится на 1955–1959 годы. Над новым романом Пазолини работает взахлеб. Ливио Гардзанти его подгоняет. Пьер Паоло выкраивает время между написанием одного сценария и другого и пишет историю Томмазино. А в то же время к нему приходит признание критики (1957 год, «Прах Грамши») и признание читателей. На Пазолини нацелено национальное общественное мнение, его ценят как за талант, так и за «скандальность» (гомосексуальные наклонности он не скрывает и мужественно подчеркивает). В пылу споров он не откажется от своих учителей и наставников. «Мои учителя – это Грамши и Контини»7. Небрежно и презрительно он демонстрировал перед итальянскими интеллектуалами свои познания в лингвистике, языкознании, историческом материализме, которые были его подспорьем в творчестве, его орудиями труда. Поражает непосредственность, с которой он применяет свой исследовательский метод к любой проблеме, даже далекой от литературы. Рабочие столы итальянских интеллектуалов того времени были завалены пыльными ретортами и перегонными аппаратами, архаичными инструментами, которые они 296 напрасно пытались подчинить хоть какому-то порядку, призвав на помощь свежий язык печати. Пазолини же мог писать о моде, о поэзии герметизма или о детском эротизме, пользуясь языком, полностью соответствовавшим времени. Его внимание к обществу – это знак того, что он иначе понимает само слово «долг»: долг писателя не только в том, чтобы участвовать в политических и гражданских войнах, он приобретает иной оттенок, другое звучание – он, прежде всего, в том, чтобы осмыслить мир, в котором ты живешь. Я уже говорил, что эти годы прошли для Пазолини не напрасно: не напрасны были споры вокруг «Шпаны», в которых он участвовал, в которые его вовлекли. Есть здесь и одна-единственная слабость: эти споры едва заметно, почти неощутимо, воспитали в нем тягу к нравоучительному реализму, необходимость дистанцироваться от плутовского романа, от его первого политического пасквиля. Он полагал, что он давно пошел дальше, преодолев все недостатки своих ранних произведений. Пазолини не чужд поучений. Но в его текстах этот поучающий дух, несомненно, подавлялся, может быть, даже был полностью подавлен, поглощен утонченной чувственностью описаний и языка. «Жестокая жизнь» – это поучительный роман. На его примере становится ясно, что лингвистический эксперимент (этот ярлык уже приклеился к произведениям Пазолини) может стать одной из форм создания национального народного романа, о котором писал Грамши. Речь идет о высказанных намерениях и стремлениях: Пазолини таким образом хотел противопоставить себя воинствующей марксистской критике. Это противопоставление, по его замыслу, должно было вызвать споры, полемику. 297 Томмазино, герой «Жестокой жизни», не похож на Ричетто из «Шпаны»: он не кажется отраженным в зеркальной призме своего бессмысленного существования, он хочет быть личностью, переживает целый ряд событий, которые делают его «типичным». Он член неофашистской партии, он «рисковый парень», он живет, как и все ему подобные, перебиваясь случайными заработками. Он отправится в тюрьму. Выйдет из тюрьмы повзрослевшим, «созревшим». Захочет найти свое место в обществе. Он пытается жить, сообразуясь со своими потребностями. Заболевает туберкулезом. В санатории знакомится с коммунистическими идеями, сближается с коммунистами. Умирает, как жертвенный агнец, во время наводнения в предместье, пытаясь спасти батраков. Эта общая канва повествования говорит об идеологической ограниченности: выводы, к которым приходит писатель, далеки от того, чтобы быть хотя бы приблизительно созидательными. Так получается, потому что идеология здесь играет обязательную роль: в те моменты, когда она подчеркивает и определяет факты, она представляет их как примеры самоотверженности. Подобное построение романа приводит к тому, что персонажи и эпизоды, по сравнению со «Шпаной», представлены как бы против света и поэтому кажутся черными. «Жестокая жизнь» представляется немым фильмом: это роман о событиях, очень урезанных при монтаже; мы можем их видеть, но они не озвучены. Мир предстает жестоким и обнаженным, это некое явление болезни, которая никогда не окончится выздоровлением. В зрительном зале кинотеатра зажигается свет, это похоже на то, «когда поднимаешь камень и под ним видишь копошащихся червей, огромное количество червей, кото298 рые сплелись в клубок, переползают один на другого, движутся, расползаются во все стороны, переплетают головы и хвосты». Подобные сравнения в романе напоминают описания Данте. Они свидетельствуют о постоянной, нарастающей тревоге. Мир «рисковых парней» вот-вот превратится в прах в фантазии его автора. А он пытается его спасти при помощи этических правил и политических лозунгов. Но слово больше не может помочь в подобных намерениях. «Аккаттоне» и кино уже совсем рядом. Конечно, Пазолини еще предстоят счастливые годы. Среди «шпаны», «рисковых парней» он завязал прочные связи. Они стали его друзьями, их он позовет сниматься в «Аккаттоне», в «Мамма Рома», в «Овечьем сыре», в «Евангелии»; это друзья, которых он иногда приводит поужинать с писателями и интеллектуалами; это друзья, с которыми он играет в футбол всякий раз, когда у него оказывается свободное время. В общем, это друзья, которые удовлетворяют его потребность в мужской дружбе. Он ищет общения с ними, потому что в них кипит творческое начало: оригинальная манера говорить, как у Читти, необычайная гибкость и сила, как у Нинетто Даволи. Серджо Читти и Нинетто – это, конечно, особый случай: они останутся друзьями на всю жизнь, с ними он сможет полностью удовлетворить свою потребность в застольной беседе, свою неудержимую страсть подражать чьей-нибудь речи. Другие, а их много, очень много – те, кто будет его называть просто Паоло или, на римский манер, «а Па», с кем он будет крайне любезен и обходителен, – останутся на протяжении всей его жизни связанными с определенными ее этапами, с тем временем, когда он сталкивался с ними в поисках истины или естественности жизни, которая малопомалу от него ускользала. 299 Пьер Паоло был с этими ребятами блестящим, очаровательным преподавателем, каким он был в Вальвасоне; он был для них как отец родной. Он говорил, что они были свободны в чувствах и обладали свободным телом, потому что соглашались заниматься любовью с гомосексуалистами – вернее, с одним гомосексуалистом, с ним самим. Они соглашались пойти с ним радостно и бескорыстно, даже если и получали за это тысячу лир, пиццу или джинсы. Он вступал с ними в эротические отношения только один раз. Если это случалось, то в дальнейшем какие-либо сексуальные отношения были уже исключены. А дружба продолжалась. Пазолини считал такое положение вещей чем-то вроде победы над инстинктом. Однако оно распахивало двери отчаянию, неразрешимой эмоциональной неуверенности. Мастурбировать с ними, иметь с ними оральные сношения, а потом, вечер за вечером, продолжать поиски других контактов, как можно большего числа таких контактов – все это сводило эротизм к механическому повторению одного и того же. Это не могло не усугубить, сделать более безвыходной и мрачной, более осязаемой ту тревогу, которая стала уже неотъемлемой частью его разума. С течением времени это тревожное состояние становилось все более гнетущим, превращалось в одержимость. Если ему удавалось на время от него освободиться, он чувствовал себя подавленным, изнуренным борьбой, измученным, лишенным дара речи. Проявления этой одержимости, этой немоты как раз и заметны в образах «Жестокой жизни». Это признак поэтического мира, которому суждено преждевременно погибнуть, потому что он слишком тесно связан с жизнью самого автора. 300 Болонский цех Май 1955 года. Выходит первый номер журнала «Оффичина»*. Этот журнал, посвященный поэзии, выходит раз в два месяца. Редакторами его стали Франческо Леонетти, Пьер Паоло Пазолини, Роберто Роверси. Редакция располагалась на улице Риццоли, 4 в Болонье. Обложка номера – из грубого картона грязно-серого цвета. Цвет, который ассоциируется с фабрикой, цехом, производством. «Феррарский цех», детище Лонги, конечно, имеет к нему какое-то отношение. Это цех идей, стиля, поэзии, это место «литературных споров», в ходе которых аргументы рождаются непосредственно при общении, но не исключается и обращение к истории и к жизни общества. Всего выйдет двенадцать номеров журнала. Он будет издаваться до апреля 1958 года. Будут опубликованы и номера за март-апрель 1959 года и май-июнь 1959 года. Редактором этих двух номеров будет Фабио Маури, обложка станет черной, а текст на ней будет напечатан белыми буквами. А потом – все, конец. Содружество Леонетти – Пазолини – Роверси с последующим присоединением к ним Маури сложилось еще в лицейские годы в Болонье, где издавался журнал «Эреди» («Наследники») и «Сетаччо» («Сито»). Прошли годы. Пазолини решил еще раз попробовать «делать культуру в провинции». Идея организовать печатный орган для пропаганды идей культуры принадлежит не только Пазолини, подобные мысли были и у Леонетти. Роверси их полностью разделял. Его букинистический магазин, который назывался «Пальмаверде» и в котором часто собирались молодые люди, * Officina (итал.) – цех. 301 постепенно стал штаб-квартирой целой группы, и эта группа стала привлекать к себе все больше внимания. Джанни Скалиа из Болоньи, Анджело Романо, с которым Пазолини познакомился в Риме, когда работал на радио (Романо был сотрудником РАИ, в то время он жил в Милане); Франко Фортини, тоже из Милана. Болонья находится как раз на середине пути между Миланом и Римом.8 Пазолини живет в Риме, жизнь большого города очень напряженна и «жестока». Он говорит, что считает Болонью, в которой ничего не изменилось с довоенных времен и которая остается небольшим университетским городом, своей Порциунколой*. Долгие дискуссии, постоянный обмен письмами. Любой текст, любая критическая статья обсуждались вместе, подвергались тщательному анализу. Редакторы-составители должны были исправлять, переделывать, править. Сотрудники журнала составляли избранное общество: Пазолини пригласил своих «римских» друзей – Гадду, Бертолуччи, Капрони, Бассани, Гарболи, Пенну, Вивальди, Вольпони. На страницах журнала появлялись тексты Пальярани, Сангвинети, Арбасино и очень молодого автора, «открытого» самим Пазолини, Массимо Ферретти. Критика четко отделена от художественных произведений. Это чаще всего редакционные статьи, посвященные анализу литературного процесса – как современного, так и прошлых лет. Художественные произведения принадлежат перу редакторов и гостей журнала. Журнал не приносил никакой прибыли, он даже не возмещал затрат на оплату труда сотрудников. Часто случалось, что Роверси выражал благодарность за сотрудничество * Porziuncola – небольшая церковь в окрестностях Ассизи, восстановленная св. Франциском и ставшая его любимым местом для молитв и размышлений. 302 несколькими бутылками домашнего вина, как это всегда было принято в провинции. Это очень важный момент, который позволяет понять, насколько дружеская и сердечная атмосфера царила в этом кругу. Потом начались споры с Фортини. Направление журнала было в нескольких словах описано Франческо Леонетти: Мы должны научиться спокойно и не торопясь переходить от нашего личного, внутреннего мировосприятия к жизни в обществе, к исторической и социальной действительности, от маленького мира к миру большому с его могучими силами-иллюзиями; иллюзии эти совсем не порождение простодушных жителей провинции, как думают те, кто барахтается в безвыходном хаосе. Неореализм со всей убедительностью показал нам, что происходит, если маленький мир не находит самовыражения; понятно, что необходим постепенный, но целенаправленный переход.9 Какой скрытый смысл содержит это утверждение? Прежде всего, отстраненное и критическое отношение к неореализму и герметизму, тем его чертам, которые сближали его с неореализмом; провозглашение задачи вновь обратиться к «миру истории»; необходимость разработать понятие «культуры», благодаря которому можно будет приблизиться к человеческой реальности, свободной от мистификаций и сладеньких утешений; намек на рационализм. Это значит: если мир представляется безвыходным хаосом, это происходит потому, что он полон иллюзий, вялости мыслей, из-за которых нам гораздо приятнее чувствовать себя жертвами, а не стремиться обрести нравственные и социальные цели. Оптимизм с легким оттенком утопии – это вполне законные чувства в те сложные и тяжелые пятидесятые годы. 303 Оттенок утопии еще сохранялся в то время, когда идеалы Сопротивления тускнели, устаревали, – не только потому, что сталинистский угар несколько отравил ожидание революционного обновления для многих интеллектуалов (и в Италии, и за ее пределами), но и потому, что становилось все более понятно, что исторический материализм превращался в гораздо более застывшую догму, чем идеалистическая теология. Журнал «Оффичина» предлагал заново прочесть Франческо Де Санктиса и Антонио Грамши, предлагал рассмотреть их идеи с точки зрения, отличной от точки зрения социалистического реализма, едва ли не обязательной для коммунистов того времени. Журнал предлагал отнестись к декадентству как к современной проблеме, не считал, что проблемы авангарда навсегда забыты и утратили свое значение. И если и подчеркивал абсолютную законность литературной дискуссии самой по себе, то не отрицал и того, что эта дискуссия должна находиться в диалектической взаимосвязи с действительностью. Это были годы, когда в итальянской культуре начался и быстро прогрессировал процесс размывания понятия «история». Его место занимала социология. Журнал «Оффичина», не переоценивая историзма Кроче, признавая его ограниченность, особенно проявившуюся в самых крайних формах крочеанской философии, не отказывался от понятия истории и благодаря этому сумел предложить оригинальную и интересную интерпретацию некоторых процессов, составлявших неотъемлемую часть новой и новейшей литературы. Пасколи, Леопарди, «Ла Воче»*, Ренато Серра, сумеречники, Спитцер и Лукач, пос* Журнал, посвященный вопросам политики и культуры, сыгравший огромную роль в общественной жизни Италии в 1908–1916 гг. 304 левоенная культура левых – об этом и о многом другом шла речь на страницах журнала. Как и Грамши, журнал хотел предложить новое видение всего того, что было живым или считалось угасшим в итальянской литературе двадцатого века. Было ли все это иллюзией? Казалось, что инструменты культуры не подвержены разрушениям и коррупции; подобная иллюзия имела право на существование, однако она была ограничена. Пазолини написал в 1974 году: В журнале «Оффичина» раздражает и вызывает неприятие его наивность, однако это является и его достоинством. То, что его редакторы не смогли предвидеть угрозу неокапитализма и возрождение фашизма, для них, конечно, непростительно. Непростительна и их «критика» ценностей – ценностей левых – при том, что они постоянно демонстрируют свою приверженность этим ценностям. В журнале не было ни неповиновения, ни экстремизма, там присутствовал только спокойный, разумный, созидательный момент. Но это было не настоящее спокойствие, вернее, это было неоправданное спокойствие. В действительности, те, кто руководил журналом – потенциально, только потенциально – намеревались занять место тех, кого они критиковали, критиковали оживленно, строго, но всегда с уважением. То есть они стремились к захвату власти.10 Может быть, это слишком субъективное мнение? Пазолини был, действительно, душой журнала. Его «наивность» отражалась в его друзьях не потому, что сами они были лишены сильных личных качеств, а потому, что все их сообщество неудержимо стремилось сосредоточиться именно на нем. Франческо Леонетти делал вид, что является терпеливым и настойчивым организатором встреч. Роверси, несомнен305 но, вносил в общее дело нечто большее, а не только предоставлял гостеприимство. Пазолини приносил с собой свой опыт организатора культурной жизни во Фриули и идеи, старые идеи, возникшие еще в тот период его жизни. В очерке, который открывает первый номер журнала, Пазолини возвращается к Пасколи, к теме своей дипломной работы. И именно Пасколи, многоязыкий поэт, вновь прочитанный в свете новых тенденций в критике, направляет многоголосие беседы к теме декаданса в итальянской поэзии двадцатого века. В беседе участвуют Леонетти и Романо, они привлекают для подтверждения своих тезисов стихи и прозу, Сбарбаро, Клементе Мария Ребору, Унгаретти. Многоязычие заставляет вспомнить «Академию фриульского языка», этот образ тянет за собой идеи малой родины, «поэтику регресса». Эта последняя, как абсолютно убежден Пазолини, постоянно раскрывается, распространяется, выходит за рамки диалектов, сразу переходит к стилистическому эксперименту. Пазолини пользуется ею, как ключом, в критике своих и чужих стихотворений. Если литературный процесс двадцатого века поднял язык «до уровня поэзии», то обязанностью новой литературы будет «опустить его до уровня прозы». Это приведет к «возможно, непредвиденному использованию стилистики, разработанной до двадцатого века, в современном смысле этого слова, но вошедшей уже в рациональный, логический, исторический язык, превратившейся в своего рода инструмент. Эти традиционные стилистические приемы станут средством эксперимента, который в идеологическом представлении является как раз абсолютно антитрадиционным, настолько нетрадиционным, что ставит под сомнение государственное устройство и надстройку, способен осудить – 306 возможно, слишком тенденциозно и страстно – традицию, которой культура следовала со времени эпохи Возрождения до Контрреформации, до Романтизма, которая продолжалась до фашизма и даже вплоть до настоящего времени».11 Амбициозная программа, амбициозная надежда. Пазолини публикует «Прах Грамши» как обоснование этой идеи. И Роверси, и Леонетти в своих небольших поэмах звучат в унисон с этим пафосом. «Оффичина» – настоящая школа поэтического мастерства. Среди авторов, которые составляют сердцевину журнала, царит редкое единодушие. В общую картину вливается и лирический дар Паоло Вольпони, стихи которого потом войдут в сборник «Врата Апеннин» (1960). Пазолини, истинный лидер группы, выдвинул идею литературы, открытой для обсуждения «проблемы»: его план заключается в создании «нового стиля для нового века», и для его подкрепления он выработал несколько тезисов. Мечта, почти бредовая, состоит в том, чтобы поэзия стала оружием справедливости против Италии пятидесятых. Но страна была уже готова к непредвиденному рывку вперед. Многие ощущали неизбежность грядущих перемен. Экономическое чудо становилось реальностью. Чтобы осмыслить эту реальность, нужны были другие средства, а может быть, и другой личный опыт, отличный от того, которым в тот момент обладал Пазолини. Успех «Оффичины» вместе с успехом Пазолини как писателя и поэта состоял в том, что журнал с огромной интеллектуальной силой обновил культурные ценности сельской католической традиции, которая на протяжении длинной и трудной итальянской истории играла связующую и унифицирующую роль в культуре страны. В этой традиции 307 до последних лет переплетались историзм и декаданс; социалистические идеалы сочетались в ней с надеждой на обновление. Эта традиция, правда, способствовала также и возникновению фашизма, но фашизм представлял собой проказу, от которой необходимо избавиться во имя нового идеала, веры в рациональное начало в человеке. Пазолини живо ощущал это внутри себя, он не обращал внимания ни на то, что мир вокруг стремительно меняется, ни на то, что Италия, всегда готовая моментально воспринять все новое, участвует в этом процессе. Мир менялся. Сталинизм пал на XX съезде КПСС, когда был зачитан секретный доклад Никиты Хрущева. Оптимистическая вера в советский социализм давала трещины. Хрущев в СССР, Джон Кеннеди в Вашингтоне, Иоанн XXIII на престоле святого Петра – все это неслыханные события, стремительно последовавшие одно за другим. Черные годы послевоенного периода: общественное сознание, казалось, наконец избавилось от кошмара. Итальянские коммунисты начали определять свой собственный, национальный путь к социализму. Для того чтобы разобраться в этом стремительно меняющемся мире, необходимо было избавиться от иллюзий. Иллюзии Пазолини, его «непростительная наивность» заключались в том, что он полагал, будто сможет навсегда сохранить положение лидера в литературе, раз уж он его завоевал. Эта его «непростительная наивность» была непосредственно связана с его самовлюбленностью. Воздействие неокапитализма быстро разрушило всякую уверенность. Скоро новая «борьба за власть» сокрушит идиллическое литературное сообщество, благодаря которому расцвел журнал «Оффичина». Признаки этого, еще не очень четко обозначенные, появились уже на тех страницах, что увидели свет в Болонье. 308 «Полемика в стихах» с Эдоардо Сангвинети. С виду – ничего не значащее событие. В номере журнала за июнь 1957 года, для того чтобы подтвердить тезисы, изложенные в очерке «Стилистическая свобода», Пазолини собрал «маленькую антологию нового эксперимента» (тексты Арбазино, Сангвинети, Пальярани, Брунелло Ронди, Марио Диаконо, Микеле Страньеро, Массимо Ферретти). Таким образом он хотел продемонстрировать их пассивность в конфронтации с историей и компромисс в социальной сфере. Сангвинети ответил. Он направил в журнал поэтический текст, терцины – пародию на терцины «Праха Грамши», – в которых обвинял Пазолини в том, что тот исказил его идеи. Сангвинети послал в журнал подборку своих стихов. По его словам, Пазолини выбрал несколько из них и расположил их в последовательности, которая полностью искажала их смысл. Сангвинети протестовал против подобного произвола и категорически не соглашался с тем, чтобы «его поэзию считали поэзией вне Истории». В стихах Сангвинети обращается к Пазолини на «Вы». Какой тонкий психологический ход в этом буржуазном обращении, в самой этой «Полемике в прозе» (так называются стихи Сангвинети): Вы верите в историю, Вы верите в мир, в котором верят, и Вы можете писать, что этим Вы отказываетесь от «уверенности в мире (это Ваши слова) стилистики зрелой, изысканной и даже драматической» в преддверии драмы более возвышенной и более историчной ⟨…⟩12 Сангвинети выставлял напоказ свою методичную «холодность», цинично рассчитывал разрушительную способность 309 собственных обвинений, легко ему было исследовать страстность Пазолини, будто насаженную на булавку бабочку. Смысл пародии в том, что автор пытается отрицать как субъективный подход вообще, поскольку он сомнителен, так и субъективный подход собственно Пазолини – то есть тот самый метод, благодаря которому Пазолини как-никак мог (со всей свойственной ему страстностью, идеологизированностью) обретать каждый раз все новые внутренние силы, использовать свои излюбленные инструменты познания. Сангвинети показывал, что он смело следует по пути, намеченному историческим материализмом («больше истории / несчастная деятельность «побежденных» / а не хитрых»), но, по сути, его нападки направлены лично против Пазолини, «который просто красив, просто король sutor bonus*». Все это может показаться незначительным: наивность Пазолини, так же как и наивность Сангвинети, самовлюбленность Сангвинети и самовлюбленность Пазолини. Нужно очистить все от психологии, и тогда останется конкретный материал, на котором может упражняться критика. С одной стороны идеология, которая считает историческое познание некой точкой отсчета, за которой начинается интеллектуальный и социальный хаос (для Пазолини это будет новый период варварства, «новый доисторический период»). С другой стороны, противоположная точка зрения, согласно которой история – это просто последовательность событий, физиологическая дисфункция, серое болото, в котором бытие тонет without a bang.** Противостояние, по существу, заключалось в следующем: остаточные явления традиционного гуманизма, которые нужно оживить при помощи исторического материализма * Хороший сапожник (лат.) ** Без всплеска (англ.) 310 Маркса, противостояли неопозитивистской социологии в сочетании с обратным течением экзистенциализма. Это противостояние будет повторяться, расти, оно вновь и вновь будет возникать в полемике между сторонниками неоавангарда и его противниками. Эти споры будут подтачивать литературную жизнь Италии в начале шестидесятых годов. Коварство Сангвинети, облаченное в стихотворную форму, было предвосхищением этих споров, их предсказанием. Сангвинети избегал прямой критики Пазолини, но он ставил под сомнение его лидерство. В редакции «Оффичины» был запущен в движение центробежный механизм, который поначалу действовал скрытно, подпольно. Именно в это время журнал пользовался наибольшей популярностью. Первый год издания подходил к концу. Знаменитый издатель, Валентино Бомпьяни, согласился распространять и печатать следующие номера журнала. Но вмешались внешние силы, и периодическое издание, «посвященное поэзии», прекратило свое существование. Полный разрыв отношений с Бомпьяни произошел очень быстро и очень неожиданно. «Оффичина» во втором номере второго года издания опубликовала серию эпиграмм Пазолини, среди которых была и эпиграмма на смерть Пия XII, озаглавленная «К Папе»: Никто не просил тебя прощать Маркса! Огромная волна, которая разбивается о жизнь тысячелетий, тебя отделяла от него, от его религии: но разве в твоей религии не говорится о милосердии? Тысячи людей под твоей властью, перед твоими глазами жили в конюшнях и свинарниках. Ты это знал, грешить не значит причинять боль: не творить добро – вот что значит грешить ⟨…⟩13 311 Валентино Бомпьяни был членом Римского охотничьего клуба, в который входили все влиятельные представители Ватикана. Клуб, сочтя содержание эпиграммы богохульным, возбудил против Пазолини что-то вроде судебного разбирательства. Издатель решил прекратить финансирование журнала. В печати поднялся шум. Пазолини ответил новой эпиграммой, посвященной ватиканской верхушке. Вас и не было никогда, старые бараны папы, а теперь вы как бы существуете, потому что существует Пазолини.14 Таковы факты. Но разрыв с Бомпьяни был просто поводом. Попытки установить контакты с целью продолжения публикации с другими издательствами – с «Эйнауди», «Мондадори» – естественно, не увенчались успехом. Сообщество распалось: казалось, что устарели узы, которые связывали Пазолини и его друзей. Казалась устаревшей и сама мысль о том, что поэзия может стать основой «культурно-политической борьбы».15 Согласно идее Пазолини, творческая функция литературы, по сути, доминировала над политической. Для всех сотрудников, как из Болоньи, так и из Милана, в особенности для Фортини, который был в тот момент активным членом редакционного совета «Оффичины», диалектические отношения между двумя этими функциями были как раз обратными. В то время началась дискуссия о «литературе и промышленности». Начало ей положил Витторини своей публикацией «Менабо» в 1959 году. Затем – первые споры вокруг неоавангарда. Средства массовой информации предсказы312 вали, что культура будет играть не свойственную ей роль, займет место промышленности. Это запускало новый механизм «захвата власти»: «власть» необходимо отнять у тех, кто удерживал ее во имя «абсолютных ценностей» в литературе. Эти «ценности» не имели больше смысла, потеряли свой вес, как девальвированные деньги, их заменили не новые ценности, а другие механизмы. Вполне правдоподобно, что Франко Фортини в дискуссиях на страницах «Оффичины» как раз и поддерживал эти идеи. Фортини, по всей вероятности, лучше всех разбирался в этой проблеме, потому что работал в промышленности, на большом предприятии «Оливетти», которое было организовано Адриано Оливетти, известным оригиналом и либералом.16 Посыпались яростные обвинения. В конце концов в середине декабря 1958 года, в ходе подготовки первого номера нового года издания, в Милане произошел окончательный разрыв между Фортини с одной стороны и Леонетти, Роверси и Романо – с другой. Пасколи при этом не присутствовал. Фортини предложили оставить квартиру Романо – место, где редакторы собирались для обсуждения текстов, которые стоило отправить в печать. Фортини обвинили в том, что он мешал нормальной работе редакции. Эпизод достаточно незначительный, но он показывает, насколько скрытая непримиримость точек зрения может осложнить личные отношения и довести их до состояния крайней напряженности. Есть литература и ее содержание, но есть и общая основа содружества, которая становится все более зыбкой и расшатывает его. За год все разваливается. 26 июня 1957 года Леонети еще мог написать Пазолини восторженное письмо об общем 313 деле, он полагал, что «их ждет очень сложная задача – важная и высокая, – требующая от них не только мужества, но и великодушия». В эпиграмме 1958 года, адресованной «редакторам «Оффичины», Пазолини мог ответить ему в тон: Мы похожи на Дон Кихота, потому что решительно приступаем к изучению нового языка, которого еще не знаем, но должны узнать. Но далее эпиграмма предсказывает: ⟨…⟩ даже время жизни нужно обдумать, а не прожить, и поскольку мы думаем сейчас неметодично, беззвучно, свет и смятение, предвосхищение и цель растворяются в мире и растворяют саму жизнь.17 Конец 1958 – начало 1959 года стали решающими для дальнейшего сотрудничества друзей, объединенных журналом «Оффичина». Кажется, что каждый из них занят чем-то другим. Роверси думает о своем журнале, который потом будет издаваться под названием «Рендиконти»*. Фортини и Леонетти все больше тяготеют к журналу Витторини «Менабо». Пазолини все дальше уходит в мир кино. Романо поглощен работой на телевидении. Зыбкость основы, как я уже сказал. То, что Пазолини главенствовал в этой группе, могло испортить отношения, осложнить их. Вот несколько слов из письма от 11 ноября 1959 года Роверси к Фортини: * Rendiconti – отчет, подведение итогов (итал.) 314 Освободись от комплекса Пазолини и от его судьбы. Это его судьба, а не твоя, не наша. Ищи свою судьбу, ту, которая будет только твоей, а не его, не нашей. Разве мы не хотим оставить путь, который ведет в деревню, за город? ⟨…⟩ Я прекрасно понимаю (и я люблю тебя и понимаю тебя), что ты (солдат Фермопил) все еще болезненно ощущаешь разочарования прошлых лет, которые, как тебе кажется, прошли напрасно; что ты видишь, как молодые львы (и старые тоже) бегут тебе навстречу и бьют хвостом по бокам. Но в прошлом ангажированность была формой политической паранойи, проявлением авантюрной революционности, настоящей отсталостью. Сегодня же, после того как мы преодолели неокапиталистические схемы и сожгли остатки опыта последних лет, мы можем по-настоящему искать и обрести ясность действий. Для того чтобы разместить собственные идеи в нужном месте и проверить их, а потом рассказать о них другим. Отказаться от Горгия и заняться поисками Сократа.18 Возникает вопрос: а были ли действительно преодолены «неокапиталистические схемы»? Действительно ли были «сожжены» «остатки опыта»? «Политическая паранойя» пятидесятых годов растаяла под лучами солнца независимости суждений, но ведь нигде не сказано, что не появилась какая-нибудь другая «паранойя». Как бы то ни было, но «комплекс Пазолини» стал той силой, которая подорвала фундамент содружества. В письме от 1 мая 1959 года Фортини пишет Пьеру Паоло: Постоянно сваливают в одну кучу наши эстетические и критические идеи, качество наших стихов, частную жизнь Пазолини, Бомпьяни, «Оффичину», Папу, путают, если так можно сказать, задницу с молитвой, как говорят во Флоренции. По-моему, ты первым должен был потребовать не 315 смешивать все это. Тебя гонят, преследуют, оскорбляют. Я понимаю твою реакцию, но принять условия противника значит стать его сообщником.19 «Задница и молитва»: в своем резком и горьком упреке Фортини случайно попал прямо в больное место. Пазолини теперь стал предметом множества споров, он не хочет и не может «потребовать не смешивать» то, что должно восприниматься совершенно по-разному: «частную жизнь» и литературу. Жизнь и литература для него составляют одно целое – теперь, как никогда, из их смешения рожается его отношение к публике, полное любви и ненависти. Для многих литература перестала быть сама собой. Она все больше становится частью организации культуры. В «Оффичине», хотя и в очень узком кругу, подобное изменение воспринималось весьма болезненно. Пазолини был теперь уверен только в одном: его существование как художника было связано, и становилось все более неразрывно связанным, с его «отчаянной жизненной силой». Другая жизнь, другие друзья 19 декабря 1958 года в Риме умер Карл Альберт Пазолини. Мой отец страдал и заставлял страдать нас. Он ненавидел весь мир, который для него свелся к двум-трем вещам, которые полностью владели им и с которыми он никак не мог смириться. Он постоянно отчаянно бился головой в стену. Его агония продолжалась много месяцев, он задыхался, постоянно стонал и жаловался. У него была боль316 ная печень, он знал, что тяжело болен, что даже глоток вина ухудшал его состояние, но выпивал по крайней мере два литра в день. Он не хотел лечиться, не хотел продлить свое пустое существование. Он не слушался нас – ни меня, ни мать – потому что он нас презирал. И вот однажды вечером я пришел домой и едва успел проститься с ним.20 Эти слова еще далеки от примирения с образом умершего отца, в них еще внимание сосредоточено на том, что Сюзанна и Пьер Паоло говорят мудрые слова, а их никто не слушает, Карл Альберт занят только своей мрачной судьбой. С этого момента Карл Альберт наконец перестал существовать рядом с Пьером Паоло. Если, как он пишет, «жизнь в доме ничем не отличалась от смерти»,21 его творческая жизнь, несмотря на все тревоги, развивалась под лучами римского солнца. Это была жизнь среди друзей, среди писателей, среди ребят из предместья. Друзья – это прежде всего Бассани, Бертолуччи и Гадда. К ним присоединились Эльза Моранте и Альберто Моравиа, Ренато Гуттузо, Пьетро Читати, Чезаре Гарболи, Николо Гало. И еще Адриана Асти, Эльза Де Джорджи, Лаура Бетти. Пьер Паоло промелькнул в салонах окололитературного света, как молния. Он не был светским человеком; когда он попадал в гостиные, то двигался там с ироничной осторожностью, не принимал никаких светских условностей. Он не принимал и манерности в дружбе. Перед преувеличенной галантностью он терялся, а в последние годы преисполнялся сарказма. Долгой, страстной дружбой, продолжавшейся более двадцати лет, дружбой нежной и преданной было то чувство, которое он питал к Альберто Моравиа и Эльзе Моранте. И они отвечали ему взаимностью. 317 Пьер Паоло познакомился с Эльзой, когда дружил с Тоти Шалойя. Их объединяли творческий христианский подход к жизни и инстинктивная привязанность к мифам декаданса. Объединяло также и мучительное стремление всегда говорить только правду. В их дружбе была довольно примечательная сторона: они оба любили играть. Например, у них была игра, когда они рассказывали друг другу сны и толковали их, или толковали в духе психоанализа жесты, свои и чужие. Отношения Эльзы и Пьера Паоло были отмечены религиозным восприятием бытия, а отношения между Моравиа и Пьером Паоло основывались на общем интересе к политике и культуре. Иногда между ними возникали крупные разногласия: просветительская и космополитическая матрица культуры Моравиа не совпадала с подспудными христианскими воззрениями Пазолини. Но эти разногласия не разрушали их отношений, а, наоборот, укрепляли их: один объяснял другому, как бы невольно, неосознанно, почему он принимает те или иные решения, как именно мыслит, и это, несмотря на различия во мнениях, позволяло продолжать диалог. Моравиа испытывал особый интерес (и не скрывал этого) к древним цивилизациям: этот интерес побуждал его пускаться в путь по дорогам стран Третьего мира. В этом Пазолини его поддерживал и с энтузиазмом отправлялся с ним в путешествия по Индии, по Африке. Моравиа и Пазолини были знаковыми фигурами для «римского литературного сообщества»: скорость, с которой они реагировали на любое новое интеллектуальное движение, естественность, с которой они подходили к самым разным проблемам, сделали их уязвимыми для критики, вызывали со стороны многих журналистов определенную нетерпимость. Несмотря на это инстинктивная способность схватывать наиболее чувствительные моменты действительности – способность, присущая им обоим, – 318 сделала их неотъемлемой частью литературного процесса и споров вокруг него. Моравиа познакомился с Пазолини позднее, чем Эльза Моранте. Их дружба завязалась в 1955 году. Эльза принесла Моравиа «Прах Грамши» – «гражданскую поэму», которую Пазолини только что написал. Эльза хотела, чтобы Моравиа опубликовал ее в журнале «Нуови аргоменти»*. Это был журнал, посвященный вопросам культуры и политики, который Моравиа редактировал вместе с Альберто Кароччи; «Нуови аргоменти» был площадкой для полемики в коммунистическом, марксистском духе. Наиболее конкретным и проблемным выражением этого направления журнала стали очерки Ноберто Боббио о независимости культуры от политики. Но журнал уделял внимание и новой итальянской прозе. Поэтические произведения в нем не публиковались. Из-за этого Альберто Кароччи не хотел публиковать поэму Пазолини: она была в стихах, и он не мог ее опубликовать, хотя ее содержание полностью соответствовало темам журнала. Моравиа страстно защищал поэму, и в конце концов «Прах Грамши» появился в номере за ноябрь 1955–февраль 1956 года (номер 17–18). Это произошло как раз тогда, когда полемика вокруг «Шпаны» была особенно яростной. Друзья часто ходили по вечерам в ресторанчик. Моравиа и Эльза Моранте никогда не ужинали дома. Пазолини к ним присоединялся. Иногда приходили и Бассани, Пенна, Паризе, Бертолуччи, Аугусто Фрассинети. Зимой они обычно ужинали в «Кампане» на улице Кампана, или в «Болоньезе» на площади Дель Пополо, или в «Карбонаре» на Кампо Деи Фьори; в Трастевере в «Паста* Nuovi argomenti – новые темы (итал.) 319 релларо» или «Карло». Летом они предпочитали ходить в ресторанчик на улице Аппиа Антика, в двух шагах от ворот Сан Себастьяно, за городскими стенами. Там летом на улицу, под навес, выносили столы из грубо обработанного дерева и скамьи. Неподалеку проходила железная дорога. Друзья называли это место «поезда», они ходили туда есть феттучини* и бараньи котлетки на косточке. За ужином Эльза и Моравиа постоянно спорили, иногда перепалка начиналась и между Эльзой и Бассани. Пьер Паоло неожиданно вмешивался в разговор, его реплики иногда были сухими, едкими. Но чаще он предпочитал говорить покровительственным тоном. Он никогда не был разговорчив, свое несогласие он выражал спокойно, открыто, только если его что-то по-настоящему задевало. Ему нравилось, когда другие дурачились и шутили, даже если шутки были не совсем безобидными, как это случалось с Пенной, который любил посплетничать и был остер на язык. Пазолини всегда был привязан и к Эльзе Де Джорджи, у которой и с другими его друзьями сложились близкие отношения. С ней он проводил более или менее регулярно несколько вечеров в месяц, и это продолжалось годами. Они ходили куда-нибудь поужинать, обычно в ресторан на улице Дела Вите, который назывался «У Марио». Эльза Де Джорджи, которой нравилось производить впечатление на окружающих – немного в духе кино сороковых годов, белые телефоны** и всякое такое, что, впрочем, и не * Длинная лапша. ** Кино белых телефонов – термин, указывающий на итальянский кинематограф конца 30-х – начала 40-x годов. Оторванность от реалий муссолиниевской Италии была основной особенностью этих лент. Их действие обычно разворачивалось в роскошных гостиных, в которых как знак роскоши всегда присутствовал белый телефон. 320 удивительно: ведь она была довольно известной звездой экрана, – появлялась с изысканным макияжем, сложной прической из прекрасных светлых волос; она носила с собой огромную белую сумку-холодильник, чтобы шампанское всегда было у нее под рукой. Она потягивала шампанское, ела татарские бифштексы и с необыкновенным жаром рассуждала о классической культуре, которую обожала. Пьер Паоло слушал. Тесная и длительная дружба с Лаурой Бетти началась примерно в 1958 году. Она постоянно крепла, и после периодов разлуки они начинали встречаться вновь, потому что Лаура, страстно любившая ум и успех, не могла остаться в стороне от растущей славы Пазолини. Агрессивность Лауры привлекала Пьера Паоло. И наоборот, его агрессивность, его способность мгновенно понять смысл полемики и вступить в нее привлекала ее. Именно поэтому она однажды совершенно неожиданно взяла его под руку и бросила с вызывающим видом стоявшим вокруг: «Это мой муж». Это было уже в начале семидесятых годов. Желтая пресса называла Лауру Бетти «тигрицей»: короткая стрижка, платиновые волосы, глаза, которые были так сильно накрашены, что казались запятыми, оттянутыми к вискам. Она славилась шумными ссорами с любым, кто попадался у нее на пути, и неожиданными и стремительными любовными связями. Она играла не только в театре, но и на улице. Она жила на улице Дель Бабуино и была там настоящей королевой. Резким голосом она пела песни известных авторов, она их искала, преследовала их своим пением и болтовней, но и они искали ее общества, и это приносило ей вожделенное удовлетворение. Она изобрела новый вид гламура? Это был своеобразный способ стать примадонной, шокируя окружающих, чтобы привлечь к себе внимание репортеров. Она льстила и оскорбляла одновременно. Это было ее лицо на публике, а в 321 частной жизни ироническое отношение к себе самой не позволяло ей сохранять выдуманный ею же образ. Она обожала устраивать у себя дома ужины, немного балаганные и сумбурные. Квартира у нее была небольшая: две смежные комнаты, справа, сразу за входной дверью, кухня. В этих комнатах собирались все: киношники, литераторы, журналисты, модельеры, ребята из предместья. Это смешение людей, принадлежащих к разным слоям общества, было признаком перемен: она как бы стремилась узаконить нарушение кодекса светской жизни. Эти ужины забавляли Пьера Паоло; иногда Лаура делала их еще забавнее, устраивая аукцион, на который выставляла всякий хлам, скопившийся у нее в доме. Но у Лауры была еще одна способность: она могла стать неотъемлемой частью жизни людей, к которым испытывала искренние чувства. Она могла помирить поссорившихся супругов, могла разорвать связи, которые казались очень прочными, а на самом деле были эфемерными. Пьеру Паоло она подарила множество замечательных мгновений. Она подружилась с Сюзанной, она могла ее развлечь, очаровать ее своей веселостью и непосредственностью. Она поняла, что для Пьера Паоло кухня, еда представляли особенную важность, и тогда она, отличная кухарка, прекрасно знающая болонскую кулинарную традицию, взялась готовить для него. «Кухня Лауры» с годами превратилась в ритуал, а само слово стало среди друзей метафорой ее умения выстраивать отношения между людьми – казалось, ей и тут были известны какие-то точные рецепты. Это и была «сладкая жизнь»; эта жизнь действительно была сладкой, незабываемо приятной, хотя и слишком раз322 бросанной, хаотичной. Такой жизнью жил Рим в годы между закатом старой идеологии и началом «экономического чуда». Феллини в своем фильме передаст аромат этой жизни, ее атмосферу, и уже тогда – живя этой жизнью, снимая ее – он будет тосковать о ней. В иллюзорной и уютной обстановке, царившей в то время в Италии, терялись и угасали сложные политические и социальные проблемы. Правительство Тамброни будет ожидать в 1960 году решительных выступлений правых. Это будут непростые дни массовых выступлений*. Переход к участию социалистов в правительстве пройдет достаточно напряженно. Это будет первым признаком неспокойного и трагического будущего, которое уже вызревало в недрах итальянского общества. Пазолини вместе с Серджо Читти написал несколько сцен для фильма Феллини. Это диалоги для группы гомосексуалистов-проституток, участвующих в оргии. Это и было его участием в «сладкой жизни», участием крайне незначительным: он как будто прошелся по ней на цыпочках. Пазолини жил совсем не «сладко». Вся нежность и «сладость» в нем погибли, были подавлены, он просто не мог жить спокойно и бесстрастно. Сложности рождались в его душе и распространялись на все, что его окружало. Очень скоро друзей-писателей, с которыми он поддерживал более или менее постоянные отношения, можно * В марте 1960 года при активной поддержке крайне правой партии «Итальянское социальное движение» премьер-министром Италии был назначен Франческо Тамброни. Его кабинет продержался у власти четыре месяца. Время его руководства запомнилось прежде всего жестоким разгоном демонстрации итальянских коммунистов и введением цензуры, которая запретила ряд фильмов, в том числе и «Сладкую жизнь» Ф. Феллини. 323 было пересчитать на пальцах. Это был небольшой кружок римских интеллектуалов, о которых мы уже упоминали. К ним можно добавить Кальвино, Вольпони, Леонетти. С другими отношения быстро ухудшились. Молниеносный успех «Шпаны» пришелся не по вкусу литературному сообществу. И это литературное сообщество готово было поднять бурю в любом стакане воды. В 1957 году «Прах Грамши» был выдвинут на премию «Виареджо»* и получил ее, но только после долгих споров и обсуждений. Его соперниками стали «Стихи» Сандро Пенна и «Почти приключение» Альберто Мондадори, с которыми он ее и разделил ex aequo.** В 1959 году и «Жестокая жизнь» будет выдвинута на ту же «Виареджо» как лучшее произведение в прозе. Члены жюри резко и недвусмысленно выскажутся против романа, однако Джакомо Дебенедетти выдвинет его на другую премию, «Кротоне»***, которую роман и получит. В то время литературные премии еще играли роль своеобразного указателя, рекомендации для читающей публики, тогда они еще свидетельствовали о качестве произведения. Обсуждение произведений, выдвинутых на премию, превращалось в общекультурную дискуссию. В неприятии произведений Пазолини со стороны некоторых критиков наблюдался психологический момент: они судили литературу с позиций морали. Но, тем не ме* «Виареджо» – одна из старейших и наиболее престижных литературных премий Италии. Создана в 1929 г. писателями и журналистами Л. Реначи, К. Сальса и А. Колантуони. ** Поровну, наравне (лат.) *** «Кротоне» – премия, учрежденная коммуной города Кротоне (Калабрия). Ее присуждали за лучшее литературное произведение, посвященное молодежи – выходцам из этого города. Один из героев «Жестокой жизни» – уроженец Кротоне. 324 нее, само их выдвижение уже было событием в культурной и политической жизни, несмотря на все сплетни вокруг них самих и их автора. Все это Пазолини прекрасно понимал. Он сказал решительное «прощай» литераторам – «своим современникам» в эпиграмме 1958 года, и вовсе не потому, что дело касалось его «личной жизни». Я вас вижу: вы существуете, мы остаемся друзьями, мы рады видеть друг друга, мы здороваемся в кафе, в домах ироничных римских дам… Но наши приветствия, наши улыбки, наши общие увлечения – все это происходит на ничейной земле, это waste land* для вас, а для меня – граница между одной историей и другой. Мы не можем больше жить в мире и согласии, я содрогаюсь от этой мысли, но в нас сосуществуют два враждующих мира.22 Такой «враждующий мир» складывался в его душе, перед его глазами возникал набросок будущей огромной картины, изображающей всеобщее презрение к герою. Но в то время он еще питал надежду на то, что сможет завязать через литературу другие личные связи, другие дружеские отношения. В те годы Пьер Паоло познакомился с Массимо Ферретти. Ферретти был из города Йези, из состоятельной семьи. С детства он страдал ревматоидным эндокардитом, и эта болезнь с ее тяжелыми осложнениями постоянно заставляла его жить в ожидании смерти, которая и последовала 19 ноября 1974 года. То, что он знал, что болен, и болен неизлечимо – в его ожидании смерти было что-то трепетное, обреченное и прекрасное, – заставляло его испыты* Пустая земля, пустошь (англ.). 325 вать особое яростное презрение к другим людям – как он говорил, у него люди «вызывали аллергию». Знакомство с Пазолини произошло самым естественным путем. В 1955 году, когда вышел первый номер «Оффичины», Ферретти, которому тогда было двадцать лет, послал Пьеру Паоло свои стихи, и они были опубликованы. Потом они стали переписываться, часто встречались в Риме и в Болонье. Пьер Паоло был покорен этим больным мальчиком, страстно желающим жить. А для молодого Ферретти Пазолини стал олицетворением «единственной настоящей дружбы». Так Массимо написал ему в письме от 10 января 1959 года. Для него это означало крайнюю степень чувств. Пазолини питал иллюзии, что сможет пойти в этих чувствах дальше. Ферретти в том же письме от 10 января 1959 года написал ему: «Я не ужаснулся твоему проявлению чувств. Но у нас разное представление о дружбе: я люблю тебя, но не могу думать о тебе как об объекте любви». Шаг навстречу со стороны Пазолини, отказ Ферретти. Такое могло случиться. И должно было случиться гораздо раньше. 5 февраля 1958 года Ферретти ему написал: Я очень дорожу нашей дружбой. Я благодарен тебе не только за то, что ты опубликовал в «Оффичине» несколько моих стихов. Твое творчество открыло для меня новый мир, в мире всеобщего смятения ты стал для меня точкой опоры, примером нравственности… Я хочу сказать, что твое интеллектуальное воздействие на меня стало абсолютным, сыграло решающую роль в формировании моего характера, оно принесло свои плоды и в моей практической жизни. Мне было двадцать лет, и я сделал из тебя героя («Ты из когорты победителей»):23 в этом моя единствен326 ная вина. А когда я понял, что и для моего героя страсть – не милость Божья, моя реакция была вполне естественной: я превратился в негодующего обывателя и молча, смущенно улыбаясь, отрекся от былого идеала. Итак, для Ферретти отказ был не просто «смущенной улыбкой». Пазолини, видимо, попросил у него доказательств любви. Молодой поэт был его «открытием», он испытывал к нему огромную нежность, вместе с которой разгорелась и эротическая искра. «Юноша» Тенути Спаньол тоже был поэтом. Это более чем исключение. Пазолини много раз повторял, что тела состоятельных молодых людей неизменно ассоциировались для него с бедой, несчастной судьбой, что их свежесть только кажущаяся, поверхностная. Каждый из них, по его мнению, был подавленным, неспособным признаться самому себе, на что его толкает желание, какие эротические мечты он переживает, какой неистовый эрос им владеет. Но Пьер Паоло, находясь рядом с Ферретти, должно быть, испытал острую потребность в дружбе, в которой мог бы загореться огонек надежды – надежды на то, что между ними возможна не только интеллектуальная связь, но и физическая, связь с человеком, который исповедует с тобой одну и ту же веру. От других, с кем он был близок, он в какой-то момент надеялся получить не только «сострадание или симпатию», но что-то большее, то, что могло удовлетворить его неистощимую потребность в любви, то есть «любовь искреннюю, но не имеющую будущего».24 И он ошибался, потому что, несмотря на то что был очень проницательным и тонко чувствовал, часто имел слишком примитивные представления об эротическом влечении других людей. 327 Этот эпизод в дружбе с Ферретти выдает болезненную тоску Пазолини по дружбе и любви. Настоящие трудности и неприятности доставляли Пазолини его отношения с публикой. То, что произошло вокруг вручения роману «Жестокая жизнь» премии «Кротоне» за лучшее произведение в прозе осенью 1959 года, более чем показательно. Как я уже сказал, книга была выдвинута на премию на волне литературной полемики, после того, как жюри премии «Виареджо» решительно его отвергло; этот отказ широко обсуждался в печати, вокруг него ходили самые невероятные светские пересуды. К этому добавилось и еще одно. В августе этого же года Пазолини написал для одного итальянского журнала репортаж о пляжах.25 Там были и строчки, посвященные Калабрии. Они вызвали журналистскую перепалку, которая вылилась в судебный иск. В Калабрии Пазолини увидел трагические стороны, бедных и голодных людей. О Курто, местечке в нескольких километрах от Кротоне, он написал: Это действительно место, населенное бандитами, совершенно такое, как показывают в вестернах. Вот женщины бандитов, вот дети бандитов. Здесь ясно ощущаешь, что жизнь проходит вне закона или, по крайней мере, вне культуры нашего мира, на другом уровне. В улыбке молодых людей, которые возвращаются к своей жестокой работе, ясно ощущается избыток свободы, почти сумасшествие. Мэр Курто возбудил иск против Пазолини, обвинив его в диффамации как раз в те дни, когда «Жестокая жизнь» должна была получить премию. За этим последовало неприятное расследование, главными причинами которого были ложный кампанелизм и политические дрязги. Сам этот мэр 328 представлял Демохристианскую партию, а премию «Кротоне» присуждала администрация, состоявшая из коммунистов. Премию вручили 12 ноября 1959 года. Заявление мэра Кротоне помечено датой «17 ноября»26. Настоящий фарс. Местные газеты устроили скандал по поводу вручения премии автору, обвиняемому в диффамации Калабрии. Префект Катандзаро потребовал аннулировать результаты голосования по премии. Но иск не имел последствий. Буря утихла так же внезапно, как и началась. Этот случай и последовавшие за ним пересуды и споры заставили Пазолини увидеть, что он оторван от реальной действительности. Он почувствовал горечь от того, что пострадали его чувства и амбиции, что он оказался целью злобных наговоров. В его жизни постоянно ощущалась пустота: он не мог найти поддержку, которую искал, прежде всего, у своих читателей. В тех связях, которые устанавливались вокруг него, в самом своем успехе он чувствовал нечто, что его унижало, нечто двусмысленное: он не знал, как смотреть на тысячи свои читателей – «с любовью или с подозрением».27 Замкнутый круг: отказ порождал успех, успех – другой отказ. Жизнь ускользала от него, оставляя позади блестящий след тревог и забот: Большую часть жизни я провожу далеко за городом, за последними остановками автобусов, можно сказать, замыкаюсь в среде плохого поэта-неореалиста. Я страстно люблю жизнь, и это приносит мне одни неприятности. Я имею в виду физические проявления жизни: солнце, траву, молодость. Это порок гораздо худший, чем кокаин, он ничего мне не стоит, предмета любви всегда в избытке, количество его безгранично, и я его поглощаю, поглощаю… Чем это все закончится, я не знаю». 28 329 Поэт «Праха» «Моя поэзия отличается от поэзии двадцатого века, в ней логическое заменяется лишенным логики, проблема заменяется милосердием».29 Пазолини охотно снабжал газеты и журналы своими рассуждениями и заявлениями. Его поэтика, его восприятие литературной жизни двадцатого века становились предметом газетной хроники. Уже Д’Аннунцио умело пользовался средствами массовой информации, чтобы пропагандировать собственный образ писателя, зачастую нарушая правила хорошего тона, принятые в то время. Пазолини от него не отстает. Имя Д’Аннунцио сразу возникает рядом с именем Пазолини. Пазолини с презрением отвергает подобные сравнения. У этих двух поэтов есть одно различие: итальянская буржуазия во времена Пазолини еще не отреклась от Д’Аннунцио. Несомненный конфликт между ним и обществом был отмечен определенной игрой, в которой обе стороны сознавали свою роль. С его стороны это была буффонада, то есть нарушение общепринятых норм поведения, которое буржуазное общество дозволяло и себе, но никак не больше. Благодаря этому Д’Аннунцио знал себе цену и, не колеблясь, делал сам себе рекламу. Пазолини же был поэтом, которому как раз и недоставало общественного заказа: он был готов сражаться, чтобы получить его. Внутри общества он избрал себе роль собеседника, который отдал предпочтение будущему, будущей истории, левым, коммунистам. Пазолини наблюдал «жизнь» (может быть, в этом слышится отголосок Д’Аннунцио?), но его наблюдения часто разочаровывали. Те, кого он избирал, часто противились его призывам. Чтобы продвигаться впе330 ред по трудному пути, Пазолини-поэт избрал рационализм, заменил в стихах «логическое лишенным логики, проблему – милосердием», он открыто заявил о своих внутренних противоречиях и выставил их напоказ. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы его поняли. И все же достаточно, чтобы он, хотя и не так, как Д’Аннунцио, сделал сам себе рекламу. И он трудился с ожесточением человека, который не обращает внимания на отрицательные высказывания в свой адрес, а продолжает делать свое дело. Он наперед знает, что его судьба не столь блистательна, он пытается восполнить это разными видами мифотворчества, отмеченного патетикой и жертвенностью. И вот я сам... несчастный, облаченный в одежды, на которые бедняки бросают взгляд, проходя мимо витрин, блистающих роскошью, той самой роскошью, которая затмила грязь далеких улиц, жестких скамеек в трамвае, роскошью, которой я стесняюсь...30 Эта фигура жертвы не просто автобиографична – это героический образ, может быть, даже риторический, но это образ человека, который отличается от всех, он «другой», и благодаря этому он не подвластен материальной вселенной, миру экономики. Он может позволить себе свободно говорить о мире и о том, что его наполняет, о жизни других людей. А им, другим людям, в этом отказано. Мифотворчество, склонность к фантазии: верность образу, жертвенное подчинение идеалу, модели истины. Быть «другим» – это символ протеста поэзии против попытки 331 превратить ее в товар, против технической эволюции, против «антропологического геноцида» (смутное предчувствие которого появляется у него в эти годы). У Пазолини появилась болезненная склонность к фантазированию, вроде той, что была свойственна Бодлеру; она проявляется у Пазолини абсолютно так же, как и у французского поэта. Как и Бодлер, который в порыве полемических страстей против абстрактного романтизма придал новое значение александрийскому стиху и замкнутой строгой форме сонета, Пазолини, выступая против неоэкспериментализма, заново открыл одиннадцатисложный стих и терцину, используя в них все приемы, свойственные классической композиции. У Бодлера традиционные средства поэзии должны были усилить коммуникативность стиха – и у Пазолини тоже поэтика «стилистической регрессии» должна была обеспечить успех на литературном рынке и широкое распространение стихов. Ливио Гардзанти в уже упомянутом письме от 27 июля 1957 года пишет (томик «Праха» был распродан в книжных магазинах за несколько недель, меньше чем за месяц): «Ваша книга пошла хорошо. Я сглупил, напечатав только 1500 экземпляров. Я велел допечатать тираж, потому что предыдущий весь разошелся за несколько дней». Успех, вызванный скандалом? Эхо «Шпаны», судебные разбирательства и сплетни способствовали тому, что томик так быстро продавался? Многие из злобы говорили про Пазолини, что он запрограммировал собственный успех. Что же, подобное утверждение может быть верным в философском смысле слова «запрограммировал». Поэтика Пазолини создает новую фигуру поэта, новую по сравнению с той, которую обозна332 чил в итальянской литературе двадцатый век. Но не новую по сравнению с Д’Аннунцио. И эта новизна превосходит художественную выразительность, «вовлекает публику в поэзию» (так же, как вовлекала в свое время Д’Аннунцио). Есть в Пазолини что-то от фанатика старых времен, постоянно распевающего лауды* и носящего власяницу; есть в нем дух самобичевания, которым отмечены героические личности, святые, мученики – в общем, все те, кто живет в каком-то постоянном атавистическом метафизическом протесте; они, кажется, отмечены судьбой только потому, что не могут не доводить до крайности свою фундаментальную, врожденную неустроенность. К этой неосознанной фаустовской тенденции воплощать в театре собственного характера вселенскую драму самого факта своего рождения, окрашивая ее в микеланджеловские оттенки, Пазолини добавляет острое, бурное восприятие точки, в которой встречаются (а как они, впрочем, могли бы не встретиться?) с одной стороны, «вечное» зло (и литературное, в том числе) и, с другой стороны, самые яркие и востребованные идеалы нашего века (то есть социализм и «коммунизм»).31 В этом портрете Чезаре Гарболи вписывает в итальянскую литературную традицию декадентство Пазолини с его склонностью к фантазиям и жертвенностью. Он говорит также, что поэт (поэт, отмеченный этим знаком) не вписывается в координаты прошлого, а воспроизводит эти координаты в настоящем, сжигая за собой все мосты. Поэт, создавший «Прах», не чужд музыкальной мелодике, которой свойственны долгие болезненные аккорды. * Лауда – жанр бытовой духовной лирики, широко распространившийся в Италии в XII–XIV вв. 333 Этот нечистый воздух не может быть майским, темнота чужого сада делает его еще темнее, он ослепляет слепыми просветлениями ⟨…⟩32 Мелодичность накладывается на пентаграмму прилагательных, которые вызваны скудностью картины, связаны с движением похоронной процессии, каким-то мертвенным блеском. «Чахлые» кипарисы, «пожухлая» трава, «сиреневый» воздух, «старое» чувство недоверия, «смущенный» подросток, «грязные» пляжи: «отчаянная любовь» ко всему живому смешивается с глаголом «теряться» в «молчании» жизни, таком «гнилом и бесплодном». Это поэзия «судеб, переживших свое время»; «здесь вера – это тишина смерти». Город, на фоне которого разворачивается вся поэма, расходится «огромными полукружьями» «безжалостный в сострадании», теряет цвет на фоне архитектурных сооружений, освещенный неверными лучами. Английское кладбище в Риме – это скромная аллея на окраине, вдоль стен Аурелия, неподалеку от пирамиды Кайя Цестия. Полоска земли, невысокий холм, возвышающийся у горы Коччи, у Тестаччо. Сегодня там скоростная автострада, а в 1954 году (когда была написана поэма Пазолини) это был пустынный уголок города, где по краям росли кипарисы, темные контуры которых четко выделялись на фоне серого камня остатков городской стены и римских развалин. Шум городских улиц сюда почти не доносился, таял вдали. Там и находится могила Грамши. Она затерялась среди других могил «людей светских», среди «выгоревших зарослей самшита, которые вечером / распространяют вокруг острый запах водорослей». 334 Должно быть, это был тихий вечер, когда быстро спускается тьма, как это обычно случается в южных городах. В этом быстром наступлении темноты ощущается присутствие вечности: это легкий бриз, который уносит человеческую сущность вдаль от повседневной жизни, но не разрушает ее, оставляет нетронутой. Жизненная сила Пазолини в час тихих сумерек открыла собственную бесстрастную неподвижность, скрытую ото всех изнаночную сторону, разочарование, которое помогает излить тревогу. Жажда познания, стремление проникнуть в историю, непрерывное стремление оценить себя самого и окружающий мир «терялись» на «забытых дорогах» в «темном возмущении совести». «Суровость» Грамши, значение этой могильной плиты, которую окружают молчание и непричастность» («благородная / скука окружает тебя»), проникали, как скальпель, в нарыв невинности, чувственности, в сгусток экзистенциальных рисков, для которых душа поэта была убежищем. «Упоение ностальгией», «поэтический свет» разрушают контуры мира: они закрывают свет заката, «завывание сырого ветра». Человек не может избавиться от собственной физиологической нерешительности. ⟨…⟩ Как я владею историей, так и она владеет мной; я ею освещен: но зачем нужен свет? Социалистический миф расцвел в душе Пазолини абсолютно естественно, как он расцветает в душе романтика, который принял в этом мире сторону отверженных: он чувствует свою близость к ним, хочет стать выразителем их надежд и чаяний. Но его «непохожесть», его смирение с судьбой изгнанника и бродяги, которая является неизбеж335 ным следствием этой непохожести, требовали от него максимальной точности выражений. В рамках идеологии левых, которую исповедовал Пазолини, был совершенно не востребован вопрос о личной этике, о новой морали, согласно которой человека необходимо принимать во всей его целостности, со всеми его особенностями. Я не говорю «личность», феномен чувственной страсти, чувств вообще… у нее другие пороки, у нее другое имя и фатальность ее греха… Но в ней смешалось столько грехов обычных, первородных. Это грехи объективные! Получается, идеалы левых питают и развивают коллективное обновление, но они же, с другой стороны, подавляют чувство справедливости (далеко не только экономической), которое человек, вот этот самый человек – вор и бандит, гомосексуалист и негр в глубине души – стремится удовлетворить для себя самого и внутри самого себя. «Прах Грамши» рождается из необходимости определить, в чем состоит насущность требования подобной справедливости. Я думаю, что «гражданская» новизна поэмы как раз в этом и состоит, так же как и в решении личных проблем, проблем культурной политики, и в обращении к самым отверженным, униженным и забытым обществом читателям. ⟨…⟩Хорошо защищенное нечистыми добродетелями и упоением грехом, защищая наивность одержимости – и с каким умением! – живет Я; Я живое, не замечая жизни, а в груди у него 336 ощущение жизни, которая несет успокоительное и жестокое забвение ⟨…⟩ Кажется, что свобода и необходимость противопоставлены друг другу, а Я полностью подчинено неразрешенным и неразрешимым проблемам исторического Сверх-Я, развитию цивилизации, в которой доминирует закон подавления. Как далеко от этого утопическое высвобождение психической энергии! А тревога, вызванная «не-жизнью», жизнью-забвением, забвением «утешительным и жестоким», напротив, находится совсем рядом. Пазолини ставит следующее трагическое условие: его «непохожесть» позволяет ему выставить себя на всеобщее обозрение: «Как я понимаю вихрь / чувств». Но чтобы выразить это, он должен заплатить, и весьма ощутимо, болезненно: ему нужно поглотить все бытие, переварить его и вернуть в зашифрованном виде в свободном послании, его поэзия превращается в своего рода «осознанно поэтическую»33 программу. Отчаяние, кажется, приводит ее к крайностям, к перегруженности философским содержанием. Пазолини прибегает ко всем стилистическим приемам, хранящимся в сокровищнице итальянской литературы, для того чтобы это его Я получило особенно ясное словесное воплощение. Но Я предстает как нагромождение лексических, синтаксических и ритмических отложений. И жизнь, к которой поэт обращается, чтобы выразить свое Я, – жизнь, полная свободы и счастья (где предопределение – это историческая, классовая накипь), – едва брезжит на фоне плотной и беззвучной завесы: ⟨…⟩ беспокойная жизнь, которой глухой шум трамваев, крики людей, диалектальные словечки создают музыкальное сопровождение ⟨…⟩ 337 Это моральная пустота, предвосхищение грядущей эпохи варварства; Я превращается в развалины, личность не может спастись, история умирает. Что останется по ту сторону «жужжащего мира, в котором жизнь безмолвствует»? ⟨…⟩ Тогда лучше выявится поразительная, выжженная чувственность, почти александрийская, которая все расцветит и озарит нечистым светом ⟨…⟩ Мир рисковых парней уходит в темноту – можно сказать, что он был «александрийским», «расцвеченным», но тление уже коснулось его. Открытие Рима и плотского «счастья» уничтожило само себя. Перед Пазолини открывался путь «выживания»: ⟨…⟩ Но что я, человек с мудрым сердцем того, кто может жить только в истории, смогу ли я действовать со всей страстностью, если я знаю, что наша история закончена? Этим вопросом заканчивается поэма «Прах Грамши». Пазолини работал над ней, как над огромной фреской, охваченный одержимостью творца, который боится, что не сможет завершить свое произведение: иногда с беспредельной нежностью, иногда вырывая из себя слова, в поисках своего, особенного стиля. Болезненная необходимость высказаться превращает поэму – иногда в ней могут проявиться повествовательные мотивы Пасколи или варварские оды Кадуччи – во что-то необычное, ненормальное, создает впечатление незавершенности. Это скорее личный дневник, а не поэма. 338 Финальный вопрос представляется исключением. С одной стороны, на сцену выходят инстинкты, «эстетическая страсть»; с другой – образ Грамши-героя, это он – Сверх-Я, он – отец. Это образ, который сознание с трудом воссоздает, следуя гармоничному ритму терцин. От конфликта не остается никаких следов, кроме «темного возмущения совести»: Возмущение вызывает то, что я противоречу сам себе, что я с тобой и против тебя, с тобой в сердце, в свете, против тебя в мрачной плоти ⟨…⟩ А за этой одержимостью свет римского вечера, свет вне времени, вне истории: звук трамваев и крики доносятся от Тестаччо; слышно, как бьет молот по наковальне; окутанные «грязной похотью», как облаком, проститутки поджидают солдат. Повседневная жизнь квартала застывает, как на tableau vivant*. Кажется, что Пазолини, достигнув вершины своих выразительных возможностей (а ведь создается впечатление, что его стиху подвластно все), совершил поворот в своем творчестве, после которого пути назад уже не будет: он говорит о конце истории, подразумевая и конец самой поэзии, своей собственной поэзии. Конечно, крайняя точка, до которой он дошел в «Прахе», была затребована новой личностной нравственностью, драматическую нехватку которой он ощущал внутри идеологии левых, поскольку был христианином и католиком. Но эта востребованность была почти сразу же отвергнута, поэтому все усилия оказались напрасными. В крах этих идей было вовлечено все: идеи, история и даже личные судьбы. * Живая картина (франц.) 339 Крах, переосмысление главных ценностей, может быть, и составляют «гражданскую» суть поэмы. Необходимость радикальных перемен была очевидна, но казалось, что поэзия не в силах найти нужные слова, нужный ритм для того, чтобы удовлетворить эту потребность. И все же «Прах Грамши» занимает особое место в творчестве Пазолини. В поэме ощущается трагический разлад души, которая хотела бы объединить прежде всего в себе самой – счастье, справедливость и свободу. Но этот разлад свойственен не только этой душе, он характеризует целое поколение, которое поверило, что находится накануне великих перемен и обладает огромными возможностями. Идеи, на которых это поколение было воспитано, вели его к величайшим завоеваниям. Но внезапно со всей очевидностью стало ясно, что идеи эти бессильны перед непреодолимыми соблазнами существования. Сама жизнь превратилась для него в мечту, которую невозможно воплотить. В отличие от великой кладбищенской поэзии ранних романтиков Томаса Грея и Уго Фосколо, для Пазолини невозможно представить себе, что «even from the tomb the voice of nature cries»*; если голос «вопиет» и «плачет», это прелюдия конца, finis historiae**. Полемика в стихах Finis historiae. Идея апокалипсиса – ее рецепция разделяет Пазолини и коммунистов. * «И вопиет природа из гробниц» (пер. С.Черфаса) – строчка из «Элегии на сельском кладбище» Т. Грея. ** Конца истории (лат.). 340 Отношения между ним и некоторыми интеллектуаламичленами партии – а значит, между ним и партийной печатью – резко осложнились после публикации романа «Шпана». С одной стороны, теологическая косность марксистов: ⟨…⟩ Они несгибаемы, они мрачны в своих суждениях: тот, кто носит власяницу, не умеет прощать. От них нельзя ждать и крупицы сострадания: не потому, что так учил Маркс, а из-за их собственного бога любви, простой победы добра над злом, который всегда присутствует в их делах ⟨…⟩34 С другой стороны, конкретные насущные проблемы ревизии культуры, которые вставали перед всеми членами партии, перед всеми сочувствующими левым начиная с весны 1956 года, когда был распространен доклад Хрущева. Этот «ужасный» 1956 год. Доклад Хрущева – а потом, осенью, события в Польше, надежда, мелькнувшая, когда к власти пришел Гомулка; потом Венгрия, дискуссии в кружке Петефи, либеральные заявления Лукача – и появление советских танков в Будапеште. Одновременно происходит Суэцкий кризис, который только закрепил то status quo, которое попытались нарушить венгры*. Трагедия подходила к финалу. * Речь идет о том, что подавление восстания в Венгрии было проявлением имперских амбиций правительства СССР и вызвало в его отношении волну негодования, тогда как произошедший одновременно Суэцкий кризис был вызван имперскими амбициями правительств Великобритании, Франции и Израиля, заслужившими аналогичную волну негодования в свой адрес. 341 Может быть, когда-нибудь потом события этой осени можно будет рассматривать как взрыв нравственного конфликта, долгое время назревавшего в Европе, с конца войны и до тех дней – десять долгих лет – и укоренившегося в Европе в рамках произвольно очерченных границ, границ политических и идеологических. Венгрия особенно четко поставила вопрос о необходимости свободы, независимости от великих держав. Несмотря на это, победил так называемый ялтинский принцип: на карте ручкой была проведена произвольная линия, которая разделила мир на две враждующие стороны. События эти отозвались глубокой болью. Если Советский Союз вторгся в Венгрию, то он сам уничтожил под предлогом борьбы с «контрреволюцией» идейное наследство, сложившееся в юной социалистической вселенной, точно так же, как и вмешательство англичан и французов в конфликт в зоне Суэцкого канала поставило под сомнение либеральные цели западных демократий. Планы большой политики сводили на нет все чаяния народов, надеявшихся на равновесие в международных отношениях. Еще раз история предстала как нечто совершенно неподвластное воле отдельных людей и малых держав. Это были месяцы мучительных поисков для всех левых сил и для Коммунистической партии Италии. На коммунистов обрушился шквал обвинений со стороны других партий, внутрипартийная жизнь оказалась во власти раскола в рядах интеллектуалов и волнений в рядах рабочего класса. Рассказывает Джорджо Амендола: Все это кипение страстей было вызвано тем, что рушился миф, миф, который владел нами всеми, миф о Сталине. 342 Борьба происходила в глубине сознания каждого из нас, каждого, кто был сталинистом. Рушился один из столпов нашей веры. Каждый реагировал, как мог: кто пытался проанализировать исторические корни этих событий, кто просто ругался. Но во всем этом действительно было что-то, что глубоко задело каждого.35 Культурная традиция коммунистической партии имела много общего с либеральной традицией. Именно тогда Пальмиро Тольятти выступил с критикой доклада Хрущева. Обвиняя его в отсутствии какого бы то ни было исторического анализа, он вместе с тем заявил о необходимости поиска «национальных путей к социализму». Это было проявление политической прозорливости. Интеллектуальные силы коммунистов подверглись серьезной проверке. Преступников-сталинистов нельзя было считать обычными преступниками. Существовала и другая точка зрения: социалистическую идею нельзя было отвергнуть просто потому, что ею воспользовался диктатор, запятнавший свое имя чудовищными преступлениями. В пылу споров и в разгар полемики все громче раздавались требования «изменить» курс коммунистической партии. Все эти требования изменить формулировки ничего не стоят. Проблема заключается в том, как осуществлять перемены. Иногда лучше подождать, это даст возможность подумать, серьезно и искренне поработать над изменением той или иной формулировки, а не просто принять решения, которые удобны в данный момент, позволяют предстать в благоприятном свете перед сторонниками и противниками, но за которыми не будет стоять ни взвешенное размышление, ни сознательная самокритика.36 343 Рассудительность Джорджо Амендолы может показаться единственно правильным решением теперь, когда прошло много времени после этих событий. Но в те дни реальность была другой, в умах царило смятение. И тогда Пазолини взял слово. Как и другие, он потребовал от коммунистической партии определенных решений. Он написал «Полемику в стихах»37 осенью 1956 года. Весной того же года он в критической статье в «Оффичине» уже указал на то, что культурная политика коммунистической партии приняла характер «перспективизма». Статья вызвала бурное обсуждение. Перспективизм В статье сказано: Что касается, так сказать, тактического позиционирования коммунистов или, в данном случае, газеты «Унита» или журнала «Контемпоранео», то злобствовать по этому поводу было бы низко и недостойно. Суровость и жесткость идеологической и тактической позиции Салинари и других объясняется тем, что Лукач – в интервью, данном «Уните» на съезде КПСС, – назвал «перспективизмом». Это наивная, не имеющая отношения к литературе (даже бюрократическая) теоретическая предпосылка, исходящая из убеждения, что реалистическая литература должна основываться на представлении о светлом будущем. Но ведь в обществе, подобном нашему, невозможно игнорировать во имя некоего ожидаемого благополучия, которое наступит не скоро, неизвестно когда, болезненное состояние кризиса и раскола.38 344 Пазолини выступал против оптативной* направленности литературы, обвинял критиков-коммунистов, которые, в свою очередь, обвиняли его в пессимизме и отрекались от него. Вспыхнула яростная дискуссия на страницах журнала «Контемпоранео». Полемика продолжалась несколько недель (в июне 1956 года). Вместе с Пазолини в ней принял участие Карло Салинари.39 Через год в рецензии на «Прах Грамши» Салинари писал: «В свое время наша редакция, – возможно, слишком резко, как пишет Пазолини, – ответила на обвинения в перспективизме. Однако нужно признать, что нас умело спровоцировали».40 Но Пазолини не хотел «провоцировать». Он требовал идеологического мужества и чувства экзистенциальной правды. «Время смешалось, и мы, как потерянные, живем в этом времени», – ты шептал мне горько, разочаровавшись в том, что получил за те десять лет, что провел взаперти, шептал так ясно, что между миром и разумом царила идиллия: ты выглядел усталым, на твоем лице – немного простоватом – было выражение, свойственное постаревшему сыну иммигрантов с Юга, голодных и злых, скрывающих свои чувства насупленностью бедных, едва приехавших, невежественных. Ты хотел, чтобы твоя жизнь была борьбой. И вот она на разрушенных путях, вот красные знамена, поникшие от безветрия ⟨…⟩ * Оптатив – желательное наклонение. 345 На улице Кватро Hовембре в Риме он встретил Антонелло Тромбадори. Тот был тогда редактором «Контемпоранео». Журналист показался ему сбившимся с пути, заблудившимся, сломленным трагическими известиями последних дней. Чего же требовал Пазолини от него и вообще от коммунистов? ⟨…⟩ ваша боль от сознания того, что вы уже не на передовой, была бы чище, если бы в час, когда открылось ваше заблуждение, пусть и чистосердечное, вы бы нашли в себе силы признать ошибки. В письме Тромбадори, 7 июля 1956 года, объясняя то, что только что опубликовал в «Оффичине», Пазолини сказал то же, что и в стихах: Дорогой Тромбадори, ⟨…⟩ Ты гораздо разумнее и профессиональнее, чем Салинари или твой дядя. Когда я писал статью, я думал только о них, а вовсе не о Мушетте, Галло или Казесе… Салинари и Тромбаторе41 абсолютно косны, неспособны услышать другую точку зрения, бездоказательны. В общем, они больны провинциальным морализмом. Ты не такой. Твой «перспективизм», даже если и выглядит более последовательным, на самом деле оставляет место сомнениям и способен изменяться и развиваться. ⟨…⟩ Вы же не будете отрицать, что в данный момент переживаете кризис, должны все переосмыслить и обсудить. Это естественно, справедливо и, если вы будете до конца честными и искренними сами с собой, это будет продуктивно и плодотворно. Речь идет не об обычной самокритике, которая априори невозможна. Дело гораздо более серьезное и важное. Я говорю вам это не потому, что явля346 юсь вашим противником, но как друг. А друг иногда говорит вещи гораздо более неприятные, чем противник, как ты, безусловно, знаешь. Пазолини взывал к моральному мужеству коммунистов. В ту тревожную осень он требовал большего: он требовал признать ошибки. ⟨…⟩ Я призываю вас признать ошибку, сакральную ошибку… И тогда наступит под красным солнцем, полуденным солнцем еще жаркой осени, в воздухе, уже проникнутом дыханием смерти, ваш праздник ⟨…⟩.42 Ошибка же заключалась в том, что они «служили / народу не сердцем, а знаменем». Наступил 1959 год,43 и Пьер Паоло опубликовал «Жестокую жизнь». В январском номере журнала «Ринашита» за 1960 год сенатор-коммунист Марио Монтаньяна в письме к редактору, несмотря на то что в партии существовали противоречивые мнения о романе, полностью отвергает произведение Пазолини: «Пазолини считает, что вульгарность, непристойности, ругательства являются неотъемлемой частью мира бедных… Создается впечатление, что Пазолини не любит бедняков, презирает жителей римских предместий, а еще большее презрение испытывает к нашей партии. Герой романа, Томмазино, на самом деле просто малолетний преступник самого худшего сорта: вор, грабитель, педераст». Выступление Монтаньяны обескураживало: «Ринашита» ежемесячно публиковала материалы, отражающие официальную линию партии, – таким образом, выступление сена347 тора соответствовало решению, принятому руководством партии. Однако в следующем номере, в феврале 1960 года, журнал опубликовал статью, отражающую прямо противоположную точку зрения. Она тоже была помещена в рубрике «Письмо к редактору». Подписал ее известный политик, сенатор Эдоардо Д’Онофрио: «Я полагаю, что причина, по которой некоторые наши товарищи не готовы правильно оценить роман Пазолини «Жестокая жизнь», объясняется в большей степени тем, что они не осознают, какое политическое и социальное значение имеет присутствие в Риме огромной массы люмпен-пролетариата». В письме Д’Онофрио объяснял реальное положение этого люмпен-пролетариата, который постепенно изменялся или, как могло показаться невнимательному наблюдателю, даже исчезал. Отражение этого реального положения вещей и составляло сильную сторону романа. Д’Онофрио утверждал, что «жизнь партии не может соответствовать строгой схеме, которая подходит для любой ситуации ⟨…⟩ Борьба, процесс развития классового самосознания пролетариата не могут проходить линейно и гладко, они предполагают взлеты и падения, броски вперед и отступления назад ⟨…⟩ Пазолини не скрывает истину, для того чтобы угодить партии, он называет вещи своими именами, он не настаивает на том, чтобы рост популярности партии в предместьях представлял собой постоянный процесс развития или был бы результатом такого развития. Я бы мог привести имена, факты и даты, доказывающие правоту Пазолини». Защита книги сенатором Д’Онофрио «политическая», он целиком поддерживает идеи о превосходстве содержания над формой. Но Д’Онофрио не заостряет на этом внимания: то, что Пазолини использует в романе римский диалект и жаргон, – для него доказательство реалистичности романа. «“Жестокая жизнь”» полностью свободна от бур348 жуазного ханжества, это оригинальное и значительное произведение, которое непременно нужно прочитать». Выступление Д’Онофрио не имело решающего характера, но оно ясно дало понять, что внутри КПИ не только с интересом следили за творчеством Пазолини, но и готовы были обсуждать его произведения и проблемы, которые он в них затрагивал. Одна проблема оставалась нерешенной: коммунистическая непреклонность в вопросах, касающихся личной свободы. Для марксистов коллективные интересы обществ не могли ставиться под сомнение обсуждением личных свобод. Для Поэта, написавшего «Прах», именно они представляли собой поворотную точку утопии. Если на одной чаше весов лежала объективная картина реального мира, а на другой – удовольствие, доставляемое прочтением литературного произведения, марксист не допускал и мысли о равновесии: «удовольствие» должно быть полностью подчинено объективности, должно в ней переплавиться и раствориться. Для Пазолини это был повод для отчаянной борьбы. Его открытые, публичные «провокации», казалось, могли решить эту проблему. Но по сути, как плоть от его плоти, она оставалась неразрешимой. Выживание Огромные усилия и полное разочарование. Логичный проект нового мира и гибель всего нового в «нашествии варваров». «Практическая цель» поэзии Пазолини уничтожалась силой реально существующего порядка. Разрушив сплоченность идеологии левых, итальянское экономическое чудо сделало культуру нечувствительной к философским 349 проблемам личности и человека. Казалось, что только старый либерализм еще может что-то сказать по этому поводу. Пазолини, как Виктор Гюго, любил придавать своим стихам вид репортажа или дневниковых записей, но теперь – и потому, что его отказывались слышать, и потому, что его поведение вызывало всеобщее осуждение, – он начал творить свой собственный миф. Общественное мнение признавало его героев, но отказывалось признать его самого.44 Отсюда рождался кризис. Его парабола оказалась слишком стремительной: жизнь вынудила его броситься в борьбу за выживание. Поэзия превратилась в воспоминание, в плач по его надеждам эпохи Сопротивления. Пазолини решил остаться поэтом того «чистого света» и обманутых надежд. Уже в «Богатстве» (1955–1959) появляется «поэтическое воссоздание» прошлого. Этого требует настоящее, жизнь в настоящем предстает как незаживающая язва, как непрерывное «чувственное сожаление». Но «сожаление» стремится перерасти в особую «религию». В «Религии моего времени» (1957–1959) прослеживается «психологика» поэзии Пазолини: «жертва» становится пророком. Итак, если я посмотрю в глубь души множества живых людей моего времени, людей мне близких или далеких от меня, я увижу, что из тысяч возможных святотатств, которые может назвать любая религия, то, что является святотатством для всех, – это всегда и везде подлость. ⟨…⟩ И эта подлость заставляет человека забыть о религии ⟨…⟩.45 350 В этих строчках звучит тревога пережитых отказов и разочарований. Если смиренный субъект возвышается до мифологической фигуры: ⟨…⟩ я никогда не грешил: я чист, как старый святой, но я ничего не получил; проклятый дар сексуальности весь развеялся как дым: я добр как сумасшедший. Прошлое, которое мне подарила судьба – это просто безутешная пустота…46 – то чувство объективности замутнено сарказмом и безутешностью: ⟨…⟩ теперь я отказываюсь жить. Больше нет ничего, кроме природы – в которой, впрочем, разлито только очарование смерти, – нет ничего в этом человеческом мире, что бы я любил. Все причиняет боль: эти люди, которые безропотно следуют на всякий зов своих хозяев, когда им угодно их позвать, они приобретают самые бесчестные привычки жертв, предназначенных на заклание; их серые одежды на серых улицах; их серые жесты, в которых, кажется, отпечаталась омерта* зла, заполняющего их; их возня вокруг иллюзорного благосостояния, как стадо возится вокруг кормушки; * Омерта – кодекс чести итальянской мафии. 351 они появляются и уходят с регулярностью движения моря, когда прилив и отлив чередуются на улицах, по которым движутся бесконечные потоки неизвестных, движимых забытыми желаниями; их рой в мрачных барах, в мрачных кинозалах, сердце, мрачно замершее где-то здесь…47 Перед лицом этого мира – нечестивого и пассивного, – в котором правят «гнусные ученики развращенного Христа / в гостиных Ватикана», поэзия гаснет, вытесненная на самую окраину: в замедленной каденции третьей рифмы она уничтожается. Кажется, что слова кружатся в небе «мертвенно голубом», в небе маньеристов. Рождаются стихи о памяти, о невозможной любви к мальчикам и о восхищении их жизненной силой, стихи, в которых надежду заслоняют ночные тени. Жизнь принадлежит прошлому, «материнскому Фриули». И если и существует «свет добра» во всем этом гибнущем мире, то свет этот в утешительном образе матери, Сюзанны. И хотя я влачу существование в длинном аппендиксе неистребимой, неутолимой страсти – которая произрастает из других времен, – я знаю, что свет религии в этом хаосе, свет добра избавит меня от отчаяния своей любовью… Эта бедная женщина, мягкая, изящная, у которой едва хватает мужества жить, стоит в тени, как девочка; у нее редкие волосы, поношенная одежда, почти нищенская, и она хранит тайну, которая еще благоухает фиалками. ⟨…⟩48 352 После смерти Карла Альберта, кажется, не осталось никаких препятствий к совокуплению с матерью – в клубке разочарований, утраты иллюзий, в постоянных, преследующих его бурях и скандалах. К мифу о себе самом как о жертве Пазолини прибавляет и миф о Сюзанне («бедные мои нежные косточки»): В каждый час все и для нее, девочки, и для меня, ее сына, навсегда закончено: остается только надеяться, что конец действительно успокоит яростную боль, которую вызывает у меня ее ожидание. Мы будем вместе скоро, на этом бедном поле, усеянном серыми камнями ⟨…⟩49 Кладбище Казарсы, «где кости / другого сына зовут ее / поскольку он жив еще в застывшем мире». Там покоится Гвидо; нет никаких указаний на то, что там лежит и Карл Альберт. ⟨…⟩ Скоро и мы, выжившие и пережившие его, затеряемся в этом свежем куске земли: но мы не обретем покой, потому что к нашей смерти примешается жизнь без цели. Над нами будет напряженное молчание, болезненный сон, который не несет мир и покой, а только скуку и упрек… 50 Это стихи 1960 года: кажется, что все действительно закончилось. Суд над личной жизнью завершен, слушания так и не состоялись. У Пазолини осталась уверенность, что 353 он сможет свидетельствовать post mortem* о собственном поражении. Его свидетельство будет звучать «упреком» тем, кто живет «неправедно». Жертвенность постоянно поддерживалась невротическим состоянием, в котором находился Пазолини, утративший после смерти отца какую-то опору. Образ отца продолжал, как некий сгусток, оставаться где-то внутри, глубоко под кожей, сознательная часть его Я постоянно болезненно натыкалась на него, влекомая одним только желанием – снова и снова унижать и оскорблять. У Пазолини стратегия бессознательного, казалось, черпает силы в слепых негативных порывах, стремясь оправдать врагов и гонителей. Но это бессознательное становилось также театром алхимической трансфигурации этого негатива. Если мы говорим о Пазолини, то «ясность ума» – это не просто выражение. Это особый острый ум, способность анализировать действительность, это невротический узел, который можно было распутать, давая дорогу позитивным чувствам. Он проливал свет и изливал энергию на тень, которая скрывала гражданскую жизнь Италии, он обманывал систему цензуры, этическую и политическую системы, которые царили в стране. Разочарование не смогло одержать верх над поэтом, создавшим «Прах Грамши»; «выживание» было, собственно, одной из сторон его личного мифа, а не состоянием необратимого поворота в небытие. Это был способ вызвать к жизни и обновить собственную эпическую судьбу. Это был способ сопротивляться, говорить не только о маргинальном люмпен-пролетариате римских предместий, но и обо всех тех, кто становился отверженным, изгнанным за видимые границы мира из-за всяческих социальных и моральных предрассудков, присущих любому классу. * После смерти (лат.) 354 КИНО История «Аккаттоне» «Я бы не удивился, ⟨…⟩ если бы он вдруг избрал другой путь, самый удивительный и немыслимый» – так Чезаре Гарболи закончил свой критический очерк о «Прахе Грамши».1 И Пазолини действительно избрал другой путь, который в глазах большинства тех, кто его знал, и был «самым немыслимым». Он снял фильм и стал режиссером с мировым именем. И все же то, что Пазолини взял в руки кинокамеру, было не случайно. Его интерес к кино возник еще во Фриули. Пьер Паоло признавался: «Я всегда подумывал о том, чтобы сделать фильм. Еще до войны я думал, что приеду в Рим и устрою там Экспериментальный центр*, если смогу. Потом эта старая идея заняться кино забылась».2 А потом он подружился с Феллини. Дружба с Феллини была особенно тесной, когда тот снимал «Ночи Кабирии» и «Сладкую жизнь». Это было и профессиональное сотрудничество, и глубокие личные отношения. Они познакомились случайно на площади дель Пополо. Пьер Паоло в то время уже опубликовал «Шпану», а Феллини снял фильм «Маменькины сынки». Они стали друзьями, а потом вместе работали над фильмом «Ночи Кабирии». * Экспериментальный центр кинематографии был создан в 1935 г. для подготовки кадров, исследований и экспериментальной деятельности в кино. Пазолини говорит о желании создать собственный экспериментальный центр в противовес официально существующему. 355 Пьер Паоло познакомил Феллини с изнанкой Рима, с ночной жизнью города; они бродили по трущобам на окраинах, по улочкам Торвайяники, больше напоминающим сумасшедший дом, чем городской квартал, ездили в Остию. Феллини считал, что Пьер Паоло мудр, как отец-приор, и капризен, как чертенок. А Пьер Паоло был очарован психологической сложностью Феллини. Несомненно, их объединяла маньеристская чувствительность к образу, они взаимодополняли друг друга. Оба они решительно противостояли и в кино, и в литературе сентиментальному шантажу уже поверженного неореализма. Феллини постоянно что-то изобретал. Феллини – это маг и волшебник в царстве фантазии. Пьер Паоло позволял себя увлечь и соблазнить. После успеха «Сладкой жизни» при поддержке издательства «Риццоли» Феллини «изобрел» свою киностудию, которую назвал «Федериц»: он планирует снимать новое кино – кино, которое обновит рынок. У него должны работать Марко Феррери, Эрманно Ольми, Витторио Де Сета. В «портфеле» киностудии новый сценарий Пазолини «Аккаттоне». У Пазолини есть и еще один сценарий – «Костлявая кума». Он просто должен был отойти от письменного стола и взять в руки камеру. В этом были заинтересованы и другие продюсеры, например, Тонино Черви и Сандро Джаковони. Они сами были молоды и искали молодые таланты. Черви и Джаковони отказались работать с Пазолини, и он отправился в «Федериц». Для новой киностудии Феллини устроил в квартире на улице дела Кроче офис, который больше был похож на таверну из «Трех мушкетеров». Пьер Паоло писал, что режиссер посвятил себя новому делу «с радостью и рвением мальчишки. Конечно, в этом было немного кокетства». 3 356 Феллини с радостью принял сценарий Пьера Паоло, и Пьер Паоло принялся за работу. Так осуществляется идея авторского фильма, когда все – выбор лиц, актеров, натуры – в руках того, кто этот фильм придумал, написал сценарий и снимает его, не подчиняясь никаким правилам. Прежде всего, не нужны актеры-профессионалы, это непременное условие. Профессиональный актер приносит всякие академические грехи и пороки, он абсолютно предсказуем. А непредсказуемость происходящего должна стать одним из неотъемлемых элементов стиля, точно так же, как страница романа «Шпана», написанная на жаргоне предместья, превратилась в роскошное выразительное средство, в единственную в своем роде речь. «Так я провел лучшие дни моей жизни». Пьер Паоло был настолько поглощен подготовкой к съемкам, что не замечал ни препятствий, ни недоверчивой подозрительности. У него была небольшая съемочная группа, в которую входил и Бернардо Бертолуччи. Сыну Аттилио, Бернардо тогда было девятнадцать лет. Кино было у него в крови. Он писал стихи, но писал их, как будто поджидал удобного случая, чтобы прильнуть к съемочной камере. Пьер Паоло взял его к себе в качестве помощника, и этот выбор решил судьбу юноши. Итак, прошли дни тревог и волнений. Потом было небольшое испытание: Феллини попросил Пьера Паоло снять несколько сцен, чтобы попробовать актерский состав. Это было в сентябре 1960 года. «Стояли прекрасные дни, лето было еще в самом разгаре, но уже лишилось своей яростной испепеляющей сути. Улица Фанфулла да Лоди в центре квартала Пинето с ее низкими хибарами, потрескавшимися стенами представля357 лась этакой зернистой величественностью в своей крайней незначительности. Бедная, нищая, никому не известная улочка, затерянная под солнцем Рима, непохожего на Рим». Маленькая труппа. Для Пьера Паоло работа режиссера представляется «необычайной». Он сразу нашел для себя стилистический образец: Дрейер, «Жанна д’Арк»,* «норма абсолютной экспрессивной простоты». Но есть постоянно меняющийся свет, есть актеры на переднем плане, есть старенькая камера, которая крутится рывками. Потом были дни просмотра снятого материала и монтажа отснятых двух сцен. А потом тишина. От Феллини ни звука. Все участники съемок и друзья спрашивают, что слышно, они хотят знать. Спрашивает Бернардо, спрашивает Франко Читти, который является главным героем. И ничего. Наконец Пьер Паоло решает пойти в «Федериц», даже если его никто об этом не просит. «Как раз когда я вошел, из внутренних помещений вышел Феллини. Великий мистификатор не смог скрыть особое удивленное выражение, по которому я понял, что меня не ждали, что я пришел слишком рано. Но он двинулся мне навстречу, обнял меня. Он весь чистый, ухоженный, лощеный, как зверь в клетке. Он проводил меня в свой кабинет. Когда мы сели, он сказал мне, что хочет поговорить со мной откровенно (ой!) и что материал, который он видел, его не убедил». Они спорят. Пазолини защищает «бедность, грязь, ветхость, безымянную неуклюжую схематичность», к которым он прибегнул во время съемки. Он снимал в первый раз, камеру заедало, пленки было мало, актеры все новички в этом деле. Это, конечно, не «чудо», но это «его фильм». * Датский режиссер Карл Теодор Дрейер поставил фильм «Страсти Жанны д’Арк» в 1928 году во Франции. 358 Если бы ему пришлось во второй раз снимать эти сцены, он снял бы их так же, как и в первый. Слишком самоуверенный, может быть, слишком действующий на нервы Пьер Паоло не уступает ни на миллиметр. «Как умелый отец-иезуит, Феллини перевел разговор на другую тему: стоимость фильма». Если бы съемки действительно обошлись в скромную сумму, можно было бы попробовать. «Я знаю, что это эвфемизм, литота, прием исповедника». Действительно, ничего не выйдет. Пьер Паоло расскажет обо всем в одной из статей «Дневника» на страницах газеты «Джорно» 16 октября 1960 года. Между Феллини и Пазолини наметился разрыв. «Гораздо легче поссориться, чем с общего согласия пытаться продолжать старые отношения». Они оба хотели попытаться остаться друзьями и пошли поужинать в китайский ресторан. «Феллини заказывал еду, как будто совершал магические действия: ужин – в этом ресторанчике, как будто из кадра «Сладкой жизни», – был мастерски срежиссирован. Феллини был очень привлекателен, несмотря на круги под глазами и слегка обвислые щеки. Мне хотелось его обнять». После ужина они пошли прогуляться по набережной в Остии: это был вечер исповедей. Они говорили о своих тревогах, о смерти, о людях, о мире вообще. Казалось, что они следуют какому-то сценарию, однако все происходило в действительности, по-настоящему. Настоящей была и потребность Пьера Паоло снять собственный фильм. Настоящим было его отчаяние. Но и Феллини по-настоящему не мог помочь ему: «Федериц», космический корабль, запущенный исследовать «новое», неизведанное, потерпел крушение во время первого пробного путешествия и больше никуда не отправился. 359 На следующее утро Мауро Болоньини пришел к Пьеру Паоло домой. Для Болоньини Пьер Паоло был ценным сотрудником в создании нескольких фильмов. А для некоторых фильмов даже единственным – например, для фильма «Прекрасный Антонио» он подсказал ему несколько сюжетных ходов, привнес ноту меланхолии в сценарий, посоветовал показать муки неразделенной любви. На столе перед Пьером Паоло лежат фотографии сцен его первых отснятых эпизодов. Болоньини просматривает их одну за другой, ему они очень нравятся. И пока Пьер Паоло пытается договориться с Черви и Джаковони, Болоньини находит продюсера для «Аккаттоне», Альфредо Бини, и уговаривает его взяться за фильм. Бини – «мой сверстник из Гориции / с обветренным лицом засунул руки в карманы и смотрит тяжелым взглядом, / как парашютист после приземления»,4 – был другом Пазолини, и хотя дружба между ними была несколько натянутой, сложной, Пазолини всегда был признателен Бини, потому что он был продюсером всех его фильмов до «Царя Эдипа» (1967). Фильм, как говорят в кино, «запустили». Роль Аккаттоне исполнял Франко Читти. Мир «Шпаны» обрел в нем физическое воплощение, живое лицо жителя предместья. Вокруг него сгруппировались и другие «настоящие» герои, «настоящие» друзья Пьера Паоло. Так начался его долгий путь в кино. На этом пути он часто встречал друзей и знакомых, которые становились героями его фильмов. Казалось, он раскопал их, завладел ими навсегда, чтобы поместить их на фрески, которые создавал своей камерой «Аррифлекс». В «Аккаттоне» появились Адриана Асти, Стефано Д’Арриго, Аделе Камбрия, Эльза Моранте. Камера на треноге, операторская тележка, остервенелый хор голосов актеров, «подобранных на улице», – все это 360 было раскритиковано, но производило впечатление изысканной элегантности. Когда фильм показывали на фестивале в Венеции в сентябре 1961 года, он произвел фурор, мнения критики и публики разделились. Выступила и министерская цензура, фильм был запрещен «исключительно» (так было написано на афишах) для лиц моложе восемнадцати лет. Особое внимание Пазолини к кинематографической форме было воспитано на вполне определенных примерах: прежде всего, Дрейер, потом Мизогучи, Росселлини. Крупные планы превалировали над пейзажем, открытыми пространствами, фронтальность – над непринужденностью. Музыку он позаимствовал у классиков: Бах, «Страсти по Матфею», – и финальный хор из «Страстей» соответствовал бедным одеждам и несчастным лицам героев, помогал достичь такого накала чувств, которого итальянское кино не знало со времени создания «Одержимости», «Рима – открытого города» и «Паизы». Глубоко волнующей, почти вызывающей потрясение, была идея телесности, которой фильм был проникнут. Необычное представление о красоте: Аккаттоне и его друзья абсолютно не соответствовали кинематографическому стереотипу. Их растрепанные шевелюры, бледные лица были совсем не выразительны, поэтому нельзя было сказать, что их отобрали для выражения социального протеста. В глубине образов Пазолини скрывается явная, почти религиозная тревога, которую невозможно успокоить. Изможденные, измученные тела его персонажей воплощали эту тревогу, составляли ее суть. «Аккаттоне» – это не политический фильм-протест, это религиозно-экзистенциальное видение мира. Яркие белые пятна, нестерпимый, беспощадный римский свет: Аккаттоне пристально смотрит на Тибр, ангел за его плечами, 361 как божественный посланец, наводит на мысль о священном таинстве, заставляет думать о неоправданном риске, заключенном в самой жизни. Фильм – это притча об ожидании, состоящая из последовательных сцен-размышлений, которые следуют друг за другом, как во сне, беззвучном сне, в котором Аккаттоне созерцает собственную смерть. Весь фильм воплощает боль, личное страдание. Кино Пазолини всегда будет образным. К скользящей чувственности изобразительного маньеризма шестнадцатого века Пазолини прибавил ярость, сверхъестественную, антигуманистическую, антивозрожденческую, глубоко католическую, сельскую. Подобную ярость мог испытывать художник эпохи Возрождения, находившийся в оппозиции к основным течениям в искусстве. Например, Романино. Это Романино, изобразивший святых с красными, обветренными ногами, узловатыми, натруженными; писавший образы Христа с крестьян и горцев, с жилистыми руками, изнуренным работой телом. И у него та же, что и у Романино, необыкновенная, неосознанная страсть к эксперименту.5 Стилистическая одержимость, одержимость экспериментом. Теперь уже не остается сомнений в том, что Пазолини – мастер высокого вдохновения. После периода ученичества, поисков своего пути – включая «Стихи в Казарсе», итальянские стихи «Соловья», прозу «Возлюбленного моего», наброски к «Мечте о чем-то» – в его творчестве не наблюдается больше развития и эволюции, время остановилось. Пазолини увлечен экспериментом, он пытается испробовать одновременно все художественные приемы, выясняя, что подходит ему лучше, чтобы постепенно избавиться от собственных негативных и саморазрушительных импульсов. 362 Делать кино для него, вероятно, означало «стремиться выйти из состояния одержимости». 6 Но это было только стремление. Великий маньерист. Он был им не потому, что был неверующим и абсолютно мирским человеком, он был маньеристом по психическому складу, потому что постоянно искал выход из состояния тревоги и томления, которые не покидали его никогда. Тревога нашла свое кинематографическое воплощение в суровости, строгости, зрительном пауперизме, противопоставленном сумасбродному стилю Пазолини-писателя. Это «скудное» использование стиля особенно заметно в стихах, написанных после «Праха Грамши». Мир римского предместья, мир бедного люмпен-пролетариата – это мир «finis historiae», апокалипсис духа. «Жестокая жизнь» рассказала о том, что существует возможность героического и гражданского решения проблемы существования люмпен-пролетариата: «Аккаттоне» продемонстрировал отчаяние в его самом чистом виде. Люмпен-пролетариат снова становится выражением идеи формирования личности. Для Пазолини люмпен-пролетариат был категорией или символом разума, в котором отражалось, формировалось и заключалось неотъемлемое чувство покорности судьбе. «Операторская тележка против природы» Это случилось в кинотеатре «Реале» в Трастевере. Когда зрители увидели мое имя как автора сценария к фильму «Долгая ночь 1943 года», они зашумели. Шум был легкий, 363 но в нем заметно ощущалась ирония и злорадство. Я почувствовал, что меня ненавидят, и испугался, что меня могут линчевать. И понятно: все лето выходят газеты и журналы с моими фотографиями, и репортеры комментируют их, приписывая мне всяческие гадости и подлости, на которые так падки итальянские зрители. Обо мне распространяются вульгарные обывательские слухи. Против меня нет ничего, кроме этих подлых сплетен, которые сочиняют просто из ненависти7. Это случилось в октябре 1960 года. Пазолини в отчаянии: он переживает последствия того, что сам назвал «сексуальным расизмом итальянцев». Его сексуальное влечение и его природная робость позволили ему хорошо узнать себе подобных. Но отчаяние вызвано также и нервным расстройством. Рассказ о шуме в зрительном зале в Трастевере опубликован в «Джорно» 6 ноября 1960 года. Он занимает две страницы газеты. «Джорно» появилась совсем недавно, это ежедневное издание, которое стремится отразить события в неокапиталистической Италии, стоящей на пути перемен. Пазолини подвергается нападкам и оскорблениям, и не только на словах, не только от определенной части читателей и зрителей. Но, несмотря на это, ему удается выстоять, он не позволяет выбросить себя из политической жизни. Постепенно к его словам начинают прислушиваться, он становится признанным авторитетом. В 1956–1959 годах он был литературным критиком в еженедельнике «Пунто», культурно-политическом издании, уделявшем много места проблемам новой литературы. Он писал о поэзии. В течение нескольких месяцев 1960 года 364 Пазолини был кинокритиком еженедельного издания «Репортер», просуществовавшего недолго. Сотрудничество с «Джорно», с несколькими газетами левого толка, такими как «Паезе сера»; премия «Кьянчано» 1961 году за поэтический сборник «Религия моего времени» – все это показывает, что он не живет в полной изоляции. В начале 1960 года он вместе с Моравиа прочел несколько лекций для Итальянской культурной ассоциации в Турине, Милане, Риме, Неаполе и Бари о романе, языке и диалекте. Поздней весной того же года на обсуждении произведений, выдвинутых на премию «Стрега», в зале «Опен Гейт Клуб» в Риме он прочитал послание в стихах, озаглавленное «На смерть реализма»: Friends, Romans, countrymen, lend me your ears!* Я пришел сюда, чтобы похоронить итальянский реализм и написать ему элегию ⟨…⟩8 Послание, написанное по мотивам речи Марка Антония в «Юлии Цезаре» Шекспира, разоблачает «белый реализм» произведений Кассолы, «стилистическую избранность» и «неопуризм». Послание является риторическим манифестом, даже если оно и обращено к литераторам, которые когда-то были друзьями, и требует от них, чтобы они выслушали особенно внимательно. Дорогие друзья, милые друзья… я не хочу настраивать вас против официальной идеологии: * Друзья, римляне, сельские жители, послушайте меня! (англ.) 365 те, кто своим пером служит ее реставрации – уважаемые писатели ⟨…⟩ Эта защитная речь в стихах наделала шума. Он прочитал ее звенящим голосом, чеканя слова. Это было воспринято как проявление эксгибиционизма. Решили, что он специально прочел эти стихи перед группой интеллектуалов, которые за год до этого предпочли «Жестокой жизни» «Леопарда» Джузеппе Томмази ди Лампедуза. Но Пьер Паоло отметал все злобные сплетни своим талантом критика. В дальнейшем послание станет «суммой»* реалистической литературы, а его богатое содержание – предметом полемики со стороны неоавангарда. Что оставил в наследство реализм прошедшего десятилетия? «Пренеприятнейшее происшествие» Гадды, поразительное предвосхищение творческого миметизма**: он оставляет вам безжалостные и благоприятные диагнозы Моравиа, социологическую мягкость Леви, золотую историю Бассани, созданий «Острова Артура», нескольких молодых людей, которые надеются на то, что будущее будет свободным и независимым, и маленький «Цех» в Болонье… И оставляет вам Кальвино. Его проза скорее не тосканская, а французская, его вдохновение – вольтеровское, а не местное ⟨…⟩ * Сумма (лат. summa – итог) – средневековой жанр философской литературы. ** Миметизм – одна из форм мимикрии. 366 «Великая гипотеза»* зашаталась: осталось только несколько книг. Появилась возможность возникновения лингвистического койне, что могло означать моральное объединение для страны, разделенной социально. Эта возможность обрела плоть и кровь в стиле – это был стиль новой литературы. Но мир менялся, изменения могли снова вернуть литературе старую роль провозвестницы официальной идеологии. Но нет, мир менялся, надежды слабели, бледнели, больше не вдохновляли. Отчаянные размышления. Но и в отчаянии Пазолини не мог позволить себе сломаться, утратить творческую энергию. Он работает по утрам. Работает яростно. Он пишет комедию «Внутренняя история», это его собственная жизнь после войны, рассказанная для театра, в ней прослеживаются некоторые моменты, которые войдут в первую редакцию «Мечты о чем-то».9 Он пишет для кино, создает планы романа, который хочет назвать «Рио делла Грана», или «Деревенская история», или «Высохшая река». Эти тексты посвящены тем же проблемам, которые были так блестяще подняты в «Шпане». Они описывают тот же мир, погруженный во тьму, – или, лучше сказать, теперь, после «Аккаттоне», мир, ослепленный светом, безжалостно отснятый с операторской тележки «против природы». Давай, давай Тонино, ставь пятьдесят, не бойся, что солнце все засветит – мы направим эту тележку против природы! 10 * Термин, относящийся к эпохе неореализма, – предположение о том, что адекватное отображение действительности искусством способно оказать на нее положительное воздействие. 367 «Верный» Тонино – это Тонино Делли Колли, оператор «Аккаттоне» и почти всех других фильмов Пазолини. Делли Колли, римлянин невысокого роста, нервный и подвижный, говорящий слегка в нос, способный ни с того ни с сего выйти из себя, с Пьером Паоло был сама доброта. Он понимал его на лету, поглядывая из-под очков. Он научил Пьера Паоло пользоваться объективами, потом постепенно объяснил ему их экспрессивные модуляции. Иногда немногословный, иногда очень даже болтливый. Пазолини иногда на него жаловался, иногда просил помочь. Вот такие отношения их связывали с Тонино. Итак, погруженный во тьму римский мир в «Аккаттоне» превратился в скорбную молитву. Пазолини ожесточенно работал по утрам дома, поставив на проигрыватель пластинку с музыкой восемнадцатого века: Бах, а чаще Вивальди. Или диктовал на магнитофон заметки, которые собирался опубликовать в газетах. Впечатляет количество написанных им в это время страниц: его мучает беспокойство и ярость. Это беспокойство и ярость становятся его кинематографическим стилем. Камера нужна ему для того, чтобы исследовать собственную тревогу. И эта тревога воплощается в особую форму живописи: Я вижу перед собой постоянно, как общий видимый план, фрески Мазаччо и Джотто – это художники, которых я люблю больше всех остальных, – а также картины художников маньеристов (например, Понторно). Мне не удается представить образ, пейзаж, композицию вне этой моей изначальной страсти к живописи четырнадцатого века, которая ставила человека в центр любого перспективного изображения. Затем, когда мои образы приходят в движение, я тоже 368 начинаю двигаться, как будто я навожу объектив на них, а они находятся на фоне живописного полотна или фрески, как на сцене. Поэтому я снимаю их всегда фронтально.11 Благодаря этой живописности мы ощущаем задний план и фигуры в его фильмах «как нечто неподвижное, как объект игры светотени». Снятые против света, залитые беспощадным ярким солнцем, эти задние планы и эти фигуры становятся знаками особого мрачного, траурного языка. Утешение в нищете Благодаря кино финансовое положение Пазолини изменилось. Он почувствовал это, уже когда работал над киносценариями. Написанные им сценарии имеют успех, на него появляется спрос, ему хорошо платят. ⟨...⟩ Ах, наконец, выйти из плена нищеты! Освободиться от забот, и эти совсем античные ночи станут восхитительными! Есть нечто, что объединяет тех, кто познал тревогу, и тех, кто ее не знает: у человека очень простые желания. Прежде всего, ему нужна чистая рубашка!12 «Чистая рубашка», «хорошие ботинки», «приличная одежда», и «дом в квартале, / где живут люди, которые не будут беспокоить». Это описание «личного желания быть богатым»,13 которое испытал Пазолини. И он удовлетворил его, возместив, таким образом, годы горя и унижений, которые он и его мать пережили сначала на площади Костагути, а потом в Ребиббье. Из-за нищеты, от которой он так страдал в юности, – нищенское жалованье отца, его скудный заработок как учителя – он стал счи369 тать великим достижением уже то, что смог поселиться в другом доме. Это была гораздо более приличная квартира, чем на улице Фонтейана; она находилась на улице Джачинто Карини в доме номер 45. В этом же доме жил Бертолуччи (это было в июне 1959 года). Потом, в 1961 году, он купил машину, белую «Джульетту Альфа Ромео». Этой машиной он особенно гордился, она его радовала, радость его была совершенно простодушной, почти детской. Он утверждал (и, может быть, был прав), что ребята из предместья, когда ее видели, перемигивались и толкали друг друга локтями. Пазолини отличался скромными и умеренными привычками. Даже когда он начал много зарабатывать, он не изменился. Деньги для него были пороком, грехом, баловством. Он не пытался привлечь к себе внимание жителей предместий, потрясая пачками десятитысячных банкнот. Он угощал их пиццей, пивом, давал несколько тысяч лир и проводил с ними время просто ради удовлетворения эротического каприза. Он никогда не выставлял напоказ свое материальное благополучие, хотя, конечно, не отказывался от него. Благодаря крестьянским корням, унаследованным от Сюзанны, он был убежден, что хорошим заработком нельзя пренебрегать, нужно к нему стремиться. Переезд означал также и смену обстановки в квартире. Он, прежде всего, заменил мебель в стиле эпохи Возрождения в столовой. Мебель эта представляла предмет особой гордости для Карла Альберта, он привез ее из Казарсы. В Казарсу она и должна была вернуться – все эти темные столы и шкафы, украшенные непременными львиными лапами. На улице Карини появилась кокетливая антикварная обстановка. И пока ничего другого. Настоящим «утешением в нищете» был секс. 370 Отверженный чувствует себя человеком в той легкости, с которой получает любовь: он строит свою жизнь на презрении к тому, кто обладает другой жизнью.14 Настоящее «богатство» (это первая тема «Религии моего времени») состояло именно в этом. Но секс для него, как мы уже знаем, был отправной точкой отчаяния. Как бы то ни было, кино, работа режиссера были для Пьера Паоло одной из сторон его «личного желания быть богатым». Он всегда умел смотреть в лицо этому своему «желанию». В нем не было ничего, что нуждалось бы в искуплении. Секс Невозможно понять всю глубину души Пазолини, если не принимать в расчет тот тяжкий груз, которым обременял ее его демон, мучение, которое он испытывал, осознавая, что исключен из мира обычных людей из-за слепой и темной сексуальности. К своим чувствам Пьер Паоло относился с большим пониманием, и со знанием дела их удовлетворял. Но удовлетворение не могло заставить замолчать демона, которого вызвали к жизни гораздо более давние и глубокие мысли и чувства: образы матери и отца, а кроме того – та сила влечения, которую деревенская итальянская жизнь долгое время только упрочняла. Все остальное, связанное с его существованием, для него было просто и незатейливо; это была биологическая простота и незамысловатость. Он ел быстро и жадно, как крестьянин, говорил только о необходимом, если не обсуждал теоретические или лите371 ратурные проблемы. Из-за природной робости он был не очень разговорчив. А по ту сторону этой жизни была его тревога, стена, о которую разбивалась его нежная душа. Он пользовался умом и культурой как инструментами, для того чтобы помешать этому, не допустить страдания, раздвоения личности. Но просто победить в себе это было невозможно. Это была игра на поражение. На фотографиях начала шестидесятых годов мы видим, как всегда, худого мужчину, с впалыми щеками, в корректном костюме. В те годы он начал носить темные очки, потому что страдал близорукостью. Кожа у него стала сухой. Его сухощавость была спортивной. На резко очерченных скулах, на заостренном подбородке, в трепещущем свете глаз всегда отражалось особое его состояние души, особенно когда он видел, как мимо него проезжает на мотороллере какой-нибудь юноша. Охваченный бесконечным отчаянием, он в работе кажется легкомысленным, это может показаться даже неприличным. Зимой и весной 1960 года по просьбе Витторио Гассмана он переводит для труппы Народного театра «Ореста» Эсхила. «Что я мог сделать, если у меня на перевод было только несколько месяцев и притом мне предстояло кощунственно сочетать работу над таким переводом с двумя или тремя сценариями?»15 Он нашел решение: положил рядом с оригиналом уже существовавшие переводы – один на итальянский, один на французский и один на английский. «Как переводить? У меня, конечно, был уже опыт с итальянским языком. Я имею в виду, конечно, «Прах Грамши» (хотя кое-какой опыт у меня уже был и в «Соловье католической церкви»). И я инстинктивно понимал, что смогу это сделать». 372 Результатом стал текст, где все возвышенное превратилось в «обыденное». Этакое «отчаянное исправление классических фраз». Лексика самого низкого уровня, разговорная. Пазолини, переводя Эсхила, попробовал создать язык своего собственного будущего театра. Лиризм языка связан с заранее созданной образной системой, обогащенной публицистическими приемами. Трилогия представлена как победа разума над инстинктом. «Иррациональное, которое воплощают Эринии, не должно полностью уничтожаться (это, впрочем, и невозможно), оно должно быть вытеснено. Должно подчиниться разуму, продуктивной и плодотворной страсти». И еще: «Экзистенциальная неустойчивость древнего общества продолжает жить и в развитом обществе как экзистенциальная или фантазийная тревога». Победа разума пропущена через идею психоаналитическую: невротическая тревога – это бессознательная нерешительность, фантазия тоже бессознательна. Какой же опыт принес ему этот так стремительно выполненный перевод? Даже если мы оставим размышления об опыте, то сможем сказать, что эта стремительность была следствием отчаяния: как-нибудь заполнить свою жизнь, заставить замолчать иррациональное, дать волю фантазии и воображению. Это мог быть путь к выздоровлению, к обретению хотя бы и неясного света, хотя бы надежды на спасение. Результатом этого являлась «отчаянная жизненная сила». Его одиночество (я побежал ⟨...⟩ совершить и повторить до боли, до крови самый сладостный акт в моей жизни, я один…)16 373 было, несомненно, также и сексуальным одиночеством. Он пытался найти выход в работе. Эротическое одиночество становится неразрывно связанным с работой, с творчеством. По ту сторону от этой его одержимости писать, ставшей почти маниакальной, простираются видения и пейзажи: архаичность Эсхила становится антропологическим предвосхищением некоего крестьянского третьего мира. Я уже получил, все, что хотел: я даже пошел дальше в некоторых своих надеждах ⟨...⟩ Я был рационален и был иррационален: я прошел все до конца. И теперь… ах, оглушенная ветром пустыня, поразительное, неземное солнце Африки, которое освещает мир. Африка! Единственная моя альтернатива ⟨...⟩ 17 Африканское солнце, солнце над пустыней и bidonvilles* вспыхнуло для него в первый раз внутри камеры «Аррифлекс», когда он снимал «Аккаттоне». Кино стало для него его первой Африкой, его единственной «альтернативой». В этой гибели, в этом противостоянии любым доводам разума Пазолини ощущал себя «силой Прошлого». Я брожу по дороге Тусколана, как безумец, я слоняюсь по Аппиевой дороге, как бездомный пес, или когда я смотрю, как сгущаются сумерки или поднимается утро над Римом, над Чочарией, над миром, * Бидонвиль (франц.) – трущобы. 374 мне кажется, что я присутствую при начале истории, что это моя личная законная привилегия, что я стою на краю какого-то забытого века.18 Искушение кино Он смеялся беззвучно, он смотрел вверх, и его глаза смеялись. Рот открывался в усмешке. Его смешили Адриана Асти и Лаура Бетти. Две эти актрисы были очень дружны между собой. Потом, во время съемок «Аккаттоне», произошел разрыв, из-за которого общие друзья были вынуждены лгать и изворачиваться. Если кто-нибудь ходил поужинать с Адрианой, нужно было скрывать это от Лауры; если кто-то ужинал с Лаурой, нужно было скрывать это от Адрианы. Пьер Паоло мог ужинать и с одной и с другой и не скрывать этого. Это была его привилегия. Причиной разрыва был Бернардо Бертолуччи. Бернардо влюбился в Адриану, а Лаура, которгая полагала, что Бернардо должен принадлежать ей, обиделась. Лаура говорила много всякого об Адриане и о Бернардо. Казалось, что как-то вдруг закончилась целая эпоха. Пьер Паоло над всем этим смеялся. Он смеялся вместе с Альберто Арбазино и с Гоффредо Паризе, которые выполняли роль посредников между Адрианой и Лаурой. Адриана вела себя очень сдержанно. Лаура вынуждена была соответствовать избранному ею образу «тигрицы», потому что за всем этим наблюдали ее молодые друзья, друзья Бернардо, которым она устраивала бесконечные сцены, требовала, чтобы они порвали с ним все отношения, перестали с ним здороваться и так далее. В то же время Лаура продолжала готовить свои выступления с песнями, свои «Круги в пустоте». Она брала тексты Пены, а так же Эрколе Патти, Фабио Маури и Сандро 375 Де Фео, который никогда в жизни не написал ни одного стихотворения и очень страдал от капризов Лауры: Лаура требовала от него песню, он писал, а она постоянно выбрасывала его песни в корзину. Но она не могла удержаться, чтобы не попросить его, а он ничего не мог поделать и писал. Пьер Паоло говорил, что Лаура – мучительница, «палачиха». Сидя за фортепьяно в доме на улице Бабуино, «тигрица» пробовала тексты, которые ей предлагали, требовала исправить их, песни становились смешными. Моравиа не понимал требований музыкальной метрики? Лаура исправляла его тексты тайком от него, к большому неудовольствию всех своих друзей. Пьер Паоло больше не бывал в домах «ироничных римских дам». Дом Лауры стал для него обязательным местом, куда он заходил почти ежедневно. Но самой близкой его подругой была Эльза Моранте. Какая радость: мы встречаемся почти каждый день, встречаться с ней для меня всегда праздник. Мы встречаемся каждый раз, как будто только что вернулись из длинного путешествия. Мы и не думаем об этом, но все-таки это чудо происходит, и мы встречаемся. Эльза сидит на краешке дивана, прямая, закутанная во что-то ее любимого темно-синего цвета. Вокруг ее близоруких глаз на подвижном лице как будто расстилается легкая дымка. Я вижу, что сегодня вечером она спокойна, что ее Angst* остался где-то далеко, что она тоже «quandoquidem dormitat»** легким сном, быстротечным и неспокойным, как кошка. Сегодня * Безотчетный страх, тоска (нем.) – один из ключевых терминов философии экзистенциализма. ** Немного поспала (лат.). 376 она не отправится с копьем наперевес верхом на своем безумном коне. Поскольку я должен сказать, что почти каждый вечер на турнире идеологической борьбы она выбивает меня из седла: пум! – и я валяюсь в пыли, мой конь ускакал, а она стоит надо мной, как грозовая туча, сверкающая молниями, среди голубых и лиловых знамен, над ее головой развеваются перья, она сидит на бретонской лошадке и смотрит на меня. Она еще не остыла от сражения, легкая тень улыбки только-только появилась в ее сиреневых глазах. Это – что касается литературы и идеологии. Во всех остальных областях она позволяет мне не просто скакать верхом, но даже летать на гиппогрифе.19 Действительно, дружба с Эльзой Моранте помогла Пазолини отойти от идеологических наркотиков, к которым он было пристрастился. Социология была не его наукой – по крайней мере, та социология, которой увлекались его друзья из «Оффичины». Строгий эстетический критерий, которым руководствовалась в своих оценках Эльза Моранте, ее идея об искусстве, полностью независимом от политики, но прочно связанном с реальной жизнью, убедили Пазолини. Он не смог порвать с лингвистической и морфологической концепцией литературы, приверженцем которых был в юности. Но этот обмен идеями лишь в небольшой степени способен описать сущность их плодотворной связи, благодаря которой жизнь превращалась в непрерывную игру, непрерывный рассказ. Теперь, когда Пьер Паоло вступил на путь кино, Эльза начала высказывать свои сомнения. Сомнения были и у Моравиа. Они полагали, что Пазолини не должен уходить из литературы. Но разве речь шла о настоящем уходе? Сомнения и страхи остались, и будущее должно было только усугубить их. 377 Эльза и Моравиа были суровыми критиками, когда дело касалось произведений, созданных их друзьями. Они могли показаться даже безжалостными. Оба они испытывали почти священное благоговение перед литературой и не допускали никаких компромиссов, особенно когда речь шла о внелитературных симпатиях.20 Оба они заметили в произведениях Пазолини некую недостаточность, которую, по их мнению, кинематограф мог компенсировать – и действительно компенсировал. Они могли рассуждать об этом бесконечно. Моравиа в рецензии на «Аккоттоне» намекает на эту проблему, пользуясь немного другими словами. Перенося на экран мир своих романов, фриульский писатель был вынужден, подчиняясь законам жанра, забыть об идеологических исканиях, которые могли ввести в заблуждение относительно его дарования, и придерживаться чистой изобразительности. Скажем сразу, что это ему полностью удалось – настолько, что возникает мысль о том, что романы Пазолини были своего рода подготовительным материалом для кино; то есть упорный поиск ощутимых и аутентичных средств в диалекте должен был непременно привести к отказу от слова, которое всегда метафорично, в пользу образа, который не может не быть прямым и непосредственным.21 Моравиа был убежден, что Пазолини стремится к эстетическому выражению, в котором грань между природой и языком практически стирается. В общем, и Пазолини ставил перед собой такую цель. Когда Пазолини взял камеру, чтобы снимать «Аккаттоне», – чтобы быть точными, скажем, что Пазолини был оператором собственных фильмов, начиная с «Теоремы»; ему 378 нравилось снимать воображаемую реальность, как в документальном кино, импровизируя, – итак, когда он в первый раз посмотрел в глазок кинокамеры, у него уже сложилась идея о «кино как поэзии» (в то время это была идея, которая противостояла восприятию кино как предмета потребления), и от этого кино он ожидал толчка, вдохновения к самовыражению, стимула, подобного порыву ветра. В то время его кризис – тот, который каким-то образом заставлял его выходить за рамки собственных выразительных возможностей, чтобы свободно следовать за течением жизни, проявлением жизненной силы, – в то время этот кризис представал перед ним только в самых общих чертах. В то время он реализовал в максимальной степени свои идеи, находил применение своей энергии, как того требовала эпоха: быть поэтом, писателем, homme de lettres*, безгранично открытым для эксперимента. Моравиа, однако, полагал, что этот поступок – обращение к кинокамере – был одним из способов бегства от литературы, и этим способом воспользовался не только Пазолини. После съемок «Аккаттоне» Бернардо Бертолуччи приготовился снимать «Костлявую куму», свой первый фильм, сюжет которого ему подарил Пьер Паоло. И вот Моравиа, убежденный в литературном даровании Бертолуччи, утверждал, что в другую историческую эпоху молодой человек, обладающим подобным дарованием, решил бы написать роман, а не снимать фильм. А на возражение, что Бернардо, несомненно, обладает особым чутьем на кино, Моравиа ответил: «Призвание – это всегда взаимодействие личности и культуры. Культура наших дней кинематографическая». С другой стороны, начало шестидесятых годов было эпохой авторского кино, «кино-поэзии»: Годар и Трюффо, де* Литератор (франц.). 379 бют того же Бертолуччи. Фильм «Авантюра» Микеладжело Антониони относится к тому же году, что и «Аккаттоне», потом Феллини, Элио Петри, Франко Рози. Итальянское кино разрабатывало формальные и стилистические решения, которые должны были вернуть ему свежесть и непосредственность первых послевоенных лет. Мэтром, к которому постоянно обращались и французы, и Пазолини, и Бертолуччи, был Росселини. В то время господствовал вид формализма, который абсолютно противоположен тому, что обычно называют формализмом: кино размышляло, или претендовало на то, что размышляет о себе самом, постоянно ссылалось на себя, стремилось освободиться от коммерческого синтаксиса, которым злоупотребляло. Ощущалась необходимость в обнаженном кино, сведенном к голой основе, «кино без словаря». Таким и должен был быть «фильмпоэзия», к которому стремился Пазолини. На этом пути он устремлялся, выйдя за рамки литературы, к поиску стилистических и выразительных средств, способных передать живую реальность. В то время кино стало зачинателем того, что критики называют «постмодернизмом», то есть течением, в котором современный дух разрушал все созданное ранее, опровергал даже самые недавние и самые революционные завоевания, чтобы идти в ногу с быстрым шагом Истории. Значит, именно из-за этого Пазолини попрощался с литературой, как этого и боялись его самые близкие друзья, Моравиа и Эльза Моранте? Кино было для него чем-то вроде внутривенного вливания, обновления крови. Написанное слово больше не имело того значения, что прежде, обобщающего и решающего для физиологии его вдохновения – по крайней мере, в том виде, в котором он ощущал его прежде. 380 Сколько бы он ни писал, сколько бы ни пытался таким образом оправдать себя, он всегда хотел запечатлеть непосредственно саму жизнь, чистую поэтичность. Слегка дрожащий кадр «Медеи» или «Декамерона» физически воплощает дрожь его руки, зрительные возможности сетчатки его глаза. Стиль стремится стать жизнью, жизнью во всей ее полноте, стиль стремится к полному, абсолютному, религиозному слиянию с жизнью, он не нуждается в посредниках. В этом нашло свое воплощение его «декадентство». Годы преследований Тот, кому квестура не выдает паспорт, и в то же время газета, которая должна была бы стать сосредоточием его настоящей жизни, не дает ему опубликовать свои стихи и подвергает их цензуре, – это тот, кто называет себя человеком без веры, он не приспосабливается и не отрекается: поэтому справедливо, что он не может найти себе жилья. Жизнь утомляет того, кто живет. Ах, мои вернувшиеся страсти, вынужденные скитаться без пристанища!22 Это стихи 1962 года. Гражданин мира «без постоянного места жительства». Его слова подвергаются цензуре: «я бы мог / вернуться к поразительной фазе / живописи ⟨...⟩ Я уже чувствую / острый запах пяти-шести моих любимых цветов». Для Пазолини сила отчаяния получила необыкновенно драматическое воплощение. 381 В течение трех лет, когда правые нападали на него в печати практически ежедневно, его обвиняли в любом отступлении от обычаев и традиций. Пазолини сражался против цензуры в кино, против поддержки, которую оказывали цензорам некоторые судьи, притворявшиеся «простодушными», а на самом деле выражавшие точку зрения «культуры провинциальной, лицемерной, ошибочной в своем корне».23 Но в преследованиях против него были вполне четко определенные этапы. Ночью с 29 на 30 июня 1960 года Пьер Паоло возвращался домой на машине. Был почти час ночи. Он проезжал по проспекту Витторио. Вдруг он услышал свист и голос, который его окликнул: «Эй! Па!» Это был парень из Трастевере, по прозвищу Немец. Пазолини часто встречал его в тех краях. Парень был не один. С ним был его друг, которого называли Дятел. У Пьера Паоло была новая машина – «Джульетта TI». Парни его поздравили с удачной покупкой, попросили покатать их. «Только пять минут, – сказал он, – я спать хочу». «Хорошо, пять минут», – ответили ребята. Они объехали площадь Арджентина, снова выехали на проспект Витторио, потом на улицу Кампанелле, потом на улицу Панико. Это центр квартала, расположенного за Новой церковью: описанный поэтом Белли, он всегда был и остается кварталом с дурной славой, это преступный Рим, Рим мошенников и грабителей, Рим карманников. В конце улицы Панико на углу с улицей Коронари какойто шумный скандал. Драка. Рассказывает Пьер Паоло: «Я включаю фары, и в их свете появляются белые, будто обсыпанные мукой, как пекари, старики и старухи, полуобнаженные, в трусах, они носятся туда-сюда, как будто их подгоняет ветер, как в аду. Я подхожу. Это драка между двумя стариками и двумя молодыми, мужчинами и женщина382 ми. Они яростно дерутся, пытаются схватить друг друга за горло, кричат. В какой-то момент Немец мне кричит: «Это Барон. Я его знаю». – «Тогда выйди и тащи его сюда, – говорю я ему. – Понятно, что их нужно растащить».24 На следующее утро, в семь часов, Пазолини разбудили и привели в комиссариат: он укрыл от полиции зачинщика драки. Драка началась из-за пустяка. Девушка разговаривала, высунувшись в окно, с приятелями, рассказывала, как испугалась таракана, приятели смеялись и подшучивали над ней. В этот момент малолитражка внезапно тронулась с места и задела открытой дверцей ребят. Ну и началось: оскорбления, оплеухи. Газеты – в основном правые, но и так называемые независимые – раздули скандал. Тема их выступлений: жизнь подражает искусству. «Рисковые парни» и их автор сплелись в тесных объятиях, и теперь уже невозможно различить, где вымысел, а где реальность. Доходит до того, что кто-то советует Пазолини «заниматься своими делами, а не шляться по городу после полуночи в кварталах, пользующихся дурной репутацией». 15 ноября 1961 года состоялся суд. Пазолини обвиняют в подстрекательстве. Председатель суда спрашивает: «Что вы делали на улице в это время ночи?» Пазолини отвечает: «Я гулял, чтобы собрать впечатления о месте действия для литературного произведения, которое собираюсь написать». Это защитная реакция, однако, этот ответ полностью соответствует утверждению, что он путает жизнь с искусством. Утверждение это теперь уже постоянно звучит, когда говорят о Пазолини. Пьер Паоло думал, что, сказав это, он сможет побыстрее покончить с этим пренеприятнейшим фарсом. Кроме того, ему всегда нравилось, чтобы его острые замечания попадали в протоколы. 383 16 ноября суд оправдал его «за недостаточностью улик». На заседании 5 июля 1963 года в приговоре было отмечено, что, согласно юридическим нормам, драки не было. И Пазолини был полностью оправдан.25 Другой случай, в Анцио. 10 июля 1960 года. Галерея в Анцио. Обычно после семи часов вечера она заполняется отдыхающими, детьми, рыбаками. Длинный ряд домов, выходящих на крытую галерею. Пришвартованные лодки, множество ресторанчиков, стеклянные киоски, в которых выставлены лотки со свежей рыбой. По недвижной поверхности воды порта скользит лодка. На ней несколько мальчишек. Другие ребята смотрят на лодку с мола. К ним подходит Пазолини и спрашивает: «Вы их знаете? Сколько им лет?» Ребята отвечают: «Двенадцать». – «Должно быть, у них замечательные х…» – сказал Пазолини. Два журналиста, которые видели эту сцену на некотором расстоянии, – сын одного из них как раз и находился в этой группе – заявили в полицию. Последовало разбирательство. Двое родителей подали заявление прокурору в Веллетри, обвиняя Пазолини в «попытке растления несовершеннолетних». Он переслал заявление римскому прокурору «для объединения его с другими делами, по поводу которых ведется расследование». Римский прокурор отклоняет заявление, поскольку факт «не содержит признаков преступления, состоящего в развращении малолетних», в крайнем случае, его можно обвинить в «сквернословии». Дело передают мировому судье в Анцио. Два мальчика во время опроса сообщили: «Мы стояли у ограды ресторана «Марекьяро». Подошел какой-то господин, посмотрел на мальчишек, которые катались на лодке, спросил у нас, сколько им лет, я в шутку ответил, что двадцать. Он сказал, 384 что у них х… маловаты, и спросил: «А у вас?» Мы не ответили, я рассмеялся. Потом он ушел, а к нам подошли еще двое и спросили, что он у нас спрашивал. Один сказал: «Мы вам дадим сто лир, если вы все расскажете». Мы и сказали. Они нам сказали, чтобы мы пошли в полицию. Мы подумали, что они полицейские». 14 декабря 1960 года дело было сдано в архив за недоказанностью «предполагаемого преступления, совершенного Пазолини Пьером Паоло».26 Улица Панико, Анцио. Газеты пестрели замечаниями и комментариями. Появляется специальное прилагательное «пазолиниевский», которым пользуются журналисты, чтобы обозначить все то, что в Риме связано с люмпен-пролетариатом или вообще с преступной жизнью и гомосексуальными отношениями. Заявления в суд посыпались одно за другим после выхода «Аккаттоне» на экраны. Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Барберини» в Риме 23 ноября 1961 года, через четыре дня после завершения суда по событиям на улице Панико. Плотная группа молодых людей, состоящих в неофашистской организации, которая называется «Новая Европа», в семь часов вечера 23 ноября врывается в зрительный зал. Они нападают на зрителей, бросают пакеты, которые взрываются и распространяют смрад, швыряют бутылки чернил в экран, опрокидывают стулья. Спокойствие удается восстановить только через полчаса. В тот вечер на последнем сеансе в знак солидарности и поддержки зал заполняют интеллектуалы и деятели кино. После окончания фильма звучат аплодисменты. Лукино Висконти обнимает Пазолини. Пазолини немного дерзко заявляет журналистам: «Если фашисты имеют что-то против меня, пускай приходят ко мне домой!» 385 Тогда, в ноябре 1961 года, с Пазолини происходят фатальные вещи. 30 ноября, например, римская газета «Иль темпо», считающаяся «независимой», но поддерживающая правых, публикует на весь разворот заголовок: «Пьер Паоло Пазолини обвиняется в попытке ограбления бензоколонки и нападении на сотрудника». К статье приложена фотография, кадр из фильма «Горбун» Карло Лиццанти: Пьер Паоло в этом кадре стоит с автоматом. 18 ноября Пазолини вместе с Серджо Читти был в гостях в доме Эльзы Де Джорджи в Сан Феличе Чирчео. Они работали над сценарием фильма «Мама Рома», который Пазолини хотел снимать после «Аккаттоне». Сразу после обеда Пьер Паоло отправился прогуляться. Он хотел проехаться на машине. Он накинул на плечи светлую замшевую куртку и направился по дороге, которая из Сан Феличе идет к дюнам, а потом к морю, к пляжам Сабауда. У бензоколонки он остановился. Однажды я мчался, как рыба, вырвавшаяся из сетей, в сухом воздухе в окрестностях безлюдного мыса, теряющегося в голубизне, и сейчас я вам расскажу, что со мной случилось и как действительно все произошло. В тот день я ехал по сухой дороге, и руки у меня были сухие, и даже мозг, кажется, высох, и я вам скажу, что только чрево мое было полным жизнью, как тот мыс в бессмысленной голубизне. Все мифы были позабыты, уничтожены, но на том мысу кто-то жил. В общем, гонимый живой плотью и близорукостью, я вел машину под сухими лучами солнца, 386 по неровной асфальтовой дороге, среди кустов, которые, несмотря на осень, казались совсем летними; я направлялся к дому, одиноко стоявшему на солнце, на его стенах были старые рисунки, старые лопаты и старые сети были прислонены к старому забору. Все было белым и голубым – мы в Италии – и солнце смешивалось с дождем и издавало резкий запах. А там внутри был мрачный парень, в переднике, мне кажется, я его хорошо помню, у него были густые, как у женщины, волосы, бледная сухая кожа и безумная невинность во взгляде, как у фанатичного святого, как у сына, который хочет быть достойным своей матери. Вообще-то я увидел его сразу, этого бедного одержимого, чье невежество делало его похожим на всех других, поскольку превращало его мертвенный невроз в послушание сына, который стремится быть похожим на отца. «Как тебя зовут, что ты делаешь, ты ходишь на танцы, у тебя есть девушка, тебе хватает заработка на жизнь»? – вот о чем я с ним заговорил, поскольку меня подталкивала старая похоть, возникшая не ко времени, и я чувствовал себя, как рыба, вынутая из воды. Вы видели мое Евангелие, вы видели лица моего Евангелия. Я не мог ошибиться, иногда решения приходят мгновенно: я никогда не ошибался, потому что моя похоть и моя робость заставили меня научиться сразу распознавать мне подобных. И я сразу узнал его, несчастного, одержимого бесом, спрятанного в четырех стенах, окруженного солнцем. Приближалась зима, и она была в его чертах, 387 с ее сумерками, с тишиной, с погруженными в молчание домами, с ее чистотой. Я уехал. Но я опоздал, и он почувствовал, как женщина, ужас, страх перед отцом, ужас от того, что он не похож на отцов, которые создали этот мир, чтобы он им подчинялся.27 Парень по имени Бернардино Де Сантис заявляет карабинерам в Чирчео, что подвергся нападению и насилию. Он один находился на бензоколонке в половине четвертого. Вошел неизвестный в черной шляпе. Спросил кокаколу, выпил. Задал ему «странные» вопросы: о заработке, его ли мотоцикл стоит у двери, есть ли у него девушка. Потом огляделся, бросился к двери, надел черные перчатки, вытащил пистолет, «засунул в ствол золотую пулю». Он угрожал, сказал: «Шевельнешься – застрелю». Снова подошел к двери, закрыл ее на ключ изнутри, закрыл и вторую дверь, стеклянную. Прошел по террасе. Бернардино сказал, что ему к горлу приставили пистолет. Незнакомец пытался открыть левой рукой ящик кассы. Там было две тысячи лир. На прилавке лежал нож. Парень его схватил и ранил мужчину ножом в руку. «Мы еще встретимся», – сказал он, уходя. На следующий день на дороге в Сан Феличе Бернардино узнал незнакомца: он был за рулем «Джульетты». Номер машины принадлежал Пазолини. 22 ноября римские карабинеры обыскали дом и машину Пьера Паоло. Искали пистолет. Пьер Паоло изложил свою версию, но ему не поверили. Поверили в черную шляпу, в пистолет, в «золотые пули». Во все это поверили правые газеты и открыли новый этап травли, обвинений и оскорблений. Не дожидаясь результатов расследования, стали публиковать статьи об «ограб388 лении» в Чирчео, о «реализме, который выходит за рамки…». Неофашистские издания задаются вопросом, «почему Пазолини еще на свободе». В те же дни, на премьере фильма Паоло Хеуша, снятого по мотивам «Жестокой жизни», молодчики правых на площади Кваттро Фонтане в Риме избили зрителей, закидали яйцами экран. 3 июля 1962 года в суде в Ладине начался процесс. Пазолини обвиняется в вооруженном ограблении, в незаконном ношении оружия и отказе сдать его (пистолета так никто и не видел, кроме Бернардино Де Сантиса). 21 июня 1962 года информационное агентство «Стампа интернационале медика» распространило среди редакторов газет и журналов («частное письмо, не для публикации») заключение, сделанное для стороны обвинения, по поводу психического состояния Пазолини. Автором этого документа был профессор психологического факультета Римского университета Альдо Семерари. Профессор Семерари спрашивает себя: «Обвинение абсурдно? Абсурдно думать, что Пазолини хотел ограбить паренька из-за двух тысяч лир?» Ответ: «Когда мы оказываемся перед лицом действий, необъяснимых с точки зрения психологии, мы должны предположить, что эти действия являются не выражением сознательной способности самоопределения, постановки перед собой ясной цели, а симптомами развития болезненного процесса, либо, по крайней мере, изменения личности человека, его врожденных или приобретенных черт характера». И еще: «У Пазолини психопатический инстинкт, сверхозабоченность сексом, он закоренелый гомосексуалист». Семерари пользуется протоколом, составленным в Рамушелло: он говорит о «клептофилии», о «личности крайне 389 неуверенной в себе и легко внушаемой», «о человеке социально опасном». «Заключение» Семерари очень хорошо передает атмосферу, в которой происходит суд. Сейчас, по прошествии стольких лет, вызывает удивление сама мысль о том, что можно серьезно обсуждать предполагаемое ограбление, имея в качестве основных свидетельских показаний рассказ Бернардино Де Сантиса, из которого становится ясным только одно: каким образом личная склонность к мифотворчеству находит поддержку в бесконечном чтении комиксов. Еще больше, чем ограбление, обсуждается гомосексуализм Пазолини. О нем говорят обвинители, вспоминая Рамушелло, Анцио, и, постоянно смешивая факты и предположения, подкрепляют эти случаи страницами из «Шпаны» и «Жестокой жизни». Председатель суда спрашивает у Бернардино Де Сантиса, делал ли ему Пазолини предложения, о которых ему стыдно говорить. Де Сантис отвечает: «Он мне не делал никаких сексуальных предложений, вообще никаких». У Пазолини председатель спрашивает, почему он задавал Де Сантису вопросы. «Потому что я задумал снять фильм, действие которого будет происходить в этом месте. Это вопросы, которые я обычно задаю, чтобы изучить место и реакцию людей». Де Сантис ответил вполне искренне, но не смог рассказать о том, что его заставило пойти и сделать абсурдное заявление в полицию. Он не смог рассказать в суде об «ужасе, страхе перед отцом, ужасе от того, что он не похож на отцов, которые создали этот мир», ужасе, который он испытал в тот осенний день перед Пьером Паоло, спрашивавшего его о девушке и о мотоцикле. 390 Пьер Паоло, со своей стороны, попытался защититься словами, которых, собственно, от него и ждали: он изучал реальную жизнь, чтобы потом придумать ее. Этот ответ не может выразить его правду, но это единственно возможный ответ, единственное оправдание, которое могло прервать бесконечную цепь измышлений, которых он не выносил. В зале суда в Ладине было душно и жарко. Пьер Паоло был одет в белый костюм. Он сидел на светлом деревянном стуле, оставшемся от фашистской эпохи. Он бледен, в очках. Сержант карабинеров стоит у него за спиной. Пьер Паоло внимательно слушает предварительный опрос стороны обвинения, слушает слова своего защитника, адвоката Франческо Карнелутти, члена демохристианской партии, который уже выступал в качестве защитника на процессе против «Аккаттоне», когда хотели запретить демонстрацию фильма, основываясь на решении цензорской комиссии министерства. Пьер Паоло слушает. Время от времени он бросает взгляд на друзей, которые пришли поддержать его в это летнее утро. Среди них Моравиа, Адриана Асти, Лаура Бетти. В ее глазах безучастность, испуг, недоверие. В приговоре прямо сказано, что он задумал снимать фильм и воспроизвел сцену ограбления с целью «изучения» – изучения человеческого поведения и реакции. Попытка вооруженного ограбления переквалифицируется в «угрозу оружием». Приговор: пятнадцать суток ареста плюс еще пять суток и десять тысяч лир штрафа за незаконное владение оружием и его ношение. Естественно, к Пазолини применяется условное наказание. Те, кто присутствовал на процессе, ощутили незабываемое чувство неловкости и неудобства, связанное с осуществлением правосудия в Италии. 391 Судьи вынесли Пазолини обвинительный приговор за несовершенное ограбление? Моравиа сказал: «Судьи поняли, что то, что утверждал Де Сантис, было просто безумием, бредом. Но решили все же вынести обвинительный приговор только потому, что Пазолини был гомосексуалистом. В итальянском кодексе нет статьи, которая бы рассматривала гомосексуализм как преступление. И тогда они нашли лазейку. Это абсолютно надуманные измышления, но для приговора этого хватило». Затем последовало обжалование в суде высшей инстанции (13 июля 1963 года) и обращение в Кассационный суд (1 марта 1965 года и 17 декабря 1968 года). Пазолини не был оправдан полностью, а только «за недостаточностью улик».28 Возникает вопрос: что же на самом деле произошло в «этом доме, одиноко стоявшем на солнце»? Сексуальных домогательств там не было, Де Сантис заявил об этом совершенно определенно. Наверное, все произошло так, как Пьер Паоло рассказал в своих стихах: вопросы, которые он задал, его чувства. В его чувствах была «живая плоть», была его «старая похоть». Это все то же самое, что заставило его заговорить с ребятами на моле в Анцио. Его похоть требовала словесного воплощения, которое иногда может привести к подозрениям, к намекам, но только если обстановка к этому располагает. В этот раз о ней могла говорить только особая интонация, но «этот бедный одержимый, чье невежество делало его похожим на всех других», должно быть, почувствовал что-то как раз непохожее «на всех других». Можно предположить, что сама вежливость и ласковый тон Пазолини, когда он говорил с человеком слабым и неуверенным в себе, каким был Бернардино Де Сантис, могла показаться намеком на насилие, на принуждение. 392 Таким образом, вопрос не в том, как отреагировал Де Сантис на разговор с Пьером Паоло – примерно то же самое произошло и в Анцио, – вопрос в том, как этот эпизод был раздут средствами массовой информации, какую интерпретацию он получил в протоколах, в докладах карабинеров и в решениях судей. Обстановка преследования. Вокруг фигуры Пазолини возникает истерическая обстановка. О том, что это было именно так, свидетельствуют некоторые эпизоды, незначительные сами по себе, но свидетельствующие об истерии, если связать их с процессом по делу Чирчео. 25 октября 1961 года Антонио Вече, учитель начальной школы в Авеллино, двадцати трех лет, обращается в полицию с заявлением: Пазолини силой вынудил его сесть в его ставшую уже знаменитой машину «Джульетта TI», вывез его за город и, угрожая пистолетом, оглушил его и похитил рукопись романа, озаглавленного (ну надо же!) «Дети греха». Через два дня Вече отказывается от обвинений. Он признает, что пытался таким образом привлечь к себе внимание как к писателю. Ему инкриминируют ложное обвинение. 24 февраля 1962 года бывший депутат демохристианской партии от Муро-Лучано Сальваторе Пальюка привлекает к суду Пазолини и киностудию, снявшую «Аккаттоне». В фильме один из персонажей носит его имя: это вор, сутенер, хулиган. Пальюка требует возмещения морального и материального ущерба и изъятия его имени из фильма. Бывший депутат полагает, что над ним издеваются. Он утверждает, что Пазолини дал его имя своему персонажу с целью нанести ущерб его политическому имиджу, поскольку он собирается выставить свою кандидатуру в Сенат на будущих выборах, а на его избирателей может негативно воздействовать фильм Пазолини. 393 Пальюка не прошел в Сенат на выборах1963 года. В суде он возложил ответственность за это на Пазолини, а также обвинил его в том, что развязанная «против него кампания по диффамации» явилась причиной обострения ряда хронических болезней и неожиданно проявившегося отсутствия всякого интереса к работе и к семье. 22 февраля 1965 года компетентный суд признал, что невозможно отождествлять адвоката Пальюку с персонажем фильма «Аккаттоне», и отклонил требование о возмещении морального ущерба, однако потребовал убрать имя адвоката из фильма; возмещение судебных издержек суд возложил на Пазолини и на киностудию, снявшую фильм. Кажется, что описание этого дела взято со страниц Пиранделло или Эдуардо Де Филиппо. Имя Сальваторе Пальюка очень распространено в Кампании и Лукании;* бывший депутат за пределами своего округа вовсе не был таким выдающимся политическим деятелем, чтобы можно было решить, что его имя намеренно дали персонажу фильма в качестве насмешки и с целью нанести ему моральный ущерб, как он полагал. Но невозможно рассматривать этот эпизод вне истерической ситуации, сложившейся вокруг Пазолини в те годы. Другой случай мифотворчества относится к апрелю 1962 года. Молодой римлянин Андреа Ди Марко утверждал, что узнал себя в неком Бегалоне, герое «Шпаны». Он подал иск против Пазолини, обвиняя его в «диффамации в печати». Правые газеты, прежде всего римская «Иль темпо», подробно осветили это дело. Они оправдывали позицию Ди Марко, говоря о нем как о человеке, который не желает, чтобы его считали одним из «хулиганствующих элементов, и полагает, что у искусства одни законы, а тот, кто вместо кра* Южные области Италии. 394 сок и кисти использует кинокамеру, чтобы точно воссоздать людей и явления, как это делает бесстрастный хроникер, должен подчиняться другим законам, законам общества».29 Снова кто-то путает искусство и жизнь: неизвестный журналист не смог удержаться от выражения своих эстетических суждений. Но Ди Марко забрал свое заявление, и дело это не имело никаких последствий. И еще раз, после выхода второго фильма Пазолини, «Мама Рома», имели место сцены нетерпимости. Фильм был показан на XXIII Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 1962 года. Подполковник, командир местного подразделения карабинеров, обвиняет его в непристойности. Непристойность заключается в том, что в фильме используются слова «ссать» и «дерьмо», а также вульгарные звуки в звуковой дорожке фильма. Компетентный суд 5 сентября не принимает заявление подполковника к рассмотрению как необоснованное и не сообщающее о незаконных действиях. Печать, естественно, придает остроту и живость этому делу. Несколько газет отпускают злобные замечания в адрес «Пазолини и пазолинидов», пришедших во Дворец кино на Лидо. «Пазолиниды» – это актеры-непрофессионалы, «взятые из жизни», участвовавшие в фильме. В центре фильма «Мама Рома» стоит фигура Анны Маньяни – это дань вежливости Росселлини, «Прекраснейшей» Лукино Висконти. Маньяни предстает как объект кинематографического изображения, это своего рода находка, которая сама по себе дает возможность рассказать притчу о том, каким образом люмпен-пролетариат стремится изменить свое лицо. В фильме просвечивает искушение мелкобуржуазными ценностями и, как следствие, полный упадок. Где-то в глубине маячит смерть. 395 Пазолини заметил: «То, что отличает этот фильм от «Аккаттоне», – это нравственная проблематика, которой в «Аккаттоне» нет».30 Это то же расстояние, что отделяет «Шпану» от «Жестокой жизни», с таким же соотношением в выразительности. «Мама Рома» грешит схематичностью, назидательностью. У юного героя – заключенного, умирающего на тюремной койке (его роль исполнил Этторе Гарофало), – был свой прототип: некий молодой человек по имени Марчелло Элизеи, умерший годом раньше в римской тюрьме. Контаминация образов Мазаччо, «Мертвого Христа» Мантеньи и света, свойственного Караваджо, служит общей схемой кинематографического воплощения смерти героя. Смерть эта обусловлена обществом: ответственность за нее коллективная, корни ее лежат как в потребительском мифотворчестве, так и в самой тюремной системе. Подобный прямолинейный детерминизм лишает фильм свойственной Пазолини живости чувства. В фильме «Аккаттоне» герой был захвачен и убит самой необходимостью смерти, чем-то, что необъяснимо лишало его всякой возможности сопротивляться, делало его одновременно и героем, и жертвой собственного существования. Трагедия материнской любви: сын, жертвенный агнец, возложенный на алтарь мира. Нетрудно найти в фильме «Мама Рома» автобиографические черты. Уже в «Аккаттоне» эти автобиографические моменты были вполне ощутимы, и уже там намечалось некое сходство с Христом. Мифы «Соловья», лишенные очарования поэтической музыкальности, перенесенные в ревущий мир римских предместий, живописно и контрастно изображенные только в белом и черном цвете, как на фотографии Тонино Дели Колли, получили новую жизнь. Из этих мифов возникает душераздирающая притча о жертве: это принесение в жертву жизни того, кто предлагает собственное страдание и учение всем. 396 Пазолини постоянно отражает свой личный миф в образе Христа. Преследования, которым он подвергается, предвосхищают акт распятия. От «Аккаттоне» и от «Мамы Ромы» через «Овечий сыр» он прямо идет к «Евангелию от Матфея». В то время, когда он задумывал «Евангелие», Пьер Паоло в одном интервью выразил словами, которые невозможно трактовать двояко, собственное понимание мира и судьбы: «В мире, в котором я живу, я, скорее, овца среди волков. Все, что случилось за последние годы, служит тому доказательством. Меня просто разорвали на части».31 22 сентября 1962 года состоялась римская премьера фильма «Мама Рома» в кинотеатре «Кваттро Фонтане». Последний сеанс закончился в час ночи. Пазолини на нем присутствовал. Группа молодых студентов университета, членов крайне правых организаций «Молодая Италия» и «Национальный авангард», напала на него в фойе кинотеатра. Рядом с Пазолини была Лаура Бетти и два исполнителя ролей в фильме, Серджо Читти и Пьеро Морджа. На премьере моего фильма какой-то фашист, очень уж худосочный, по правде сказать, выкрикнул мне в лицо оскорбления как бы от имени всей «прекрасной молодежи», так похожей на него. Я вышел из себя (в чем глубоко раскаиваюсь), ударил его и сбил с ног. Моя подруга Лаура Бетти присутствовала при этом и видела все это «своими собственными глазами». Не знаю, по какой причине газеты рассказали об этом эпизоде, переврав все факты (и даже приложив фотомонтаж), так что оказалось, что избили меня. Информация распространилась, стала общественным достоянием, настолько общественным достоянием, что Бетти в своем простодушном увлечении, рассказывая об этом мне, хотя и видела все «своими собственными глазами», сказала: «фашист, который тебя ударил».32 397 Пьер Паоло в тот вечер в фойе «Кваттро Фонтане» играл на опережение. Была драка. Полиция, которая выставила в кинотеатре охрану, увезла всех в участок. Через несколько дней на Лауру Бетти напали на улице Бабуино. В общем, после нескольких месяцев разбирательств по ложным заявлениям неофашисты решили перейти к действиям и напали на Пазолини. Несколько в стороне остается обвинение в оскорблении религии и святотатстве, которое последовало за выходом на экраны «РоГоПаГа» – фильма, состоявшего из нескольких киноновелл, среди которых был и «Овечий сыр». Это было в феврале 1962 года. Продюсер Роберто Аморозо задумал снять фильм, в котором участвовали бы четыре режиссера. Рабочее название фильма было «Жизнь прекрасна». Он обратился к Пазолини. Пазолини согласился и написал сценарий «Овечьего сыра». Аморозо сценарий отверг: он посчитал, что это просто ряд эпизодов, содержащих бесстыдные оскорбления. Тогда свою помощь предложил Альфредо Бини. Он снял «РоГоПаГ». Название это составлено из начальных букв фамилий четырех режиссеров, которые снимали фильм: Росселлини, Годар, Пазолини, Уго Грегоретти. Среди холмов, начинающихся за городской чертой Рима, тянется большой участок земли между Виа Аппиа Нуова и Виа Аппиа Антика. Там, у источника Святой воды, Пазолини снимает фильм «Овечий сыр». Происходит это осенью 1962 года. На этой бесплодной каменистой земле рождается его самый необыкновенный фильм. «Гениальный», как его определил Моравиа в рецензии. «Мы не хотим этим сказать, что он само совершенство или что это прекрасный фильм. 398 Но он несет на себе отпечаток гениальности, вернее, определенную жизненную страсть, в равной степени удивительную и глубокую».33 Это небольшая поэма, полная необычных образов, это кино как познание самого себя, кино, понятое изнутри, квинтэссенция кино. Но в то же время это кино, которое жадно использует живопись и литературу. Снимается сцена распятия и снятия с креста; образцом для этих сцен послужили произведения Понтормо и Россо Фьорентино, а режиссер, которого играет Орсон Уэллс, отвечает случайному интервьюеру стихами Пазолини: Я – сила Прошлого. И только в традиции моя любовь… Интеллектуальная автобиография и жизненный опыт – этот набор, свойственный роману как литературному жанру, – ярко, в традициях неореализма, воспроизведен во всей его саркастической непосредственности, и он как горн послужил переплавке совершенно особенных метафор. «Долой распятия!»; «несите кресты»; «оставьте их пригвожденными»; «рогоносцы»; «тишина»; Мария Магдалина, которая, совершенно безразличная к происходящему, танцует ча-ча-ча перед крестом; и Страччи, бедняга Страччи, воришка, который в какой-то момент, оставшись без работы, съел столько сыра, что у него случилось несварение, и он умирает, буквально умирает, привязанный к кресту под палящим солнцем. Со всеми криками, беспорядочными движениями, жестами весь этот сюжет в его горькой жестокости является не чем иным, как воплощением идеи о храме, заполненном торговцами. Бедность, подсказывает автор. Только бедность, с ее простыми и чистыми словами, может предложить возрождение веры. 399 Тема очень сложная, это глубоко христианские размышления. Он нападает на служителей любой церкви. Богохульство постоянно повторяющихся криков «долой распятия!» – это воплощение древнего отчаяния, которое не находит в мире удовлетворения неиссякаемой потребности в религии. Вульгарные голоса, грубые вопли, беспорядочное движение, неожиданные паузы (например, когда тайком приходит голодная семья Страччи, которой бедняга, один из огромного муравейника Чинечитта, отдает свою еду) – все это кусочки, из которых складывается картина «ошеломляющей сакральности».34 Это картина, в которой культурная чувствительность Пазолини и его необоримая потребность лишать святош ореола святости, с тем чтобы придать конкретный смысл христианскому «кредо»*, достигают наибольшей экспрессивности. Слабый намек на детерминизм в смерти Страччи от голода, намек, окрашенный неким оттенком иронии. И наоборот: разочарование. Тоже с оттенком иронии, который постоянно присутствует у Пазолини: яростное обвинение буржуазии, открытая демонстрация «глубокого, личного, архаичного католицизма», того, что есть у него собственного, наболевшего, что он хочет сказать о смерти, которая для марксиста представляет собой «псевдопроблему». Пазолини удалось создать игру ради игры, сыграть при помощи кино. И он действовал изящно, как профессионал. Это и была та «гениальность», которую разглядел Моравиа. А клерикалы отказались ее признать. Когда фильм вышел на экраны, он был принят осторожно, холодно. Причина этого была, по мнению Моравиа, в том, что Пазолини «с простодушной бестактностью» вложил в уста режиссера следующие слова: * credo (лат.) – верую. 400 Черт возьми, режиссер в интервью заявляет: «В Италии самый буржуазный и самый неграмотный народ в Европе», – и вот в результате и левые, и правые возмущены. Потом, что еще хуже, Орсон Уэллс говорит: «Средний человек – это опасный преступник, чудовище. Он расист, колониалист, рабовладелец, вообще кто угодно». В результате недовольны теперь уже все. Италия в прошлом действительно была страной, где самой важной фигурой был человек; теперь Италия – это страна, где самой важной фигурой является средний человек. 1 марта 1963 года фильм был запрещен из-за надругательства над государственной религией. Декрет о запрещении фильма был подписан исполняющим обязанности прокурора Итальянской Республики Джузеппе Ди Дженнаро. 4 марта во дворце Мариньоли, где располагалась Итальянская ассоциация печати, прошло собрание в поддержку Пазолини. Критики, режиссеры, писатели высказали опасения, что суд вынес весьма схематичное и ретроградное суждение о религиозной трактовке образов фильма. Не все католики придерживаются того же мнения, что и исполняющий обязанности прокурора: преподаватели-священнослужители Грегорианского католического университета в Риме не усмотрели в фильме никакого надругательства. Случай этот – не просто судебный казус. Слушания дела прошли 6 и 7 марта. Главным героем стал Ди Дженнаро, заявивший, что в том, что касается концепции веры, не может быть разных точек зрения. В своей речи он сказал: Вы можете спросить, почему католическая печать не откликнулась с негодованием на выход этого фильма. И будете совершенно правы: католики должны четко обо401 значить свое отношение. ⟨...⟩ Я уверен, что ваше решение пробудит мертвых, оживит чувство собственного достоинства тех католиков, которые не отреклись от своей культуры из боязни, что их обвинят в конформизме. ⟨...⟩ Пусть католики будут поосторожнее, иначе они рискуют ввести в град Господень троянского коня Пазолини. Намерения его ясны. Культурные идеи, на которые он намекает, тоже. Еще более понятна психология судьи. Вот я здесь, на кафедре в официальном присутствии, но в качестве кого? Если обвиняемый – это тот, кто призван ответить на обвинения, ладно, пусть я буду обвиняемым! Необходимо, чтобы я особенно четко осознал действительность. Различные люди прямо, не прибегая к иносказаниям, обвиняют меня, говорят, что я душитель свободы, инквизитор! Не нужно никаких других доказательств, чтобы понять, что на этом процессе обвиняемых двое: я и Пазолини. Его требование, обращенное судьям, решительно: «Если вы осудите Пазолини, вы оправдаете меня, но если вы его оправдаете, то неизбежно осудите дело всей моей жизни».35 Суд счел Пазолини «виновным в преступлении, которое ему было инкриминировано», и приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения. 6 мая 1964 года римский Апелляционный суд его оправдал, «поскольку в его действиях отсутствовал состав преступления». Этот второй приговор был отменен 24 февраля 1967 года Кассационным судом, «поскольку преступление попало под амнистию». Процесс 1963 года, жестокие споры по поводу цензуры в кино, статьи кодекса Рокко, который еще действовал в Италии в отношении преступлений против религии, дают 402 фотографически точную картину того, в каком положении в стране находилась культура. Экономическое чудо изменило производительные силы, большие города на севере Италии постепенно меняют свое лицо; дорожная инфраструктура перекраивает сельскую местность; средства массовой информации, с телевидением во главе, бурно развиваются. Все это основывается на застывших представлениях, на морали, которая гордится собственной несгибаемостью, неспособностью изменяться. Все это делает почти невозможным распространение новых идей и мнений – в лучшем случае, они становятся доступными случайно, в отрывочной форме. В новой Италии существуют такие абстрактные и ирреальные границы, что человек, по природе своей подобный Пазолини, все время ощущает искушение нарушить их. Он чувствовал, что внутри него живет эта натура, эта судьба, но, естественно, не мог принимать это легко и просто. Он прекрасно знал, что противостояние его идей и идей исполняющего обязанности прокурора Ди Дженнаро совсем не было борьбой будущего с прошлым, это была борьба за другое понимание Христа. И страна, которая хотела прямо и без предрассудков пользоваться всеми возможными благами просвещения, в то же самое время хотела сохранить, судорожно сберечь все, что осталось от прошлого, упорствовать в собственных социальных разочарованиях. «Я сила Прошлого», – писал Пазолини. Но именно из-за этого он не хотел, как он писал, предоставить «попам монополию на Добро». Культура сельских приходов в его представлении обогащалась идеей динамичного развития истории, но этот динамизм был неразрывно связан с евангелическим посланием, шокирующим и «скандальным». Кино могло стать движущей силой такого «скандала», гораздо более действенной, чем литература. Кино – Пьер 403 Паоло скажет об этом через несколько лет – является «письменным языком реальности». Он произнесет эти слова в 1966 году и добавит, что кино для него было не чем иным, как «призрачной, детской и прагматичной любовью к действительности». Не только «прагматичной», но ⟨…⟩ Религиозной, поскольку смешивается каким-то образом, по аналогии, с чем-то вроде сексуального фетишизма. Мир кажется мне просто совокупностью отцов и матерей, к которым я испытываю влечение, состоящее из почтительного уважения и необходимости разрушать это уважение при помощи резких и скандальных заявлений.36 «Отцы» и «матери», «сексуальный фетишизм», «скандал» – все это включается в неразрывную цепь, постоянный круговорот страстей, которые ведут к нервным срывам, но которые разум и поэтическая интуиция постоянно подпитывают жизненной силой и выразительностью, той самой «отчаянной жизненной силой», которая кипела в Пазолини и все больше затмевала собой все остальные свойства его личности. Выслушав приговор тем мартовским утром 1963 года, Пьер Паоло вернулся домой. Солнце было почти горячим, наступила весна. Уже несколько месяцев с ним и с Сюзанной жила Грациелла, дочь Анни Кьяркосси Нальдини. Грациелла училась на филологическом факультете Римского университета. Сюзанна, узнав о приговоре, разрыдалась, упала в обморок. Это был тревожный симптом. Пьер Паоло был потрясен, он позвонил Моравиа, попросил прийти к нему домой. Потом ему удалось найти телефон Ди Дженнаро, он ему позвонил. Сбиваясь на крик, он обвинил судью в резком ухудшении состояния здоровья матери. 404 Это был первый и последний раз, когда Пьер Паоло вышел из себя из-за приговора. Плач, физическое недомогание Сюзанны помутили его разум. Вот какие слова он нашел для нее: Ты незаменима. Из-за этого ты приговорена к одиночеству в жизни, которую ты мне подарила. Я не хочу быть один. Я испытываю неутолимый голод любви, любви тел без души. Потому что душа в тебе, это ты, но ты моя мать, и твоя любовь – мое рабство. Я провел детство рабом этого высокого чувства, неизлечимого, всепоглощающего. Это был единственный способ ощутить жизнь, единственный ее оттенок, единственная форма. А сегодня все кончено. Мы выживем: и в этом смятение жизни, возрожденной вопреки разуму. Я умоляю тебя, ах, я тебя умоляю: не стремись умереть, я здесь, один, с тобой, и скоро наступит апрель.37 МЕЧТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ Прекрасные знамена Рассказывая о жизни Пазолини, невозможно не сказать о чувствах ужасающего одиночества и утраты, которые постоянно его преследовали. Пьер Паоло переживал годы творческого кризиса, кризиса, который ему удастся преодолеть потом лишь с большим трудом. И все же – это очень важно для него – Антонелло Тромбадори пригласил его сотрудничать с популярным журналом КПИ «Вие нуове»,* и он с 4 июля 1960 года начал вести там рубрику «Диалог с читателем». Это сотрудничество с небольшими перерывами продолжалось до 30 сентября 1965 года. Перерывы приходятся на съемки фильмов. Для Пазолини это была очень интересная работа и, более того, это было доказательство, что Коммунистическая партия не оставила его в трудный момент один на один с его врагами. После оглашения приговора по поводу происшествий в Чирчео «Ринашита» 7 июля 1962 года писала: «Истина заключается в том, что настоящая ответственность за преследования, которым уже долгое время подвергается Пазолини, вплоть до того, что против него ополчились и печать, и государственная власть, несомненно, ложится на буржуазию с ее постыдной двойной моралью». Дело Пазолини было не единичным и личным делом. Его идущие вразрез с моральными нормами поступки – хотел он того или нет – были тесно связаны с гражданскими правами любого человека. И именно эта проблема и волнует в эти годы обновления всех левых, коммунистов и даже левых * Vie nuove – новые пути (итал.) 406 католиков. Дело Пазолини в этом смысле весьма показательно: если его «непохожесть» на других создает проблемы для общественного мнения, то признание ее, попытка ее узаконить становятся моментом политического освобождения. Коммунисты, даже если многие из них и испытывали колебания по этому поводу, на этот раз смогли посмотреть на проблему именно под таким углом зрения, несмотря на то что отвергли его в 1949 году из-за случая в Рамушелло. Читатели пишут, Пазолини отвечает. Он отвечает как писатель и философ, кинематографист и моралист, исповедник и идеолог. У него спрашивают: ⟨…⟩ мнение о венгерской литературе и совет, нужно ли крестить ребенка, мнение о проблеме преподавания латинского языка и о рассказе о шахтерах, информацию о военной мощи Советского Союза и оценку индийского семейного законодательства; спрашивают, как вступить в КПИ, и ждут ответа на серьезный теоретический вопрос марксизма, просят помочь найти работу и прочитать литературную рукопись о проблемах региона Альто-Адидже. Встречаются и товарищи (и старые, и молодые), которые упрекают его, читают суровую, но идущую от сердца проповедь по поводу его сексуальной ориентации и «ругательств» в его романах. Много писем приходит и от случайных читателей его произведений, эдаких благонамеренных, скандализованных и злых, бывают и отголоски скандальных публикаций в бульварных изданиях, в которых его уличают, называют совратителем, «любителем порнографии и непристойностей».1 У Пьера Паоло находятся слова для всех. Иногда он вставляет в ответы стихи – такие, например, как «Поэзия в форме полемики», или введение к роману, который продолжит через много лет «Жестокую жизнь», – «Берег Грана». Из сти407 хов он опубликовал большую часть «Прекрасных знамен». Речь идет о знаменах надежды, которая в последние годы ослабела или потерялась под «натиском неокапитализма», как он говорил. Он показал читателям свою творческую лабораторию. Но в то же время ему удалось не смутить их сложностью творческого процесса. И вот эти ответы, исполненные истины, которая позволяет себе сомневаться и быть противоречивой, которая не боится поглотить себя саму, эта раскаленная интеллектуальная материя – знак того, что в его сердце, терзаемом тревогой, надежда, красный цвет знамен еще горели ярким пламенем. Что еще пишет Пьер Паоло в этих ответах? Он пишет о себе. Он сам уже стал героем, и, может быть, даже положительным героем для тех, кто просит у него совета или обращается к нему с упреками, полными все же нежности и любви. В общем, он герой. Это причиняет ему боль, об этом он говорит. Публичная часть моей жизни: ⟨…⟩ та часть меня, которая мне не принадлежит и которая превратилась в некую маску Новой Комедии дель Арте; чудовище, которое просто обязано быть тем, чего ждет от него публика. Я пытаюсь бороться, донкихотствовать, сражаться против этой фатальной необходимости, которая лишает меня себя самого, превращает меня в автоматическую куклу, а потом накладывает на меня отпечаток, как некая болезнь. Но, кажется, ничего сделать уже нельзя. Успех для жизни, нравственности, чувств ужасен. С этим приходится мириться.2 Или другой пример: фильм «Мама Рома» вынесен на суд публики и критики. Посыпались громкие скандалы и обвинения. Пазолини знает, что этот его фильм хуже, чем «Ак408 каттоне», знает, что участие в нем Анны Маньяни особенно ярко выделило все его ошибки: он слишком увлечен изображением действительности как-она-есть-на-самомделе, а она, эта действительность, не выносит присутствия всеми признанной профессиональной актрисы. Он пишет: «Мне не позволено не то чтобы ошибаться, а становиться мишенью для критики. Если в этом было бы хоть что-нибудь от мании преследования, это было бы более правильно, как мне кажется. <...> Понятно, что происходит что-то несправедливое, неуловимое, как во всех ситуациях, сходных с теми, которые описывает Кафка».3 У него спрашивают, почему он ощущает себя «силой Прошлого». Вот его ответ: Даже самые дерзкие мои эксперименты никогда не выходят за рамки итальянской и европейской традиции. Нужно лишить традиционалистов монополии на традицию: только марксисты любят прошлое, буржуазия ничего не любит, ее признания в любви к прошлому носят риторический характер, они циничны и святотатственны. В лучшем случае их любовь декоративна, «монументальна», как говорил Шопенгауэр, она, несомненно, не исторична, то есть не реальна, не способна творить новую историю ⟨…⟩.4 Когда вопросы касаются его «религиозности», он поясняет: Я не верю в Бога. Если в моих произведениях и присутствует еще христианская любовь к окружающему миру и к человеку – я хочу сказать, любовь иррациональная, вдохновенная, – я не думаю, что должен ее стыдиться. ⟨…⟩ А у кого ее нет? Я шучу, но то, что в нас «исторически» присутствует нечто христианское – очевидно, спорить об этом бесполезно.5 409 Итак, мы видим, что эта публицистическая деятельность не отмечена тревогой ужасающего одиночества. Кажется, что она помогает Пазолини побороть эту тревогу, и мы видим, как постепенно, по мере появления новых вопросов и ответов, в нем разгорается жажда жизни. Так и было. Часто заметки для «Вие нуове» написаны наспех, небрежно, но они всегда осмысленны и продуманны. Пазолини всегда начеку, старается ответить как можно лучше. Как и кино, эта его деятельность была способом уйти от литературного аскетизма. Против этого аскетизма Пазолини никогда не сказал ни слова; можно подумать, что для него всегда было очень важно развивать его, как он делал во Фриули, когда был активным членом КПИ. Но его творческая чувствительность нуждалась в сильной подпитке, в агрессивной среде и в действии, что позволяло ему постоянно возрождаться и крепнуть. Автор диалогов с читателями в журнале «Вие нуове» все еще проповедует теоретические воззрения Грамши: единства сознания возможно достичь только через историю. Несомненно, он страдает от раздвоения собственного разума и, что также не вызывает сомнений, стремится воссоздать его цельность. Но понимал ли Пазолини, что эта цельность, это воссоздание для него лично были невозможны? Пьер Паоло иногда мог быть веселым, это знают его друзья. Но они также знают, что иногда он на целые недели впадал в тоску и замыкался в мрачном молчании. Его возвращали к жизни встречи с Эльзой Моранте, споры с Моравиа, шумные и яростные ссоры с Лаурой Бетти. Эти ссоры часто становились ожесточенными, они нападали друг на друга, осыпали друг друга ругательствами. Тогда вмеши410 валась Эльза Моранте. Она кричала: «Если хотите заняться любовью, займитесь на деле, а не на словах!» В общем, повседневное поведение Пьера Паоло было всегда разным, внешне он был живым и активным. Его спор с его демоном был жестоким, постоянным, тайным. Это значит, что, как он написал в «Прахе Грамши», сознание собственного внутреннего противоречия не переставало его мучить. Итак, устремив все свои интеллектуальные силы на то, чтобы рассмотреть сознание с точки зрения истории, Пазолини встал на неверный путь? В его заметках для «Вие нуове» ощущается изначально неверная посылка, которая всегда присутствует в отношениях между учителем и учениками: в них слышится отдаленное эхо покровительства, которое, по правде сказать, дает понять тому, кто читает эти заметки, насколько его искренность, иногда выходящая за границы обычной морали, далека от повседневного существования, насколько она связана с идеальным миром абсолютных истин. «Вы должны понимать, что я не стремлюсь к тому, чтобы быть авторитетом. Если я и стану таковым, то только на определенное время, только изредка, чтобы подкрепить силу моих аргументов в тот самый момент, в тех самых обстоятельствах. Я буду абсолютно искренним. Чудовищность положения человека, пользующегося авторитетом, заключается в том, что он использует искренность, свое дело, рискует самим собой, чтобы завоевать этот авторитет, а потом, когда он его завоюет, он продолжает использовать все те же приемы уже механически; все, что он делает, априори авторитетно». Так писал Пазолини в «Вие нуове» 15 октября 1964 года, то есть меньше чем за год до того, как прекратил сотрудничать с журналом. Он путешествовал, искал места для съемок «Евангелия от Матфея», искал типажи; он снимал фильм, работа над ко411 торым поглощала его полностью, не оставляя места для чего-либо другого. Он писал так, пытаясь «найти точку сближения между искренностью и авторитетом». Но ему казалось, что он уже достиг этой «точки сближения» благодаря своим собственным внутренним противоречиям: «В конце концов, мои внутренние противоречия меня защищают» (это слова, которые он приводит немного ниже, на той же странице «Вие нуове»). Что еще добавить? Он сознавал, что невозможно преодолеть противоречие между искренностью и обманом, если не бороться систематически со своими внутренними противоречиями. Уже одно это могло быть доказательством того, что невозможно разорвать порочный круг экзистенциального обмана. Пьера Паоло можно было обвинить и в более мелком обмане. Это обвинение ему бросил Альфредо Бини в ходе ссоры, о которой Пазолини напишет в стихотворении «И это Африка?». Это стихотворение посвящено отцу и его мифам. Итак: суд над фильмом «Овечий сыр» закончился не в его пользу. Киностудия оказалась в затруднительном положении. В судебных кругах ходили разговоры о том, что обвинительный приговор был вынесен еще и потому, что сами судьи восприняли фильм как личное оскорбление. Одного из героев фильма, назойливого журналиста, который интервьюирует Орсона Уэллса, зовут Педоти. Похожая фамилия – Педоте – принадлежала одному из судей римского суда, который вел дело Пазолини в одном из предыдущих случаев и был особенно занудлив и назойлив. Пьер Паоло решил ему отомстить, и возможно, что эта мысль была ему подсказана иском депутата Пальюки, который преследовал его несколько месяцев. И он решил на412 звать именем судьи одного из героев будущего фильма, слегка изменив фамилию: он назвал его Педоти. В обвинительной речи общественный обвинитель Ди Дженнаро подчеркнул этот факт. Он сказал, обращаясь к судьям: «Обратите внимание на то, как злонамеренно поступил обвиняемый, введя в фильм персонажа по фамилии Педоти, ведь изначально его звали Педоте». Бини просил Пьера Паоло постараться избегать всяческих намеков и совпадений. Пьер Паоло не обратил на это внимания. После приговора Бини не сдержался и высказал все Пьеру Паоло. В этом случае, однако, речь могла идти не об обмане, а об ироничном упрямстве, стремлении уязвить своих врагов. В этом Пьер Паоло находил особое удовольствие. На этот раз удовольствие ему дорого обошлось: он не смог снять фильм об Африке, который задумал. «Дикий отец» – так должен был называться этот фильм, в сюжете которого Пазолини хотел сочетать свое давнее увлечение педагогикой и новое увлечение Третьим миром. Африка! Единственная альтернатива… Первым упоминанием, первыми словами, обращенными к Африке, можно считать стихотворение «Фрагмент о смерти», написанное в 1960 году. За пределами собственного рационализма, за пределами собственного иррационализма – испытав все «до самого конца» – Пазолини увидел, что остается только «беззвучная пустыня,/ оглушенная ветром, поразительное и неземное/ солнце Африки, которое освещает мир». Это был росток новой надежды. «Бедная Италия», отягощенная особой сельской, христианской историей, а вме413 сте с ней и вся Европа – приближались к своей гибели. Что же таило в себе будущее? В шестидесятые годы Пьер Паоло начал путешествовать. Собственно, это кино заставило его выйти из своего «итальянского», провинциального затворничества. Его путешествия обычно были обусловлены необходимостью снимать новый фильм: место, пейзаж, который нужно было изучить особенно тщательно, чтобы потом воссоздать его для съемок, или участие в каком-нибудь международном фестивале. Одно путешествие он совершил, будучи свободным от всяких обязательств, – поездку в Индию в декабре 1960 – январе 1961 года. Пьер Паоло отправился туда вместе с Моравиа. Эльза Моранте присоединилась к ним позднее, примерно в середине их маршрута. Этому путешествию Пьер Паоло посвятил книгу «Запах Индии» – заметки из записных книжек, которые он делал во время путешествия, а потом публиковал с продолжением в газете «Джорно». Моравиа никогда не нравилось проводить рождественские и новогодние дни в Италии. Он стремился избегать атмосферы праздничного возбуждения, которая охватывает в эти дни католические и протестантские страны. Он уезжал в Африку или на Восток, где Рождество или вообще не отмечают, или отмечают просто, архаически, варварски. Пьер Паоло поехал с ним. Они устроили журналистское соревнование. Моравиа тоже публиковал свои путевые заметки. Он был неутомимым рационалистом и назвал их «Идея Индии». Для Пьера Паоло это путешествие стало путешествием к самому себе, способом познать себя. Он увидел беспредельную, вопиющую нищету bidonvilles Бомбея и Калькутты, ему показалось, что он когда-то давно уже видел все это. В жес414 тах индийцев ему тоже чудилось что-то знакомое, по крайней мере, понятное. Голова колышется вверх и вниз, как будто слегка отстала от шеи. Плечи тоже колышутся, как у молоденькой девушки, преодолевшей стыд и давшей волю чувствам. Если на массу индийцев посмотреть издалека, то они останутся в памяти этим жестом согласия и сопутствующей ему детской лучезарной улыбкой в глазах. Их религия – в этом жесте.6 Бедность, ее «запах», густой и сладковатый: для Пазолини это упоительный запах. В записной книжке рассказывается о пьянящих и благоухающих индийских ночах, опасных прогулках с местными парнями по скудно освещенным переулкам, под портиками, где спят, тесно прижавшись друг к другу, бездомные. «Они простерты на земле, привалились к колоннам, к стенам, к дверным косякам. Они закутаны в тряпье, пропитанное грязью. Сон их так глубок, что кажется, будто это покойники, завернутые в рваные и грязные саваны»7. В ночной тишине звучит заунывное пение. Парнишки улыбаются, «их темные лица озаряются солнечными улыбками». Пьер Паоло дает им несколько рупий, один из них хватает его руку и целует ее. Он уходит от них «растроганный, как дурачок».8 Это было путешествие к чудесным тайнам Востока, может быть, похожее на то, которое совершил тридцатилетний Флобер в Италию, Грецию, Турцию и Палестину? Или больше похоже на другое, творческое, воображаемое, которое тот же Флобер совершил в Тунис, когда задумал и писал «Саламбо»? Может быть, «Евангелие от Матфея», «Царь Эдип», «Медея» и «Цветок тысячи и одной ночи» будут для Пазолини тем же, чем был роман «Саламбо» для Флобера? 415 У Флобера главная мысль в том, что возможно бегство от настоящего, что от него можно отгородиться историей. У Пазолини бегство от настоящего заключается в приспособлении прошлого, его мифа, к настоящему. Между Флобером и Пазолини в их попытке к бегству через пространство и время встали Фрейд и Маркс. Путешествуя по Индии, Пазолини попытался насытить свой чувственный голод, но также и проанализировать свои чувства. Следует сказать, что в Индии нет ничего такого таинственного, о чем рассказывают легенды. На самом деле это маленькая страна, где всего четыре или пять больших городов, из которых только один Бомбей достоин этого названия. Там нет или почти нет промышленности. Это страна очень единообразная, с простыми исторически сложившимися социальными слоями и общественным устройством. По существу, речь идет об огромной массе сельского люмпен-пролетариата, развитие которого было приостановлено закрепившимся на века иностранным владычеством. Это способствовало тому, что общественное устройство сохранилось в своей неизменности, и в то же время именно из-за того, что оно сохранялось неизменным принудительно и неестественно, само общественное устройство деградировало.9 Флобер путешествовал в поисках «необычного» и «неизведанного». В мире масс-медиа, где все, что существует, может быть выражено примитивно и просто, «необычное» и «неизведанное» интересны, только если они помогают показать что-то уже известное, чтобы отвергнуть самую мысль о возможности их существования. В Индии Пазолини обнаружил «сельский люмпен-пролетариат» с его деградировавшим общественным устрой416 ством, которое «сохранялось неизменным принудительно и неестественно» по вине европейского империализма. В Индии Пазолини искал сакральность человека, связанного с землей: он ждет освобождения, и Пазолини, оказавшись лицом к лицу с этим ожиданием – ожиданием напрасным и отчаянным, – теряется, волнуется. «Можно потеряться среди этой толпы в четыреста миллионов душ, зайти в тупик, как при решении ребуса, – но ведь с любым ребусом можно справиться при наличии терпения. Сложны частности, а не суть».10 С тех пор путешествия продолжались. Он поехал в Кению в январе 1961 года, вернулся туда через год, побывав в Судане. В те же зимние месяцы еще через год он побывал в Гане, в Нигерии, в Гвинее. В июне и в июле – в Израиле и в Иордании. В это время, в 1963 году, он подумывал перенести действие «Евангелия» в одну из стран третьего мира, особенно после того, как ему пришлось отказаться от «Дикого отца». У него возникла мысль, что такое перенесение может быть оправдано «негритянским характером Христа».11 Можно сказать, что древняя культурная мечта – экзотизм – облачилась для него в современные одежды. И действительно: ведь благодаря декадансу идея прогресса связывалась у него с забвением, беспамятством. Его обвиняют в популизме? Он отвечает: да, я такой. «Если использовать термин “популист” в том смысле, который это слово в настоящее время уже потеряло, то есть в смысле «марксист, любящий народ той любовью, которая появилась задолго до самого марксизма, и даже еще больше», тогда ⟨…⟩ я мог бы согласиться с тем, что меня так называют». Но эта его любовь, стремится показать Пазолини, не происходит из его политического видения существующих явлений: «Сейчас, когда неокапитализм либо 417 стремится усыпить рабочую аристократию (дать ей вовсе не евангельское умиротворение!), либо пытается закрепиться на жесткой позиции ⟨...⟩, очевидно, что проблема южного люмпен-пролетариата – а это огромная масса – предстает в новом свете: созревшая девственная масса готова выполнить свою историческую функцию».12 Судьба люмпен-пролетариата юга Италии схожа с судьбой люмпен-пролетариата Индии, Африки: он должен выполнить свою историческую функцию. И Индия, и Африка – это огромные хранилища человеческой энергии. Поэтому Африка и стала единственной альтернативой. И как знак этой альтернативы у Пьера Паоло сложился образ Христа-крестьянина, повстанца, Христа, который несет благую весть в землю фарисеев, но готов воевать с фарисеями до конца, разрушать предубежденность, действовать «кнутом и пряником». Место действия Фильму «Евангелие от Матфея» предшествовал долгий подготовительный период, отмеченный рядом сложностей и проблем. Нелегко было «запустить» фильм. Альфредо Бини потратил на это много сил. Сначала казалось, что проект был обречен на провал. Фильм был сложным, дорогим и, что еще важнее, вызывал у потенциальных спонсоров большие сомнения. Как представить на суд общественного мнения Христа, созданного Пазолини? В глазах многих идея была дерзкой и безрассудной. Но дерзость и безрассудство Пазолини были его силой: он был способен силой убедить своего зрителя. Теперь, после ряда судебных процессов, через которые ему пришлось 418 пройти, он чувствовал, что вынужден сделать решительный шаг, который позволил бы ему завоевать интерес, а может быть, даже и восхищение самых враждебных к нему зрителей. Он должен был действовать решительно и неожиданно. Такой неожиданностью могло стать «Евангелие». Пьер Паоло не предал бы свою естественную культуру, он нашел бы для нее самое искреннее выражение. Обвинения в святотатстве, выдвинутые против него после фильма «Овечий сыр», рассыпались бы перед его «Евангелием»; всем стало бы ясно, что они необоснованны, происходят от сторонников реакционного клерикализма. Его чувство веры было совсем другим. Я по сути своей антиклерикал (я не боюсь заявить об этом), но я знаю, что во мне существуют две тысячи лет христианства. Я вместе с моими предками строил церкви в романском стиле, готические соборы, церкви эпохи барокко. Это мое наследие и по содержанию, и по стилю. Было бы безумством отрицать эту мощную силу, которая живет во мне.13 Эта уверенность антропологического и культурного происхождения порождает новую маску: педагогика Пазолини воплощается в средиземноморском мифе всех мифов, в фигуре Христа. Повторяю, подготовка фильма была долгой и медленной. Тем временем Пазолини работает, путешествует в поисках натуры: сначала его Христос – африканец, ему кажется, что миф нуждается в модернизации. Христос и был настоящим «диким отцом». Потом его идея под воздействием логической необходимости приобретает более отчетливый облик: фильм, снятый Пазолини, мог оказать желаемое воздействие, только 419 если бы он точно следовал историческим фактам. Поэтому местом действия должна была быть Палестина. Но снимать фильм в Израиле, который постоянно находился в состоянии войны, было трудно, а экономически – почти невозможно. Между тем Пьер Паоло работал и над другими своими проектами. Он снимает первый полнометражный фильм, «Ярость». Его съемки практически совпадают со съемками «Овечьего сыра». Идея фильма «Ярость» родилась как хитрый замысел продюсера Гастоне Ферранте, который хотел сблизить Джованни Гварески, идеальный образец легкомысленного итальянского обывателя, с Пазолини. Он думал, что подобный дуэт приведет зрителей в восторг. Речь шла о том, чтобы они вдвоем сняли фильм, который представил бы прошлое десятилетие, сняли его с разных точек зрения и прокомментировали. Гварески был осужден и получил срок за «злостную клевету» на Альчиде Де Гаспери. Со стороны Пазолини дать свое согласие на то, чтобы поставить свое имя рядом с именем Гварески, означало принять точку зрения его противников, которые считали его просто героем скандальных историй, пусть даже он и позиционировал себя как представитель левых сил. Пьер Паоло легкомысленно согласился с этим планом. Когда весь фильм был отснят и смонтирован, он его просмотрел, снял свое имя с титров и запретил его прокат. Он сказал, что пал жертвой собственной «наивности». На него обрушился шквал обвинений. Снова именно левые заговорили о его «наивности», об обмане, о двойном стандарте, от которого давно необходимо отказаться.14 Пазолини был среди тех, кто приветствовал создание левоцентристского правительства, он написал об этом в сти420 хах, посвященных Пьеро Ненни (что вызвало нападки на него со стороны коммунистов).15 Пазолини был и среди тех, кто приветствовал обновление католической церкви, символом которого стал Иоанн XXIII. Но он в то же время снимает вместе с Гварески фильм, доводит его почти до выхода в прокат и только тогда замечает, что был не прав. Пьер Паоло полагал, что сила его собственного слова сможет нейтрализовать вульгарность Гварески. В этом и состояла его настоящая, почти непростительная «наивность», его интеллектуальная самонадеянность, которую развеял полученный им результат. Средство, как сказал МакЛюэн, совпадало с посланием. В фильме, казалось, и содержания-то не было: он весь сводился к двум поставленным вместе именам, к дефису, который их объединял. Что же такое «Ярость»? Это небольшая поэма, состоящая из ряда образов, это поэтическая проза, связанная отдельными фотографиями. В фильме названы кризис 1956 года, Венгрия, Суэц. В нем отображены большие надежды начала шестидесятых, избрание Иоанна XXIII, разрядка международной напряженности, Гагарин и его космический полет. Там есть и упоминание о «новом повороте истории»: мученический лик Лумумбы, война в Алжире, жестокие пытки, применяемые колониалистами к несчастным, повинным только в том, что они требуют гражданских и политических свобод. В конце звучит нежная элегия, посвященная смерти Мэрилин Монро – символа красоты, которая уже исчезла из нашего мира. Фильм не понравился, не понравилось скрытое сострадание, звучавшее в комментарии, который читал за кадром Джорджо Бассани. Пазолини попытался успокоиться после неудачи с фильмом «Ярость», начав совершенно другое дело: он решил 421 снять фильм по образцу французского cinema verite*, фильмсоциологический опрос о сексуальной жизни итальянцев. Он должен был называться «Сто пар быков», но потом получил название «Разговоры о любви». Пазолини пересек всю Италию с кинокамерой и магнитофоном в руках, и повсюду и у всех, начиная с известных футболистов и кончая неизвестными крестьянами Кротонезе, спрашивал, что они думают о любви и об эротике. Фильм разделен на главы, в начале каждой главы вопросы задают Чезаре Музатти, Альберто Моравиа и Джузеппе Унгаретти и группе из трех журналисток: Аделе Камбриа, Камилле Чедерна и Ориане Фаллачи. Интеллектуалы комментируют, люди говорят, рассказывают о собственном опыте и высказывают свои мысли. «Митинги любви» – это беспристрастно написанный портрет Италии, которая претерпевает важные изменения. Фильм послужил образцом для многих телевизионных опросов. Особенно поражает присутствие на экране самого Пазолини. Фильм – в то же время и его беспристрастный автопортрет. Его педагогическое упрямство, его напор, который скрывал мягкость, и мягкость, в которой чувствуется напор, – та настойчивость, с которой он задает вопросы, – он как будто действует легким движением кисти, создавая портреты матери, солдата-призывника, сицилийского парня, двух девушек на танцплощадке; тембр его голоса, когда он пытается говорить жестко и рационально, кажется совершенно ему чуждым, принадлежащим кому-то другому. Этот фильм идеально соответствовал его личности, полностью * Cinema verite (франц. «правдивый кинематограф») – жанр кино, соединяющий документальную съемку с художественной: часто предполагает социально острую тематику. 422 передавал его физический облик: и то, как он поправляет очки, и наброшенный пиджак, который постоянно падает. Для Альфредо Бини и для Пьера Паоло в съемках фильма была и тайная цель: они могли проехать по всей Италии и подобрать какое-нибудь место для съемок «Евангелия». Только так они могли бы преодолеть финансовые затруднения, связанные со съемками нового фильма. Кротоне, Матера, Массафра: все места, где снимался фильм «Евангелие», они отыскали во время этой поездки. Конечно, были и натурные съемки в Палестине,16 там тоже был снят короткометражный фильм. Но фильм «Митинги любви» имел особое значение: там представлены лица итальянцев, их тела, это как бы зрительный эксперимент с пластическим материалом, может быть, даже живописный, который мог послужить основой для будущего воссоздания новой версии легенды о Христе. Югу Италии выпала судьба стать Иудеей, Галилеей; луканские* крестьяне, живущие в Сасси ди Матера, превратились в толпу, с ликованием встречавшую Иисуса из Назарета при входе в Иерусалим. От Матфея Письмо Пазолини, написанное в феврале 1963 года Лучо С. Карузо, возглавлявшему общество «За христианскую культуру» в Ассизи: Дорогой Карузо, я бы хотел лучше объяснить Вам письменно то, что так сбивчиво пытался Вам рассказать. В пер* Лукания (Lucania) – историческое название административной области Базиликата на юге Италии. Кротоне, Матера, Массафра, Сасси ди Матера – селения в Лукании. 423 вый раз, когда я приехал к Вам в Ассизи, на прикроватном столике у постели лежало Евангелие: это ваш изысканный дьявольский ход! И действительно, все произошло именно так, как и должно было произойти: я перечитал Евангелие спустя почти двадцать лет (в сороковом или в сорок первом году, когда был совсем мальчишкой, я прочитал его в первый раз, из этого чтения появился сборник «Соловей католической церкви», потом я читал его от случая к случаю, отрывок отсюда, отрывок оттуда, наугад…). У Вас в тот день я прочитал его все подряд, как роман. И пришел в восторг от чтения – Вы ведь знаете, что это самое восхитительное чтение, какое только может быть! – и мне пришла в голову мысль снять фильм.⟨…⟩ Шли дни, потом недели, и эта идея становилась все более ясной и отчетливой: она отодвинула все другие мысли, все другие проекты, которые я в то время вынашивал, по сравнению с ней они побледнели, потускнели. И, наконец, у меня осталась она одна, такая живая и яркая. ⟨…⟩ Моя мысль состоит в следующем: как можно точнее следовать за текстом «Евангелия от Матфея», взяв за основу именно сам текст, а не сценарий по нему или обработку для кино. Постараться точно передать образы, опять-таки точно следуя тексту, ничего не опуская и не добавляя. Диалоги тоже должны быть взяты непосредственно из Евангелия от Матфея, ничего не нужно согласовывать или объяснять, поскольку ни один придуманный образ, ни один сочиненный диалог не могут быть столь же поэтичны, как сам текст. ⟨…⟩ В общем, говоря совсем просто и без прикрас: я не верю, что Христос был сыном Божьим, потому что я неверующий, по крайней мере, сознательно не верующий. Но я верю, что Христос был воплощением божественного: то есть я верю, что в нем гуманное начало было столь явным, высоким, идеальным, что выходило за рамки обычного по424 нимания гуманизма и человечности. Поэтому я и говорю «поэзия»: иррациональный инструмент для того, чтобы выразить это мое иррациональное чувство к Христу. Я бы хотел, чтобы мой фильм показывали на Пасху во всех приходах в Италии и во всем мире. Вот почему мне нужна Ваша помощь и поддержка. Я бы хотел, чтобы мои выразительные потребности, мое поэтическое вдохновение не противоречили ни Вашим чувствам, ни чувствам верующих. Поскольку в противном случае я не смогу достигнуть моей цели: показать на экране жизнь, ставшую образцом для всех, пусть даже и недостижимым образцом.17 Упомянутое событие произошло в октябре 1962 года. Пьер Паоло был в Ассизи, в гостях у «Читтаделла», общества, учрежденного доном Джованни Росси. В то время весь город кипел, организуя «странный, тихий и чуждый ему праздник по поводу приезда Папы». Он прочитал Евангелие и сразу почувствовал, что «должен что-то сделать: почти физически ощутил чудовищный прилив энергии».18 Сам он определил это чувство как «эстетическое»: он почувствовал, что в нем «возрастает жизненная сила», которую – по определению Бернарда Беренсона – вызывает поэзия. Эта мысль возникла у него мгновенно – и, выражая ее так, как он пишет, он практически не отрицает, что речь идет о поэтическом и светском озарении «на пути в Дамаск». Подобное обращение к Христу – иррациональное, бессознательное – пришло к нему с двух сторон. С одной стороны, внимательное изучение самого себя, преследуемого, преданного суду, охваченного непреодолимым стремлением высказаться, воплотить все в фигуре Христа. С другой стороны, воссоздание в кино, как он намекнул уже в фильме «Овечий сыр», христианских идей и ценностей, с которыми он, тайно, «под сурдину», не расставался со времени детства и юности. 425 Письмо, адресованное Лучо С. Карузо, совершенно искреннее. Он откровенен и когда рассказывает о своих личных чувствах, и когда обращается за помощью к организации «За христианскую культуру». Когда фильм был закончен, один из читателей «Вие нуове» в пылу полемики спросил у него, как ему удается сочетать марксизм и христианскую идеологию; Пьер Паоло ответил цитатой из Грамши: Христианская идея не может привести к расколу в рабочем классе, так же как она не приводит к расколу буржуазию.⟨…⟩ В религиозной идее никогда, ни в каком случае не присутствует мотив для раскола. Если тебе позволено идентифицировать один из исторических этапов развития Церкви с эксплуататорским классом, это еще не означает, что это можно делать постоянно. ⟨...⟩ Папа снял тиару со своей головы и подарил ее бедным, что вызвало бурю аплодисментов со стороны передовых епископов и кардиналов, которые считают Церковь Церковью бедных.19 Когда обстановка восшествия на папский престол Иоанна XXIII забыта, когда улеглась буря, поднятая решениями Второго Ватиканского собора* – трудно понять мотивы, не только личные, но и объективные, которые могли привести к созданию такого фильма, как «Евангелие от Матфея». Эльза Моранте поддержала проект. Пьер Паоло хотел заручиться ее поддержкой при выборе музыки для звуковой дорожки фильма и при выборе типажей. Эльза сама подбирала музыку. Она выбрала записи самых разных композиторов – от Баха и Моцарта до самых совре* II Ватиканский собор (1962–1965 гг.) принял ряд важнейших решений, в корне изменивших положение католической церкви в современном мире: богослужение на национальных языках, активное участие церкви в жизни современного общества. 426 менных, таких, например, как Леош Яначек, – и предложила ее Пьеру Паоло. Потом они долго обсуждали каждый фрагмент. Так же долго и тщательно обсуждались и актеры. Некоторых из них нашли среди друзей, других – среди жителей предместий. Альфонсо Гатто, Джорджо Анамбен, Феруччо Нуццо, Джакомо Моранте, племянник Эльзы, были предложены на роли апостолов. Я тоже оказался среди них. Леонетти играл Ирода II, Родольфо Вилкок – Каифу, Марио Сократе – Иоанна Крестителя, Марчелло Моранте, брат Эльзы, – Святого Иосифа, Мария из Бетании появилась в фильме с лицом Наталии Гинзбург, и в сцене, где она появляется по ходу действия, появился также, естественно в качестве ее мужа, и Габриеле Бальдини. Гораздо труднее было увидеть Христа в испанском студенте из Барселоны, Энрике Ирацоки. Ирацоки случайно попал в поле зрения Пазолини: он изучал экономику, прочитал в переводе «Шпану» и, когда приехал в Рим на каникулы, решил познакомиться с автором романа. Пьер Паоло думал поручить главную роль Евгению Евтушенко, но когда увидел Энрике, сразу понял, что это именно тот образ, которого он искал. О нем говорили, что он, казалось, сошел с какой-нибудь картины Эль Греко, так что он иконографически был слишком далек от того, как Пазолини представлял себе этот образ. Но Пьер Паоло был прав: проникновенный, испытующий взгляд Энрике, затуманенный сдерживаемым гневом, стал настоящей находкой, совершенно новым представлением о Христе. Действенную поддержку Пазолини оказало общество «За христианскую культуру», которое существовало в Ассизи. Во время короткого пребывания на папском престоле папы Иоанна XXIII на это общество в ноябре 1959 года была воз427 ложена миссия «вернуть общество к евангелическим основам». Сам факт оказания подобной поддержки был мужественным шагом. Многие и в мире кино, и в церковных кругах считали саму идею создания фильма чистейшим безумием. Вспыхнули споры. Общество приняло в них участие. Пьер Паоло Пазолини оставил у нас о себе прекрасное впечатление, как и любой другой человек, которого нам посчастливилось встретить на своем пути. В каждом человеке мы видим отражение лика Господня.⟨...⟩ А тем, кто говорит, что Пазолини неверующий и грешник, мы смиренно отвечаем, что даже если это и правда, мы все равно не считаем, что это именно та причина, по которой можно перед ним захлопнуть дверь и отказать ему в помощи, о которой он просит. Иисус любил всех, но особенно любил мытарей, грешников, воров и всех падших созданий Божьих, достигших самых глубин нравственного падения, таких как Мария Магдалина, блудница, самаритянка. На нападки определенных средств массовой информации мы не ответили, это не в правилах нашего общества, мы не вступаем в полемику. Однако позволим себе заметить, что если бы мы были настоящими христианами, мы бы стремились излить на язвы человеческие не уксус, а елей доброты. Иисус умер, чтобы помочь всем, чтобы спасти всех.20 К этим евангелическим рассуждениям прибавились и чисто практические. В католической среде находил все большее распространение политический и культурный принцип: кино нужно использовать не для политической пропаганды, а в целях распространения христианских ценностей. В решениях экуменического собора утверждалось, что если средствами массовой информации «правильно пользоваться», то они могут «весьма облагородить… нра428 вы рода человеческого». Общество «За христианскую культуру» разъясняло это утверждение: «Теперь кино может принять на себя роль, которую в прошлые века исполняла так называемая «Библия для бедных», т. е. фрески, скульптура, в общем, все священное искусство».21 В письме к Бини в июне 1963 года Пьер Паоло писал: С религиозной точки зрения, для меня, который всегда пытался придать светскому характеру моего мировоззрения черты религиозности, особое значение имеют два онтологических факта: человечностью Христа движет такая внутренняя сила, такая неутолимая жажда знаний, не знающая страха скандалов и противоречий, что по отношению к ней метафора «божественная» является только отчасти метафорой, она практически превращается в реальность. И, кроме того, для меня красота всегда остается «нравственной красотой», но эта красота всегда постигается нами опосредованно: через поэзию, философию, практическую деятельность. Единственный раз я ощутил «нравственную красоту» не опосредованно, а непосредственно, в ее чистом виде, когда читал Евангелие. Что же до моего отношения с Евангелием, то оно достаточно любопытно: ты, возможно, знаешь, что как писатель я родился из идей Сопротивления, марксизма и т. д., что все пятидесятые годы моя мысль и моя работа были направлены на утверждение рационализма, на полемику с иррациональной литературой декаданса (на которой, впрочем, я был воспитан и которую очень любил). Идея снять фильм по Евангелию и ее техническое воплощение – это, я должен признаться, плод чудовищного натиска иррационального. Я хочу создать произведение, принадлежащее чистой поэзии, рискуя попасть в ловушку эстетизма (с музыкой Баха, Моцарта, с Пьетро делла Франческа и отчасти Дуччо – по429 следний повлиял на художественную композицию; реальность доисторическая и экзотическая, с арабским миром в качестве фона и места действия). Было ясно, что вся моя писательская карьера поставлена под вопрос. Но, в конце концов, не хватало еще, чтобы я, так беззаветно любя Христа Матфея, боялся рискнуть чем бы то ни было. 22 «Евангелие от Матфея» обозначило решительный поворот в творческой деятельности писателя, который переживал тогда кризис, связанный с написанием «Поэзии в форме розы». Его чувства требовали немедленного подтверждения, воплощения в конкретных образах – его «я» выталкивало их наружу под воздействием обостренной жажды жизни. Несмотря на это, или благодаря этому, он был согласен с утверждением, что кино обладает силой воздействия, схожей с силой «Библии для бедных», и работал, чтобы подтвердить это. Пьер Паоло несколько раз бывал в Ассизи. Члены общества «За христианскую культуру», сам Джованни Росси постоянно следили за его работой. Кроме того, за ним следили два иезуита из Центра Святого Феделе, теолог Романо Гвардини, который постоянно высказывал сомнения, может ли актер сыграть Иисуса, иногда в спорах принимал участие и писатель Стефан Андрес. Ранней весной 1964 года съемки «Евангелия» наконец начались. Первыми снятыми кадрами были кадры крещения Иисуса. Иордан нашли между Орте и Витербо, в трещине, пробитой потоком воды в твердых диких скалах. Тогда же Пьер Паоло открыл для себя и башню Кья, в которую просто влюбился; он решил купить ее, однако это удалось ему только много лет спустя. В Кья, на фоне строгого и мягкого пейзажа возвышенности Лация, проникнутого 430 архаической меланхолией, Пьер Паоло построит дом, в котором будет уединяться, чтобы подышать средневековой атмосферой одиночества и недоступности. За сценой крещения последовала сцена на Масличной горе*, которую снимали на берегу между Виллой Адриана и Тиволи. Потом съемочная группа отправилась в Матеру и Кротоне. Пьер Паоло не требовал, чтобы «актеры» – в действительности никто из них не стал актером, как стал им после «Аккатоне» Франко Читти, – играли. Он требовал обычного поведения, хотел, чтобы они оставались сами собой. Сцены короткие, в основном немые. Они работали целыми днями. Пьер Паоло был неутомим. Он повторял, что актеры не должны беспокоиться и смущаться: «Объектив кинокамеры – это эликсир истины. Вы будете такими, какие вы есть на самом деле, а остальное для меня не имеет значения». На Этне снимали искушение дьявола. Самой трудной сценой была та, где Христос говорит о блаженных. В конце, как раз в последние дни съемок, Пьер Паоло решил ее, отсняв несколько крупных планов Ирацковича в павильоне, на темном фоне, освещая ему лицо вспышками. Сначала это решение казалось ему несвоевременным и сомнительным, но при монтаже оказалось, что оно выразительно и оригинально. Показателен выбор типажей: Сюзанну, например, он решил показать как Богоматерь, охваченную страданием на Голгофе, у креста сына. Пьер Паоло «писал», «представлял, создавал для нее собственный “Стабат матер”»**. Этот * На Масличной горе находился Гефсиманский сад, где Иисус молился в ночь перед арестом. ** Stabat mater – церковный гимн, названный по первому стиху: «Стояла матерь скорбящая». 431 выбор, конечно, был особым проявлением любви, но вместе с тем это проявление некоего архаического христианского чувства, почти непостижимого разумом: изобразить Марию из Назарета как «единственную» мать, которую можно сравнить только с собственной матерью. Пьер Паоло занимался монтажом фильма все лето. 4 сентября 1964 года «Евангелие от Матфея» было представлено на XXIV Международном фестивале искусства кинематографии в Венеции. Вечер был неспокойный: фашисты устроили обычную провокацию, разбрасывали листовки и оскорбляли зрителей. Они напали на Ренато Гуттузо и на Паоло Вальмарана, кинокритика газеты «Иль Пополо», принадлежавшей демохристианской партии. Демонстрация фильма закончилась бурными продолжительными аплодисментами. Феличе Киланти написал в тот вечер: В этот вечер благодаря этому культурному событию образовалась точка пересечения, в которой сошлись разные и противоположные философские воззрения. В этой точке непримиримые интересы и политические силы оказались в непосредственной близости друг от друга, они почти слились, совпали. Только фашисты были ясно различимы на общем единодушном фоне, но они были одни, говорили, жестикулировали в одиночестве. К концу вечера даже те, кто пытался держаться независимо, сами по себе, больше не знали, что и думать, как воспринимать происходящее. Все дело было в том, что – как известно – прошла демонстрация фильма, снятого по Евангелию, который был заявлен как полное и подробное произведение, верное духу и тексту Священного Писания. Снял этот фильм писатель, который за несколько часов до показа 432 фильма, выступая перед журналистами, заявил, что он марксист, а следовательно атеист. Среди многих участников событий, которые оказались в трудном положении, был и начальник полиции, который позаботился о том, чтобы во всеоружии встретить любые политические и идеологические споры и столкновения и утроил количество полицейских и карабинеров в патрулях перед Дворцом кино. И вот в этот вечер богатые господа в смокингах и дамы в вечерних туалетах, увешанные драгоценностями и закутанные в меха, интеллектуалы, писатели, критики, актеры проходили сквозь строй вооруженных полицейских, освещенные яркими вспышками фотографов и телевизионщиков.23 Фильм был посвящен «дорогому, близкому, светлому образу Иоанна XXIII» и получил премию Международного католического комитета по делам киноискусства. В решении комитета было сказано: «Автор, о котором говорят, что он не разделяет нашу веру, доказал и выбором текста, и постановкой сцен фильма, что испытывает к нашей вере уважение. Он поставил прекрасный фильм, фильм поистине христианский, который производит на зрителя глубокое впечатление». Слова Киланти поясняют, в чем именно состоял успех Пазолини: он сумел завоевать доверие противоположных идеологических и политических группировок. Только фашисты не приняли фильм, но они остались в полной изоляции. Киланти рассказывает, что и они в конце показа замолкли. Не все решилось во время показа фильма на Венецианском фестивале и во время последующего проката. Однако теперь уже всем стало ясно, что все произведения Пазолини, и как режиссера, и как писателя, требовали глубокого 433 осмысления, поднимали проблемы огромного нравственного значения. Пазолини наивен и в тоже время насмешлив. Он исполнен озарений и страстей, и вместе с тем это человек высокой культуры. Он весь переполнен желаниями, и все же никогда не забывает ни одной из книг, которые когда-либо читал, и, кажется, он читал их все.⟨...⟩ Это все еще куда ни шло, и не составляло бы никого беспокойства. Беспокойство представляет то, что он просто никогда не делает никаких усилий, вообще никогда и никаких, не только для того, чтобы найти правильную композицию, прийти к синтезу идей и проблем, но и даже для того, чтобы хоть как-то приблизиться к этому. Петр и Павел, две стороны его личности, никак не могут объединиться в одно имя: в нем сосуществуют два смысла религии: естественный и эволюционный (Петр) и догматический (Павел). Кажется, что они обречены вечно и отчаянно жить отдельно друг от друга: отчаянно, поскольку Пазолини обладает настоящим талантом, он гений и не может выносить подобного разделения; вечно, потому что его злая воля не уступает его таланту, вернее, в нем абсолютно отсутствует добрая воля, необходимая для того, чтобы преодолеть это манихейство и попытаться найти хоть какое-нибудь единство, хотя бы в первом приближении, даже если оно в принципе недостижимо. 24 Так определил постоянную противоречивость Пазолини Марио Сольдати в своей рецензии на «Евангелие». Можно сказать, что лиризм фильма вызван этой двойственностью, тем, как режиссер постепенно, кадр за кадром, накладывает разум на веру, растворяет их друг в друге, используя для этого созидательную идею жизни, открытую и определенную Шпитцером и Ауэрбахом в романских инкунабулах* евро* Инкунабулы – первопечатные книги, изготовлявшиеся до 1501 г. 434 пейской поэзии. Но именно это не бесспорное изменение оттенка чувств и ощущений и могло вызвать неприятие и даже отторжение со стороны части зрительской аудитории. Неприятие это вызвало у Франко Фортини. 19 октября 1964 года Фортини написал Пьеру Паоло письмо. Он говорит, что «ничуть не сожалеет» о том, что принял участие в фильме, но добавляет: В «опазолиненном» Иисусе не хватает главной идеи христианства, а именно – необходимости крестной муки. И тогда все сводится к гуманизму, к социалистическому христианству, в общем, к бессмыслице, к халтуре. Христос и не Спаситель, и не Джордано Бруно, и не фра Микеле-минорит, вернее, он был таким, как они, был исторической личностью, но тогда он не Господь, и нужно об этом сказать прямо. В чем состоит обвинение Фортини? В том, что Пьер Паоло попытался угодить сразу и нашим, и вашим. И тогда: Я должен был бы посоветовать тебе быть скромнее и смиреннее. ⟨…⟩ Ты слишком наслаждаешься филиппиками этому Иисусу. Это не может (да и я не могу) тебе помочь. Я не уверен, что ты поймешь, какие намерения движут мной при написании этого письма. Я чувствую обиду на тебя, потому что в твоей публичной жизни ощущается присутствие плохо скрытого расчета: я злюсь, потому что эта твоя публичная жизнь нанесла существенный вред социалистической идее (ее проявления, по сути, контрреволюционны); я надеюсь, что в конце концов твоя противоречивость приведет тебя к полному нежеланию противоречить, надеюсь, что ты сможешь, как говорит твой герой, «умереть (по-настоящему) и обрести жизнь и смысл». Я предпочитаю выражать любовь словами, лишенными 435 любви. Да, дорогой мой Пьер Паоло, недостаточно презирать лесть, надо ее заслужить. Фортини подписался: «твой друг». Пьер Паоло решил, что этот его друг стал жертвой непримиримого «морализма» и что «морализм» сам по себе чреват «контрреволюционностью». Но в письме Фортини ясно прослеживается определенное отношение и определенное суждение: они свойственны тем, кто не в силах был понять то, что для Пазолини было существенным и определяющим, «шип в плоти» – этот «шип», о котором Кьеркегор говорил, что если бы его не было, он бы умер. Аналогичным образом, этот «шип» был для Пазолини причиной распятия его Христа. Отречение от «смешного десятилетия» В эти годы Пазолини вел поэтический дневник. Он собрал эти стихотворения в сборник «Поэзия в форме розы». Книга появилась в продаже поздней весной 1964 года. Этот дневник то рассыпался на отдельные факты, то полностью терялся в идеологических размышлениях. Там есть записи, посвященные судебному процессу над фильмом «Овечий сыр»: эта часть озаглавлена «Петр II» – Пазолини использовал имя последнего легендарного понтифика, чтобы подчеркнуть гибель «истинной религии» от руки клерикализма. Есть дневниковые записи, относящиеся к фильму «Мама Рома», под названием «Светские стихи»; есть стихотворения о поисках мест для съемок «Евангелия» в Израиле и на итальянском Юге. Есть там и «План будущих произведений»; свидетельство о спорах с Леонетти и Кальвино. И, естественно, многое другое. С точки зрения поэтической формы, в первой части преобладает терцина, которая полностью исчезает во второй 436 части. Появляется свободный одиннадцатисложный стих, ритмическая проза, геометрическая калиграмма* в «Книге о крестах» и в «Новой поэзии в форме розы». Во всем сборнике царит яростный и болезненный пророческий тон. Пророчества здесь темные, тревожные. Кажется, что ощущение жизни истончилось, от него осталась только голая схема. ⟨...⟩ Жизнь устает от живущих. Ах, рецидив моих страстей, обреченных не иметь пристанища! ⟨...⟩ Секс всегда составляет неотъемлемую часть этих страстей: Я мрачен от любви, а вокруг хор тех, кто радуется жизни, кому она улыбается. Их тысячи. Я не могу любить их. У каждого из них своя новая, своя древняя красота, она принадлежит всем: брюнетам и блондинам, грузным и легким, это мир, который я люблю таким, какой он есть. ⟨...⟩25 Ощущение этого сексуального влечения, которое представляет собой «чистую чувственность», постоянно повторяющееся в «священных долинах либидо, / садистское, мазохистское», не преходяще, оно священно. Оно не ищет объекта влечения, оно направлено на «само очарование чувства», «которое превращает детей в нежных отцов», и они ⟨...⟩ постепенно становятся каменными монументами, которые тысячами громоздятся в моем одиночестве.26 * Поэтическая форма: стихотворение можно не только читать, но и рассматривать, как графический образ. 437 От сексуального влечения к дружбе: выплеснувшись за пределы реальности, друзья меняют облик, становятся участниками какой-то призрачной игры: Джорджо бежит, у него лицо Карло Леви, благосклонного божества, все переворачивается, и у Джанетто оказывается радостное выражение лица Моравиа, Моро, пасуя, превращается в Вигорелли, когда тот злится или обнимается, а Коэн, Аликата, Эльза Моранте, и редакторы «Паезе сера» и «Аванти!», и Либеро Биджаретти играют со мной между деревцами в Трулло, кто в защите, кто в нападении. Другие с Педалино в оранжевом свитере или Уго в прошлогодних джинсах, вытертых на коленях, стоят у стены медового цвета, стены их домов, превратившихся в тюрьму, Бенедетти, Дебенедетти, Ненни, Бертолуччи (его лицо ярко освещено солнцем) в мягкой шляпе и с мягкой усмешкой священной уверенности всех неуверенных в себе. А рядом с позолоченной помойкой стоит Унгаретти и смеется. А юноши, братья ребят из Трулло, Сичильяно, Дача, Гарболи, Бертолуччи-сын, и, как Сорделло, неодобрительно и влюбленно смотрит Читати. А кто это там, на земле, загорелый, с розовой банкой? Это Бальдини и Наталия. А во дворе, разрезанном лучом света, как на картине Караваджо, где нет тьмы и черноты, Лонги, Банти, Гадда и Бассани. Роверси, и Леонетти, и Фортини выходят на остановке из автобуса, здороваются с Контини и каким-то немецким социологом ⟨...⟩27 Связи не порвались, отношения продолжаются, но отчаяние уничтожает взаимопонимание, обостряет чувство одиночества, а в этом одиночестве зреет трагедия ошибки. 438 Я во всем ошибся. Ошибался, испуганно прижав микрофон, с наглой и жестокой неуверенностью мягкий поэт, мой двойник, который до сих пор носит мое имя. И звали его Эгоизм, Страсть. Он ошибался, когда бодро бормотал что-то ⟨...⟩28 Ощущение ошибки в этом «худощавом силаче от литературы» (это его собственные слова) становится навязчивой идеей. Но ошибки в чем? Ошибки в понимании истории: его личное отчаяние растет («я кричу в небо, где качалась моя колыбель») и превращается в отчаяние историческое и социальное. Для Пазолини больше не имеют никакого значения проблемы пятидесятых годов: он отвергает «злобных моралистов, которые превратили социализм в такой же скучный католицизм»: идеология – это «наркотик»; в общем, он кричит: «Я отрекаюсь от смешного десятилетия!»29 Кажется, что в этом отчаянии больше ничего не значат преследования и судебные разбирательства, разве что они могут служить основанием этого отчаяния. Значение имеет только уверенность в том, что «промышленному договору» невозможно «сопротивляться»: Ничто не может ему сопротивляться: разве ты не видишь, какой слабой оказывается защита друзей, неверующих или коммунистов, против низкой клеветы? Ум больше ничего не значит для этих пересудов ⟨...⟩30 Ум погибает, «ирреальность» пожирает пространство – пространство физическое и нравственное. И появляется «Новая Преистория», новый период дикости и запустения: 439 «вот-вот погибнет / идея человека, который появляется ранним утром / в Италии или в Индии и погружается в свою незаметную работу». Может быть, в Италии, или в Индии, или в Африке может зародиться радостная надежда, может, появится еще альтернатива этой гибели. Но надежда эфемерна, ее век недолог. ⟨...⟩ Разве вы не знаете? Именно с появлением барокко неокапитализма и начинается новая преистория.31 И никаких надежд: человек все больше закрывается в своей скорлупе. Будущей жизни нет альтернативы: остается только «оппозиция»: Оппозиция человека, которого никто не сможет полюбить и который сам не в силах любить, поэтому для него любовь – это предначертанное отрицание, исполнение долга как исполнение веления разума. 32 Пазолини «распят на кресте собственного душераздирающего рационализма», «умерщвлен пуританством»; он понимает, что у него нет другой судьбы, кроме как присоединиться к «аристократичной и – увы! – непопулярной оппозиции». Писатель-«корсар», «лютеранин», «пуританин» выразил законы своего творчества в «Поэзии в форме розы». В чем же причина его отчаяния, если оно далеко выходит за собственно личные рамки? Конечно, личные мотивы присутствовали. Например, последние литературные дискуссии о неоавангарде, который можно было назвать явлением неокапитализма в литературной цитадели. 440 Такой была, например, полемика с Группой 63*, которая ради утверждения представления о литературе как о явлении абсолютно антирациональном, не принадлежащем истории, стремилась вытеснить Пазолини на задворки культурного движения, а вместе с ним и Моравиа, Кассолу, Бассани – в общем, тех писателей, которые за прошедшее десятилетие добились самого большого признания. Пазолини, и не только он, стремился вернуть себе утерянную позицию. Он попытался выступить совместно с Леонетти и Кальвино (об этом свидетельствует небольшая поэма, которая дала название сборнику «Поэзия в форме розы») и с Витторини. Витторини через журнал «Менабо»** противодействовал попыткам противопоставить традицию и авангард: он говорил, что существует некий стиль, который, не являясь гуманистическим, полностью соответствует непредсказуемой динамике индустриального общества. Леонетти, Кальвино и Пазолини придерживались другой точки зрения, они пошли дальше, чем Витторини, и стремились через журнал «Менабо» рассказать обо всем новом, что появлялось в европейской литературе, превратить журнал в орудие международного культурного и научного сотрудничества. ⟨...⟩ Ах, система знаков, в шутку изобретенная вместе с Леонетти и Кальвино * Литературное движение, созданное в 1963 году в Палермо группой молодых итальянских интеллектуалов, крайне критически настроенных по отношению к литературе, связанной с традициями неореализма. В движении приняли участие поэты и писатели, смело экспериментировавшие с формой, ломавшие все традиционные схемы. ** Meнабо (Menabò della letteratura) – журнал, основанный Э. Витторини в 1959 году (итал. menabò – факсимиле). 441 во время обычной поездки на север. Знаки глухонемых, значение которых раз и навсегда понятно во всем мире.33 Они выпустили пилотный номер своего журнала, который занял весь седьмой выпуск «Менабо», под заголовком «Гулливер»; в нем приняли участие многие литераторы и писатели.34 Но продолжения не вышло. Номер получился сырой, пестрый по стилю, разбросанный по тематике, больше напоминающий антологию. Неоавангард предполагал тесные связи с европейской литературой и ассимиляцию с ней. Эксперимент, который поставил «Гулливер», показывал, что подобные связи невозможно установить, просто согласившись принять чужую реальность как данность. Решение, которое предложил «Гулливер» для системного кризиса, с которым столкнулась итальянская литература, должно было показаться Пазолини случайным и мало обнадеживающим. Его интересовали не подобные общие рассуждения, а то, что он вслед за Грамши называл «отвоеванием истории», овладением историей вполне конкретно, а не абстрактно; для него речь шла в первую очередь об итальянской истории, ее нравственных уроках, ее антропологии, политике, поэзии, неразрывно связанных реалистическим синтезом. Подобное «отвоевание» литературная дискуссия того времени не принимала в расчет: историзм все более уступал свои позиции под натиском социологии, его все чаще понимали как высохший плод, не способный к обновлению. А Пазолини упрямо отстаивал его, пользуясь лингвистикой – этой своего рода инстинктивной антропологией – как оружием. Пьер Паоло пережил годы отчаяния в вынужденном одиночестве. 442 И в этом отчаянии он совершил «ошибку»: не смог предусмотреть апокалипсис, который подготовило ему его время. Отсюда и отречение от «смешного времени». И все же он был героем этого десятилетия. Однако необходимо указать и на другую причину этого отчаяния: неоавангард тоже считал это десятилетие «смешным». Альберто Абразино в статьях, опубликованных в «Иль Джорно», подвергал резкой критике «ужасные пятидесятые годы», когда, как он считал, интеллектуалы слишком разбрасывались, отвлекались от главных проблем, не успевали читать, судили обо всем поверхностно, были слишком близоруки. Это были обычные проблемы, которые возникают в тот момент, когда в литературе одно течение вытесняется другим. В сущности, интересы Пазолини лежали совсем в другой области: его взгляд был нацелен далеко за пределы литературы, он стремился познать социальные процессы. Пятидесятые годы были также и годами жесткой политической дискриминации, удушающей цензуры, нетерпимости. Эта нетерпимость развивалась не в одном направлении, не только в отношениях между клерикалами, сторонниками светской мысли и марксистами. Она затронула подавляющее большинство католиков, коммунистов и людей, не очень задумывавшихся о смысле религии. Именно в эти годы политической реакции созрела уверенность, что за гражданские права необходимо бороться, их необходимо самоотверженно защищать. Если итальянская культура, если те литераторы, которые ее создавали, когда-либо и создали особенно удачные ее страницы, то написаны они были как раз между 1948 годом и самым началом шестидесятых. Пазолини отрекался от всего созданного в этот период, но было совершенно очевидно, что сокровенный 443 смысл этого периода творчества полностью изменил облик страны. Облик страны становился все менее привлекательным: экономический бум и развитие средств массовой информации вносили свой вклад в «одичание» Италии. По крайней мере, процесс происходящих в ней изменений казался таким на первый взгляд. Но эти изменения вызывали и другие явления: прежде всего, общество обрело особую, едва ощутимую, чувствительность к проблемам личностной и социальной свободы. Грубые ошибки в политическом и экономическом планировании – за которые национальное сообщество болезненно заплатило в семидесятые годы – совершались в то время, когда в стране постепенно зарождалось светское отношение к проблемам нравственности, до тех пор абсолютно неведомое ее гражданам. Подобная модернизация традиций, повседневной жизни казалась той ценой, которую необходимо заплатить за успех «экономического чуда», за огрубление нравов, которое это экономическое чудо принесло с собой. Пазолини отвергал все. Он не пытался разделить процессы и явления. И поэтому в его глазах апокалипсис коснулся не только правящего класса, все еще пытающегося править и судить, но и всех тех, кто к этому классу не принадлежал, кто вынашивал вполне светские идеи свободы. В его воображении оставались лишь небольшие островки, кучка друзей, которые «играли вместе с ним в футбол», или небольшая группа коммунистов. Его пессимизм, таким образом, нашел свое выражение в отречении, в отказе от иллюзий, от утопии и в признании своей собственной «ошибки»: Я навсегда остаюсь вне Нового Направления Истории – 444 о котором я ничего не знаю, – как посторонний, которому вход воспрещен ⟨...⟩35 И что остается? «Магма», «случай», «желчное мелкобуржуазное хныканье»: Итак, я оборвал лепестки бессмысленной розы, розы, которая не вызывает ни ужаса, ни сексуального влечения, как раз в те годы, когда я должен был оставаться партизаном, который молчит под пытками и не проливает слез.36 В чем же разочарование? В том, что его мечтательная церковная религиозность оказалась преданной, культура, которую он унаследовал от матери, культура сельская, католическая (не та, которую передал ему отец, буржуазная и декадентская), не позволила ему увидеть, как изменялся облик Италии, как в противоречиях и борьбе зарождалась и разрабатывалась идея свободы. «Нинетто – посланник…» Несмотря на отчаяние, у Пьера Паоло остается еще много сил для того, чтобы просто радоваться жизни. В эти годы радость жизни для него ассоциируется со встречей с Нинетто Даволи. В 1963 году Нинетто было лет пятнадцать. Он был сыном крестьянина из Калабрии, который переехал в Рим. Из его речи полностью исчез всякий намек на калабрийский диалект. Его речь – это римский диалект, диалект предместья, классический римский диалект, искаженный и смешанный с криминальным жаргоном, которому Пазолини уделял особое внимание. 445 В этом пареньке, худом, истощенном, со спутанными кудряшками на лбу, с которого еще не сошли юношеские прыщи, с невероятно «смеющимися глазами», было что-то очень мягкое, человечное, что было совершенно не свойственно обычному облику парня из предместья. В Нинетто нашла свое воплощение комическая, комедийная сущность калабрийского крестьянина, которая казалась уже исчезнувшей навсегда, как исчезли и сами калабрийские крестьяне былых времен. Пьер Паоло познакомился с Нинетто, когда готовил съемки «Евангелия от Матфея». В стихотворении 1965 года он рассказал об этой встрече: И вот в зал входит одержимый, с глазами нежными и смеющимися, он одет, как один из «Битлз». И пока богатые, пришедшие на спектакль, поставленный и для него, объясняют свое отношение к нему важными учеными словами, он костлявым пальцем, похожим на ногу карусельной лошадки, пишет свое имя «Нинетто» на бархатной спинке кресла (как раз под тем местом, где лежит его тонкая шея, в соответствии с нормами поведения и идеями свободной буржуазии). Нинетто – посланник, и, победив (сладчайшей улыбкой, которую источает все его существо, как будто он мусульманин или индус) природную застенчивость, он предстает как ареопаг и говорит о персах. 446 Персы, говорит он, стоят у наших границ. Но миллионы их уже среди нас, они просто иммигрировали и поселились тут на кольце 12-го, 13-го и 409-го трамваев, у станций пригородных поездов. Они прекрасны, эти персы! Господь создал их небрежно, как набросок, так же, как мусульман и индусов, у них плоские лица, похожие на морды животных, у них твердые челюсти, приплюснутые или вздернутые носы, длинные-длинные ресницы и курчавые волосы…⟨...⟩37 Пьер Паоло влюбился в него: он испытывал к нему отцовскую любовь, любил его как друга. Его отношение к Нинетто было окутано особым духом сообщничества, который часто присутствовал в отношениях Пазолини с мальчиками. Это было некое наваждение, далекое от влюбленности, чисто эротическое, которое он часто испытывал к «радостному хору», «к которому жизнь относится по-дружески». В этом хоре он не различал лиц, для него существовали только тела. Нинетто обрел лицо, обрел голос: голос бесплотный, плоть ломкую и изможденную. Его веселость была в то же время меланхоличной, вызывала невыразимое беспокойство и тревогу. Пьер Паоло был влюблен в этот образ. Нинетто олицетворял некий миф: миф о Риме, осажденном «персами», «варварами», на юго-востоке от городской черты, на конечных остановках трамваев Пренестино. Этот мальчик был невинным «варваром». И еще: Третий мир ad portas*, мусульмане, индусы. Что будет дальше? Пазолини любил в варварах, которые и сами не понимали, кто они такие, их природное изящество. Это изящество * Аd portas (лат.) – у ворот. 447 было для него волшебным и чарующим, влекло к себе Пазолини-маньериста. Любовь к Нинетто могла превратиться в эстетическое любование, но между ними существовала и откровенная, прямая, физическая связь. Нинетто нравились «Битлз» и Адриано Челентано, разноцветные футболки и модные сапожки; ему нравилось все модное, блестящее, чем с такой готовностью искушало общество потребления. Пьер Паоло оказался втянутым в круговорот бездумного и радостного существования Нинетто: он ходил с ним в «Пипер», рок-клуб шестидесятых годов, где на танцполе бесновалась не только молодежь самого разного толка, но и Моравиа, Арбазино, Сандро Де Фео и даже Марио Паннунцио. Может быть, страсть к Нинетто положила конец ночным приключениям Пьера Паоло? Может быть, он перестал искать острых ощущений? Нет, его рискованные ночные вылазки продолжались. Альфредо Бини, продюсер Элизео Боски и в Риме, и во время поездок по Африке и по Палестине много раз были вынуждены ночью, разбуженные телефонным звонком, бросаться на выручку Пьеру Паоло, попавшему в очередную передрягу; несколько раз они находили его на улице израненного и истекающего кровью.38 Риск был неотъемлемой частью эротики: он представлял собой вызов его смелости, сакральное требование мучений («садистское», «мазохистское» либидо, как сказано в «Поэзии в форме розы»). А любовь к Нинетто была совсем другой. Это была любовная компенсация, так необходимая Пьеру Паоло после будничных блужданий в сумерках существования. Нинетто стал «посланником» радости, воплощением эдакого крестьянского Ариэля. Он стал им сразу, на пробах перед съемками «Евангелия». Пьер Паоло постоянно держал его возле себя, Нинетто был для него чем-то вроде 448 шекспировского шута, в простодушии которого он замечал нечто, скрытое от других. Потом Нинетто вырос, стал ухаживать за девушками. Поначалу Пьер Паоло мирился с этим, потом стал страдать. Но это уже тема следующей главы. ТЕОРЕМА Новый дом Я ищу дом, где меня похоронят, я брожу по городу, как будто меня отпустили погулять из приюта или санатория, мое лицо осунулось от жара и лихорадки, кожа бледная, я давно не брит ⟨...⟩1 Дом был куплен весной 1963 года на улице Эуфрате, 9. Это была квартира в бельэтаже, с небольшой террасой с цветами, с высокими французскими окнами. Дом был совсем новый, ограда выходила на аллею Мальяна, туда, где она сворачивала к Остии. Справа виднелся далекий купол Святого Петра. Дом располагался в квартале EUR*, на самой окраине, в спальном районе с тихими зелеными улицами. И полная цветов терраса, и тишина – все это было для Сюзанны. Дом был куплен ей в подарок. В мае 1963 года квартира была обставлена, и они переехали. Когда Пьер Паоло выбирал мебель для новой квартиры, ему очень помог дядя, антиквар. Но выбор, например, английской люстры девятнадцатого века для гостиной или латунной люстры сложной конструкции подробно и подолгу обсуждался с друзьями. Моравиа утверждал, что вкус Пьера Паоло, абсолютно безупречный в том, что касалось * Квартал Всемирной выставки – район, построенный в конце 30-xx гг. в помпезном, характерном для фашистской эпохи, стиле. 450 постановки мизансцены в кино – например, сцены в фильме «Овечий сыр», в которые органично вписались картины Понтормо и Россо Фьорентино, – в обыденной жизни был совсем не всегда на высоте. И все же люстра со сферическими абажурами была триумфально водружена в гостиной на улице Эуфрате над диванами, камином и книжным шкафом, и осталась там на много лет. Это была очень солидная вещь, настоящий «буржуазный» предмет, как говорил сам Пазолини. Очень скоро на нее перестали обращать внимание, ее присутствие стало привычным, от нее исходила какая-то спокойная уверенность. Жизнь Пьера Паоло, становившегося постепенно все более известным режиссером, изменилась. На него оказали большое влияние путешествия за границу. Свидетельством этому может быть «Поэзия в форме розы». Лирическим фоном становится уже не Рим с его предместьями, а Африка, Израиль, Индия, горизонты раздвигаются, и в стихах хватает места «Альпам и Чентоселле* всего мира». До сих пор Пьер Паоло жил в традиционном окружении, типичном для итальянского писателя: сначала в провинции, потом в большом городе, в Риме или в Милане. Теперь он привычно перемещался с одного континента на другой, как это и свойственно успешным деятелям искусства или политики. Однако успех не изменил его привычек: он ужинал в небольших ресторанчиках, посещал предместья, знакомился там с новыми людьми, играл в футбол с парнями и друзьями. В противоположность многим режиссерам, вдруг ставшим знаменитыми, он не жил в окружении восторженных почитателей. Он жил один. Его окружение составляли Нинетто и Серджо Читти. Дома Грациелла быстро научи* Одно из исторических предместий Рима, в котором современные здания соседствуют с историческими памятниками. 451 лась держать подальше попрошаек и случайных знакомых, с которыми, впрочем, он всегда был терпелив и, в случае необходимости, даже щедр. Жизнь рядом с Сюзанной превратилась в замкнутое, почти мифическое существование; чем-то мифическим были и привычки, с нею связанные. Иногда Пьер Паоло сопровождал мать в ее поездках в Казарсу летом, когда она навещала сестер. Иногда он ездил с ней отдыхать в горы, иногда они выезжали на машине куда-нибудь на Феррагосто*. Сюзанна полюбила цветник в новом доме, он скрасил ее одинокую старость в Риме. Но она не спешила стареть: с юности она сохранила привычку легко подкрашивать губы, тщательно причесывать волосы, которые она начала подкрашивать в каштановый, с легким медным оттенком, цвет. Пьер Паоло хотел вырвать ее из неумолимого потока времени: он хотел, чтобы она прошла курс омолаживающих процедур в клинике «Черовиталь». Сюзанна воспринимала все его заботы как знаки внимания влюбленного. В каком-то смысле так и было. Дантовские проекты и мечты Богатое воображение Пьера Паоло каждый день создавало сюжеты для новых романов и фильмов. Он много раз возвращался к идее написать роман (например, «Река Грана»), но потом понимал, что не может вообразить мир Рима, который представил черно-белым в «Жестокой жизни», залитым ярким солнцем. Отголоски римского диалекта в киносценарии появились в «Ратоне и Ритале»2, однако пейзаж изменился: Ал* Традиционный период летних отпусков в середине августа. 452 жир, партизанская освободительная война, Париж. Мир этого сценария – это третий мир. Но текст отличается особым изяществом стиля – с его помощью Пазолини пытается скрыть, насколько для него было трудно описывать жизнь людей, бесконечно далеких от него в нравственном и общечеловеческом смысле. Он много думал и постоянно говорил о переложении «Божественной комедии». Это был один из самых амбициозных его проектов, он считал, что выполнить его – его призвание, ведь не случайно некоторые критики сравнивали его литературные произведения с творением Данте, считая их сопоставимыми по богатству стилистических приемов. Пьер Паоло предложил устроить конкурс на лучшее переложение «Божественной комедии». Над этой идеей он работал в 1963–1965 годах и возвращался к ней не раз до 1967 года. Так собралась целая тетрадь набросков, прозаических отрывков. Закончил он только первые две песни. Он сам подготовил все к печати, подобрал несколько фотографий для приложения, которое озаглавил «Пожелтевшая иконография». «Божественное подражание» – под таким названием книга должна была выйти через несколько недель после его смерти, в декабре 1975 года. «Я публикую сегодня эти страницы как “документ”, однако этим я хочу нанести оскорбление моим врагам: действительно, давая им еще один повод презирать меня, я предлагаю им еще один путь в ад» – так он написал в предисловии 1975 года. Его враги: это предупреждение им. Незавершенность текста могла стать причиной злорадства. Свое оправдание он рассчитывал найти в полемике, в литературной полемике. 453 Критическое переосмысление «Божественной комедии», «Божественное подражание», было задумано как путешествие. В первых двух песнях поэт «земную жизнь» прошел «до половины», он переживает кризис, борется сам с собой, с собой реализовавшимся, неудержимо движущимся вперед, испытывающим беззастенчивое счастье от того, что обрел разум. Другое его «я», тоже участник повествования, потеряло радость жизни, видит перед собой диких тварей, которые вырвались из «укромных уголков» души. Это его собственная растраченная сущность. Путешествие начинается воскресным утром в Риме, в небольшом кинотеатре на окраине города, где под сенью красных флагов торжественно принимают в ряды КПИ новых членов местной ячейки. Праздник этот, кажется, проходит где-то далеко, слышен только как бы его слабый отзвук: идеологический кризис превращает торжественное собрание в формальный ритуал. Над всем этим веет дух отторжения, даже если он ничем не отличается от подобных собраний прошлых лет: улыбки старых и молодых, цвет знамен. И здесь начинается путешествие в ад. Но какой ад? Это ад потребления, неокапитализма. Диктат неокапитализма в литературе совершенно ясен: «долг»* становится словом, лишенным смысла, литература живет только тем, что решает внутри самой себя свою собственную проблему. И никаких красных знамен, это мираж, призрак. Эти отрывки могли бы быть своеобразным эхом отчаянного индивидуализма сборника «Поэзия в форме розы», * Ключевой пафос эпохи неореализма – долг художника откровенно говорить о проблемах общества. 454 они как бы комментируют его, уравновешивая отчаяние Пазолини. «Примечание издателя» (т. е. самого Пазолини), пестрящее ссылками на Седьмую песнь, объясняет смысл этого отчаяния. В «примечании» говорится, что автор текста умер: он оставил рукопись и наброски своего произведения в ящиках стола и в «бардачке своей машины». Некоторые из этих страниц совершенно неразборчивы, другие написаны четко и датированы; все это упростило задачу издателя (повторяю, речь идет о самом Пазолини): ему оставалось только собрать отдельные листы и расположить их в соответствии с датами, на них проставленными. Комментарий к факту смерти этого самого несуществующего автора: «Мелкая деталь, но – нужно признать – трогательная: в кармане пиджака умершего был обнаружен листок бумаги в клеточку (очевидно, вырванный из блокнота), на котором неуверенным почерком нацарапано с десяток строчек (он умер от тяжких телесных повреждений, нанесенных палкой в Палермо в прошлом году)». Здесь же приводится и дата: «1966 или 1967 год». В 1965 году в Палермо проходил второй съезд «Группы 63», на котором развернулась как никогда острая полемика о литературе «смешного десятилетия» и о «долге». Пазолини, который до того момента, несмотря на принципиальные несогласия, думал, что сможет продолжать свои отношения с неоавангардом, вынужден был признать, что оказался в полном одиночестве. Поэт, оказавшийся в одиночестве, был убит ударом палки.3 Именно из-за того, что он чувствовал себя одиноким и ненужным, Пазолини особенно остро переживал «упадок высокой страсти, свойственной времени Сопротивления, и т. д., и т. п.». Этим «и т. д., и т. п.» – в ответ на вопрос одно455 го из читателей «Вие нуове» – Пьер Паоло хотел обозначить все свои сомнения и колебания. Да, литературная полемика. Но и она была отражением других событий. Он пишет, обращаясь к тому же читателю «Вие нуове» (письмо от 3 июня 1965 года): Несомненно, что времена изменились. Еще несколько лет назад существовала целая система аллюзий, общих рассуждений, благодаря которым даже фраза, сама по себе банальная, становилась значительной и значимой, пусть даже и как фигура речи. Теперь этот ряд аллюзий и намеков безнадежно устарел. И вместе с ним утратила смысл и жизненность его иррациональность. Больше нельзя доверять идее силы, братства, возвышенных чувств и стремлений, которые царили в общеполитических представлениях.4 «Идеологический кризис» и глубокая личная, внутренняя усталость. Революция теперь только ощущение.5 В пылу этих горьких рассуждений Пазолини создал для себя свою собственную партию, встал в оппозицию всему и всем. Но самозабвенная преданность литературному творчеству, которая была ему свойственна прежде, в нем угасла. В дискуссии, состоявшейся в экспериментальном кинематографическом центре в Риме 27 мая 1964 года, он признался: «То, что я говорю, немного притупляет мое желание действовать. У меня был замысел книги, и я так много о ней говорил, что, наверное, никогда ее не напишу». Осенью 1965 года заканчивается его сотрудничество с «Вие нуове». Пьер Паоло утверждал, что стал «эгоистом», 456 что для него гораздо большее значение приобрело то, что он лично, сам мог создать. Кино полностью поглотило его. Чтобы ощущать себя живым, Пьеру Паоло больше не надо было постоянно провоцировать общественное мнение. Его жизнь все больше и больше становилась жизнью публичного человека. В конце концов, он все больше и больше приближался к образу своего лирического героя. Лингвистическая деградация Менялась Италия – менялся и ее язык. «В общем, можно сказать, что центрами по творческому осмыслению, переработке и унификации языка являются теперь не университеты, а предприятия. Достаточно проследить, например, какое огромное лингвистическое значение имеют рекламные слоганы».6 На свет появились «средства массовой выразительности», эдакий монстр. И Пазолини решил их проанализировать. До сих пор общенациональный язык существовал только как некий идеал, примитивный и риторический, и к нему как к идеалу и стремились литература и университетская наука. Средства массовой информации разорвали существовавшую традицию и произвели на свет «общепризнанный» язык, который можно было бы назвать «усредненным языком». В пятидесятые годы разговорным итальянским языком стал «неореалистический» язык, то есть вариант римского диалекта, распространению которого способствовало кино. В шестидесятые центр языкового равновесия сместился на Север, где «общепризнанный» язык формируется не на основе диалектов Севера, а на основе технических терминов, получающих все большее распространение. 457 Каковы же характеристики такого национального языка? Поскольку в его основе лежит язык науки и техники, интернациональный по сути и узко функциональный, он, по всей вероятности приведет к появлению в итальянском языке черт, свойственных наиболее развитым романским языкам, имеющим ярко выраженную коммуникативную направленность. Направления его развития, как можно предположить, будут следующие: 1) определенная склонность к дальнейшему обеднению языка⟨...⟩ 2) прекращение взаимопроникновения итальянского языка и латыни ⟨...⟩ 3) преобладание коммуникативных целей над экспрессивными.7 Пазолини высказал эти идеи на конференции «Новые лингвистические проблемы». Его доклад был опубликован в журнале «Ринашита» 26 декабря 1964 года. Завязалась дискуссия: в числе первых на его статью откликнулись Альберто Моравиа, Умберто Эко, Андреа Барбато. Пазолини обвиняли в том, что он «изобрел велосипед» («усредненный итальянский», по мнению Моравиа, всегда существовал), или в том, что он выдумал язык, который еще не существует. Полемика перешла из «Ринашиты» в «Эспрессо» в январе 1965 года. На страницах этого еженедельника 7 февраля 1965 года Пазолини ответил, что он не собирается быть крестным отцом какого бы то ни было языка, он только отметил, что существует «явление гораздо более глубокое и агрессивное, чем просто стремление к систематизации языка, свойственной любому обществу». Старая буржуазия, придерживающаяся «гуманистических» воззрений, исчезает, на сцену выходит новая буржуазия, «технократия», которая стремится к завоеванию господствующих позиций: «эта буржуазия устанавливает свое экономическое и культурное господство, а следовательно, несет и свой язык».8 458 Пазолини зафиксировал существование явления, поставил диагноз, а не стремился к созданию нового языка (как на то намекали его оппоненты). «Новый “технологический” язык – это язык буржуазии. Сам по себе он меня не интересует, я лично его презираю, мое стремление как писателя – противостоять ему, но я не могу его игнорировать. Это реальное явление».9 Другим его оппонентом стал Энрико Мануэли в «Коррьере делла сера», а Пьеро Читати поддержал Пазолини, приведя на страницах «Джорно» ряд убедительных примеров. В той же газете «Джорно» Пазолини ответил, что приведенные Читати примеры были «слабым отзвуком» если не нового итальянского языка, то, по крайней мере, «другого» языка: бюрократизированного, жаргонного, несомненно «коммуникативного», но весьма сомнительного в узусе. Полемика продолжалась несколько месяцев, превратилась почти в салонную игру – по крайней мере, так могло показаться. Но Пазолини удалось каким-то шестым чувством предугадать новую тенденцию: если итальянский язык не будет постоянно обогащаться, соприкасаясь со своими традиционными сельскими корнями, он обеднеет, «одичает». Так, через язык, ему удалось предсказать будущее одичание нравов. То, что Пазолини пытался сопротивляться, оставаясь на позициях сельской и христианской культуры, согласно многовековой итальянской традиции, имело одну важную положительную сторону он понял, что новая социальная реальность, в которой оказалась страна, – реальность нового образа жизни, – способна принять самые уродливые формы. Пьер Паоло в пятидесятые годы проникся духом антииррационализма, который через более или менее подробное знакомство с книгой Лукача «Разрушение разума» проник в итальянскую культуру. Он сам пытался ответить на требова459 ния иррационального и индивидуалистического начала, свойственного тому периоду. Идея Гойи о том, что «сон разума порождает чудовищ», пришлась по вкусу его чувственному началу, даже если в глубине сердца он прекрасно понимал, в чем состоит различие постмарксистского схематизма и эффективного использования средств разума. Несмотря на это, у него было довольно мистическое представление о марксизме: марксизм для него, как и для многих других, был просто теологией истории, закрытой системой, весьма своевременной, пришедшейся весьма кстати, чтобы стереть печати иррационального. Когда же наступил «кризис идеологий», пришли другие времена, Пьер Паоло отрыл для себя экзистенциализм. Он пишет исполненную отчаяния «Поэзию в форме розы», глубоко и болезненно переживает одиночество, заявляет, что не может найти с другими «общего языка». «Одиночество» неожиданно освобождает его от всякой метафизики. Идеология, можно сказать, является просто отражением коллективного религиозного ритуала; как только ритуал утрачивает свой смысл, от идеологии не остается и следа. Пазолини, кажется, становится методологом: своими экспериментальными и интуитивными методами его привлекают глоттология и антропология. Марксизм в этой связи тоже превращается в методологию. И таким образом мы подходим к «Поэтическим заметкам к марксистской лингвистике» и к эссе «Из лаборатории», написанном для того, чтобы поставить точку в полемике о «новых лингвистических проблемах».10 Эссе «Из лаборатории» ограничивается несколькими замечаниями – его содержание больше походит на ряд кратких тезисов. К этому приему он уже прибегал, когда писал статьи для газет и еженедельных изданий. Может показать460 ся, что Пазолини отказался от своего «особенного стиля» и что он, учитывая общую языковую ситуацию, сам находится в весьма затруднительном положении. И в самом Пазолини читатель обнаруживает лексическое и синтаксическое стремление к «новому» итальянскому языку. Потом он скажет, что написал эти страницы «лицемерно»,11 полностью сознавая, что и сам поддался всеобщему искушению. С уверенностью можно сказать лишь одно: Пазолини не поддался влиянию «сигнального» итальянского языка; он ощущал его распространение, пытался его описать и определить. «Исследование идет полным ходом, книга открыта».12 Какие же выводы были сделаны на тот момент? От старого Бертони к Леви-Строссу, к Ельмслеву, через Кроче, Соссюра и Грамши: в своих антропологических изысканиях Пазолини прослеживал стремительное урбаноцентрическое движение, возникшее во время второй промышленной революции. Ближе и понятнее всего ему было развитие мысли в странах Третьего мира, развитие «дикой мысли», крестьянской, которая благодаря архаичности языка противостояла и не смешивалась с нововведениями, которые ускорение экономического развития предлагало человечеству. Пазолини с пристальным вниманием изучал и анализировал душу народа. Нинетто в первый раз в жизни видел снег (он из Калабрии; когда в 1957 году был знаменитый снегопад в Риме, он был слишком мал или, может быть, еще не приехал в Рим из своего калабрийского городка). Мы только что приехали в Пескассероли. Заснеженные поля вызвали у него совершенно детскую радость, абсолютно неожиданную у молодого человека его возраста (ему шестнадцать лет). Когда спустились сумерки, небо вдруг стало белым, и ког461 да мы вышли из гостиницы, чтобы немного пройтись по безлюдным улицам, воздух ожил: из-за необычного оптического эффекта казалось, что снежинки не падали, опускаясь к земле, а наоборот, поднимались к небу, но не постоянно, а как бы время от времени, потому что их закручивал порывистый горный ветер. Если посмотреть вверх, кружится голова. Кажется, что все небо падает прямо на тебя, стекает радостным и праздничным потоком чистого снега Апеннин. Представьте себе состояние Нинетто. Как только он увидел это никогда прежде не виденное явление, когда небо над головой растворяется, он беззастенчиво предался самой необузданной и дикой радости, ведь он не знал никаких преград, которые ставит перед нами воспитание, когда речь заходит о проявлении наших самых искренних чувств. Сначала он исполнил что-то вроде первобытного танца, очень ритмичного и эмоционального (я сразу вспомнил племя денка*: они стучат пятками о землю, что, в свою очередь, напомнило мне древнегреческие танцы, как я их представлял, читая греческих поэтов). Он двигался очень легко, как бы намекая на четкий ритм, одновременно приседая и выпрямляясь. Потом к движению присоединился голос: он стал издавать крики, исполненные радости, детские, но странным образом напоминающие крики оргазма, ими заполнялись паузы в ритмическом рисунке: «Хе-ехбхе-ех, хеееех». В общем, это крик, который трудно передать на письме. Это был звук, вызванный особой внутренней памятью, связывавшей Нинетто, который сегодня находился в Пескассероли, с Нинетто из Калабрии, далекой области, сохранявшей отголоски древнегреческой цивилизации, с Нинетто из до-греческого мира, варварского, дикого, который стучит пяткой по земле, как сегодня это делают денка на юге Судана.13 * Денка – африканское племя (юг Судана). 462 С одной стороны, эссе описательное, с другой – полемическое. В нем автор полемизирует со структурализмом, который создает «геометрические формы» и «формальные проекции».14 Поэт и марксист не могут согласиться с этим: поэт – потому что он живет в хаотическом переплетении чувств и мыслей, пытается ими овладеть; марксист – потому что в хаос он стремится «привнести порядок, как в познании, так и в действии». Оба они «восстают против волны формализма и эмпиризма, которую несет с собой становление европейского неокапитализма».15 Итак, какие можно сделать выводы? Систематический отказ от всех видов неоиллюминизма, свойственного как неоавангарду (в его литературной форме),16 так и пропаганде того времени, широко распространившейся в издательской среде, например. Пазолини предвидел будущее, которое несет с собой крах, будущее, полное социальных проблем, когда старые укоренившиеся схемы и древние вечные истины утратят всякий смысл («демократический пацифизм», например). В поспешном бегстве из деревни в город (бегстве и «лингвистическом» тоже) он усматривал дурные предзнаменования, апокалипсический конец всего того, что он так любил. Ворон Мудрец-наркоман, милый битник, поэт, которому нечего терять, персонаж романа Эльзы Моранте, Бобби Базлен, Сократ, возвышенный и смешной, который ни перед чем не останавливается, обязан никогда не лгать; кажется, что его вдохновили индийские философы или Симона Вейл. ⟨…⟩ Ворон … – это особая метафора, воплощение автора.17 463 В 1965 году Пазолини задумал фильм, который он сам называл «фильм в прозе», и дал ему название «Птицы большие и малые». Комичность превратила эту прозу в поэзию. В глубине отчаяния Пазолини укоренилась древняя добродетель: терпение. Пьер Паоло был убежден, что с течением времени его идеи будут признаны, получат все большую популярность. Он проповедовал апокалипсис, убежденный, что его слова помогут его избежать. Он умел посмотреть на себя со стороны, не теряя чувства юмора: он казался самому себе этаким Говорящим Сверчком, который постоянно предсказывает несчастья, но сам же посмеивается над своими предсказаниями. И вот ворон – он заставил его говорить голосом своего дорогого друга Франческо Леонетти. Рядом были и Тото, и Нинетто. Я уже говорил об отчаянии: радость, которую излучал Нинетто, помогла ему приглушить отчаяние. Именно благодаря появлению «Птиц больших и малых» можно оценить накал отношений между Пьером Паоло и Нинетто, понять символичность этой связи для Пьера Паоло. Может показаться безумной или банальной, романтически банальной, идея о том, что Пьер Паоло вложил огромную часть себя самого в образ Нинетто. Но так оно и было благодаря поэтической силе его любви. Он представлял себя в образе Говорящего Сверчка, зануды-учителя, учителя, постоянно внушающего вечные истины, который просто должен кончить плохо: его истина в конце концов обязательно начнет всех раздражать. И вот он, ощипанный и зажаренный, попадает в желудок тех, кого он избрал объектом своей педагогической проповеди: Нинетто и Тото, которые символизируют новых Дон Кихота и Санчо Пансу. 464 Но какая участь может быть более желанной для учителя, которому свыше дано неистребимое желание учить и поучать, то есть самому буквально превратиться в пищу своих учеников? Можно сказать, что это счастье «элегическое» и «похоронное».18 Подобным мрачным сравнениям в фильме «Птицы большие и малые» противостоят постоянные метаморфозы, игра и сплетение комических аллюзий. Сюжет фильма абсолютно классический, один из самых классических сюжетов в литературе: это тема познавательного путешествия. Тото и Нинетто идут по дорогам мира и истории в поисках пищи, материальной и духовной. Как я уже сказал, они воплощают в себе образы Дон Кихота и Санчо Пансы, хотя, раз речь идет о кино, они ассоциируются и с образом Чарли*. Они воплощают одновременно мягкосердечие и твердость характера, веру – веру францисканскую, очищенную от яростной силы, которой одержим Христос в «Евангелии от Матфея». В путешествии Тото и Нинетто встречают сообщника, всезнайку ворона. Он становится главным героем всего путешествия. Ворон хочет научить их видеть суть вещей, а не только их внешние проявления, он хочет научить их познавать мир не только разумом, но и сердцем. Но он не сможет устоять перед собственной судьбой. Мир одерживает верх над простодушием Тото и Нинетто, или, и в этом двойственность метафоры, разум, исполнив свою задачу, может только позволить этому простодушию переварить себя. События фильма абстрактны и неосязаемы: все, что происходит, имеет прозрачный символический смысл. Неиз* Бродяга Чарли – образ, созданный Чарли Чаплиным. 465 менными остаются только невероятная способность Тото выходить сухим из воды и поразительная жизнерадостность Нинетто. Какими же путями идут персонажи фильма? Что скрыто под их комическим обликом, что означает яростное карканье ворона? Марксизм, привившийся как невинная норма, обновление не стихийное, а вполне осмысленное, возникшее в трещине нормы, вследствие травмы (ностальгия по жизни, отрыв от нее, одиночество, поэзия в качестве компенсации, естественный долг страсти, и т. д., и т. п.). Автобиографический элемент прослеживается, в основном, в марксизме ворона. Это марксизм, открытый всем возможным проявлениям синкретизма и всем возможным отступлениям и уступкам, но остающийся незыблемым в том, что касается основ, анализа ситуации и перспектив.19 Путь героев фильма лежит через «кризис идеологий», они ищут, как говорит автор устами ворона, возможность продолжить существование, хотя бы, может быть, и «беспорядочное», в мире прекрасных надежд периода Сопротивления. Ворон рассматривает пролетарскую радость Нинетто и Тото как историческое благо, с которым нельзя не считаться, от которого невозможно отказаться. Подобным же образом он считает, что предместья – это как раз то место, где обновление возможно. Сакральность истории: сакральность идеологии здесь не исчезла, ей на помощь пришла ирония и даже комичность. Можно ли считать это путешествие «элегическим» и «ностальгическим»? Да, в том смысле, что эта элегия была свойственна улыбке Пазолини. Но путешествие это было также и басней, которую подсказали Федр и Лафонтен. В басне Пазолини нашел вре466 менное убежище от безнадежного отчаяния. Может быть, он надеялся спастись от него.20 Жизнь, болезнь «Я никогда не смогу забыть, что итальянское общество осудило меня в своих судах».21 Несмотря на улыбку, на готовность шутить, Пазолини не забывает. Он мог бы добавить, что снимал, кино «чтобы языковыми средствами отречься от страны, из которой сто раз готов был бежать». Его «оппозиция» борется на «двух фронтах: против мелкой буржуазии и против этого ее зеркального отражения, в которое превратился конформизм левых».22 Пазолини в отчаянии, он не сдается, он упорствует, но и в своем одиночестве он не может не участвовать в культурной дискуссии. Кино все больше захватывает его, кино он посвящает свою активную теоретическую мысль. Годар во Франции, Пазолини в Италии. Из Франции поступают журналы «Кайе дю синема» с критическими разборами и семиотическими исследованиями Ролана Барта и Кристиана Метца. В Риме вокруг журнала «Чинема е фильм» собралась группа молодых кинокритиков. Среди них Адриано Апра, Маурицио Понци, Луиджи Фаччини. Их главная забота – создать нечто вроде словаря языка кино. Точкой пересечения всех этих исследований и стремлений стал фестиваль в Пезаро, названный «Новое кино». Организатором его стал Лино Миччике. В Пезаро в сентябре 1965 года наряду с показом конкурсных фильмов состоялся и круглый стол, посвященный проблемам современного кино. 467 Пазолини принял участие в заседаниях круглого стола и выступил с докладом «Поэтическое кино», в котором в качестве примеров ссылался на фильмы Бертолуччи, Антониони, Годара, Глобера Роша и Милоша Формана. Язык кино «груб», он лишен собственного словаря, «иррационален», это язык «онирический», «примитивный», «варварский». Этот язык и является языком реальности, «поэтическое кино» – абсолютное и непосредственное отражение этой реальности. Литература пользуется устоявшейся лексикой, кино – нет. «В то время как писатель стремится найти новую эстетическую форму, кинематографист прежде всего ищет лингвистическую оболочку, а уж потом думает об эстетике».23 На встречу в Пезаро приехал Барт. Он долго обсуждал с Пьером Паоло создание грамматики кинематографических образов, но на каждой встрече подчеркивал, насколько важна для фильма динамика повествования, логическое построение, начало и финал. Осенью 1965 года Пазолини очень верил в одно новое литературное начинание – обновление «Нуови аргоменти», журнала, которым руководили Альберто Кароччи и Моравиа. Этот журнал с 1963 года постепенно утратил свое культурно-политическое значение. Другие журналы, например, «Квадерни пьячентини», вытеснили его, предлагая критику политики КПИ, причем критикуя эту политику с левых позиций. Полемика о неоавангарде внезапно вынудила литературу замолчать. Моравиа подумывал о новой серии «Нуови аргоменти», в которой литература, настоящая, жизнеутверждающая, могла бы играть определяющую роль. Пазолини воспринял идею с энтузиазмом. Более того, он торопил Моравиа с принятием решения, сам связался с 468 «Эдитори риунити», издательством КПИ, чтобы договориться о печати и распространении журнала. Дело было уже почти решено, когда из-за опасения, что партийное издательство неизбежно сможет повлиять на направленность литературного журнала, Моравиа и Пазолини обратились к Ливио Гардзанти. Гардзанти согласился печатать и распространять «Нуови аргоменти». Он также полагал, что новый журнал поможет найти и привлечь новых писателей, и доверял чутью Пазолини. Меня тогда пригласили на должность секретаря редакции. Пьер Паоло полностью отказался от идеи публиковать остро злободневные и сиюминутные материалы, как это было во времена «Оффичины». Журнал «Нуови аргоменти» должен был тщательно отбирать материал только очень высокого качества. Из большого количества присланных рукописей были отобраны лишь несколько: Дарио Беллецца, Джорджо Манакорда, Ренцо Парис. Из них Беллецца показался Пазолини гораздо более убедительным, чем все остальные, возможно, благодаря особому лиризму его стихов. Ему также понравилось то, как Беллецца в своих стихах рассуждает обо всем и всех. Пьер Паоло говорил, что Беллецца «сам себе исповедник», что исповедуется он в непосредственной и очень комичной манере. За этой комичностью скрывалась непонятность и отверженность – безошибочные признаки современного писателя. Беллецца ушел из семьи, ему нужно было как-то сводить концы с концами. В течение нескольких лет, между 1960 и 1970 годом, Пьер Паоло поручал ему вести его личную переписку. И вот Беллецца, в очках в тяжелой оправе, с густой гривой черных волос, получил регулярный заработок и смог написать свои «Филиппики и оды». 469 Сам Пазолини не оставил литературные труды. Он начал писать стихи «на заказ» и «по просьбе», которые потом вошли в сборник «За пределами разума». В своей фантазии он создаст новую форму, «новый шутовской стиль» – стиль поэта, чья «чистота» может оказаться «мистификацией». Он напишет: Мистификация – это легкость. Искренность тяжела и вульгарна: там, где искренность, побеждает жизнь. А должна победить молодость, и ее победа будет неожиданной и изящной, она будет терпеливо ее дожидаться, потому что терпение свойственно молодым, а не старым. Все это я подумал, глядя на изящных выходцев из Эритреи.24 Эти стихи, продиктованные в начале 1969 года, составляют сумму жизненного опыта, приобретенного им во время съемок «Птиц больших и малых». Это яркий опыт игры и смены масок: сакральности игры и ницшеанской смены масок. Никто никогда не пытался явно и сознательно сравнить Пазолини с Ницше. Для Пазолини Ницше был таким, как его определил для своих читателей Лукач: отрицательным примером буржуазного иррационализма. Но некоторые сравнения напрашиваются сами собой. Разве – не говоря уж об эрудиции – не было в Пьере Паоло чего-то от «неведомого бога» или от «души мифической, почти вакхической»? Ведь именно эта внутренняя сущность и заставляла его говорить о «легкости». А разве «легкость» не была обязательной для ученика Заратустры? «Легкость» для Пьера Паоло означала деятельность, безудержное, изматывающее творчество. Однажды вечером, 470 в марте 1966 года, за ужином в ресторане «Портико д’Оттавиа» в «гетто»* у него начался приступ язвенной болезни. С ним были Моравиа и Дача Мараини. Пьер Паоло встал из-за стола и вышел в туалет. Прошло довольно много времени. Потом дверь распахнулась, и он выпал наружу, весь в крови: у него открылось сильнейшее кровотечение. Дача бросилась его поднимать, он трижды терял сознание у нее на руках. Когда он приходил в себя, он говорил: «Не бросай меня, не бросай меня». Она смачивала ему лоб; казалось, он умирал. С помощью официантов Дача вынесла его на улицу, дотащила до машины. Вместе с Моравиа они отвезли его к врачу. Врач сделал укол, и Пазолини пришел в себя. Ему пришлось почти месяц пролежать в постели, практически неподвижно. Когда он поправится, он скажет Джоджо Бока: «Иногда по утрам я просыпался, и меня, как молнией, поражала мысль о моем возрасте. Язва, месяц в постели, слабость, воздержание. Впервые я почувствовал себя старым».25 Он весил пятьдесят килограммов, соблюдал строжайшую диету. Пил молоко, не ел никаких соусов. Обычные ужины у Лауры Бетти на несколько лет определились этой строгой диетой. Пьер Паоло смог поправиться через три года и снова стал питаться, как прежде. Но болезнь и долгое, трудное выздоровление наложили отпечаток на его жизнь. Эти его слова – «я впервые почувствовал себя старым» – были не случайны. Старость – это, конечно, ирония. В сорок четыре года Пазолини не мог считать себя старым. Но одиночество, размышления о жизни, которые были неизбежны во время его болезни, заставили его искать этого состояния «лег* Исторический квартал в центре Рима, где с середины XVI века проживали члены еврейской общины. 471 кости», «мистификации», к которому его призывал ворон из «Птиц больших и малых». «Легкость» стала орудием иронии: с ее помощью он получил свободу и достиг зрелости. Когда он вернулся, наконец, к друзьям, он сказал: «Пока я лежал в постели, я написал шесть трагедий». И это было правдой. За этот месяц он набросал шесть текстов, которые составляют его театральное наследие: «Кальдерон», «Пилат», «Аффабулационе»*, «Свинарник», «Оргия», «Зверь». Он набросал также и сюжетные линии «Теоремы». Вместе с Моравиа и Дачей мы открыли театр итальянских писателей в маленьком подвальчике в центре Рима. Это был «Театро Поркоспино» на улице Бельсиана: небольшой труппой руководили Карлотта Барилли и Паоло Боначелли. Режиссером стал Роберто Гвичардини. Театр просуществовал два сезона. Потом Гвичардини ушел, время от времени появлялись другие режиссеры. Лицо театра определяли пьесы. Пока мы создавали театр, дискуссиям не было конца. Мы все время спорили, сыпались обвинения в адрес писателей, в адрес актеров. Пазолини утверждал, что актеры никогда не избавятся от вычурной манеры декламировать со сцены. Он говорил, что его театр – это театр «слова», что его невозможно «декламировать». Что он никогда не доверит постановку своих пьес «Театро Поркоспино». Так и случилось. После долгих колебаний он опубликовал на страницах «Нуови аргоменти» «Пилата» в 1967 году * Текст появился в русском переводе в восьмом выпуске альманаха «Академические тетради» (М.: «A.D.&T», 2001) в переводе А. Бергамо и С. Раскиной. В этом сборнике название не переведено. Само слово означает мораль басни; порядок событий, составляющих фабулу романа; рассказ в форме басни. 472 и «Аффабулационе» в 1969.26 Это были не окончательные варианты текста. Он собирался качественно переработать все написанное им для театра в 1975 году. Только «Кальдерона» можно считать законченным произведением, отредактированным самим автором. Он увидел свет в выпуске «Нуови аргоменти» в 1973 году. Из всех написанных им пьес на сцене он сам поставил только одну, «Оргию». Премьера состоялась 27 ноября. Роли исполняли Лаура Бетти, Луиджи Медзанотте и Нелиде Джаммарко. Своими пьесами он никогда не был до конца удовлетворен: для этой литературной формы одних стилистических решений недостаточно. Сакральность семьи и жизни общества – вот трагическая тема творчества Пазолини весной 1966 года. У него была мысль, уже высказанная в «Поэзии в форме розы», что «власть» неокапитализма, разрушая исторические нравственные ценности, нанесла непоправимый ущерб обществу. Пазолини стремился найти лирическое и драматическое воплощение этих своих чувств и ощущений. Вызванное этим непоправимым воздействием страдание – социальное, экзистенциальное – было представлено как индивидуальное покаяние, совершаемое перед Богом и судьбой. Театр Пазолини рождается как сакральный монолог, в нем нет никакой надежды на спасение и освобождение. Шесть его трагедий представляются единым действом, в котором один акт является логическим продолжением предыдущего. Все крутится вокруг конфликта отцов и детей, утопических идеалов юности, угрожающих проявлений массовой культуры. Стих исчезает в потоке документальной прозы, растворяется в описаниях природы. Персонажи, чьи голоса звучат расплывчато, не в лад, разбивают на 473 мелкие осколки собственное существование и смакуют его осколок за осколком. Театр Пазолини мало чем отличается от его кино, где фильм состоит из отдельных эпизодов, жизнь предстает разбитой на отдельные кадры, как на отдельные молитвенные таблички. «Я избегаю последовательности кадров, потому что это слишком натуралистично и, следовательно, слишком естественно. Мое отношение к “вещам” нашего мира как к фетишу не дает мне считать их естественными: я либо боготворю их, либо яростно уничтожаю одну за другой. Я не связываю их в определенном потоке жизни, для меня такой поток неприемлем. Моя любовь выделяет их и превращает их одну за другой в идолов».27 Поклонение реальности: жизнь теряется в прагматике. Отсюда необходимость догнать ее, погрузиться в нее. Отсюда глубокий интеллектуальный пессимизм, глубокое мистическое чувство. Джено Пампалони в рецензии на сборник эссе «Еретический эмпиризм» так описывает этот пессимизм и его религиозную подоплеку: Утратив идеологическую и нравственную определенность марксизма с его понятием о гегемонии пролетариата, Пазолини все чаще обращается в поисках идеала к плюралистическому миру, непосредственному, свободному от любой искусственности. Все его интересы сконцентрированы вокруг общих проблем политики. Он ищет теперь не порядок, а смысл жизни. И в этом религиозном пространстве он находит самые правдивые ответы на свои вопросы. Как никто другой в наше время, Пазолини смог передать тревогу, растерянность, упадок эпохи, которая, умирая, рассеянно отодвигает в сторону те самые муки, 474 ненависть и сожаления, которые придавали ей особый драматизм. С этих страниц, часто переполненных раздражением, нетерпением, яростью, изобилующих формулами, теоретическими тонкостями, на нас обрушивается ощущение близкой катастрофы, распада, на нас смотрит разум, побежденный чувством сострадания.28 Религия, особое отношение к реальности. В этом и заключается мысль Пазолини, в этом его особое внимание к идее сострадания. Но в этом религиозном мироощущении появлялись прозрачные тени прошлого: прежде всего, Д’Аннунцио, потом поэты-романтики, влюбленные в варварские цивилизации минувших эпох. Где-то совсем рядом и идеи, которые вдохновили Флобера на написание «Саламбо». Наглядный пауперизм «Евангелия» мог уже позволить предположить, что существует некий Пазолини, заблудившийся в дебрях мифа или в прошлом, которое существует по ту сторону истории. Его новые трагедии, образы, рожденные его фантазией, подтверждают подобное предположение. Несмотря на это, заклиная психологические и нравственные архетипы, Пазолини обнаруживает полузабытое собственное «я», претерпевающее мучения и страдания с ранней юности. Отношения с отцом. Тоска по его смутному образу: Пьер Паоло открывает сакральность отношений, которые он в течение многих лет пытался ненавидеть. Это и является главным мотивом «Аффабулационе» – возможно, самого пронзительного драматического произведения Пазолини. Говорят, что болезни тела являются видимыми проявлениями невидимых болезней души. Язва Пазолини, вероятно, была вызвана застарелой сердечной болью, длин475 ными периодами вынужденного молчания, изредка прерываемыми взрывами смеха, поэтическими и прозаическими произведениями, фильмами; несомненно, свой вклад в развитие болезни внес и болезненный опыт жизни в семье: любовь к Сюзанне, смерть Гвидо, разрыв с Карлом Альбертом. Этот разрыв надолго завладел его мыслями, он постоянно пытался проследить все движения своей души и своего разума, анализу подвергались даже едва заметные устремления. Итак, он заболел, потом долго поправлялся. Во время долгого пребывания в постели этот его внутренний анализ приобрел особенно острые формы, заставил его почувствовать себя зрелым, постаревшим прежде времени. Грозный образ отца, образ символический – если можно так сказать – приобрел четкие очертания. Поэтому неудивительно, что главным героем «Аффабулационе» стал отец – в «Пиладе» главного героя мучит тоска по отцу, которая представляет собой основу общественной жизни. В «Аффабулационе» отец находится в постоянном соперничестве с сыном. Он в отчаянии, поскольку не видит другой возможности разрешения этого конфликта, кроме убийства. Хронос пожирает свое потомство. Пазолини, перенося сюжет мифа в современность, не случайно избирает образ Хроноса. Итак, я, вместо того чтобы желать смерти своего сына, хотел, чтобы убили меня!! Не кажется ли это странным? А он, вместо того чтобы стремиться убить меня 476 – или позволить меня убить спокойно и намеренно, как все его послушные сверстники, – не хотел ни убить меня, ни позволить, чтобы его убили!!! ⟨…⟩ Ему было наплевать на меня, на все смерти, и древние, и новые, которые связывают отца и сына… Поэтому он освободился от всего… Но миф о Хроносе в воображении Пазолини был связан и с потоком других образов. Пазолини видел, как дети предместий, охваченные эйфорией неокапиталистического бума, стремятся «освободиться от всего», как чувство свободы в них превращается в безразличие, как они отвергают мифы, на которых основана и психология, и история. Отчаяние Хроноса отражает в полной мере радикальный пессимизм автора нового мифа. Какие надежды мог он питать? Если это и было будущее, то предвидеть его было совершенно невозможно. ⟨…⟩ Непредвиденное будущее, которое вложило оружие мне в руку, было именно таким, оно принадлежало десятилетию, в котором мы живем. Оно заставило отступить прошлое, оно преждевременно завладело людьми. Люди переживают его бессознательно, они ощущают его как гибель старых ценностей и рождение новых. Это их унижает, заставляет их переживать детские обиды. И именно это сделало меня убийцей этого моего сына, потерявшего волю, анахронично невинного (если только не считать его невинность анахронично новой).29 477 В кино воплощением этих идей стал фильм «Эдип-царь» (1967). Это фильм, наполненный каким-то варварским духом, заключенный в особую рамку паданских пейзажей. Пастельные краски мягкого пейзажа Ломбардии, каким он был сразу после войны, каким он во многом оставался. В центре события, которые предшествуют истории и из которых, как из некой почки, постепенно разовьется мучительное и болезненное предчувствие. «Эдип-царь» и вторая часть диптиха, трагедия матери, «Медея», составляют настоящий цикл «Саламбо» Пазолини, напоминая роман Флобера изяществом стиля, игрой аллюзий, роскошными драпировками формы. Но рядом со всем этим живет и идея, которую Пазолини подсказал Юнг (или Ницше?), согласно которой в архетипических символах содержится, как в зародыше, вся история человечества. Когда Пазолини писал о своем фильме, он рассуждал об «эстетизме» и «юморизме»*, в его словах была ироническая уступка. Даже если идеи Фрейда присутствуют и, кажется, «побеждают Маркса», они включены в фильм так, «как их мог вставить туда дилетант». Но уступка эта скорее происходит от движения души, а не в самой душе, которая скрывает самые жестокие чувства. Почему Эдип? Пьер Паоло заявлял, что теперь, когда ему уже исполнилось сорок пять лет, он, наконец, освободился и от Фрейда, и от Маркса. Он признает, что он просто буржуазный интеллектуал, со всеми присущими ему двойственными идеями и недомолвками. Поэтому, по его словам, «Эдип-царь» посвящен проблемам, от которых он уже далек. * Творческий метод, придуманный итальянским писателем и драматургом Л. Пиранделло. «Юморизм» – по Пиранделло, «гротесковый», превращающий жизнь в трагикомический спектакль, в котором каждый герой носит маску, а автор заставляет героя «сбросить эту маску, показать свое истинное лицо». 478 Может быть, он вдохновился трагедией Софокла, чтобы объяснить самому себе, что такое насилие над матерью? «Я никогда не думал о том, чтобы заняться любовью с матерью. Мне такое и в голову не приходило». Это совсем другой случай. О нем говорят несколько строк, которые звучат как исповедь, исповедь невольная и бесполезная: «Я скорее мечтал заняться любовью с отцом (возле комода в бедной комнате, которую делили мы с братьями) или, может быть, с братом, а иногда со статуями».30 Для самого Пазолини это объяснение – отчаянное – того факта, что в его существе необходимо присутствует некое сакральное начало, связывающее его с его историческими корнями, через отца – с семьей. Было бы совершенно недопустимым требовать от него большей ясности или большей откровенности. «Эдип-царь» был представлен на XXVIII Международном фестивале киноискусства в Венеции. Франко Читти в главной роли был малоубедителен. Несомненно, удачной была Иокаста в исполнении Сильваны Мангано: образ царицы в ожерелье из грубо обработанных темных топазов производит большое впечатление; еще большее впечатление произвел марокканский пейзаж, который режиссер выбрал для показа Древних Фив и окружающих их гор. Гвидо Пьовене написал о фильме, защищая его эстетизм и подражание Д’Аннунцио: «Сегодня существуют грехи гораздо более тяжкие, чем подражание Д’Аннунцио; Д’Аннунцио – поэт гораздо более великий, чем большинство идолов, которых превозносит сегодня критика и толпа. То же можно сказать и об эстетизме: конечно, у Пазолини очень много стилистического самолюбования. Тем лучше для него…» Критическая прозорливость Пьовене смогла постичь глубины замысла режиссера: «Конечная цель ки479 ноисследования, смысл слепоты Эдипа, о котором Пазолини уже упоминал в других своих произведениях, в том, что физическая боль человека не случайна, она не связана с той или иной исторической причиной или явлением. Она экзистенциальна, фатально неизбежна, связана с кровью и судьбой, она не исторична, а метаисторична. Ее вызывают те же причины, что порождают на свет великие трагические мифы».31 Америка, Америка «Мазерати 3500 GT». Пазолини купил эту машину с рук летом 1966 года. Несколько дней он прожил с Сюзанной в Карнии, в местечке Пьяно д’Арта, где она проводила лето. Можно было бы упрекнуть его за детскую слабость к машинам большой мощности. Пьер Паоло почувствовал вкус к дорогой одежде, он полюбил молодежную моду того времени: шерстяной пуловер безумного цвета, кожаные брюки, хромовые куртки, низкие сапожки. В семидесятые годы он начал красить волосы. Он иронично относился к своему новому облику, он говорил, что это его эротический долг, единственный легкомысленный жест, который он себе позволяет. К этому облику, как непременная составляющая, удачно подходила «Мазерати». Он много путешествовал: в Чехословакию, в Венгрию, в Румынию, в США. В демократических республиках Восточной Европы Пазолини убедился, что марксизм устарел и обречен на гибель. В Чехословакии, в Венгрии, в Румынии он встречался с представителями интеллигенции: 480 Благодаря им, через их беспокойство, неловкость, неустроенность я смог ощутить беспокойство, неловкость и неустроенность этих стран. Я думаю, что причину этого состояния можно обозначить, хоть и весьма схематично и общими словами, как то, что «революция не продолжилась», то есть государство не децентрализовалось, не исчезло, рабочие на фабриках и заводах не стали настоящими хозяевами, несущими ответственность за принимаемые ими политические решения, они зависимы – кто же этого не знает? (а знать, значит, допускать) – от бюрократии, которая только называет себя революционной. 32 В октябре 1966 года он впервые посетил США. Он пробыл в Нью-Йорке недолго, но его потрясла атмосфера, которой дышала эта страна. В Америке, хотя я был там очень недолго, я провел много часов в атмосфере подполья, борьбы, когда особенно ощущается необходимость революции, надежды, которая была так свойственна Европе в 1944 и 45 годах. В Европе все закончилось, в Америке (по крайней мере, складывается такое впечатление) все еще только начинается. Я не хочу сказать, что в Америке идет гражданская война, наверное, там нет ничего подобного. Я не собираюсь пророчествовать, но там живешь как будто накануне великих событий.33 Нью-Йорк привел его в состояние лихорадочного возбуждения. В интервью он радостно повторял: «Мне бы хотелось снова стать восемнадцатилетним, чтобы прожить тут еще одну жизнь».34 Но, даже испытывая это радостное возбуждение, он не теряет критического подхода к действительности: 481 Все, что я видел – вернее, я думаю, что видел, – в НьюЙорке, кажется еще более рельефным на мрачном фоне – для нас непостижимом, по крайней мере потому, что для нас он недопустим – этот фон составляет повседневная американская жизнь, жизнь очень консервативная, протекающая в полной тишине, которая поглощает все «крики» левых.35 Если в Америке и есть «левая оппозиция, самая прекрасная из всех, которые можно себе представить», левая оппозиция коммунистическая, но проникнутая «мистическим духом демократии», то, конечно, она борется против истеблишмента, прочного, как гранит. Но именно эта борьба, вызванная «недовольством», «экзальтацией», и казалась такой привлекательной для Пьера Паоло. Именно она убедила его, что революционный миф еще жив. Две-три фотографии Пьера Паоло в Нью-Йорке, снятые на Таймс Сквер, на Бродвее. Он был в Нью-Йорке на кинофестивале: он привез туда «Птиц больших и малых».36 Ньюйоркский фестиваль был организован Ричардом Роудом как альтернатива Лондонскому. Он стал своеобразным резонаторным ящиком новой кинематографии, которую уже представляли на фестивале в Пезаро. Конечно, Пьер Паоло не мог пропустить такое событие: для него это означало выход его фильмов на экраны мира. На фотографиях он в легком плаще, в бежевых вельветовых джинсах, в бежевых туфлях «Кларк»; рубашка в светлую клетку, свободно повязанный галстук. Бодрящий ветер Нью-Йорка взъерошил ему волосы. Лицо решительное, худощавое. Он старался не принимать участия в светских мероприятиях; по ночам он бродил по Гарлему, пускался во всевозможные авантюры, смеялся, если его пытались предостеречь. Он бродил по Гринвич Виледж, по Бруклину. 482 Однажды ночью, в Гарлеме, я пожал руки (они, правда, сделали это с опаской, потому что я – белый) молодым людям, у которых на свитерах была эмблема, изображающая пантеру: это символ экстремистского движения, которое готовится к настоящей вооруженной борьбе. ⟨…⟩ Я пошел с одним молодым чернокожим профсоюзным активистом, который привел меня на заседание своей секции, маленькой группы, которая насчитывает всего несколько сотен членов в Гарлеме. Они борются против безработицы среди чернокожего населения. Я ходил с ним домой к одному его товарищу, каменщику, который получил производственную травму. Он принял нас, лежа в убогой кровати. На его губах была дружеская, заговорщицкая улыбка, увидев которую, я сразу вспомнил нашу партизанскую дружбу. Я побывал в «буржуазной» квартире в самой благополучной части Виледж, я слышал там истерический смех и почти безумные злобные выкрики интеллектуалки, которая вышла замуж за негра. Она проклинала старых американских коммунистов и левых, продавшихся за наркотики.37 Здесь он, конечно, рассказывает только малую часть своих приключений. Обаяние города, его необычная красота. Пьер Паоло был охвачен безумной эротической эйфорией. И вместе с этим, поскольку именно так он познавал мир, его захватил жар американского протеста всех против всего, он открыл для себя дух демократии, которой не было в Италии. Восторженность не помешала ему тщательно изучать феномен под названием «Америка». В Италии битники, американский консумизм вызывали «простое любопытство», иногда «иронию». Пазолини в ответ на это написал, что «в американских городах кто-то пьет, кто-то балуется наркотиками, кто-то отказывается работать. Но все это составляет нечто большее, чем простые старые проявления анархии. Это настоящая трагедия»38. 483 Сам Нью-Йорк с его окраинами, с расовой проблемой и бесчисленными человеческими судьбами, которые он в себя вобрал, становится Третьим миром; «двух-трех поколений оказалось недостаточно, чтобы полностью преобразить психологию огромных масс иммигрантов».39 Пазолини не отказался от своих собственных методов интерпретации общественной жизни. Он понял, насколько «страх “потерять настоящее” и снобизм новоявленных граждан мешают американцу – который представляет собой странную смесь люмпен-пролетариата и буржуазии, откровенно и полностью приверженной буржуазному лоялизму, – задуматься о том, что же он из себя представляет. Отсюда и фальшь, и двойственность его идей». И все же внутри этого социального слоя, в ситуации совершенно новой, почти неслыханной для марксизма ⟨…⟩, в мирных демонстрацияx, лишенных разрушительной силы, полностью подчиненных интеллектуальному духу ⟨…⟩ брезжит классовое сознание. Это само по себе удивительно, по крайней мере, меня это поразило и заставило влюбиться в Америку. Это мир, в котором люди объединились, придя в него путями, на наш взгляд, ошибочными, но на самом деле – поскольку исторически они именно то, что они есть, – абсолютно правильными, поскольку эти пути помогают человеку осмыслить себя в качестве простого гражданина (может быть, как сознавали себя греки или римляне?), обладающего честным и глубоким пониманием демократии.40 Во что же влюбился Пьер Паоло в Соединенных Штатах? Он приехал туда с убеждением – может быть, неправильным, но вполне искренним – что там он найдет новую концепцию демократии, что он сможет разделить «крестную муку негров» и всех тех, кто оказался на задворках жиз484 ни. Он влюбился в борьбу за гражданские права и за права человека; он уже участвовал в этой борьбе, создавая «Прах Грамши», а теперь видел, как в ней участвует целая страна. То, что он наблюдал в Америке, не было «революцией» – может быть, это было прелюдией к «гражданской войне». И все же американская «новизна» была проникнута символами, имеющими для него особую жизненную силу, символами поэтическими. «Я с добрых старых времен общения с Мачадо не читал ничего никому как брату, а тут я вспомнил это чувство, общаясь с Гинсбергом. А разве не вызвало иронию и неодобрение итальянских дураков-журналистов удивительное путешествие пьяного Керуака по Италии?»41 В интеллектуальном сознании Пазолини терялись драгоценные декадентские идеи – радость существования, радость от созерцания себя самого; для него не имело значения, что Керуак, посетивший Италию осенью 1966 года по приглашению издательства, которое организовало для него поездку по стране, был мало понятен сам себе, одурманенный алкоголем, что с его языка срывались слова, очень далекие от его поэтического творчества. Пьер Паоло часто принимал за творческую жизненную силу физиологические отклонения от нормы. В том одиночестве, на которое он был обречен, ему этого было достаточно и представлялось естественным. Он все больше убеждался, что поэт, интеллектуал должен презирать буржуазные жизненные ценности, его восхищало все, что выходило за рамки обыденности, казалось свободным от каких-либо условностей. Он хотел бы бродить по улицам в состоянии почти физического экстаза, оглушенным внезапным взрывом жизненных сил, не сознавая реальности, полностью отдавшись на волю случая. Путешествие в Нью-Йорк заставило его говорить от имени вечной юности, вызвало изменение почти на клеточном уровне. 485 Пройдя долгий путь болезни и выздоровления, благодаря этому обновлению Пьер Паоло снова обрел желание жить. Но он открыл для себя и новый смысл, смысл философский: он открывал спонтанеизм*. Несмотря на то что в глубине души он ощущал себя глубоко «буржуазным», чувствовал, что он один должен бороться со всеми, он открывал для себя всеразрушающее проклятие нравственного анархизма. Кроме того, отказавшись почти полностью от литературного творчества – он не хотел, чтобы его продолжали называть «разрушителем стиля», – он страстно желал обрести высшую, «священную» целостность. В так и не появившемся в печати интервью в стихах в 1966 году, которое он дал воображаемому нью-йоркскому журналисту, он дает такое объяснение: ⟨…⟩ я бы хотел просто жить и все же оставаться поэтом, потому что жизнь выражается только в себе самой. Я бы хотел выразить свои идеи на примерах. Я бы хотел броситься в борьбу. Но если все действия, которые мы совершаем в жизни, экспрессивны, то и экспрессия – действие. Это не моя попытка самовыражения как отвергнутого поэта, который просто что-то говорит и использует язык как примитивный инструмент, это экспрессия, оторванная от вещественного мира, это знаки, ставшие музыкой, это мрачная поэзия, превратившаяся в песню, она не выражает ничего, кроме себя самой, * Политическая или общественная деятельность, не вписывающаяся в рамки существующих бюрократических структур. 486 согласно варварской и утонченной мысли о том, что она лишь таинственный звук знаков языка. Я оставляю моим сверстникам и тем, кто моложе меня, эту варварскую и изысканную мысль: я говорю с тобой прямо и грубо. И поскольку я не могу вернуться назад и притвориться юным варваром, который считает свой язык единственным в мире, а на его устах чувствуется таинственная музыка, которую только его земляки, схожие с ним в его характерном безумстве, могут услышать – если я буду поэтом, то буду поэтом вещей. А действия нашей жизни будут единственной темой поэзии, они сами будут поэзией, поскольку, повторяю, нет иной поэзии, чем реальное действие (ты дрожишь, когда сталкиваешься с ней в стихах или на страницах прозы, когда изображение совершенно). Я не буду делать это с радостью. Я всегда буду сожалеть о поэзии, которая сама по себе действие, поскольку абстрагируется от вещей в своем музыкальном звучании, которое ничего не выражает, кроме ее собственной жгучей страсти к себе самой. И все же, я скажу тебе откровенно, прежде чем мы расстанемся, что я бы хотел писать музыку, хотел бы жить среди музыкальных инструментов в той башне в Витербо, которую никак не могу купить, наслаждаться самым прекрасным в мире пейзажем; Ариосто сошел бы с ума, если бы увидел, что его воссоздали со всей невинностью дубов, холмами, ручьями и полянами. Я сочинял бы там музыку, единственное выразительное действие, возвышенное и неопределимое, как все действия реального мира. 487 Итак, либо музыка, либо действие – «броситься в борьбу». Он полностью утратил веру в посреднические способности литературы. Кажется, что Пазолини с головой погрузился в язык кино, вернее, он поглощен идеей, что он создал особый язык кино. Он признается, что больше не питает «иллюзий»: реальность, это высшее благо, невозможно выразить словами. Поэзия – это воплощение действия; чтобы это утверждать, нужно не бояться естественности и «натурализма». Я имею дерзость сказать: «Если, используя язык кино, я хочу показать образ грузчика, я беру настоящего грузчика и показываю его, его тело, его голос». Моравиа тогда засмеялся: «Тогда получается натуралистическое кино, именно натуралистическое! Но кино – это образ. Только показывая немого грузчика (главное, показать его хорошо), ты можешь избавиться от натурализма в кино». «Вовсе нет, – сказал я, – кино “семиотически” представляет собой сплав аудиовизуальных средств. И тогда надо показывать грузчика во плоти и со свойственным ему голосом». «Ха-ха! Неореализм!» – смеется Моравиа. «Да, я, снимая кино – не какой-нибудь один мой фильм, – снимая кино, если собираюсь показать грузчика, я беру настоящего грузчика, с его лицом, его плотью и с языком, на котором он говорит, – я беру все, целиком». «Ах, нет, ты ошибаешься, – это Бернардо Бертолуччи вступил в разговор, – зачем нужно заставлять грузчика говорить именно то, что он привык говорить? Нужно взять его губы, но с них должны слетать слова, исполненные философского смысла (как обычно делает Годар, естественно)».42 Этот разговор передан с абсолютной точностью, подобные дискуссии продолжались; Моравиа посмеивался, Пьер Паоло поучал, Бернардо Бертолуччи, очарованный Годаром, высказывал неоромантические мечтательные идеи. 488 Но Пьер Паоло, проводя эти тончайшие различия, спасал себя от возможной гибели в пучинах бесплодного иррационализма. Кино, «этот письменный язык реальности», предлагал Пазолини теорему, священную медитацию, подводил его к выводу о том, что реальность является одновременно и самой собой, и своим собственным отражением. Получается, что невозможно описать реальность саму по себе, если не предполагать в ней постоянного присутствия божественного начала или эпизодического появления в ней божества. Кажется, что этот вывод напрямую связан с основными темами европейского декаданса. Пазолини искал – в то время он уже далеко отошел от идей марксизма пятидесятых годов – не новую область, в которой он мог бы выразить свои идеи и чувства (он уже нашел ее для себя в кино), но новую, неожиданную истину, правду о себе самом. Посещение Соединенных Штатов его восхитило. Для него идея «броситься в борьбу» могла в ближайшем будущем обрести вполне реальную форму. Сейчас же он ощущал острую необходимость придать сакральный смысл собственному существованию, собственному познавательному опыту. И все его исторические догадки, все социологические прогнозы относительно американской жизни, хотя они и очевидны и исполнены огромного значения, перед лицом этой необходимости полностью стираются, выпадают из поля зрения. «Теорема» Книга, фильм. Идея эта была подробно освещена в интервью в стихах 1966 года. Действие фильма должно было происходить в Нью-Йорке, столице западного мира, буржуазного мира. 489 Это была идея о том, что Бог посетил этот мир, что это посещение коснулось всех, повлияло на судьбы всех людей. Это и была идея теоремы. Фильм «Теорема» был снят в Милане, «в самом европейском городе Италии», в котором у буржуазии самое яркое, самое современное лицо. Буржуазия сменила свои идеалы, она больше не хочет обладать и накапливать, она хочет производить и потреблять. И в этом наиболее полно проявляется вся нереальность ее существования: «ужасные условности, ужасные принципы, ужасные обязанности, ужасная демократия, ужасный фашизм, ужасная реальность, ужасная улыбка».43 Так Пьер Паоло изображал буржуазию. Он полагал, что из этого ужаса может родиться чудо, что теорема может реализоваться. Чудо может развеять весь этот ужас? Фильм заканчивается воплем – воплем, исполненным одновременно и чувства освобождения, и ужаса. Настоящее чудо заключается в том, что Бог появляется, и больше ничего, это все. Бог появляется в одеждах загадочного и прекрасного юноши, он покоряет целую семью: отца-промышленника, мать, двоих детей, служанку Эмилию, – а потом исчезает. Его исчезновение кардинально меняет всех: отец дарит фабрику рабочим и раздевается догола на путях Центрального вокзала Милана; служанка, воплощение абсолютной чистоты и божественности, как святая возносится на небо, из ее могилы начинает бить источник святой воды. Итак, фильм был снят весной 1968 года. Пазолини со своей камерой вернулся к размытому свету ломбардского пейзажа. Если можно так сказать, поверхность этого фильма совершенно гладкая, в ней нет ни трещинки (трещины подчеркивали силу и напор «римских» фильмов Пазолини). 490 Книга была опубликована той же весной, еще до выхода фильма на экраны. В предисловии Пазолини написал: Книга «Теорема» родилась на золотом фоне, я написал ее правой рукой, а левой в это время я создавал огромную фреску (одноименный фильм). Я, откровенно говоря, не знаю, какой из двух «Теорем» отдать предпочтение, книге или фильму. По правде говоря, «Теорема» была задумана как отрывок в стихах примерно три года назад. Потом она превратилась в фильм, в рассказ, по которому фильм снят, а уж потом фильм внес изменения в рассказ.44 Религиозная живопись, «золотой фон» – выразительная строгость связана с нарочито бедным синтаксисом и лексикой. Настоящее время делает повествование единообразным, максимально приближая его к тексту, созданному для кино, оно изобилует обобщениями и примитивными эллипсисами, которыми обычно пестрят киносценарии. Но писатель владеет искусством маньеризма и умело его использует. Эти обобщения, эти эллипсисы в его руках становятся отличительными чертами примитивизма, они как бы принадлежат художнику, который использует «золотой фон» с почтением, священнодействуя. Однако это почтение, если хорошенько поразмыслить, нужно взять в кавычки: слишком уж богат культурный опыт Пазолини. Его чувство одновременно и врожденное, и благоприобретенное. Это обретение, или, вернее, возвращение чувств, если вспомнить о девственной ауре «Стихов в Казарсе». Чезаре Гарбольи в своей статье о «Теореме» вспомнил о сказках Оскара Уайльда.45 «Золотой фон» Пазолини превращается в возрождение прерафаэлитского вкуса: это возвышенный сон невинности, для которой эрос становится божественным. 491 «Теорема» была воспринята критиками, за исключением разве только Гарбольи, как treatment *, и ничто иное. Просто набросок плана бывшего прозаика, теперь упорно следящего за глазом кинообъектива, но не желающего просто уйти из литературы. Хорошо, о философском недоверии Пазолини к литературе мы уже упоминали. «Теорема» рождается из этого недоверия, но в то же время она является и его поэтическим воплощением, она не может быть отторгнута от него. Это были годы, когда в литературном творчестве господствовала идея антиромана, антипрозы. Фигуральные, кинематографические выводы «Теоремы» одновременно и подтверждали эти идеи, и опровергали их. Пазолини решил выставить «Теорему» на соискание премии «Стрега», так же как раньше предложил номинировать «Шпану» и «Жестокую жизнь». Он решился на это, наслаждаясь возможностью бросить вызов. Он испытывал огромное удовольствие, воспользовавшись этой возможностью. Пьер Паоло был уже достаточно далек от литературных кругов. Иногда он обрушивал на литераторов едкую и энергичную критику. «Мир культуры, в котором я живу из-за моего призвания, с каждым днем становится все более чуждым миру и обществу. Это место, где царят глупость, подлость и низость. ⟨…⟩ Можно сказать, что я оказался в полном одиночестве, мне остается только засыхать потихоньку вместе с моим полным отвращением к рассуждениям о долге или об отсутствии долга»46. Все это происходило весной рокового 1968 года. Литературные премии уже имели много противников, выступления против них начались два года назад. Против выступали и некоторые издатели, которые сами их присуж* Treatment (англ.) – (здесь) предварительная версия киносценария. 492 дали, однако считали присуждение премий частью политики, а не литературы. Число участников жюри по присуждению премии «Стрега» возросло, премия утратила свое изначальное почти семейное значение. Во всем царил дух противоречия. Самые безобидные темы вызывали шквал протеста. При таком положении вещей при присуждении премии «Стрега», конечно, влияние индустрии культуры не могло значить больше, чем какоелибо другое. Но в ту весну «дух противоречия» смешался с «молодежным духом». Именно этой весной многие, наконец, получили возможность выплеснуть все желания и стремления, которые годами подавлялись и искоренялись. Пазолини никогда не пытался подавлять и искоренять свои чувства по отношению к литературному процессу, поэтому у него не было потребности высказаться по этому поводу, его «вызов» состоял совсем в другом. Первое голосование по присуждению премии состоялось 18 июня, как обычно, в доме Беллончи на улице Фрателли Русполи, в Риме. Прошел слух, что студенты университета хотят устроить марш протеста против собравшихся для присуждения премии писателей, чтобы осмеять впавшую в маразм литературу. Никакого марша не было. По итогам голосования первое место занял роман Альберто Бевилаква «Кошачий глаз», на втором месте была «Теорема». Пазолини решил снять свой роман с участия в конкурсе. Вместе с ним такое решение приняли Антонио Баролини, Чезаре Дзаваттини и Джулио Каттанео. Собрания, сходки, телефонные переговоры. Это были горячие деньки в маленьком мире римской литературы. Создание союзов и коалиций. Мария Беллончи хотела хоть 493 как-нибудь склеить разрушившееся сообщество. Но все было напрасно. В чем же была причина? Все отмечали, что сторонники романа Бевилаква подошли к голосованию отнюдь не непредвзято, что они заранее пытались собрать голоса. Пазолини тоже написал друзьям несколько писем, в которых просил их поддержать его своими голосами. Однако это всегда было частью обсуждений и присуждений премии «Стрега». Настоящая причина была в выразительной ценности «Кошачьего глаза», автору которого нельзя было отказать в таланте и умении, однако в этом романе ему явно не хватало поэтической определенности. «Кошачий глаз» можно было считать образцом того упадка в литературе вообще и в прозе в частности, которому способствовали некоторые издатели, запуская большие тиражи, не считаясь с ценой и издержками. Тогда говорили: издатели делают свою игру, но это не значит, что жюри премии «Стрега» должно подыгрывать им. В этом и была основная причина вызова Пазолини. Пазолини, приняв участие в конкурсе, а затем выйдя из него, бросил вызов прежде всего той части итальянских критиков, которые восторженно приняли роман Бевилаква, не удосужившись его внимательно прочитать. И еще: причины этого вызова были совсем не случайны. Объяснение надо было искать во вполне недвусмысленном замечании Пазолини, высказанном им двумя годами раньше в эссе «Конец авангарда»: То, что – в определенном смысле по необходимости – совершил авангард, для того чтобы переосмыслить и преобразовать литературные ценности, которые превращались в догму, в конце концов, естественно, привело к противо494 положным результатам (для меня это совершенно ничего не значит, я просто констатирую факт). Можно сказать, что бумажная бомба, которую авангард взорвал под стенами крепости литературных ценностей, образовала в этих стенах брешь, через которую на сам авангард хлынула толпа второстепенных писателей (Берто, Бевилаква, старый добрый Приско и им подобные). Вследствие этого итальянская литература уступила свои позиции и спустилась из Высшей лиги в группу Б. И это прекрасно, потому что это полностью соответствует действительности, и нужно быть признательными авангарду за то, что он восстановил истину и справедливость.47 Это рассуждения в высшей степени ироничные, и, продолжая эту иронию, можно сказать, что Пазолини взорвал свою бумажную бомбу в салоне, где обсуждалась премия «Стрега», чтобы снова заявить об истинном положении дел в литературе. Вечером 4 июля 1968 года в Нимфео, на Вилле Джулия, прошло последнее голосование. «Кошачий глаз» Альберто Бевилаква победил, набрав сто двадцать семь голосов; против было подано сто семнадцать. Некоторые из участников голосования в телевизионных опросах обрушили на Пазолини грубые оскорбления. Даже Пьеро Далламано за несколько дней до этого выступил с критикой: Будем откровенны: этот скандал вокруг премии «Стрега» разразился именно тогда, когда скандалы вообще в моде. Финалисты, которые уходят в тот самый момент, когда присуждение уже началось, и начинают громко разоблачать (хотя никаких имен так и не прозвучало) перед жюри и перед публикой недостойное поведение фаворита, который вот-вот победит. Бедняга Бевилаква!48 495 Пазолини никого не хотел приносить в жертву. У него, как всегда, возникло двойственное желание устроить «евангелический скандал», благодаря которому ситуация, даже самая пустяковая, могла привести к шокирующим разоблачениям. Полемика продолжалась еще некоторое время. Говорили, что Пазолини, из-за того, что долгое время отсутствовал на литературной сцене, вознамерился вернуться туда с шумом, «организовав всеобщий протест против официальных институтов». Но премия «Стрега» в его глазах вовсе не была никаким «институтом». Самое большее, она могла представлять для него «триумф ужасающего брачного союза между порядочным литератором и приличной дамой в светском салоне».49 Его обвиняли в неумении сдерживать свои чувства и эмоции. Ну, если премию присуждали за это, то зачем участвовать в подобном мероприятии? Обсуждаемая проблема принадлежала области этики и моральной ответственности. Но разве Пазолини обязан был соответствовать этим этическим требованиям? Фильм «Теорема» был показан на XXIX Международном фестивале в Венеции в сентябре 1968 года. В Венеции тоже царила атмосфера полемики и неприязни. Луиджи Кьярини, председатель жюри фестиваля, предложил Пазолини показать на нем свой фильм. «Сначала я решил послать фильм на фестиваль, потому что Кьярини пообещал мне, что на этом фестивале премии вручаться не будут, присутствие полиции будет сведено до минимума и вообще это будет учредительный съезд Союза кинематографистов. Ничего этого не было. Именно поэтому я и снял «“Теорему” с показа»50 – так ответил Пьер Паоло на приглашение. 496 Фильм был показан критикам утром 4 сентября. Перед показом Пазолини обратился к присутствующим с просьбой покинуть зал в знак протеста против действий председателя Кьярини, который, по сути, защищал статус кво фестиваля. Фестиваль проходил очень бурно, молодежь и деятели кино устраивали сидячие демонстрации, устроители фестиваля не пытались препятствовать вмешательству полиции и не могли ему помешать. Это вызывало новую бурю протеста. Как бы то ни было, критики не ушли с показа «Теоремы». Потом в саду отеля «Де Бен» на Лидо состоялась неожиданная и никем не организованная пресс-конференция. Пьера Паоло обвинили в том, что он «хочет усидеть на двух стульях»: он протестовал, но в то же время пытался не нарушать свои обязательства перед продюсером, он пытался остаться верным своим идеям, но не забывал и о кассовых сборах. Пазолини легко расправился со всеми этими обвинениями: он признал двойственность своих интересов и собственного характера. Он ответил, что важно было заставить всех признать, что Венецианский фестиваль – это соревнование продюсеров, а не авторов фильмов. В конце концов, благодаря умелому ведению полемики и убедительности доводов, он смог всех в этом убедить. «Теорема» обескураживала своим содержанием: эротика и религиозное чувство в фильме сливались воедино. Впервые совершенно обнаженное мужское тело, тело главного героя Теренса Стампа, появилось на экране в фильме, который был совсем не порнографическим. По этому поводу тоже вспыхнули жестокие споры: Пазолини обвинили в том, что он эпатирует публику, преследуя коммерческие цели. Политика и мораль вседозволенно497 сти – как это и было необходимо в то время – поменялись местами. Пазолини намеревался, показывая обнаженное тело, подчеркнуть сакральность наготы, показать ее во всей ее полной природе. Скандал, вызванный этой наготой, показал, насколько невыносимо зрелище подлинной природы само по себе. Для него тело было божественно, и все. Показ тела подобен ритуальному богоявлению, но именно это и приводит к трагедии. Эта психологическая трагедия вышла за рамки интеллектуальных кругов. 13 сентября 1968 года римская прокуратура вынесла решение, в котором фильм был признан непристойным и запрещен к показу. Фильм «Теорема» получил особый приз Международной католической организации в области кино (ОCIC), как и фильм «Евангелие от Матфея». Лаура Бетти получила кубок Вольпи* за лучшую женскую роль. Несмотря на признание со стороны международной католической организации, «Оссерваторе Романо»** 13 сентября 1968 года писал: Потрясающая метафора, с помощью которой автор намеревался представить столкновение с реальностью, которая должна была стать символом трансцендентальности, изначально сводится на нет фрейдистским и марксистским мировоззрением. ⟨…⟩ Таинственный гость – это вовсе не образ существа, которое освобождает человека от его экзистенциальных мучений, ограниченности и греховности, это почти демон. * Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – официальная награда Венецианского кинофестиваля. ** «Оссерваторе Романо» («L’Osservatore Romano») – ежедневная газета на итальянском языке, официальный орган Ватикана. 498 На судебном разбирательстве, которое происходило в Венеции в ноябре 1968 года, Пазолини защищался, пытаясь пояснить, где лежит граница между аутентичным и неаутентичным, которую он пытался провести в фильме. Он объяснил, в чем заключается вмешательство божественного в повседневную жизнь, философскую роль эроса в экзистенциальных кризисах. В результате судебного разбирательства было принято решение, согласно которому фильм был признан поэтическим произведением. Так получила ли доказательство Теорема Пазолини? Реальность божественно совпала с его видимостью? Я думаю, что здесь невозможно дать положительный ответ на эти вопросы. Может быть, Пазолини хотел подчеркнуть только одно: он показал, насколько его кино было явлением «огромного сексуального фетишизма». Его «навязчивая, детская, прагматическая любовь к реальности» осталась внутри самой себя, она обнажила тело Теренса Стампа и показала, что это тело – священно. Выйдя за пределы идеологических рамок, Пазолини в своем ощущении священного постоянно возвращался к автобиографическим моментам. Неожиданное появление молодого незнакомца в буржуазной семье символизировало его собственные желания, его зависть к подобной судьбе. Он хотел, чтобы это просто был он сам – таинственный посланник, небесный эрос, потерявшийся и обиженный вульгарной агрессивностью affluent society*. Но дальше этого намека сюжет фильма не идет. Теорема так и остается недоказанной. * Аffluent society (англ.) – богатое общество, общество изобилия. 499 ОТРЕЧЕНИЕ И УТОПИЯ Шестьдесят восьмой год По Европе катилась странная колымага, под колесами которой взрывались петарды, то и дело попадавшиеся у нее на пути. За ней взвивались облака слезоточивого газа. Выстраивались ряды полицейских со щитами и дубинками. Старые баррикады, фантастические одежды. Древним ветром восстаний и волнений повеяло в Турине, в Риме, в Берлине, в Париже, где студенты кричали: «Вся власть воображению!» Восстание само по себе должно было быть зрелищем, оно должно было превратиться в некое действо, в способ показать себя. Действо отделялось от действия, постоянно ссылалось само на себя. Эпидемия метаязыка достигла в университетских святилищах такого размаха, что полностью поглотила элементарные политические требования. Во всем этом, несомненно, присутствовала истина, но отсутствовал разум: всех охватило лихорадочное желание перемен, а истина исчезла в облаках слезоточивого газа. Ветер юности, который пронесся над Европой в шестьдесят восьмом году, казалось, принес с собой возможность возрождения. Вседозволенность стала символом этого времени. Не то чтобы миру не нужна была вседозволенность. Ему нужно было снова овладеть жизненными силами, возродиться. Фрейдизм предлагал человеку овладеть своим телом, а социальный индивид должен был овладеть собственной историей. Эту задачу, этот долг в обществе, которое стремилось поставить вне закона всякую традицию, клеймя ее как 500 мракобесие, необходимо оценить так, как они того заслуживают: как необходимые усилия для того, чтобы сохранить человека как вид. И во Франции, и в Германии, и в Италии шестьдесят восьмой год имел свои собственные отличительные черты. Общество вседозволенности, которое возникло как противоположность обществу потребления, решило отказаться от любой критики в собственный адрес, и это привело впоследствии к его полному упадку. Политические мотивы, вызванные стремлением консервативных сил взять реванш, смогли победить. Новый порыв, наконец, предстал в своем истинном обличье: детская болезнь, которая может оказаться очень опасной, если ее вовремя не лечить. В это время Италия подверглась наиболее серьезному риску. Но «итальянский вариант» – тогда только зарождавшийся – был очень сложным. Причинами возникновения студенческих волнений были: настоятельная необходимость участия нового поколения в жизни страны; ограничение власти, традиционно сосредоточенной в руках правящего класса. Это означало, в собственно политической области, что назрела необходимость радикальных реформ. Экономический бум, экономическое чудо шестидесятых годов показало, что страна слаба, не способна к переменам, что в экономике царит дисбаланс (противоречие между Севером и Югом – старая злокачественная опухоль, разъедающая экономику), который вызывает нравственные и социальные последствия (внутренняя миграция в немыслимых масштабах, обнищание сельскохозяйственного сектора). Веские основания политических разногласий были стерты, искажены отсутствием связи с культурой. Театрализация политических выступлений, то, как они вписались в возникшую поп-культуру – для которой гораздо 501 большее значение, чем идеи, имеют манифесты, мифологизация образа, – это разрушило все культурные проекты. Однако острая потребность в иной культуре оставалась. Но и эта потребность, как волна, которая разбивается о песок, постепенно затихла, растворилась в загадочных и аскетических словах Хо Ши Мина или, в еще большей степени, в прекрасном лице Че Гевары. Тогда появился новый романтизм. Казалось, что представители итальянской буржуазии, мелкой буржуазии в частности, думают только о том, чтобы создать новую фигуру, нового Санторре ди Сантароза в лице этого нового Христа с заросшими щетиной щеками. Фотография эта облетела весь мир, каждый воспринимал этот образ так, как хотел: никому не нужно было ничего знать о самом герое, важно было, что он мученик, что только у мучеников может быть такое выражение лица, такая борода. В Италии движение шестьдесят восьмого года родилось в стенах университетов: в Турине во дворце Фонтана*, в Риме на архитектурном факультете на аллее Джулиа. Его участники требовали, чтобы культура вообще была подвергнута испытанию современностью. Но это испытание стало концом неродившегося культурного обновления. Возродился политицизм, культура должна была «служить народу». Эта формула поначалу имела только эстетический смысл: эстетика, ориентированная на низы общества. Однако прошло немного времени, и она обрела вполне сталинистское значение. Итальянская мелкая буржуазия стала стремиться подавить собственные идеалы вседозволенности. В домах некоторых итальянских интеллектуалов стали появляться группки молодежи, которые сами себя называ* В Палаццо Нуово на площади Фонтана в Турине расположены гуманитарные факультеты Туринского университета. 502 ли «пташками»: они щебетали, опустошали холодильники, методично боролись с литературным языком, пачкали стены, срывали дурное настроение на собаках и кошках. В конце концов это их вторжение в дом, которое они называли «праздником», показывало свое истинное лицо – тупое, лишенное всякой выразительности лицо насилия. Ими двигал инстинкт, примитивная жажда разрушения. Они не испытывали никакого счастья, никакой радости. Ими владела ярость, потерявшая всякую выразительность. Откуда она взялась, эта ярость? Может быть, из преувеличенных потребностей и желаний, возникших скорее под влиянием идеологических причин, а не из собственно жизненных потребностей. Этой ярости, этим стремлениям противостоял общественный порядок, при котором все потребности, какими бы они ни были, становились неотъемлемой частью общества потребления. Не существовало никакого удовлетворительного ответа, адекватной реакции, они исчезали, не успев толком сформулироваться. Ярость эта возникала и из философии общества. Бесконтрольный рост городов, превращение университетов в нечто вроде мастерских по подготовке нового поколения интеллектуалов способствовало возникновению новых форм массификации. Эта массификация вела к кризису сознания и общества. Например, какое практическое применение могли найти себе тысячи новых интеллектуалов, обучающиеся на факультетах университета? Итальянское движение шестьдесят восьмого года с этой точки зрения не было похоже на подобные движения в других странах. Если для него и представляла особое значение антиинституционная тенденция и яростная критика авторитаризма в любых его проявлениях, то социальный вопрос, связанный с этими тенденциями, был другой, од503 нако его практически не заметили даже те, кто должен был бы им заинтересоваться. Политические партии, правительство, принявшие на себя административную (да и не только) ответственность, показали, что не способны разобраться в обстановке. Они говорили вообще об остром противоречии между отцами и детьми – периодически возникающем в обществе, – но не пытались понять его смысл, который содержал прямую угрозу обществу, поскольку оно могло породить глубокое чувство собственной неполноценности, ненужности. Это было движение, а не революция. Провести подобное различие необходимо. Но нужно также указать, что в этом движении присутствовал элемент «дикости», в которой остро нуждалась западная цивилизация. В политических партиях, в том числе и в партиях марксистского толка, которые должны были бы быть более чувствительны к тому, что в понятии «движение» скрыт косвенный риск (поскольку оно противопоставлено «революции»), стремление к свободе было воспринято как положительный фактор; при этом они как-то не обратили внимания на то, что анархическая эйфория часто прикрывает благородными жестами весьма мрачные намерения. Впоследствии эти намерения стали очевидными и позволили интерпретировать ленинизм таким образом, что полностью выхолостили из него изначальный смысл, сведя его к насилию и сомнительному эксперименту. Проект – решительный, малопонятный: разобраться в нем непросто, поскольку то, что видно на поверхности, кажется совсем не связанным с тем, что таится в глубине, – состоял в том, чтобы ослабить пролетариат и его партию, освоив их язык, использовав его идеологию. Коммунисты, как и все другие, молчали и соглашались. 504 Без сомнения, в 1968 году во время того, что получило название «года студентов», смятение в конце концов овладело всеми слоями общества. Я признаю, что и мы тоже оказались ему подвержены. Иначе говоря, нашей ошибкой было то, что мы дали этим молодежным волнениям исключительно позитивную оценку, не понимая, что рабочий класс остался в стороне от подобных явлений, в особенности когда они вызывали деградацию, приводили к нетерпимости, насилию и беспорядкам.1 Это слова Джорджо Амендола, которые он произнес десять лет спустя после этих событий, имея в виду проблемы, с которыми столкнулась тогда КПИ. Трагический конец «Пражской весны» был для коммунистов Запада ударом, сопоставимым разве что только с событиями осени 1956 года в Будапеште. Интересы Советского государства требовали уничтожить всякую надежду на так называемые «национальные пути к социализму». Реакцией западных коммунистических партий было оживление анархических настроений, стремление освободиться от советской опеки. Но одно дело – попытаться сделать это в Праге, другое – в Риме или в Париже. И, что касается Рима, нельзя забывать, что там преобладали мелкобуржуазные настроения. Мелкая буржуазия с ее вечными ценностями «вездесуща», как сказал Паоло Силос Лабини. Среди самой образованной части мелкой буржуазии часто встречаются те, кто чувствуют свою солидарность с рабочими не только по экономическим мотивам, но и в идейном смысле, в стремлении к прогрессу, к развитию общества. Таким образом, можно понять, почему существуют люди, готовые поддержать действия, которые могут принести ущерб их непосредственным экономическим интересам. 505 Выбор представителей мелкой буржуазии, которые посвятили себя политической жизни или работе в профсоюзах, может определяться идеальными причинами, но его может определять и более или менее осознанное соображение о том, что, встав на сторону рабочих, они могут превратиться в лидеров, в то время как оставаясь на стороне буржуазии, они не поднимутся выше унтер-офицеров. 2 Силос Лабини, кажется, пишет о том же самом поколении детей священников, унтер-офицеров, торговцев, обедневших дворян, крестьян, переселившихся в город, о которых писал Троцкий. Русские студенты более века назад в плотном идеологическом тумане произвели на свет теорию нигилистической революции, поскольку ими двигало необоримое желание изменить судьбу страны. Подобное социальное недовольство, требование перемен можно было смягчить только взвешенными политическими мерами. Правящий класс страны не проявил здесь дальновидности. Партии – Демохристианская, КПИ, социалисты – оказались расколотыми изнутри: ими овладело желание во что бы то ни стало соответствовать духу обновления, их захватил призыв молодежи, и вместе с тем они стремились ничего не менять. Вспыхнувшее движение отвечало давним желаниям левых, большая часть интеллектуальных кругов с радостью позволила вовлечь себя в это движение. В университетах жгли учебники, студенты читали собственные «курсы лекций» о войне во Вьетнаме. Казалось, умами завладела небывалая жажда деятельности. Волнения не прекращались. Возникло и явление, которое Альберто Ронки назвал «экспериментальной революцией»: это была революция «нового типа», она осуществлялась по «сценариям, которых ни Маркс, ни Грамши, ни 506 вообще кто бы то ни было не могли предвидеть». Ее отличительной чертой было раздробление. Как в промышленном производстве, различные операции дробятся. Как в экспериментальной литературе, время теряет однонаправленность. Как в кино и в изобразительном искусстве, появляются образы-осколки, из которых нужно воссоздать общую картину. Как в экспериментальной музыке, упраздняется всякая гармония. Фактически с 1968–69 гг. и в последующие годы наблюдалось постоянное разрушение, систематическое и постепенное, всякой политической и экономической власти, происходил отказ от принятия решений сверху относительно управления производством, школами, административным аппаратом, службами и средствами массовой информации, а законодательные органы принимали решения беспредметные и непонятные.3 Это «дробление» означало, что не существует никакой конечной цели, нет ничего, что могло бы объединить общество. Все движение шестьдесят восьмого года заглохло, подавленное излюбленным приемом мелкой буржуазии – призывом к корпоративной солидарности. Профсоюзные сражения осени 1969 года – они тоже были вызваны нездоровым положением в экономической и политической жизни страны – потерпели поражение изза отсутствия равновесия между частным потреблением и расходами на общественные нужды. Корпоративная солидарность, хотя и облачилась в рабочие одежды и выступила под красным знаменем, ставила под сомнение любую перспективу революционных изменений. Общественное мнение воспринимало «политику жертв»* как оскорбление. * Официальный призыв правящей Демохристианской партии пойти на ряд жертв в социальном плане ради оздоровления экономики. 507 Оскорблением она, в сущности, и являлась, особенно для тех, кто не мог спокойно смотреть на то, что богатые уклоняются от уплаты налогов, что происходит утечка капитала за границу. Возник вопрос: «А кто, собственно, заплатит за все жертвы?» Только законодательным путем можно было решить все эти болезненные вопросы. Но законодательные органы заняли выжидательную позицию, и в результате положение еще более обострилось. В декабре 1969 года произошло вооруженное столкновение возле Национального сельскохозяйственного банка, располагавшегося в Милане, на площади Фонтана. Это было началом долгого периода нестабильности в общественной жизни страны. 1968 год показал, несмотря на всю неоднозначность событий, что необходимо более активное и широкое привлечение масс к общественной жизни государства. Против этого требования выступили сначала крайне правые, а затем и левые экстремисты, деятельность которых в то время была запрещена законом. Их участие в последующих событиях еще не до конца изучено. Вооруженные столкновения, теракты, убийства и громкие политические скандалы – вот та дорогая цена, которой было оплачено рождение новой Италии. Пазолини вместе со всеми пережил этот период, он болезненно воспринимал все происходящее. Сначала он решил, что попробует примирить рациональное и иррациональное, сохранит за собой свободу противоречить самому себе. Он решил открыть всем, насколько его собственное «я» было противоречивым как в общественной, так и в личной жизни. Готовый к внутренним противоречиям, решительно настроенный противостоять любому предвзятому мнению 508 как в политике, так и в нравственности, он интуитивно постиг реакционный, регрессивный, мелкобуржуазный подтекст движения шестьдесят восьмого года. Буржуазия отвергла меня, когда я был почти ребенком, на пороге моей юности. Меня занесли в черный список, признали, что я не такой, как все. И я не могу это забыть. Во мне живо чувство обиды, я все еще переживаю это, переживаю весьма болезненно. Я думаю, что то же чувство испытывает негр из Гарлема, когда проходит по Пятой авеню. И совсем не случайно я, изгнанный из центральных кварталов, нашел поддержку и утешение на окраине.4 Он написал эти строчки, посвятив их шестьдесят восьмому году. Болезненное чувство позволило ему очень ясно увидеть, где прячутся нетерпимость и неприятие, которые любой представитель буржуазии, и мелкой буржуазии тоже, тщетно пытается скрыть в своей душе. Пазолини раньше многих других понял, что «студенческий май» в Италии был на самом деле чем-то вроде восстания буржуазии против самой себя. Дорогие студенты Прекрасное весеннее утро 1 марта 1968 года. Рим. Почти случайно начинается ожесточенное столкновение полиции и студентов университета на аллее Джулиа. Горят подожженные грузовики, взрываются дымовые шашки. Улицы и переулки, которые ведут к улице Антонио Грамши, где находится архитектурный факультет университета, оказываются эпицентром настоящего сражения. Эта новость мгновенно распространяется по городу, об этом говорят как о чем-то совершенно неслыханном, не имеющем аналогов в прошлом. И это действительно так. 509 Это мартовское утро по праву стало одной из легенд 1968 года. По горячим следам Пазолини написал стихи; он сам назвал их «плохими стихами», поскольку главной его целью было развязать полемику, выступить на злобу дня. Он подготовил их к публикации в «Нуови аргоменти». Этот журнал ценой неимоверных усилий пытался не отставать от событий: в первом выпуске 1968 года был опубликован комментарий к туринским событиям и к полемическим заметкам по вопросам культуры, опубликованным в «Тетрадях Пьяченцы». В следующем номере был дан анализ того, что произошло в Риме.5 Стихи Пазолини были опубликованы в журнале «Эспрессо» – не полностью (что вызвало бурный протест Пазолини), но и в выборочном виде они вызвали споры.6 Название этого памфлета в стихах было «Компартия – молодежи»7. Грустно. Критиковать КПИ нужно было в первой половине прошлого десятилетия. Вы опоздали, дети.* Проблема была не только в отношении, жестком и бескомпромиссном противостоянии молодежи и Коммунистической партии; Пазолини хотел обсудить политический и социальный смысл движения. Когда вчера в Валле Джулиа вы бились с полицейскими, я симпатизировал полицейским! Потому что полицейские – дети бедняков. Выходцы с периферии, сельской или городской. * Здесь и далее перевод К. Медведева. 510 Эти слова – декларативные и лишенные всякой поэтичности – были искрой, способной разжечь пожар. Левые всегда рассматривали полицию как силу подавления любого инакомыслия. Полиция всегда была облачена в мундир, а мундир стоял на страже власти. Пазолини, охваченный яростью, обнажил психологию, антропологию, историю. Полицейские, «дети бедняков», по его мнению, принадлежат к бесконечной галактике «проклятых Землей», о которой писал Франц Фанон. Именно эти полицейские, дети люмпен-пролетариев, изгнаны на задворки буржуазного общества, сосланы в полицию. И потом, смотрите на них, как они одеваются: будто клоуны, эта грубая одежда, пахнущая армейской пищей, ротной канцелярией и толпой. Хуже всего, естественно, то психологическое состояние, до которого они доведены (за сорок тысяч лир в месяц): никаких улыбок, никаких друзей во всем мире, отрезанные, исключенные (нет равного такому исключению); униженные потерей человеческих качеств ради свойств полицейских (быть ненавидимым значит ненавидеть). Им двадцать лет, столько же, сколько вам, милые мальчики и девочки. Против кого выступали студенты? «Папенькины сынки», вдохновленные идеей «священного хулиганства (благородная традиция Возрождения)», «богатые отлупили», «хотя и стояли за праведное дело», «бедных». 511 Это противоречие, подчеркнутое на страницах печатного органа, стало искрой, которая воспламенила порох. Все, начиная с Витторио Фоа и кончая Джоанной Аньоли, упрекали Пазолини в том, что он использовал аргументы, больше подходящие «фашистской и умеренной печати».8 В студенческой среде вспыхнули споры, не утихавшие несколько лет, и спокойная уверенность Пазолини, то, что он никогда не уклонялся от участия в спорах, заставило многих студентов поверить в те идеи, которые текст – его нельзя назвать поэзией, поскольку никогда не существовало ничего более далекого от поэзии – пытался до них донести. Убежденность Пазолини имела другое происхождение: она родилась из мысли, которая потихоньку привела его к сближению с неоавангардом. Неоавангард придал практическое значение его полемике, поскольку боролся с консервативным, устоявшимся литературным истеблишментом. Это тоже была борьба между разными поколениями. Пазолини уже ответил по этому поводу, что настоящий захват власти не осуществляется через редакции и издательства, не происходит в университетских аудиториях. Его можно осуществить в истории, в нравственном содержании литературы, в развитии выразительных форм. На этот раз Пазолини перенес свое внимание и на политику. Он обратился к студентам с призывом: Прекратите думать о своих правах, прекратите добиваться власти. Освобожденный буржуа должен отказаться от всех своих прав и изгнать из своей души раз и навсегда идею власти. Все это либерализм – оставьте его Бобу Кеннеди. 512 В этой идее «власти», вернее, в идее разрушения власти – как в болезненном психологическом наследии – и заключалась язвительная сила памфлета. Если существовала власть, которую нужно было взять в свои руки, это была власть «партии, которая постоянно находится в оппозиции», пусть и изрядно потрепанная, благодаря власти синьоров в двубортных пиджаках, любителей играть в шары, любителей литот*, буржуазных сверстников ваших глупых отцов. Коммунистическая партия, по крайней мере, «хотя бы в теории ставит своей целью разрушение Власти». Противоречие, существующее между поколениями, было показано Пазолини в его истинном виде, доведено до чудовищного marivaudage**. Пазолини доказал, что новое поколение не ставит перед собой цели «освобождения от цепей капитализма», а просто стремится заменить пешки на шахматной доске буржуазной экономики. Призыв Пазолини: – «Компартия – молодежи!» – был диалектическим: он переносил цели к иным горизонтам, сознавая, что «хорошая порода не лжет», буржуа не изменится, даже если сменит обличье, стратегию и образ мыслей. Полиция. В ней видели не гарантию конституционного порядка, а орудие репрессивной власти. Это прямо указывает на отрыв реальной власти от государства. Ее постоянно рассматривали только как орудие подавления свободы * Литота (от греч. litótes, простота) – художественный прием преуменьшения, противоположный гиперболе. ** Marivaudage (франц.) – изысканно-манерный, кишащий неологизмами, изобилующий метафорами и смелыми семантическими сдвигами оригинальный способ выражения, созданный П. К. Мариво (1688– 1763). 513 даже те левые партии, которые стремились к восстановлению конституционного порядка. Полиция оставалась «фашистским» наследием государства. Даже Вальтер Бенджамин полагает, что она воплощает «позор», что в ней «стерто различие между насилием, которое устанавливает закон, и насилием, которое стремится поддержать закон и порядок». Для Бенджамина само государство «то ли из-за бессилия, то ли из-за непрерывной тесной связи с любым правопорядком» оказывается бессильным перед полицией. Соображения безопасности, благодаря которым полиция может действовать когда и как пожелает, по мнению Бенджамина, заставляют государство признать, что оно не в силах осуществить поставленные перед ним «практические задачи».9 Эта концепция относится к модели государства предвоенного периода. Того самого государства, которое допустило приход к власти фашизма, в разных видах и формах существовавшего в Европе с двадцатых годов и до конца Второй мировой войны. В Италии все обстояло по-другому, все изменилось. Концепция Бенджамина о полицейском насилии слилась с идеями, которые оправдывали политические и антропологические изменения. Когда Пазолини пытался обратить внимание на то, что конфликт между студентами и полицией, по сути, был разборкой между двумя бандами, которые по старинке, по старомодной традиции, назывались «богатые» и «бедные», он пытался объяснить происходящее с точки зрения динамики явлений, а не прибегая к ссылке на idoli fori*. Я говорю о происходящих сейчас изменениях, и сейчас, в тревожные годы постоянных терактов, полиция должна * Idoli fori (лат.) – «идолы площади», в теории Ф. Бекона – заблуждения, проникающие в человеческий разум в результате молчаливого договора между людьми об установлении значения слов и имен. 514 нести ответственность по крайней мере за некоторые из них. Получалось, что полицейские, «дети бедняков», дети окраин, «проклятые Землей», не укладывались в прошлые схемы. Это произошло из-за экономического бума, из-за ошибок и успехов, которые сломали все схемы, существовавшие прежде. И критический ум не мог этого не заметить. Пазолини был убежден, что буржуазия попытается «выйти за пределы своей человеческой природы». Это подразумевалось в «Теореме». Это стало темой памфлета «Компартия – молодежи!» Но подобные намерения – во времена единогласных заявлений, добровольного отказа от полутонов – непросто было осуществить. Даже если бы он заявил об этом прямо – Пазолини в том же «Эспрессо» писал: «Я именно поэтому и стремлюсь расшевелить молодых. Они, возможно, последнее поколение, которое воочию видит крестьян и рабочих. Следующее поколение увидит вокруг себя только буржуазную энтропию»,10 – вряд ли нашелся бы кто-то, кто захотел бы в этом разобраться. Тело в борьбе Итак, движение к «буржуазной энтропии» – немыслимой гомогенизации обычаев и нравственности, которой необходимо было избежать, от которой нужно было срочно спасаться, любой ценой, даже если рискуешь быть непонятым. Пазолини бросил вызов судьбе и людям, он был готов к тому, что его не поймут. Неудобный гость, «нарушитель спокойствия»11 – таким предстал Пазолини на горизонте итальянской культуры. В эти годы он особенно остро ощущал необходимость более тесного диалога с общественным мнением. 515 Его отношения с «общественным мнением» носили конфликтный характер. Сам он вел себя достаточно вызывающе. Ватикан опротестовал вручение приза ОCIC Пазолини. Фильм Пазолини эпатировал публику и цензоров, причиной был показ «тела» в сочетании с неприемлемыми для большинства идеями. Обнаженное тело, промелькнувшее в кадрах «Теоремы», превратилось в настоящее пиршество обнаженной плоти в «Трилогии жизни». Времена Иоанна XXIII отошли в прошлое. Пазолини задумал фильм о Святом Павле. Католическая церковь на этот раз отказала ему в поддержке. Фильм так и не был снят. Остались только отдельные наброски. Святой Павел по-революционному разрушил силой своего религиозного послания общество, основанное на классовом насилии, империи и рабовладении. Совершенно ясно, что римскую аристократию и другие правящие классы, с ней сотрудничавшие, нужно было заменить. Напрашивается аналогия: современная буржуазия, которая владеет капиталом, тоже должна быть свергнута, а на ее место встанут униженные, порабощенные рабочие, люмпен-пролетариат, передовые представители мелкой буржуазии.12 Программная оппозиция «против всего и всех», изоляция вызвали у Пазолини психологическую реакцию: пророчество смешивалось с действием. Дух шестьдесят восьмого года заразил Пьера Паоло желанием действовать, отбросив все рассуждения и сомнения. Действовать он мог в кино, действовать он мог и словом. «Нарушитель спокойствия» – очень удачное определение. И Пазолини «бросил собственное тело в гущу борьбы». Решение было очевидным, естественным. Его он принял раз и навсегда еще во Фриули. 516 Его тело и его слово всегда составляли единое целое. Но если сначала синтез этот осуществлялся через поэзию, то теперь слово его отбросит все литературные оболочки и обратится к «политике». Пример святого Павла, проповедника по ту и по эту сторону Атлантического океана, пастыря духа посреди агрессивного технологического общества, найдет свое воплощение на страницах «Коррьере делла сера» в образе Пазолини, «корсара» и «лютеранина». Сначала «корсар» – это «новая разновидность шута», «Гракх»*: Этот шут бьет без пощады. Правда, он пишет совсем как я. Ему нужно сорвать аплодисменты у молодых: поэтому он обращает свою сатиру прежде всего против них. Но содержание демагогии – это демагогия. И в каждой демагогии есть демагогия. Я знаю, что для оппозиции всякое слово бесполезно. Я брошу (на словах) эту рукопись в озеро Победы, скажем, положив ее в бутылку из-под кока-колы. ⟨…⟩13 Это шут, который замечает противоречие, подводит под него некую теорию и гордится этим, «бьет без пощады». Он не пытается уйти от серьезности собственной игры. Его выступления обретают форму заметок курсивом. Он ведет рубрику в еженедельном издании «Темпо иллюстрато». Она называется «Хаос». Блестящие остроумные замечания, диалоги с читателем, короткие критические заметки о кино и литературе, зарисовки о повседневной жизни и политике. * Гракх, Тиберий (163–133 до Р. Х.) – народный трибун в Древнем Риме. 517 Рубрика начинается 6 августа 1968 года. Она просуществует до 24 января 1970. Тон очень личный. «Я слишком много говорил о себе» – напишет Пазолини в конце первого года. Но говорить «слишком много» – неизбежно, это его стиль, стиль «проповедника». «Сколько раз нужно вернуться на Землю, чтобы добраться до Луны». Пазолини пытается повлиять на политику через мораль. Это его намерение неразрывно связано с его лингвистическими и антропологическими исследованиями. Что же, если этого требует мораль, Пазолини не будет уклоняться от «маленьких сражений повседневной жизни»: «Хаос» – это фронт, на котором разворачиваются маленькие повседневные битвы».14 «Страх себя самого?» Пазолини без устали продолжает работать в кино. «Эпизод с бумажным цветком», эпизод в фильме «Любовь и ярость» (1968). «Свинарник» и «Медея» в 1969; и в том же 1969 – «Заметки для фильма об Индии» и «Заметки для африканской Орестеи». Тема «непохожести» в фильме «Свинарник» развивается параллельно в двух взаимодополняющих друг друга историях: сегодняшняя Германия и мистическая испанская средневековая притча. Их объединяет каннибализм. В притче молодой человек убивает отца и, охваченный жаждой искупления, становится разбойником, убивающим людей, чтобы прокормиться. В немецком эпизоде история вывернута наизнанку: герой, вместо того чтобы заниматься любовью с людьми, занимается любовью со свиньями, и пока он это делает, свиньи его сжирают. 518 Кино Мидзогучи, кино Жана-Мари Штрауба: маньеризм Пазолини обогащается разнообразными примерами. «Свинарник» – это фильм об исторической и социальной катастрофе: Пазолини взял за образец работы двух режиссеров, создателей фильмов-катастроф, далеких друг от друга по стилю и по времени. Трагическая и ритуальная торжественность: «Свинарник» заключает в себе литературную историю, его риторика одновременно и внеисторична, и современна. И не только: в нем есть также и эпический посыл – убийство отца, которое проходит в нем главной темой. «Медея» снята в декоративном вкусе, она заставляет вспомнить Д’Аннунцио, «Царя Эдипа». Пазолини был убежден, что писатель может иметь с вещами только «сакральную связь». Он признавался, стремясь как можно точнее выразить свою мысль: «Я не в силах видеть природу естественно, свободно».15 «Медея» отражает взгляд, который потерял непосредственность. Писатель, который жил в Пазолини, все больше пытался кристаллизовать свои отношения с реальностью через кинокамеру. «Заметки для африканской Орестеи» – это путешествие в Танзанию, в Уганду, на берега Танганьики. Пазолини снял документальный фильм для РАИ-ТВ, где руководителем был Анджело Романо, друг времен журнала «Оффичина», который стал руководителем программ государственной телесети. Пьер Паоло путешествовал с кинокамерой в руках: он проехал по черной Африке, увидел людей и места, смешал самый разнообразный материал (войны, восстания, вооруженные столкновения) и попытался создать рассказ из нескольких не связанных между собой эпизодов. 519 Когда фильм был завершен, Моравиа спросил: «Почему Пазолини отказался от реализма своих первых фильмов и своих первых романов?» И сам ответил: «Может быть, потому, что он захотел избежать слишком прямых сопоставлений, навязанных необходимостью политического момента, хотел выйти на более значимый уровень». И еще: «самое простое объяснение – в том, что для Пазолини культурное посредничество стало поэтической необходимостью».16 Это значит, что для Пазолини реальность утратила свое значение, но осталась культура. Платье Медеи – каскад драгоценностей; это мрачная, животная чувственность. Фурии – Фурии завладели душой Медеи, как они завладели в «Пиладе» душой Электры. Но кто они, эти Фурии? Фурии в «Африканской Орестее» – это чудовищные антропоморфические корни гигантских деревьев черного континента. Медея напоминает эти деревья в своих одеждах, сплошь покрытых драгоценными и полудрагоценными камнями, черных и тяжелых. Медея и Ясон – горькое и мрачное материнство Медеи, беззаботная и элегантная мужественность Ясона. Ясон воплощает собой цивилизацию, он ученик Кентавра, Кентавр привил ему высокую культуру: «Все священно, все священно, все священно. В природе нет ничего естественного, мальчик мой, запомни это навсегда. Когда природа покажется тебе естественной, все кончится, начнется что-то другое. Прощай, небо, прощай, море!»17 Медея воплощает праисторию, когда жили только чувствами, когда природа была воплощением черных и необъяснимых сил. Культура Медеи – это магия. Когда смотришь этот фильм, невольно задаешься вопросом: с каким из персонажей отождествлял себя Пазолини? 520 С Кентавром? С беззаботным юным Ясоном – с Ясоном, который танцует с друзьями под светлыми стенами площади Деи Мираколи в Пизе? С отчаянной маской Медеи? Психологическая двойственность Пьера Паоло вмещала в себя и Кентавра, и Медею – противоположные полюса идеала, – и чистую, трагическую, плотскую красоту Ясона. В Медее, в ее отчаянии, Пазолини выразил свое собственное культурное отчаяние; он заключил его в миф, напитал его собственным бессилием выразить его. Его страсть к творческому подходу нашла свое непосредственное выражение: он ликовал, выбирая пейзаж. Турция и остров Градо, древние христианские кельи, украшенные грубыми византийскими фресками, Пиза. И рядом со всем этим выдуманные ритуалы каннибалов, выдуманные греческие обычаи. И во всем этом – магнетическое присутствие Марии Каллас, ее лицо. Мария Каллас ассоциировалась с Медеей с того дня, когда в 1953 году в Ла Скала была поставлена опера «Медея» Луиджи Керубини (дирижировал Леонард Бернстайн). Пьер Паоло открещивался от мелодрамы, высмеивал меломанов. Он говаривал, шутя: «Только педики сходят с ума по опере». Он любил музыку восемнадцатого века; казалось, что музыка эпохи романтизма его вовсе не интересует. Имя Марии Каллас для роли Медеи ему подсказал Франко Росселлини, продюсер фильма. Каллас, трагическая актриса, обладала поразительным чувством сцены и жеста; она не только прекрасно пела, но и играла на сцене, обладала удивительным сценическим чутьем. Этот дар она смогла отшлифовать и усовершенствовать благодаря работе с Лукино Висконти. В постановках Висконти опер «Сомнамбула», «Травиата», «Весталка» полностью проявились все дарования Каллас. 521 Когда Пьер Паоло решил пригласить Марию Каллас на роль Медеи, он думал не только о ее сценическом таланте, но и о кассовости будущего фильма: имя Каллас, которая оставила театральную сцену, оставалось привлекательным для зрителя. Медея в исполнении Каллас открыла для Пьера Паоло божественный мир музыки и пения. Исполняя арии, созданные Верди, ты была окружена особым потусторонним запахом, вокруг тебя все окрашивалось кровью, но это исполнение (хоть это и нельзя выразить словами) учило нас любви, истинной любви.18 Из этой встречи, встречи автора и персонажа, родилась легенда о любви. В таблоидах появились фотографии: вот они целуются. Возможно, фотография была сделана в аэропорту. Пьер Паоло поехал вместе с Марией отдыхать на греческие острова, в Грецию «полковников». (В то же время он посвятил стихи Панагулису*). Он приехал к ней в Париж, потом она – к нему в Рим. Вместе с ней, Моравиа и Дачей Мараини, вчетвером, они совершили путешествие в Африку в декабре 1970 – январе 1971 года. Он называл ее «птичкой с мощным голосом орла» и «трепетным орлом»19. Это была великая трагическая актриса с очень сложным характером, которая покорила Милан своим бесподобным мастерством и вызвала бурю возмущения своей расчетливостью. В повседневной жизни она была простодушна и наивна, в свои сорок лет казалась совсем юной девушкой. * Режим полковников, или Черные полковники — военная диктатура правого толка в Греции в 1967–1974. Александрос Панагулис – греческий политик, боровшийся против военной хунты в середине 60-х годов. В 1968-м он участвовал в неудавшемся покушении на греческого диктатора Пападопулоса. 522 Ее таинственная легкость в общении очаровала Пьера Паоло. Это было то чувство, которое могла в нем вызвать женщина, особенно если она своей женственностью напоминала о символической Матери – образе, который всегда присутствовал где-то в дальнем уголке его сознания. Дружба с Марией показала, что его собственное чутье его не обманывало: ее простодушие, образ «юной девушки, жаждущей жестокой битвы»,20 был отражением бессознательной сексуальности, постоянно подавляемого чувства, которое находило выход только в пении. Он много раз рисовал ее портреты, он любил раскрашивать их кофе, оливковым маслом, уксусом, вином. Виктор Гюго тоже рисовал, используя живой материал – табак, например. Нинетто всегда был рядом с Пьером Паоло. Нинетто в то время служил в армии в Триесте. Иногда Пьер Паоло навещал его, потому что очень скучал. Казалось, Мария не верит в то, что между ними двумя, Нинетто и Пьером Паоло, существует связь. Возможно, Пьеру Паоло удалось использовать отсутствие Нинетто, чтобы убедить ее в том, что никакой связи и не существовало. Мария посетила дом на улице Эуфрате, познакомилась с Сюзанной и Грациеллой. В Париже Пьер Паоло слушал вместе с ней музыку и понял, что музыка Верди совершенно не похожа на его прежние представления об оперной музыке. Потом оба сдались перед непреодолимой природой любви-дружбы. Одно из стихотворений Пьера Паоло свидетельствует о невозможности для него преодолеть этот порог. Его название – «Страх себя самого?» – навеяно произведением Верди. Похожие слова, написанные Сальваторе 523 Камарро, звучат в арии Леоноры в «Трубадуре». Это та сцена, где Леонора темной ночью стоит у башни, в которой заключен Манрико, и оплакивает свою потерянную «любовь на розовых крыльях». Ощущение темноты, таинственного часа принятия жизненно важных решений, страсть, полностью скрытая в потаенном уголке сердца, – Мария Каллас умела передать все это своим замечательным голосом, исполненным женственного очарования. О ужасный страх; радость разбивается об эти стекла, за которыми царит тьма. Но эта радость, которая заставляет тебя петь в полный голос, несет с собой смерть.21 Женщина для Пьера Паоло – это «возвращение из потустороннего мира», возвращение из путешествия в те места, где он никогда не был. Женщина возвращается, чтобы возвестить только об одном: о пустоте пространства. Кто там, в этой пустоте пространства, которую ты несешь в своих желаниях, которую ты познала? Там отец, да, он там! Ты думаешь, я его знаю? О, ты ошибаешься; так же, как по простоте души ты полагаешь, что я не могу им стать; вся твоя речь, которую ты повторяешь в песне, построена на этом заблуждении. Для тебя в нем смирение, но ты горда и знаешь, что в этом заблуждении – знак смертельной жажды превосходства. Однажды вечером, в Париже («Париж раскрыл за твоими плечами низкое небо, / исчерченное черными ветвями»), Пьер Паоло ощутил, что от Марии исходит желание любви: любви между мужчиной и женщиной. Он увидел в 524 этом желании нечто чисто женское, древнее, обычное: желание увидеть в мужчине «отца». Пьер Паоло не мог ответить на это желание. Психологически то, что для нее было определенно, в чем она была уверена, для него было сомнительно. «Отец», его образ, для него был «пустым пространством». Ты улыбаешься отцу – это человек, о котором я ничего не знаю, я встречался с ним во сне, о котором у меня не осталось воспоминаний. И все же он остро, болезненно, невыразимо скучал по этому образу («это человек…»). Его тоска была настолько мучительной, что, как мы знаем, стала причиной физической травмы. Итак, на возможное желание Марии – желание, которое полностью заключалось в ее певческом даре («Ты даришь, ты осыпаешь дарами, тебе необходимо дарить»), – Пьер Паоло мог ответить только улыбкой: ⟨…⟩ я притворюсь, что получаю; я благодарю тебя, я искренне тебе благодарен. Но слабая ускользающая улыбка – вовсе не улыбка смущения; страшно, действительно очень страшно в царстве бытия иметь тело, отделенное от души, если это вина, если это просто несчастье: но на месте Другого для меня пустота в пространстве пустота в пространстве, и оттуда доносится твое пение. Его улыбка означала «страх». Его гомосексуальность не позволяла вступать в подобные отношения, и ей это было известно. 525 Дружба с Марией Калласс закончилась вовсе не поэтому. Все пошло совсем по другому сценарию, хотя и кажется, что Пьер Паоло на этот раз сказал в стихах то, что написал Сильване Маури в письме в 1950 году. Стихи позволили ему превратить свою тайну в символ: ключевым словом в этом новом поэтическом языке стало слово «отец». В конце он иронично добавляет: ⟨…⟩ странно, что от этого авторитарного чудовища исходит нежность, и утешение, и блаженное, но короткое ощущение победы. Он все реже звонил в Париж, она все реже приезжала в Рим. Лаура Бетти ревновала: империя ее «кухни» зашаталась. На словах Лаура иногда позволяла «своему мужчине» ненадолго освободиться от нее. Она обвиняла Каллас в том, что та не достойна славы, которая ее окружала. Однажды вечером Пьер Паоло вернулся к Лауре поужинать, принес ей в подарок яркую вышитую шаль. Подарок в знак примирения, сказала Лаура. Каждый муж возвращается домой, просит прощения и приносит подарок. Бывая у Лауры, Пьер Паоло не страдал от того, что «у него тело отделено от души». Их отношения Лаура поддерживала, возбуждая в нем дух соперничества. Она рассказывала ему о своих любовных увлечениях, о своих «мальчиках». Здесь и речи не было о подавлении эротического чувства, его выставляли напоказ, им хвастались и гордились. Мария Каллас открыла Пьеру Паоло, что такое «страх», боязнь женственности. 526 «Эта наша любовь, такая чистая» Любовная дружба с Марией Каллас утратила значение для Пьера Паоло из-за острого кризиса чувств, который он пережил как раз в этот период. О, Нинарьеддо, ты помнишь тот сон… о котором мы столько говорили… Я был в машине, уезжал один, рядом со мной было пустое сиденье, а ты бежал сзади; рядом с дверцей, еще приоткрытой, и ты смотрел на меня, запыхавшись на бегу, и говорил немного по-детски, обиженно: «Ну, Па, ты возьмешь меня с собой? Ты дашь мне денег на путешествие?» Это было путешествие длиной в жизнь: и только во сне ты осмелился попросить у меня что-то. Ты прекрасно знаешь, что этот сон – часть реальности; и не во сне Нинетто произнес эти слова. Это правда, потому что, когда мы об этом говорили, ты покраснел. Вчера вечером, в Ареццо, в тишине ночи, когда караульный закрывал за тобой ворота на засов и ты уже уходил, улыбаясь своей ускользающей насмешливой улыбкой, ты мне сказал: «Спасибо!». Спасибо, Нине? Ты в первый раз мне это сказал. И ты это заметил, поправился, чтобы не показаться смешным, и сказал шутя (ты в этом мастер): «Спасибо за то, что ты меня подвез». Путешествие, на которое ты хотел получить от меня деньги, повторяю, это путешествие длиной в жизнь. Это сама жизнь. В том сне, который мне приснился три или четыре года назад, я решился на то, чему противилась моя любовь к свободе. 527 И если ты теперь благодаришь меня за то, что я тебя подвез… Боже мой, пока ты там, в казарме, я со страхом сажусь на самолет, который унесет меня в далекие страны. Я ненасытен в нашей жизни, потому что то, что в мире неповторимо, нельзя исчерпать.22 Это стихотворение, такое прекрасное, единственное стихотворение о светлой любви, написанное Пазолини, датировано 2 сентября 1969 года. Нинетто служил в армии. Поворот в их отношениях: они далеко друг от друга, встречаются мельком. Их чувство превратилось в болезненную потребность, от которой не было ни спасения, ни лекарства. «Я ненасытен в нашей жизни…» – пишет Пьер Паоло. Но Нинетто вырос, стал взрослым, склад его души уводил его от Пьера Паоло, он часто бывал к нему несправедлив. Нинетто хотел совершить с Пьером Паоло «путешествие длиной в жизнь», но вместе с тем он хотел, чтобы его собственная жизнь шла свободно, независимо, по-своему. Сексуальные отношения между ними отошли в прошлое. Эротика превратилась в повседневность, в то, что так прекрасно передал образ отъезжающей машины, пустого сиденья, неплотно прикрытой дверцы, запыхавшегося на бегу мальчика. Это была сублимация гомосексуальности, и вместе с тем воплощение мужской дружбы, дружбы, которая никогда не будет равной из-за положения в обществе, из-за возраста. Пьер Паоло не был «отцом» для Нинетто, или, вернее, был совершенно неожиданным отцом. В Нинетто нельзя было усмотреть психологической зависимости. В нем была только простодушная потребность в 528 свободе, независимости: Пьер Паоло возбудил в нем древнюю, крестьянскую нравственность и пробудил невообразимую жизненную силу. Казалось, они могли дружить на равных, если бы только между ними было возможно равенство. Равенства не было, поскольку Пьер Паоло переживал кризис среднего возраста: он панически боялся утратить молодость. Весной 1971 года он поехал в Румынию, в клинику Аслана, чтобы пройти курс лечения «Геровиталем». Он попросил, чтобы с ним поехали Моравиа и Нинетто. Нинетто стал встречаться с девушками, это очень огорчало Пьера Паоло. Здесь дело было не в ревности: просто Нинетто отправлялся в свое собственное путешествие длиною в жизнь. Девушки придавали смысл этому путешествию. Отсюда и страдания Пьера Паоло, страдания, вызванные тем, что он понял: Нинетто стал мужчиной, жизнь теперь пойдет по-другому. В Румынии Пьер Паоло написал сценарий к «Кентерберийским рассказам». Когда он поехал в Англию на съемки фильма, личный кризис обострился, его состояние было невыносимым. Пьер Паоло боялся, что молодость уйдет, он страдал от того, что волосы у него поредели, поседели. Он пытался противостоять этому, выбирая одежду все более молодежных фасонов. Он был сухощавым и мог себе это позволить. Лицо у него было бледное, он похудел, взгляд напоминал взгляд раненого животного. У него начались проблемы с зубами. Он несколько раз ездил лечить их в Мерано. Но все это было неважным, повседневным. В Англии, в Бате, снимая фильм – среди актеров был, естественно, Нинетто, – Пьер Паоло понял, что вот-вот 529 произойдет разрыв, избежать которого невозможно. Речь шла не о физическом разрыве отношений, а о душевном отдалении. И поэтому состояние Пьера Паоло было болезненным вдвойне. Нинетто сказал ему, что женится. Отчаяние Пьера Паоло не имело границ, он подумывал о смерти. В августе того года он начал писать сонеты, исполненные отчаяния. «Сонет как хобби».23 Он снова почувствовал удовольствие от работы с классическими формами, размерами и рифмами, которые требовали точности, но форма оказывалась нарушенной, искаженной желанием уничтожить все и вся, в котором терялись слова и чувства. В сонетах Пьер Паоло использует обращение на «вы», он называет объект своей любви «мой господин». Это сонеты о любовных муках, напоминающие сонеты Шекспира. Там всего более ста текстов, набросков, стихотворений, бесконечное множество исправлений и вариантов, что очень затрудняет чтение рукописи. Все вместе можно считать балладой о несчастной любви, о мучениях из-за предательства, из-за «подлого» предательства. Их можно сравнить не только с сонетами Шекспира, но и с «Балладой Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Потребность умереть, повеситься «на дереве в саду» на «прочной и надежной» веревке. «Я то, что осталось от человека», «собака, чтобы зализать / свои раны, свертывается клубком». Там нет ни упреков, ни обвинений: «он не хочет оправданий моему бесчестию». ⟨…⟩ и, как уже вошло у меня в привычку, уже давнюю, я мастурбирую под смятыми простынями постели, пропитанной потом. 530 Выход только один: пусть умрет «она», девушка. Эта смерть могла бы только помочь совершить еще одно богохульство. Но никакого другого выхода нет. «Восемь лет» любви потеряны. В этой горькой подборке стихов pace, «покой», рифмуется с brace, «жаром горящих углей». Зов плоти смог так все перевернуть? Дело не в сексе, вы это знаете: дело в чувстве, у которого, как у смерти, загребущие руки. Сексуальное влечение было «маленьким зернышком» – «маленьким зернышком, / которое заронили в нас наши первые давние встречи». Природа превратила сексуальное влечение в любовь, необратимо сублимировала его. Природа смеется теперь над этим «господином», который вздумал ее предать: Невозможно словами выразить то, во что вы превратились. Может быть, любовь вообще «нельзя выразить словами». Жизнь подвергла испытанию предмет любви, к которому его возлюбленный так часто обращался с «ласковыми именами», придуманными для «матери». «Я пожимал вам руку, как когда-то ей». Теперь он «глух», с «мрачным» лицом, искаженным угрюмостью. И все же, несмотря на эти горькие истины, любовь возгорается с новой силой. «Ваша божественная сущность никогда не тускнела». И, наконец, болезненное признание: это не «ревность к девушке», это чувство насилия над собой, чувство одиночества заставляет его рыдать и выть. Поэта, который на531 писал «Сонет как хобби», вдруг охватывает вполне прустианское понимание того, что страдание страдает само, нет ничего вовне: невозможно вырваться из собственной души. Эта боль сводит его с ума. Пьер Паоло рассказал об этой боли друзьям. Он говорил об этом откровенно, постоянно. Кажется, что эти разговоры вызывали в нем эротические реакции, почти мазохистские. Человеческое «общение» с Нинетто в предыдущие годы делало его счастливым. На большом полотне, созданном в 1969 году – Пьер Паоло снова вернулся к своему прежнему увлечению живописью, – для нового дома Лауры Бетти, которая переехала с улицы Бабуино на улицу Монторо, на этом полотне отчетливо видны отголоски былого счастья: кудри Нинетто – это брызги радости. И на портрете Лауры кудрявая голова «посланца», профиль которого различим на заднем плане, как у Шагала, тоже символизирует радость (или joy, как у Шекспира). В прошлом ему удалось достичь равновесия. Но жизнь все разрушила. Эльза Моранте не понимала любовных переживаний Пьера Паоло. Она обвиняла его в эгоизме. Старинное взаимопонимание между двумя друзьями разрушилось. Эльза говорила, что Пьер Паоло не любил по-настоящему Нинетто: если любишь, желаешь счастья своему возлюбленному. Да, это правда, любовь должна быть святой, Эльза была права, нельзя желать ничего, кроме счастья того, кого ты любишь. Но правда и то, что нет такого права, которому бы не противостояла какая-нибудь обязанность. 532 Пьер Паоло понимал, что у чувства любви нет выхода, он ужасно боялся будущего одиночества. Это одиночество можно было заполнить присутствием – любовным, но не сексуальным – «ангела», «посланца». Это присутствие и было обязанностью, долгом. Эльза не поняла, конечно, что я мог умереть; я был так слаб, что нуждался в утешении или в том, чтобы со мной обращались как с безумцем. Пазолини не слушал рассуждений о своем эгоизме. Он скрепя сердце согласился, что Нинетто волен был жениться, иметь детей – как и случилось потом. Нинетто – и с другой стороны, это так и было – не входил в его жизнь и не выходил из нее. Он остался тем, чем был. Его женитьба не разрушила фундамента их отношений, которые в то время были уже далеки от сексуальных. Но Пьер Паоло совершенно по-детски сомневался: ⟨…⟩ я не могу понять причин такой ярости в твоей душе, озлобления против нашей любви, такой чистой. «Чистая» любовь должна была сохраниться неизменной в сердце Нинетто, и Пьер Паоло это понял. Но понял он это, конечно, не сразу. Сексуальная жизнь Пьера Паоло пошла другим путем, все дальше и дальше. Он говорит об этом в одном из сонетов, написанном практически без исправлений; он говорит об этом, описывая место, которое будет последним местом в его жизни. Было почти два часа ночи – ветер подметал площадь Чинквеченто, 533 она стала чистой, как церковь, – на ней не было ни соринки. Ветер был единственным живым существом в этот час. В парке бродили еще два-три парня – ни римляне, ни жители предместья, так, просто парни, они думали, где бы достать денег. Я сидел в машине и разговаривал с одним из них. Он, бедолага, был фашистом, а я пытался затронуть струны его отчаявшегося сердца. Ты приехал на своей машине, посигналил; рядом с тобой сидел какой-то ужасный тип: он через окно машины скупал краденое. Откуда ты приехал и куда направлялся? Итак, Пьер Паоло смирился с этим браком. Нинетто женится, «совьет гнездышко», «мелкобуржуазное гнездышко». А я против воли живу в мире, предназначенном для другой жизни. В мире, в котором нет другой альтернативы, чем желать добра тому, кого любишь. После женитьбы Нинетто Пьер Паоло сделал выбор, которого никогда не желал бы для себя: он выбрал бродяжничество в том, что касалось жизни его души. То самое, которое он так яростно стремился отвергнуть. Разочарование в культуре и политика Страдание от одиночества имело для Пазолини, естественно, и культурное значение. Наступил момент, когда его слава как режиссера затмила его писательскую славу. 534 Он ставил фильмы, давая волю фантазии, подчиняясь романтическому вдохновению. Он признавал, что «Декамерон», «Кентерберийские рассказы», «Цветок тысячи и одной ночи» были его игрой, попыткой удовлетворить свое желание рассказывать. Он обратился к трем шедеврам средневековой прозы, европейской и средиземноморской, чтобы показать, как человек – человек новый, представляющий собой сплав архаичных крестьянских идеалов и гуманистических ценностей, – открывает себя самого как творца собственной судьбы. «Трилогия» Пазолини создана в стиле пламенеющей готики*, это причудливое сочетание людских судеб, тесно переплетенных друг с другом по воле насмешливой судьбы. 1971, 1972, 1973 – даты создания трех фильмов, которые все вместе еще раз подтвердили, что работы Пазолини занимают достойное место в мировой кинематографии. В них отчетливо проявился Пазолини-литератор, достойный ученик Шпитцера и Контини, умеющий слушать происходящее вокруг него; Пазолини – историк искусства, ученик Роберто Лонги, внимательно всматривающийся в происходящее. Он готов услышать настоящие звуки и увидеть реальные образы, зачастую скрытые под прозрачным покровом выразительных средств. Пазолини-литератор и Пазолини-историк выступили в данном случае помощниками Пазолини-режиссера. Как искусный декоратор, Пазолини заключил в позолоченные рамы необычную сагу, рассказанную человеком, принадлежащим миру спектакля. Он вплел в свои шпалеры сюжетные нити подлинного сексуального влечения, закрепив общее впечатление показом обнаженной мужской и женской плоти. Он показал, как развивается и достигает * Стиль поздней готической архитектуры, получившей распространение в XV в. 535 высшей точки плотское чувство, зачастую прибегая к таким непосредственным и откровенным образам, что они не могли не спровоцировать скандал. А скандал и означал успех. Свобода тела, тело как язык: Пазолини полностью следовал самым рискованным утверждениям психиатров, последователей Фрейда и других научных школ. Полная визуализация эроса и его самых тайных символов были в этих фильмах результатом расчета и игровыми приемами, зрелищными режиссерскими находками и провокационными рассуждениями на тему морали. Режиссер, прекрасно продумав и рассчитав всю последовательность событий, стремился превратиться – используя «мед поэзии» – в человека, способного нарушить самые жесткие запреты общества. Посыпался град обвинений и судебных исков. В то время обвинения против авторского кино в Италии были таким же обычным явлением, как рекламные кампании. «Трилогия жизни» успешно миновала все рифы и мели развернутой против нее кампании.24 Искусство оказалось выше порнографии, и Пазолини удалось осуществить утопическую мечту. Какую утопическую мечту? Показать, как вся жизнь, все существование человека полностью обусловлены идеей молодости, жизненной силы, которая бьет ключом, выходит за тесные рамки запретов на фоне мирного и невинного пейзажа. Это утопия человека, который не признает табу, запретов, налагаемых на сексуальную жизнь. Когда Моравиа писал о «Цветке тысячи и одной ночи», он связал «крестьянскую» утопию Пазолини с другой утопией, которую он определил как «гомосексуальную». Он задал себе вопрос: 536 В чем связь между ностальгией, которую испытывает человек, родившийся крестьянином, и гомосексуальностью? Если посмотреть «Цветок», то становится ясным, что связь эта в идее молодости. Крестьянская цивилизация была молодостью вчерашнего мира, гомосексуальность – молодость мира сегодняшнего. И таким удивительным образом крестьянская цивилизация и гомосексуальность оказываются близки друг другу.25 В этом определении чувствуется некое снисходительное отношение к свободе нравов, которое распространялось в то время. Персонажи Пазолини смеялись. Они смеялись в «Декамероне», обнажая беззубые десны, но они смеялись в «Цветке тысячи и одной ночи», и это был здоровый смех ничем не запятнанной красоты. Это был смех, который должен был угаснуть сам по себе. Итальянская жизнь окажется такой мрачной, что этот мрак разрушит любую мечту, любую утопию. Вседозволенность, например, проявится для Пазолини как чудовищная раковая опухоль. Но сам Пьер Паоло, поскольку становился все более снисходительным, взяв в руки кинокамеру, позволил себе мечтать. Отречение от этого было горьким. Язык тела, который он сам придумал, вызвал в нем ужас. Завершив «Трилогию», он написал о ней элегию, в которой говорит о «ненависти», которую вызывают у него «половые органы новых итальянских юношей»26, о «человеческой грязи». Это был «крах настоящего», который неизбежно влек за собой «крах прошлого». Пазолини в своем отречении был последователен и методичен. Он заставил себя действовать. Психологический кризис существования в своем времени заставил его искать жизненно важных решений. При помощи кино он попы537 тался залечить первые раны: осмысление кино как «письменного языка реальности» должно было помочь ему разрешить противоречие между его чувственностью и его интеллектом, противоречие, которое могло привести к полному разрушению его личности. Потом кино полностью захватило его, выдвигая все новые требования: «Трилогия жизни» помогла и найти ответ на насущные вопросы, которые он ставил перед собой как перед личностью, и решить общекультурные проблемы; она стала не просто теоретически возможным решением, но и конкретным способом коллективной терапии, как я уже говорил. Однако всего этого было недостаточно. Жизнь Пазолини требовала публичного лечения общественных язв, требовала, чтобы общество само стремилось от них избавиться. В общем, ему была необходима борьба. Поэтический памфлет «Компартия – молодежи!» стал первым шагом этой борьбы. Потом он как кинематографист принял участие в акции деятелей кино против Венецианского международного кинофестиваля в 1968 году. Вместе с другими он закрылся в Венецианском дворце кино, потом стал участником судебного разбирательства 11 октября 1969 года и был оправдан вместе с Чезаре Дзаваттини, Лионелло Массобрио, Марко Феррери, Альфредо Анджели, Франческо Мазелли, Филиппо Де Луиджи. Вот они все на фотографии, снятой в префектуре в Венеции. Пазолини стоит, глядя в землю, пальцы сжимают подбородок. В решении суда сказано, что все семеро освобождаются от ответственности, поскольку «их действия не содержали состава преступления». 21 сентября 1968 года в своей колонке «Хаос» по поводу Венецианского фестиваля и столкновения с полицией он опубликовал открытое письмо председателю Совета министров Джованни Леоне. 538 Джованни Леоне ответил ему публично, заявив, что в Венеции «не было совершено никаких актов жестокости и насилия». 5 октября в той же колонке в «Темпо иллюстрато» Пазолини ответил: «Я абсолютно уверен в Вашей искренности. ⟨…⟩ Но и Вы тоже должны мне доверять. Я был там той ночью. Я видел собственными глазами, что творила полиция». Это был первый шаг на пути противостояния с правящим политическим классом. С этого дня и в течение последующих семи лет, до конца своей жизни, Пазолини будет всегда резко выступать против авторитарных действий правительства. Это будет не теоретическое противостояние, а конкретное, действенное. И еще. Он бросился в борьбу не только против представителей власти. Отвечая на то же письмо Джованни Леоне, он написал: «Я знаю: сознание собственных прав – я уже много раз говорил об этом и не устану повторять – может сделать человека агрессивным, может превратить его в террориста. Не бойтесь: я не перестану бороться как могу и против «левого фашизма». Это выражение – «левый фашизм» – вызвало бурю протеста. Но Пазолини уже интуитивно понял, какие изменения происходят среди недовольной молодежи, как сочувствующей коммунистам, так и католической, среди членов ХАИТ*. В своей колонке «Хаос» 28 сентября 1968 года он объяснил, откуда берет начало «левый фашизм». Он видит в нем первые ростки терроризма: «Сколько католиков, становясь коммунистами, сохраняют Веру и Надежду, но забывают о * Христианская ассоциация итальянских трудящихся (Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani, ACLI) – католическая организация полупрофсоюзного типа, создана Ватиканом в 1945 году. 539 Любви, может быть, даже не замечая этого. Отсюда и начинается левый фашизм». Стране, как свидетельствовали молодые поколения, необходим был новый образ жизни, новая общественная жизнь. И они требовали отказа от любого исторического опыта и традиций, они символически как бы сжигали все книги, все обычаи. Если у молодых католиков не было Любви, Вера превращалась в фанатизм, в слепое насилие. Свобода – это парадокс, который может сдерживать себя, точно ограничив свои возможности, помня о диалектическом соотношении прав и обязанностей, а обязанности связаны с историческим самосознанием. Все это Пазолини различал, переживал в существующем противоречивом мире; он ясно видел все противоречия. Он вступил в полемику с «Лотта континуа»*, но согласился стать ее главным редактором, чтобы газета могла официально распространяться, поскольку ни один из сотрудников этой газеты, выпускавшейся внепарламентской группировкой, не был внесен в официальный реестр публицистов, а этого требовал закон о печати для должности главного редактора. И вот из-за приложения к пятому выпуску газеты, озаглавленному «Пролетарии в военной форме», против Пазолини на основании рапорта квестуры Турина, поданного в Прокуратуру Республики, было выдвинуто обвинение. Причиной стало «весьма сомнительное содержание, направленное против вооруженных сил»27. Судебное разбирательство было отложено до назначения нового состава суда Ассизе в Турине, потом оно так и не состоялось. * «Lotta continua» (Борьба продолжается) – итальянская газета левого направления (1969–1982), первоначально орган одноименной экстремистской левой группировки, продолжавший существовать и после ее роспуска в 1976 году. 540 Из-за этих его действий его постоянно обвиняли в «двуличии». Пазолини ответил на эти обвинения в интервью Жану-Мишелю Гардеру: Я больше не могу верить в революцию, но я не могу также не поддерживать молодежь, которая готова за нее сражаться. Писать стихи – это тоже своего рода иллюзия. Но я продолжаю их писать, хотя бы потому, что для меня лично поэзия остается прекрасным классическим мифом, который скрасил годы моей юности. ⟨…⟩ Я больше не верю в диалектику, не верю в единство и борьбу противоположностей, для меня остались только противоречия. ⟨…⟩ И все же меня все больше привлекает идеальное сочетание, которое можно увидеть разве что у святых – у святого Павла, например, который нашел равновесие между жизнью деятельной и жизнью созерцательной.28 Разочарование в революции, иллюзия поэтического творчества: вот здесь и кроется корень методически последовательного разочарования в культуре. Пазолини таким образом определял свое одиночество: одиночество превращалось в ярость, выливалась в агрессивную полемику. В нем росло и крепло настроение камикадзе, жертвенное и соблазнительное. Он был готов отдаться борьбе, но решение это он принимал публично, и оно было мучительным. «Реставрация левых сил» Коммунистическая партия ничем не скомпрометировала себя, она всегда умело, с умением, присущим могучей силе, готова броситься нам на защиту, как наседка, защищающая цыплят. Я не жалуюсь. Человеку свойственно и рисковать, и испытывать чувство уверенности. 541 Итак, немного поджав хвост, преодолев гордыню, молодежь возвращается в ряды КНО, они говорят, что готовы сражаться против репрессий несправедливой власти: любой союз таит в себе отсрочку будущего, и поэтому он слаб. ⟨…⟩29 Во время всех предвыборных консультаций Пазолини заявлял о том, что будет голосовать за Коммунистическую партию. Его отношения с КПИ оставались зыбкими, даже несколько враждебными. Я всегда выступал против политики КПИ, но в душе был ей предан. Я ожидал ответа на мои критические замечания. Ведь тогда мы могли бы двигаться вперед согласно диалектике. Но ответа так и не последовало: дружескую критику восприняли как богохульство.30 «Наседка, защищающая цыплят»: революционный идеал потерял всякую романтичность. Дух «восстания», дух шестьдесят восьмого года был насквозь пронизан буржуазной ложью: «Буржуазия» (в этой заглавной букве весь номинализм* Пазолини) за несколько лет привела в негодность все взрывные устройства. Да, ⟨…⟩ было восстание Профсоюзов, которые привели в открывшуюся перед ними пустоту огромные рабочие массы, исполненные классового самосознания.31 * Номинализм (от лат. nomen, имя) – философская позиция в т. н. «споре об универсалиях», сводящаяся в самом общем смысле к утверждению, что общие понятия существуют «после вещей» в сознании человека. 542 И благодаря этому «прежний престиж Коммунистической партии был восстановлен». Это и была «реставрация», «новая весна»? Коммунистическая партия смогла значительно укрепить свои позиции среди среднего класса. Правый террор, который постоянно угрожал спокойствию страны, придавал левым новое влияние, на них возлагали надежду как на силу, способную защитить конституционный порядок. Улица была усеяна трупами и телами раненых, они закрывали друг друга, но их можно было различить благодаря волосам, они громоздились друг на друге, как в концентрационном лагере ⟨…⟩32 Несмотря на успехи Коммунистической партии, Пазолини сохранял к ней отношение ироническое и насмешливое. Он ясно сознавал, что за «консерватизмом» КПИ скрывается бесконечное число весьма сомнительных поступков и решений. «Ортодоксальность», стихотворение, датированное 15 апреля 1970 года: ⟨…⟩ Я должен был говорить о «Манифесте» (вы меня об этом попросили), итак, еретик не пытался возбудить любовь к ереси: у него и в мыслях этого не было! Он серьезно отнесся к серьезному предложению; он предложил оригинальную чистоту мысли. Он боролся на самом деле за настоящую ортодоксальность. Он сражался против привычек, против косности. И сколько бы я (я, нечистый) ни пытался пересмотреть историю, 543 я повсюду нахожу только восстания, которыми руководят тайные силы порядка. Ортодоксальность, которая созрела внутри восстания, противопоставила себя преданным сторонникам, которые уступили истории и необходимости. Авторы «Манифеста» были, конечно, бесстрашными людьми, но чтобы найти новые идеи, обрести новую уверенность, спасти тех, кто – ⟨…⟩33 Пазолини не ищет сомнительных решений, он ищет «отсутствия чистоты», зеркала собственного «нечистого я»: это отсутствие чистоты означало ум истории и «ее необходимость». Возникает сомнение – Пьер Паоло мог испытывать его в глубине души: а вдруг «наседка» – партия – при всей ее кажущейся умудренности жизнью сможет оказать большее сопротивление, чем все те, кто критиковал ее с еретической яростью. То, что он выбрал «Манифест» в качестве примера, не удивительно. «Манифест» представлял собой отправную точку для марксистов-еретиков еще в начале шестидесятых годов. Все другие, отдельные активные фракции, имели вид озлобленных учеников, упрямых консерваторов, крепко держащихся за уже мертвое прошлое. По своему отношению к культуре они казались ему неождановцами, а по политической программе – «левыми фашистами». Все они были «варварами», даже если ⟨…⟩ я (конечно, я говорю только от себя) продолжу смотреть на варваров с поэтической точки зрения, потому что это делает мою жизнь замечательной ⟨…⟩34 В варварах он видел признаки близкого апокалипсиса. 544 Несчастное поколение Одиночество. Нужно быть очень сильным, чтобы любить одиночество; нужно иметь крепкие ноги и незаурядное терпение; нельзя позволить себе простудиться или подхватить грипп или ангину; нельзя бояться похитителей и убийц; если придется идти пешком весь день или даже весь вечер, нужно суметь идти без устали – ведь сеcть некуда, особенно зимой, когда ветер мнет мокрую траву, когда камни прячутся в грязи и слякоти; и никакого утешения, в этом нет ни малейшего сомнения, и нужно идти, а впереди весь день и вся ночь, и нет никаких обязанностей и ограничений. А секс – только предлог ⟨…⟩35 Пазолини не отказывался от собственного интеллектуального одиночества, он не страдал от него. Его одиночество было результатом его глубоких внутренних переживаний. После споров, вспыхнувших вокруг присуждения премии «Стрега» в 1968 году, после «Теоремы», «Декамерона», «Кентерберийских рассказов» и «Цветка тысячи и одной ночи» его стали считать автором порнографических фильмов. В «Декамероне» и в «Кентерберийских рассказах» он появлялся в кадре, его лицо мелькало в толпе персонажей, как будто в уголке громадной фрески; художник, который изобразил себя за работой: в первом фильме это Джотто, во втором – Чосер. С иронической усмешкой, радуясь возможности поучаствовать в маскараде, Пьер Паоло подчеркивал на экране то, что стремился скрыть в жизни: свой возраст, свои пятьдесят лет. Он веселился. Радость «Трилогии» была последней вспышкой его счастья. 545 Поэзия стала иллюзией. И все же Пазолини продолжал писать, и писал много. Я перестаю быть оригинальным поэтом и плачу за это отсутствием свободы: стилистические средства слишком изысканны. Я обращаюсь к проверенным литературным схемам, чтобы быть более свободным. Естественно, у меня на это чисто практические причины.36 Практические цели его поэзии становились все более явными: необходимость «вмешаться» в происходящее становилась все более насущной. Эта необходимость была вызвана, прежде всего, одиночеством. Гордость требовала от него отбросить все возможные стилистические ограничения. Он отказался от одиннадцатисложного стиха, его стихи все больше напоминали разговорную речь. Он выстраивал строфы белого стиха, наполняя их паузами, неожиданной перестановкой слов. Его стихи кажутся скорее не стихами, а отрывками публичных выступлений. Но в этих паузах, в этих логических перестановках видна была тонкая стратегия: Пазолини строил собственный кодекс писателя, придавая своим текстам динамическую коммуникативность. Он писал, но ему казалось, что он пишет в литературной пустоте. Пустóты в литературе, конечно, случаются – пустота, с которой столкнулся Пазолини, образовалась после падения литературы, отрицавшей неоавангард, и литературы действия, возникшей во время студенческих волнений. Подобные падения имели и другие последствия: «в моменты культурной пустоты внезапно расцветает жажда жизни». Жажда жизни подразумевает полный отказ от интеллектуальных размышлений, она предстает как чистое движение, изменение, но по сути своей она неподвижна. 546 Установить диалог с молодежью (которая не пережила ни герметизма, ни неореализма, ни литературы идей, ни неоавангарда) становится с каждым днем все труднее. Они занимаются углубленным изучением самих себя и, кажется, все дальше и дальше уходят от истины. Их неопытность странным образом сосуществует с немного странным и чудовищным опытом. Что происходило с этой молодежью? Они, со всеми идеями, провозвестниками которых они себя считали, отвергая любую диалектику прошлого, не могли заполнить существовавшую пустоту ничем по-настоящему новым, они способствовали восстановлению того, что казалось ушедшим навсегда.37 И вот, если посмотреть, над чем Пазолини размышлял в годы, которые последовали непосредственно за 1968, если попробовать проследить, как его постепенно охватывало чувство разочарования, то не может не броситься в глаза его глубокое убеждение: О несчастное поколение! Что будет завтра, если появится такой правящий класс: когда они были у самых истоков, они не поняли классическую поэзию, они приобрели неудачный опыт, потому что без настоящей радости поэзия осталась для них недоступной. А если они и поняли хоть что-то, выучили самую малость, то должны были показывать всем и вся, что это для них ничего не значит. В стихотворении, которое называется «Традиционная поэзия»,38 это убеждение, вернее сказать, эта навязчивая мысль, проступает абсолютно явно. Разрыв исторической последовательности, отказ от культурной традиции созда547 вали чудовищ. Они порождали нигилизм: отказ от прошлого, слепой и упрямый отказ мог полностью уничтожить итальянский средний класс. Что же произошло в стране? Рост итальянской трудящейся интеллигенции, работающей по найму, не ограничивается только ростом числа технического персонала, занятого на ключевых постах производства и обеспечивающего его развитие. ⟨…⟩ Огромное количество детей мелкой буржуазии, работающей на себя, молодых людей, заполняющих университетские аудитории, в определенный момент понимает, что они стремились получить образование, чтобы стать элитой или, по крайней мере, остаться средним классом, но перед ними может открыться только ужасная перспектива безработицы и превращения в деклассированный элемент. Именно это приводит к движению 1968 года и к вспышке студенческих волнений, обернувшихся трагедией. В попытке определить свою классовую принадлежность этот отмирающий класс попытается идентифицировать себя с промышленным пролетариатом. В этом-то и заключается фундаментальное различие между положением в Италии и положением в Соединенных Штатах, в Германии или во Франции. Не пролетариат стремится стать средним классом, а этот самый средний класс, ощущая угрозу своему существованию, цепляется за пролетариат и поддерживает его в его борьбе.39 Необходимо добавить: поддерживая рабочий класс, средний класс, эта мелкая буржуазия внушала ему нравственную распущенность и анархическую вседозволенность – идеи, на которых хорошо развивается террористическая идеология. 548 О несчастное поколение! Вы зимой 1970 года надели старые пальто и цветастые шали ⟨…⟩ – пишет дальше Пазолини, – вы появились на свет, такой огромный и такой простой, вы смеялись над традицией, вы буквально поняли иронию, с которой вас призывали к грабежу, вы воздвигли стены внутри класса, который правил в прошлом, но забыли, что молодость проходит быстро. О несчастное поколение ⟨…⟩ Это было поколение, которое не устояло перед лестью лицемерных учителей. Пазолини обличает «иронию, с которой ⟨…⟩ призывали к грабежу». Но поколение это еще более несчастно, потому что уступило, по-юношески неосознанно, миру, против которого столь яростно сражалось. ⟨…⟩ это он хотел дискредитировать историю – его собственную историю; это он хотел превратить прошлое в чистую доску – его прошлое; О несчастное поколение, ты его послушалось, стремясь освободиться от него! Какая судьба ждет эту молодежь? Они не проливали слез – ни «интеллектуальных слез, вызванных чистым разумом», ни «над октавой, написанной в шестнадцатом веке», ни «в часовне над могилами предков»: ⟨…⟩ вас взрастила классовая борьба, она запретила вам плакать: вы непреклонны, вам не нужны добрые намерения, вами движет отчаянная жестокость ⟨…⟩ 549 Эта молодежь совершила предательство ⟨…⟩ из любви к рабочим: но никто не требует от рабочего не быть до самого конца рабочим, рабочие не плакали над шедеврами, но они и не совершали предательств, которые приводили к шантажу и к всеобщему несчастью. О несчастное поколение! Вы еще заплачете, но это будут безжизненные слезы, потому что вы не сможете вернуться к тому, чего у вас никогда не было, и, следовательно, к тому, что вы никогда не теряли ⟨…⟩ Шантаж и несчастья: Пазолини не принадлежал к тем, кто под влиянием агрессивности молодежи теоретически рассуждал о «самоубийстве» интеллектуала и поэта. Литература для него не была ни грехом, ни виной, в которых нужно было бы признаться и покаяться. В этом можно проследить разницу между писателем, втайне остающимся христианином и католиком, каковым он, собственно, и был, и бессознательным католицизмом, который был свойственен множеству людей того времени. Христианские воззрения Пазолини несли на себе отпечаток откровений святого Павла, пророческих предсказаний, антропологических озарений, приобретенных вместе с жизненным опытом. Он был далек от идеи «посредничества» или от католического стремления улаживать споры и разногласия. В нем все явственнее проявлялась его непохожесть на других, непохожесть и внутренняя противоречивость. Казалось, он все больше становится рабом собственной страсти к рассуждениям, ему все больше нравится спорить из любви к спору, из духа противоречия. Но и никто лучше, чем он, не смог понять, какие последствия принесет Италии утрата исторического самосознания. 550 Я старел и видел, как ваш мозг страдал от боли, в ваших головах царили туманные идеи, но вы были исполнены решимости. вы считали себя героями, которые не могут умереть, – о несчастные ребята, вы думали, что победа рядом, в двух шагах, вы видели ее, а ее никогда не существовало! «Неактуальная» литература В феврале 1971 года Пазолини опубликовал последний свой сборник стихов – «Выйти за пределы человеческой природы и обустроить мир». Он решил сам написать критическую статью об этом сборнике, потому что критика едва обратила на него внимание.40 В рецензии он говорит о себе в третьем лице, он разбирает собственное произведение очень тщательно и с большой иронией. Он разделил книгу на три части: «личный дневник», «канцоньере, посвященное женщине по имени Мария» (стихи, посвященные Каллас), и третья часть – «только о политике»: Ностальгия по образу жизни, который весь принадлежит прошлому (и который иногда придает стихам Пазолини легкий налет реакционной агрессивности) и возврат к которому невозможен, поскольку зло окончательно одержало победу, – эта ностальгия превращается во что-то вроде космического плача по молодым братьям, которые обречены существовать в мире тех ценностей, которые Пазолини кажутся неприемлемыми. Яд Пазолини приберег для последних строчек статьи; он, как у скорпиона, в хвосте: в сборнике, возможно, много «фальши, неискренности, нелепостей», но в нем «все жизненно». 551 Если говорить вообще (и если доверять читателю), можно сказать, что Пазолини любит действительность; но даже если говорить вообще, можно также сказать, что Пазолини не любит – любовью полной и глубокой – истину: потому что, может быть, как он говорит («Нуови аргоменти», апрель 1971), «любовь к истине в конце концов уничтожает все, потому что в мире нет ничего истинного». И может быть, мы можем тогда завершить наш обзор утверждением, что этот отказ признать, искать, желать найти истину, хоть какую-нибудь истину (не относительную, против частных истин Пазолини постоянно и совсем как Дон Кихот сражается), этот эдипов страх узнать, допустить – это именно то, что определяет странную и несчастную судьбу этой книги и, возможно, всего творчества Пазолини? Вопрос остается без ответа. Эдипов страх – это одно из неожиданных разоблачений, появившихся в статье, момент литературно-критического узнавания; «не относительная» истина, которую он отвергал, вызывала на рискованный разговор о поэзии, в которой царят случайные идеи и образы. Истина, Истина с большой буквы, пусть даже и неизвестная, скрывалась где-то в другом месте, может быть, в вере. Итак, сборник «Выйти за пределы человеческой природы и обустроить мир» не вызвал никаких обсуждений, его публикацию обошли молчанием. Сам издатель, все тот же Ливио Гардзанти, все меньше верил в своего автора – для многих читателей выход в свет этой книги был как бы попыткой давно забытого поэта привлечь к себе внимание. В литературном сообществе у Пьера Паоло было теперь очень мало друзей. И все же он не хотел полностью порывать с литературными кругами, хотел публиковаться. Поэтому он снова взялся за критические статьи.41 552 В 1971 году вышел в свет сборник Эудженио Монтале «Сатура». Пазолини написал о нем в «Нуови аргоменти». В отличие от других критиков он особое внимание обратил на идеологический подтекст стихотворений этого сборника. Форма книги показалась ему ироничной и совершенно «не поэтичной». «Зная, что “непоэтичность” и содержание сборника «Сатура» тесно связаны с его формой ⟨…⟩, я думаю, что нельзя считать, будто читатель, который отвечает действием на действие, идеей на идею, злоупотребляет своим положением читателя».42 Ответ Пазолини-читателя был следующий: Весь сборник «Сатура», по сути, представляет собой антимарксистский памфлет. Если бы это было только так, я бы ограничился тем, что позабавился бы и получил от него удовольствие (по крайней мере, режиссер-сатирик, составляющий неотъемлемую часть меня, позабавился бы). Если я не согласен с идеями этого сборника, то это потому, что Монтале решил проигнорировать не только марксистскую практику, но и здравый смысл буржуазии. Он основывается на иллюзии времени, а марксисты и буржуа говорят только о неком «завтра». Если лучший мир (это проклятое завтра) – это одно из обещаний оппозиции, то он представляет собой, прежде всего, защиту власти. В отличие от марксизма Монтале как поэт-сатирик не «освобождается» от власти. Наоборот, он стремится провести знак равенства между властью и природой. Вся его книга провозглашает естественность власти, ее природное происхождение ⟨…⟩. Монтале, в свою очередь, ответил. Он ответил стихами, в которых назвал Пазолини «Мальволио»*. * Мальволио – персонаж «Двенадцатой ночи» Шекспира, образец чванливого зануды. 553 Пазолини говорил о «подлости», об «идеальной подлости». В стихах Монтале читаем:43 Этот резкий порыв любви, который обрушился на нас, – это последний обман. Больше никогда он не прилетит из at home, как нас учили в школе Берлица*; его больше никогда не будет в книгах для чтения. И уж конечно, он не долетит до тебя, Мальволио, или до твоей банды, не возникнет при трубных звуках, не прилетит к тому, кто хочет превратить его в свою вторую кожу, а потом выбрасывает прочь. Любовь не принадлежит никому. И еще в других стихах, названных «Письмо Мальволио»: Дело вовсе не в моем бегстве, Мальволио, и даже не в моем чутье, благодаря которому я почувствовал несчастье за тысячу миль. Это твое умение, и я не завидую тебе еще и потому, что никогда не смог бы им воспользоваться. Нет, дело не в моем бегстве, дело в умении держать дистанцию. Сначала это было совсем не сложно. Тогда границы были четкими, ужас с одной стороны, и стремление соблюдать приличия, * М. Д. Берлиц (1852–1921) – разработчик оригинальной методики обучения иностранным языкам и основатель международной сети школ. 554 о, только скромные приличия, с другой. Нет, это было совсем не сложно, достаточно было уйти, спрятаться, сделаться невидимым, стать бесцветным. Но потом. Но потом, когда хлев опустел, честь и приличия заключили союз и создали постоянный оксюморон, и больше не нужно было говорить о бегстве или укрытии, наступил час концептуальной фокомелии*, право было извращено, все подверглось осмеянию и забвению. Это был твой час, и он еще не окончился. Как умело ты смешивал исторический материализм и евангелический пауперизм, порнографию и шантаж, тошнотворный запах трюфеля, деньги, которые текли к тебе рекой. Нет, ты не виноват, Мальволио, наука сердца еще не родилась, каждый придумывает все, что хочет. Но оставь разговоры о бегстве ⟨…⟩. Обвинения были очень жестокими, особенно когда Монтале говорил о том, как умело Пазолини сочетал «интеллектуальные» интересы с кассовыми сборами. Пазолини ответил рядом эпиграмм: «Нечистый – чистому» У меня нет банды, Монтале, я один. * Фокомелия – аномалия развития конечностей, при которой кисти рук или стопы ног кажутся прикрепленными непосредственно к туловицу. 555 Я не упрекаю тебя за то, что ты испугался, я упрекаю тебя за то, что ты оправдываешь свой страх. Может, я и желаю зла, но это мое зло. Тебе помрачила разум твоя немного слишком итальянская темная Муза. Я совсем не упрям: упрям обычно тот, кто боится. «Итальянские пенаты» Пытаясь придумать мне прозвище, лучше выбрать в поэзии то, которое само напрашивается, Якобсон: ты заделался представителем буржуазии, за тобой стоят Сарагат и Владыка Зла. «Евангелический пауперизм» (?) Ах, Монтале, Ты своими полунамеками подал половину налоговой декларации. «Между нами, поэтами» У меня остался один глаз, a ты выколол мне его зубочисткой; я всегда знал тебя как ,* и обвинять теперь могу только .44 * (утис) – никто. Так Одиссей ответил Полифему на вопрос о том, как его зовут. 556 В ответах Монтале звучат горечь и печаль. Отчаяние и уныние Пазолини углубляются, если только они могли стать еще более глубокими. Весной 1972 года, в мае, по приглашению Итальянской культурной ассоциации Пазолини читает лекции в Турине, в Милане, в Риме. Прежде всего он признается: «Я должен сказать, во-первых, что в настоящий момент я переживаю не самый счастливый период моей интеллектуальной жизни: например, я смутно ощущаю, что здесь мои слова не открывают ничего нового и не пользуются никаким авторитетом». В интервью «Иль Мондо» он сказал: «Теперь моя жизнь проходит вне литературного сообщества. Я больше не участвую в голосовании по премии «Стрега». Я добровольно нахожусь в ссылке. Литература, ее социальная роль меня не очень интересуют. ⟨…⟩ Что же касается молчания, воцарившегося вокруг меня, мне кажется, что это признак некомпетентности, трусости или просто ненависти». Но и в предшествующие годы критики, казалось, «ненавидели его». Это была расовая ненависть, ненависть, которую обычно испытывают ко всем, кто на тебя не похож: к евреям, к гомосексуалистам. Эта ненависть накапливается и возрастает, превращается в более определенную, ярко выраженную в среде интеллектуалов. Ее испытывают к любому, кто отказывается повесить на себя точный ярлык. Ненависть была повсюду, я постоянно сталкивался с ней, поскольку отказывался ходить с ярлыком. ⟨…⟩ Ненависть вчера была ненавистью субкультуры. Ненависть сегодня – это та же самая ненависть, укоренившаяся в культурной среде.45 Пазолини создает свой собственный миф – миф о художнике, которого все преследуют. Имел ли этот миф под собой реальную почву? 557 Молодежный «шантаж» действовал на многих. Пазолини это знал. Он чувствовал, что один, что он «отчаянно неактуален». Так он писал в редакторской заметке, которую предпослал весной 1972 года сборнику эссе «Еретический эмпиризм». Об этой своей «неактуальности» он писал: «Автор создает себе одно ценное качество, которое соответствует презрению, испытываемому им к своим коллегам-критикам – почти всем, – которые готовы склонить свои седые или с проседью бесчестные головы перед худшими представителями нового поколения». Физическое воплощение этого одиночества, башня Кья, которую он так давно хотел приобрести, была, наконец, куплена в ноябре 1970 года. Пьер Паоло уединялся там, иногда вместе с Нинетто, иногда один. Башня – то, что осталось от средневекового замка, – с крепостной стеной, на которой возвышалась еще одна, нежилая, башенка, – была очень высокой. Ее было видно издалека, она возвышалась на перекрестке двух проселочных дорог, которые вели к двум ручьям. Расположенная к северу от горы Чимини, защищенная небольшим холмом, эта башня казалась неким архитектурным сооружением, созданным как декорация к постановке «Декамерона» или «Кентерберийских рассказов». Это особенно хорошо было заметно тем, кто направлялся по дороге из Витербо в Орте. За стеной, там, где громоздилась куча древних камней, собственно в башне, было обустроено помещение из стекла и бетона. Там было несколько комнатушек, расположенных одна над другой. Жить там можно было вдвоем. Пьер Паоло хотел, чтобы его там похоронили, он испытывал особую любовь к этому месту. На соседнем лугу он построил барак из светлого дерева, в котором была одна большая светлая комната. Он говорил, что это будет его мастерская. 558 Он часто говорил, что хотел бы вернуться к живописи, поэтому Лаура Бетти в своем новом доме на улице Монторо оставила для него комнату, чтобы он мог пользоваться ею как мастерской. У этой комнаты был отдельный вход. Но этим предложением он так и не воспользовался. Своим уединением в Кья он пользовался для других дел. Начиная с лета 1972 года Пьер Паоло часто уезжал туда, чтобы писать новый роман. Он планировал написать две тысячи страниц. О содержании новой книги он говорил очень мало. Он говорил, что в ней будет его автопортрет, самый что ни на есть подлинный. И еще он говорил, что книга эта будет своеобразным портретом современной Италии, возможно, Италии периода политики строгой экономии, вызванной Войной Судного дня и эмбарго на нефть*. «Нефть» – это было первое название романа, написанное на первой странице: потом он заменил его на Vas. Рукопись – огромная кипа бумаги, пятьсот папок с исправлениями, беглыми заметками, разобрать которые невозможно. Полный хаос. Для Пьера Паоло план этих двух тысяч страниц был совершенно ясен. Судьбе было угодно, чтобы он написал примерно одну четверть, начальные страницы, испещренные покаянными словами. Одиночество в Кья, огромные прозрачные окна, занимавшие почти все стены целиком, – кажется, они подсказали идею раздвоения. В книге есть один персонаж, раздвоенный, как игральная карта – молодой интеллектуал, жизнь которого проходит параллельно с жизнью его двойника. Это прием почти как у Достоевского: положительное * Война 1973 г. между Израилем, с одной стороны, и Египтом и Сирией – с другой. Арабские страны, в знак поддержки последних, ввели эмбарго на продажу нефти. 559 превращается в свою прямую противоположность. Это отражение происходит так, что один персонаж превращается в другой, а потом они вместе превращают свое мужское начало в нечто отчаянно женственное. Раздвоение собственного «я» не чуждо воображению Пазолини и его прозе. Оно было и у Пазолини-рассказчика, пользующегося итальянским языком, и в неизданных заметках на фриульском, и в набросках «Мечты о чем-то», и в «Божественном подражании». В романе «Vas» все подругому. Расстояние между ранними заметками и более поздними измеряется яростью, которой они напоены. Кажется, что писатель пытается схватить в сгустке враждебной материи некое чувство, которое противится свету, бежит от него; может быть, он просто все выдумал. Это раздвоение собственного «я» – или его удвоение – выливается в ряд приключений-снов, которые необходимо разгадать: праздник в Квиринальском дворце*, например, где собрались вместе политики и литераторы. Скромная реальность расширяется, выходит за пределы возможного, ее значение непонятно. Читатель, перелистывая страницы, ощущает, что вот-вот проникнет в тайну, которая сопротивляется, не дается в руки. Это мастерская писателя, которая неожиданно распахнулась. Ты заходишь туда, и у тебя захватывает дыхание. Счастливые страницы. Это эротическое счастье с привкусом траура. Никогда прежде Пазолини не открывал так явственно и прямо природу собственной чувственности. Его «общий и * Квиринальский дворец – официальная резиденция президента Италии в Риме. 560 количественный петраркизм», над которым с любопытством подшучивал Гадда, был – и здесь мы видим тому свидетельство – истинным. В ночной сцене на лугу на окраине, на всегда грязном и пыльном пространстве, где столько «рисковых парней» предаются оральному сексу с героем, обладающим двойственной и женственной натурой, происходит ритуал открытия душевных ран, благодаря которому их можно излечить. Все это описано, чтобы показать, какой вековой жизненный опыт всего человечества там собран, сколько всего пережито, и пережито в тревоге и волнениях, в мучениях, которые нельзя высказать. Эротическая страсть была для Пазолини рецидивом болезни, она завладевала им с навязчивостью кошмара. Это повторялось регулярно и заставляло его переживать все время одни и те же мучения. С другой стороны, эта жизнь как раз и была тем, что он так любил: это было абсолютное благо, неисчерпаемый источник мечты и фантазии, который он именно в те годы использовал для создания своих фильмов, полностью отдавшись свободе воображения. Но как не заметить здесь, что в кадрах «Трилогии», даже в самых легких и радостных, часто появляются признаки мучительного ожесточения, что в прекрасных телах – таких, как у молодых людей в «Цветке тысячи и одной ночи», – в их улыбках, которые так часто оживляют их лица, всегда чувствуется боль, как от открывшейся внезапно ужасной раны? Для Пазолини само существование было греховным. Но грех этот невозможно было не совершить, для него секс был сродни театральному действу. В интервью одному французскому журналу он сказал: Я яростно, отчаянно люблю жизнь. И я верю, что эта ярость и отчаяние будут причиной моего конца ⟨…⟩. 561 Любовь к жизни стала для меня пагубной привычкой, более навязчивой, чем кокаин. Я пожираю свое собственное существование с неубывающим аппетитом, я ненасытен. Как все закончится? Мне все равно.⟨…⟩ Я скандалист. Я постоянно держу в руках пуповину, которая связывает священное и земное.46 Но где же та граница, которая отделяет возможный скандал от невозможного? Фотограф Дино Педриали рассказывал, что его пригласили пожить пару дней в Кья вместе с Пазолини в середине октября 1975 года. Пьер Паоло попросил, чтобы Педриали сфотографировал его обнаженным через стеклянные двери его спальни. Кажется, что снаружи ночь, внутри башня залита безжалостным электрическим светом. Пазолини, кажется, сказал Педриали, что хочет использовать фотографии как иллюстрации к роману, над которым работает. «Vas» еще никому не известен. Но на фотографиях сухое тело с мускулами футболиста – оно совсем не подходит для романа. Пьер Паоло полулежит на белоснежном покрывале кровати, или стоит возле комода, или листает книгу. В обнаженном теле нет ничего скандального. В пронзительно нежном жесте, которым он держит книгу, чувствуется полное безразличие, отстраненность, какая-то внутренняя стыдливость, поэтому любой намек на непристойность кажется невозможным. Скандальными можно считать страницы романа «Vas», где описывается групповой оральный секс. Скандалом пахнут его признания, его стремление выразить словами то, что бессознательно живет в нашем теле, управляет нашей чувственностью. Этот скандал бумерангом попадал в сердце Пазолини, ранил его страстную душу. 562 Может быть, в романе «Vas» был и другой, непредвиденный скандал: желание измениться морально, психологически, интеллектуально. Кажется, что именно это желание испытывал Пазолини в последние годы. В этих незаконченных отрывках не только писатель повествует о приключении, исход которого он может предвкушать, но в котором не уверен. Там человек пытается освободиться, сбросить с себя путы и оковы; им владеет потребность выяснить, откуда они взялись, можно ли жить без них. Личный опыт Пазолини настолько ясен, что кажется загадочным. Его «разделение», его психологическое удвоение, его ярко выраженная противоречивость были прекрасно ему известны. Он мог извлечь из этого выгоду: «Можно обманывать во всем, кроме стиля. ⟨…⟩ Логичность противоречит человеческой сущности, это язык монаховфанатиков, а не живых людей. ⟨…⟩ Серьезность – это качество тех, у кого больше ничего нет за душой».47 Несмотря на это, он мог дойти до такого состояния, что просил об утешении и помощи. Обнажить душу – а может быть, и тело – восстановить слова, образы, навязчивые идеи, которым было подвержено его существование, – все это могло стать для него высшей сублимацией. Жизнь устает от того, кто живет. Ах, мои страсти. Вы постоянно возвращаетесь ко мне, но не можете со мной остаться! Благодаря кино он уже давно решил все свои экономические проблемы. Кроме того, кино принесло ему мировую известность. А в литературе он оказался где-то далеко на задворках. В это время Пьер Паоло понял, что необходимы кардинальные перемены. И вот громкий скандал. 563 Изменение можно было осуществить, отразив в творчестве, пусть и не в полной степени, свой самый сокровенный образ. Мог бы роман «Vas» помочь ему достичь этой цели? Именно для этого он и задумал написать эти две тысячи страниц? Незаконченная рукопись напоминает Bildungsroman*. Но это предположение невозможно подтвердить или опровергнуть. Замечания к предыдущим главам Пазолини верил в социальное обновление. Он верил в него, как новый Иоахим Флорский. Но он верил в обновление и как политик, который постоянно соизмеряет свои убеждения с изменениями политической ситуации. Утонченный поэт, воспитанный на произведениях французских декадентов, на произведениях поэтов-герметиков тридцатых годов, он думал, что сможет излечить свои душевные раны, превращая эстетические и психологические задачи своей поэзии в чисто практические и политические. И поэтому он как поэт в ходе своего творческого развития претерпел радикальные изменения: он стал публичной личностью, деятелем кино. Практические задачи. Пазолини пророчествовал и позволял себе резкие повороты и отречения от собственных суждений. Он оправдывал свое поведение противоречи* Bildungsroman (нем.) – роман воспитания или воспитательный роман — тип романа, содержанием которого является психологическое, нравственное и социальное формирование личности главного героя. 564 востью самой ситуации, уверенный, что правда чувств hic et nunc * может служить оправданием и привести к спасению. Разве не он предсказал, что «Али с голубыми глазами», молодые люди Третьего мира, заполонив старый Запад, безжалостно уничтожат его историю? ⟨…⟩ Они разрушат Рим и на его руинах уничтожат источник Древней Истории. Потом вместе с Папой и всеми таинствами пойдут, как цыгане, на Восток и на Север под красными знаменами Троцкого, развевающимися на ветру. ⟨…⟩48 Слова не оставляли места для сомнения: весь сборник «Поэзия в форме розы» был проникнут этой мрачной, но вместе с тем веселой уверенностью. События 1968 года опровергли пророчество. Пазолини от него отрекся. Почему я отрекаюсь от этого пророчества? Потому что тогда я был один, я был смешон, когда пророчествовал, а теперь эта мысль стала расхожей. Но это вовсе не означает, что я самонадеянно хочу присвоить себе монопольное право на определенные идеи и привилегию увлекаться ими. Нет, это означает, что это пророчество было тогда и правильным, и в то же время ошибочным. Это был жизненно важный и плодотворный каприз политической страсти, сознательное и добровольное стремление переделать будущее.49 Значит, интеллектуал, home de lettres**, солгал, солгал сознательно. С какой целью? * Hic et nunc (лат.) – здесь и сейчас. ** Нome de letters (франц.) – литератор. 565 Почему же теперь надежда на потенциальную революционную силу крестьян «Третьего мира» представляется ошибочной? Потому что ее больше не рассматривают в революционной перспективе. Студенты являются представителями буржуазии. Они хотели бы уничтожить крестьянский мир, доиндустриальный мир бедных, превратить его в метафору, воспользоваться им как руководством к действию на пути к апокалипсису. Чтобы провести революцию? Нет, чтобы начать гражданскую войну. Революция, красная революция избранных, сходила на нет. Она была великим мифом всей жизни Пьера Паоло, мифом, который заставил его отказаться от древней, выстраданной религии его предков-крестьян. И вот теперь этот мир погибал в банальности неокапитализма. Для того, кто украсил этот миф двусмысленными и вычурно красивыми образами декаданса, а потом привнес в него жестокость деятельной жизни, эта гибель была неприемлема и с нравственной точки зрения, и с политической. Миф исчезал, последние представители буржуазии пользовались этим, помогая его разрушить. Этот миф стал matter of fact*. Как вернуть ему свежесть новизны? Как снова попытаться доверить бедным и избранным мира их пророческую миссию обновления? Старый мудрый секретный агент коммунизма продолжал измерять медленными ударами метронома время социального развития, но и он готов был разрабатывать реформистские стратегии, он был готов потушить пламя мифа, залить его хорошо просчитанными проектами, он обладал неисчерпаемым терпением и был готов ждать. * Matter of fact (англ.) – неоспоримый факт; нечто, само собой разумеющееся. 566 И в этом, даже против своей воли и оставаясь при своем старом заблуждении, тогда были правы коммунисты, которые меня критиковали несколько лет назад, когда все это еще не вошло в моду. Крестьяне могут совершить революцию, но только в конкретных условиях: более того, не всегда собственно они совершают революцию, они участвуют в ней вместе с бедными рабочими (как в России, в Китае, на Кубе, в Алжире, во Вьетнаме), но это всегда национальные революции, а не интернациональные, они рождаются из национальных потребностей. Рабочие – интернационалисты, а крестьяне – нет, они принадлежат универсуму. Это слова, которые Пьер Паоло сказал Фердинанду Камону в 1968 году. В этих словах нет ни следа разочарования. Но откровенность, с которой он признается в ошибке, может быть, предваряет другую откровенность, желание пристально рассмотреть события на некотором расстоянии, чтобы отыскать в стратегии «старого агента коммунизма» последовательную истину. Казалось, Пазолини подумывает о том, чтобы отбросить устаревшие убеждения; казалось, что он хочет измениться, переродиться. Другой пример, другой след, может быть, слабый и неуверенный, этого желания. Осенью 1969 года вышел в свет сборник, в котором в одном томе были собраны все стихотворения Унгаретти. Унгаретти, как мы знаем, был поэтом, который пользовался особенной любовью молодого Пазолини. Какое впечатление получил сорокасемилетний Пазолини, когда перечитал стихи так любимого им в юности поэта? «Я не нашел никаких ответов на свои вопросы».50 Суждение слишком резкое. Но он тут же постарался сделать его более мягким и умеренным: поэзия Унгаретти – 567 «это поэзия полной невинности», которая, «как и всякая настоящая невинность, бесстыдна», она «хаотична, двусмысленна, непонятна, инфантильна, демонична, простодушна, незрела, не полна». «Она похожа на сияние смеющихся глаз, которое невозможно заставить померкнуть никаким хорошим воспитанием». Это слова, которые утверждают как раз то, что стремятся отрицать. Несмотря на это, суждение в целом бунтарское. Или, может быть, это суждение глубоко автобиографичное. Пазолини говорит о своей поэзии раннего периода, двусмысленной и незавершенной, а в видимых недостатках признанного мастера пытается найти себе оправдание и утешение. Он и ищет утешения, слегка иронизируя, в то время как его сжигает горечь, потому что он хочет быть другим, совершенно не похожим на того, кем он на самом деле является. 1968 год оставил ему свой груз поколебленных истин и угарного интеллектуализма. Буржуазия, все еще оставаясь героиней истории, создала новые «метафизические мифы, знамена абсолютизма».51 Пазолини был достаточно умен, чтобы понять, что на самом деле происходило: он признавался в том, что лгал, легкомысленно говорил о своем легкомыслии. На общем культурном фоне, который составлял среду его обитания, он увидел, что были грехи и более тяжелые, чем его собственные. Среди образованных людей не нашлось ни одного, кто осмелился бы протестовать. Риск стать непопулярным пугал больше, чем вечный страх истины. Кроме того, и культура была вполне достойна своего времени. Ее внутренняя организация была полностью прагматичной, продукт интеллектуального труда стал продуктом по сути и смыслу, как 568 вещи и предметы. На них можно было спорить, выигрывать спор или проигрывать. Обман был идеологизирован, как один из способов стать человеком образованным или даже поэтом. «Группы» – они тоже психологически и физически были подобны буржуазии, с которой, казалось, было покончено навсегда, – делали из «литературной власти» главную и прямую свою цель, они заявляли об этом, не только позабыв всякий стыд, но даже пытаясь морализировать на эту тему, призывали к террору и шантажу с неслыханной наглостью, с левацким напором, обреченным на поражение. Единственная реальность, которая развивалась как истина, была реальность промышленного производства, защиты валюты, поддержания институтов, необходимых новой власти; конечно, речь шла не о школах и не о больницах. Это страница из романа «Vas». События 1968 года рассматриваются здесь с точки зрения их влияния на культуру. Пазолини любил ощущать «вечный страх истины», но он страдал от собственной двойственности. Он осмелился протестовать («Компартия – молодежи!»), но в кино его страстная потребность говорить языком тела приводила к сознательной вседозволенности. Он идеологизировал «обман», утверждая, что только так разум может приспособиться к опыту. И по этой причине ясность, с которой он стремится выразить свои мысли и чувства, оставаясь отстраненным и далеким, как историк, еще больше свидетельствует о том, что главным его желанием было обновиться, изменить свой образ мысли, направить его в другое русло. Измениться, как можно скорее «ощутить вечный страх истины». Но как – вот в чем вопрос – как «броситься в борьбу»? 569 Писатель-корсар Нинетто женился в начале 1973 года. Для Пьера Паоло стихи превратились во что-то совсем иное. Книга «Выйти за пределы человеческой природы и обустроить мир» была как бы вся написана курсивом, это было необыкновенно личное, автобиографическое произведение. Сборник «Сонет как хобби» прочно привязывал поэта к острому всплеску собственной страсти. Старые литературные привязанности утрачивали то значение, которое они имели для него прежде. Если кто-нибудь заговаривал с ним об этом, он отвечал отталкивающе резко. Так, например, он ответил Энцо Голино в интервью о роли диалекта: Возвращение к диалекту? Да бросьте, это маленький эксперимент, который не выдержал испытания действительностью. Если сегодня снова говорят в кино на диалекте, если по телевидению передают диалектальный фарс, если в песнях создают видимость возрождения нашего фольклорного наследия – это все не имеет никакого значения. Все это затрагивает надстройку, а не базис общества. Диалект и мир, в котором он существовал, больше не существуют, люди не говорят и не хотят говорить на диалекте.52 В его фильмах – в «Декамероне», в «Кентерберийских рассказах», в «Цветке тысячи и одной ночи» – говорят на диалекте, но… Конечно, поскольку в моих фильмах представлено навсегда забытое прошлое, люди и места вне конкретного исторического времени, в воображаемом архаическом заповеднике. Во времена «Аккаттоне», «Мама Рома» и даже 570 во времена «Птиц больших и малых» этот древний мир еще существовал ⟨…⟩, но потом его уничтожили, и от времени невинности мы перешли к временам коррупции. Общество потребления уничтожило «древний мир». Идеология превратилась в морализм: ярость побеждала. В том же 1973 году Пьер Паоло поссорился со своим издателем и решил порвать с ним отношения. Он был недоволен тем, как распространялись его последние книги: «Выйти за пределы человеческой природы и обустроить мир», «Еретический эмпиризм» и «Кальдерон», трагедия, вышедшая в свет осенью. Он полагал, что издательство ничего не делает, чтобы они продавались. Вообще-то его недовольство касалось скорее его самого, чем других. Его литературный талант, казалось, пошел на убыль или, если и не уменьшился, то все равно не отвечал ожиданиям читателя. Все существо Пазолини стремилось во что бы то ни стало избежать того, что его жизнь сведется исключительно к личной жизни, просто жизни самой по себе. Пьер Паоло решил разорвать контракт с Ливио Гардзанти, однако постарался сохранить с ним личные отношения. Он воспользовался как предлогом первой попавшейся, ничего не значащей ситуацией: Гардзанти собирался опубликовать книгу писателя, не отвечающую его прежним высоким требованиям. Конечно, это был только предлог, он сам иронизировал по этому поводу. Но на самом деле ему хотелось завязать новые отношения, поэтому он принял предложение Джулио Эйнауди. Он заявил, что отказывается от использования диалекта в своих произведениях, но тут же, вопреки логике, создал 571 цикл стихотворений на римском диалекте – «Лучшие из молодых»; ясно, что в действительности он отказался от своей прежней привязанности к идее «малой родины» – это старое чувство для него теперь только «мрачный энтузиазм». В «Посвящении» в «Стихах в Казарсе» он писал: Фонтан в моем селении. Нет на свете воды свежее, чем в моем селении. Фонтан деревенской любви. А рядом, в новом «Посвящении», он пишет: Фонтан в селении, которое больше не мое. Нет воды более затхлой, чем в этом селении. Фонтан ничьей любви.53 Это отказ – и отречение. Сборник, названный «Новая молодость», был опубликован издательством «Эйнауди» поздней весной 1975 года. Но и он тоже не привлек внимания критики и не пользовался успехом у читателей. Пазолини понял, что не стоило разрывать отношения с издателем, который поддержал его, благодаря которому он добился успеха. Он жестоко упрекал себя за то, что сделал, вынашивал мысль вернуться в прежнее издательство. Но той весной он уже не был страдающим Христом, уже исключенным из мира живых, смытой картиной деревенского художника. Той весной он был пламенным Павлом из Тарса, который диктовал свои «послания римлянам», полные обвинений и мрачных предчувствий. Отречение от диалекта стало отречением от «Трилогии жизни». Пьер Паоло отказался или отложил все другие проекты, связанные с кино, чтобы полностью посвятить себя работе над фильмом «Сало, или 120 дней Содома». Его жиз572 ненная сила, его радость все больше сменялись мрачным и траурным настроением. Изменение произошло. Или, можно сказать, произошло усиление его творческого потенциала, того самого, который в конце пятидесятых годов превратил его в непременного собеседника всего итальянского общества. Теперь Пазолини писал политические памфлеты для первой страницы газеты «Коррьере делла сера». Пазолини не принимал «реформизм» новой политики итальянских коммунистов, но вместе с тем он не принимал и мелкобуржуазный «экстремизм» и «варварство» представителей ультраправых. Западные демократические партии находились в состоянии глубокого кризиса. После 1968 года этот кризис поразил и итальянских демократов. Чем больше официальная линия коммунистических партий приближалась к парламентскому идеалу (а именно это и подразумевало обновление), тем больше восставали против этой линии те, кто чувствовал, что у них отняли идею революции. Пазолини все острее ощущал свое одиночество. Это одиночество было, в конце концов, облечено в слова, но не в стихи, не в диалог с читателем, как это происходило раньше на страницах «Вие нуове» или «Темпо иллюстрато». Одиночество означало, что он не только «противопоставил себя всему и всем», но и оказался в положении «левого реакционера». Это было особенно трудно. Он нападал на общество потребления, на демократическое осуществление власти, на вседозволенность молодежи, на официальную линию коммунистов. Все это постоянно изменялось. Речь шла о том, чтобы неожиданно спровоцировать хоть какой-нибудь 573 спор, вызвать полемику. Поэтому он то принимал сторону тех, кто критиковал КПИ слева, то высказывал мнения, которые могли прийтись по вкусу откровенно правым. Речь шла о том, чтобы завязать скрытую полемику, сделать ее «пиратской», чтобы никто не мог принять высказывания собственно на свой счет. В 1972 году, после ухода Джованни Спадолини, руководить «Коррьере делла сера» был назначен Пьеро Оттоне. Оттоне почувствовал, что изменения в итальянском обществе после 1968 года требуют того, чтобы в печати высказывались самые разные мнения и взгляды. Большие газеты постепенно утрачивали свое значение официальных органов какой-либо партии (эта их функция продолжала существовать со времен фашизма) и превращались в связующее звено между реально существующей страной и политической властью. «Коррьере делла сера» открыла колонку «Открытая трибуна» и стала предоставлять место для общественных дебатов. Миланское ежедневное издание до тех пор никогда не выступало против умеренной части буржуазии Ломбардии и Италии в целом. Новая колонка «Открытая трибуна» нарушила эту традицию. Таким образом, в обществе утвердилась мысль, что индивидуальное мнение составляет неотъемлемую часть политической диалектики. Еще Д’Аннунцио публиковался на страницах «Коррьере делла сера». Это были стихи и призывы к вступлению в Первую мировую войну: шел 1915 год, и итальянской буржуазии нужен был какой-нибудь толчок, стимул. Пазолини, находясь в некой добровольной изоляции, отвергал саму идею стимула. Его роль «неудобного гостя» итальянской литературы и культуры достигла своей высшей точки. 574 Пьер Паоло Пазолини начал сотрудничать с газетой 7 января 1973 года. Как вы подошли к сотрудничеству с этим писателем, отвергаемым большинством истеблишмента и часто вызывающим неприязнь со стороны левых партий, которые считают, что он совсем не правоверный коммунист? Мы пришли к возможности этого сотрудничества именно потому, что искали людей, наименее склонных к конформизму, наименее традиционных. Мы стремились к тому, чтобы происходил свободный обмен идеями. А кто может обмениваться идеями, если не интеллектуалы, которые являются первыми генераторами идей в обществе? Сотрудничество с Пазолини вызвало широкий отклик прежде всего потому, что Пазолини в тот момент пользовался благосклонностью публики. Мы постарались сделать так, чтобы итальянцы заметили его статьи, поэтому и поместили их на первую страницу газеты.54 Это слова Пьеро Оттоне. Дело было так: Нико Нальдини, который долго работал в издательствах Милана, переехал в Рим. У Альберто Гримальди, нового продюсера фильма Пазолини, он стал заниматься связями с общественностью. У Нальдини были связи с культурными и журналистскими кругами в Милане, и ему было известно, что происходит в редакции «Коррьере делла сера» с приходом Оттоне. Ему было также известно, что газета ищет необычных сотрудников, которые имели бы определенное положение в мире культуры. Пьер Паоло желал изменить свой обычный образ. Он не хотел полностью посвящать себя кино. Это тоже было известно Нальдини. Пьер Паоло не высказывал напрямую своего желания, но по некоторым его высказываниям можно было понять, что оно существует. 575 Итак, Нальдини взял инициативу в свои руки. Необходимо было преодолеть немало трудностей. Несмотря на новое руководство, «Коррьере делла сера» пользовалась достаточно консервативной репутацией, которая не устраивала Пазолини и против которой он неоднократно резко выступал. Нальдини поговорил с Гаспаре Барбьеллини Амидеи, заместителем редактора газеты по вопросам культуры. Приглашение последовало немедленно. Теперь нужно было уговорить Пазолини, объяснить ему, что колонка «Открытая трибуна» гарантирует взаимную свободу и автору, и газете. Первая статья, появившаяся в рамках этого сотрудничества, называлась «Против длинноволосых». Она была опубликована на второй странице «Коррьере делла сера» 7 января 1973 года: «Я понял, что сам факт длинных волос больше не выражал позиции “левых”, а превратился в нечто двусмысленное, “лево-правое”. Таким образом, открылась дискуссия об антропологическом изменении итальянцев, и не только итальянцев. «Длинноволосые на своем невнятном и навязчивом языке невербальных знаков говорят о том же, что и телевидение и реклама».55 В 1973 году присутствие Пазолини на страницах «Коррьере делла сера» трудно назвать ощутимым: только три статьи. В колонке «Открытая трибуна» был опубликован и второй текст, 17 мая, название – «Безумный слоган джинсов Иисус»56. Третья статья, «Вызов руководителям телевидения»57, была помещена на третьей странице как статья на литературно-художественную тему 9 декабря 1973 года. Публикация на третьей странице в таком формате, по идее редакции, должна была сократить дистанцию, которую Пазолини непременно хотел сохранить в своем сотруд576 ничестве с газетой. Нальдини, которого Барбьеллини Амидеи заблаговременно предупредил, помог уговорить Пьера Паоло. Первая же статья Пазолини вызвала иронию и насмешки, его не поняли. Его статья нарушала существовавшие стереотипы поведения. Существует и другое мнение, согласно которому постоянные читатели газеты видели в этом сотрудничестве резкое изменение направленности газеты, и, конечно, они не могли быть этому рады. Динамика итальянского общества тех лет была резкой и стремительной: от возникновения терроризма (тогда укрепилось убеждение, что терроризм был «стратегией наращивания напряженности») до постоянного поддержания общественного мнения в состоянии «кипения». В эту картину вписывается и референдум о разводе 13 мая 1974 года.* Победа тех, кто голосовал против запрещения развода, открывала для итальянского законодательства путь к понимаю того, что брак имеет не только религиозное значение. Тем самым становилась возможной дальнейшая секуляризация страны. На этот процесс оказали большое влияние и статьи Пазолини. В 1968 и в последующие годы причины, которые побуждали двигаться, бороться, кричать, были абсолютно справедливыми, но с исторической точки зрения они были надуманными. Студенческое движение возникло совершенно неожиданно. Никаких объективных, реальных причин этому не было (разве что существовала мысль о том, что * Закон, разрешающий развод, был принят в Италии в 1970 году. На референдуме 1974 года было предложено ответить на вопрос, нужно ли отменить этот закон. Таким образом, противники развода голосовали «да», а сторонники – «нет». 577 революцию необходимо совершить сейчас, или никогда больше; но эта мысль была абстрактной и романтической). Кроме того, для масс исторической реальностью стало общество потребления, забота о благосостоянии и гедонистическая идея власти. И наоборот, сегодня существуют объективные причины для того, чтобы все включились в борьбу. Возникла насущная необходимость участия масс в общественной жизни. Так рассуждал Пазолини в марте 1974 года. Интеллектуал, далекий от политической жизни, оказывался вовлеченным в борьбу, считал своим долгом участвовать в ней. Насущная необходимость была вызвана двумя причинами. Первая состояла в том, что началась серия неофашистских террористических актов. Второй причиной была дискуссия по поводу «исторического компромисса», поскольку он «представлялся как своего рода помощь правящему классу в поддержании порядка».58 Пазолини задумал использовать в «борьбе» «Коррьере делла сера». Многие, однако, решат, что он, в свою очередь, был использован газетой. Подобное замечание совершенно лишено смысла. Газета, которую редактировал Пьеро Оттоне, в те годы не могла считаться рупором правящего класса или каких-то предвзятых мнений. Пазолини видел в ней отражение бесформенного общества, находящегося в процессе становления. В то же время это общество было другим, другим по сравнению со всеми предполагавшимися ранее моделями. Пазолини отвергал ортодоксальность, свойственную идеологической оппозиции. Эта оппозиция уже потерпела крах, и тип газеты, которой руководил Пьеро Оттоне, привлекая к сотрудничеству деятелей культуры, придерживающихся самых разных взглядов, был самым ярким свидетельством этого краха. 578 В начале июня 1974 года Пазолини подписал контракт с владельцами «Коррьере». Он поехал в Милан на показ фильма «Цветок тысячи и одной ночи» и, воспользовавшись этим случаем, встретился с Джулией Марией Кореспи, которая представляла владельцев газеты (с ней он уже был знаком, даже жил на ее вилле на реке Тичино, когда работал над «Теоремой»), и с Барбьеллини Амидеи. Они подписали соглашение.59 10 июня 1974 года газета опубликовала на первой странице с подзаголовком «Открытая трибуна» статью под названием «Итальянцы теперь другие». Это было начало полемики. Я уже говорил, что референдум о разводе положил начало секуляризации для подавляющего большинства итальянцев. Эту точку зрения разделяют многие. Пазолини был совершенно убежден: то, что большинство сказало «нет», было «победой». Но он проанализировал количественные показатели этой «победы», и результаты оказались неожиданными. «Нет» обозначило победу. В этом не может быть сомнений. Но еще больше результаты референдума указывают на то, что мы имеем дело с изменениями в итальянской культуре: она все больше удаляется не только от традиционного фашизма, но и от прогрессивного социализма.60 Эта победа была одержана потому, что во всех слоях итальянского общества распространились «ценности общества потребления и тесно связанная с ними толерантность нового, американского типа». Крестьянская и доиндустриальная Италия исчезла. Пустота, которую она оставила после себя, будет, «возможно», заполнена «проникновением повсюду мелкобуржуазной идеологии». Коммунисты тоже оказались не способны остановить этот процесс. Пол579 ным ходом шла «культурная гомогенизация», которая затрагивала всех – «народ и буржуазию, рабочих и люмпенпролетариат. Социальный контекст изменился в том смысле, что стал крайне однообразным». Вывод, который вызвал резкое возмущение читателей, был следующим: «Матрица, которая порождает всех итальянцев, теперь совершенно единообразна. Нет больше никаких различий – если выйти за рамки политического выбора, превратившегося в мертвую схему, от которой ничего не зависит, – между любым итальянским гражданином-фашистом и любым итальянским гражданином-антифашистом». Пазолини считал, что и сам фашизм изменился, остался фашизмом только «номинально». Разве многие приверженцы фашистских взглядов не проголосовали «нет» на референдуме о разводе? Самым спорным моментом статьи, который требовал особенно серьезных размышлений, было ее утверждение, что антифашизм как «политический выбор» превратился в «мертвую схему». Со стороны коммунистов последовала достаточно жесткая реакция. В газете «Унита» 12 июня 1974 года Маурицио Феррара обвинил Пазолини в иррационализме и эстетизме. Пазолини, по его мнению, способен разрушить итальянское общество, подгоняя его к своей воображаемой картине мира. Примерно такие же мысли высказал и Франко Ферраротти в «Паезе сера» 14 июня. Читая эти статьи, можно подумать, что Пазолини противоречил сам себе или неожиданно открыл свою тайную природу. Оглядываясь назад, нужно сказать, что он никогда не менял своих стремлений и убеждений, которые приобрел в годы интеллектуального и политического ученичества. Он всегда стремился порвать с любыми демагогическими рассуждениями, с общепринятыми 580 принципами. Так произошло во Фриули, так же он повел себя в 1956 году. Если Пьер Паоло и был в чем-нибудь виноват в этом случае – в этом шумном скандале, – так это в том, что он не разъяснил до конца, как это следовало сделать, что историческая преемственность является необходимым компонентом антропологического анализа. У него была одна отличительная черта: его антропология и его семиотика общественного поведения были, так сказать, не вполне осознанными. В нем присутствовало нечто бессознательное, яростное, мстительное. Его психологическая реальность уничтожала действительную истину. И все же ему удавалась постичь суть происходящих изменений. Вина, ответственность интеллектуалов, политиков. Ответственность за террористические акты, например, лежала на всех левых партиях: Мы ничего не сделали для того, чтобы фашисты исчезли. Мы осудили их, облегчив свою совесть собственным негодованием. И чем сильнее и назойливее было наше негодование, тем спокойнее была наша совесть. На самом деле мы повели себя с фашистами (я говорю в особенности о молодежи) как расисты: мы с готовностью и ни на минуту не усомнившись поверили, что они были фашистами по своей биологической природе. Послания к римлянам И все же в статьях, которые публиковал Пазолини – как в «Коррьере делла сера», так и в других газетах, – было нечто новое. Это новое было не в том, что он гипотетически мечтал о «золотом веке» – этот век мог оказаться «малень581 кой Италией»* эпохи фашизма. Новое было гораздо менее уловимым. Казалось, что те, кто полемизировал с ним, хотят сами дать ему цель, цель, которую может предложить памфлетист, тоскующий по прошлому, уже не существующему ни в политическом, ни в нравственном смысле. Его и обвиняли в «тоске», в «ностальгии» и Маурицио Феррара, и Итало Кальвино, и не только они. Я тоскую по маленькой Италии? Но тогда ты не читал ни строчки «Праха Грамши» или «Кальдерона», не читал ни страницы моих романов, не видел ни одного кадра моих фильмов, ты вообще ничего обо мне не знаешь! Потому что все, что я сделал, все, чем я являюсь, исключает по своей природе сам факт того, что я могу сожалеть о «маленькой Италии». По крайней мере, если ты не считаешь, что я кардинально изменился. Подобная вера в чудо присуща психологии итальянцев, но именно поэтому мне кажется, что это тебя недостойно. Так Пьер Паоло заявил в открытом письме Кальвино в «Паезе сера» 8 июля. 18 июня, отвечая на вопросы газеты «Мессаджеро», Кальвино подчеркнул «ностальгический» характер антропологического анализа Пазолини. Это непонимание по поводу «ностальгии» – на чем оно основывалось? На том, что Пазолини говорил о «безграничном мире крестьян, который существовал до того, как сложилась нация, в прединдустриальную эпоху» и сохранялся до эпохи экономического чуда в первозданном виде. * «Маленькая Италия» (Italietta) – термин, придуманный итальянским журналистом И. Моньанелли. Он говорил о том, что в определенные исторические периоды (накануне Первой мировой войны, в эпоху фашизма) власти создавали видимое благополучие в экономике, на деле разрушая ее, а в дальнейшем предлагали режим жесткой экономии, чтобы вывести страну из кризиса. 582 Люди этого мира жили не в «золотом веке», но в «горьком веке хлеба» (Пазолини повторял образ, позаимствованный у Феличе Киланти): Они были потребителями только крайне необходимых благ. И именно это делало крайне необходимой их бедную и полную лишений жизнь. Ведь всем понятно, что излишние блага делают жизнь излишней ⟨…⟩ Оплакиваю я или нет эту крестьянскую вселенную – это мое личное дело. И это не мешает мне критически смотреть на современный мир, такой, какой он есть. Более того, я тем больше его критикую, чем больше от него отдаляюсь, нежели когда просто стоически решаюсь в нем существовать.61 Пазолини считал эту «необходимость» жить бедно и в лишениях ценностью, ценностью, которую не надо умножать, но и нельзя отбросить. Ценностью, на которой строится история. Идеальное содержание этих многочисленных иронических замечаний для него было не ново: он был прав, когда призывал своих критиков осмыслить все, что он написал в стихах, в прозе и снял в кино. И все же, повторяю, было и нечто новое. И это новое удивляло. Новое было в том состоянии «милосердия», о котором говорил потом Пьеро Оттоне. Новизна была прежде всего стилистической новизной. «Практическая цель» поэзии стала достижима для Пазолини именно сейчас, когда он стал писать прозу, наполненную общественно-политическим содержанием. То, что он писал для газеты, казалось чем-то неважным, но это было не так. Работа в газете поставила его перед необходимостью измениться самому, изменить подход к действительности, «поменять кожу»; благодаря ей само его 583 творчество стало выразительнее. Но необходимость «смены кожи»имела и более глубокие корни, она возникла из горечи отказа, отречения от окружающего мира, которые переживал Пазолини в те годы. Он решался жить в мире только «стоически» и, ощущая нравственный отрыв от него, чувствовал, что им завладела необходимость поделиться с другими собственным состоянием души. Отрыв не мешал ему лелеять надежду, что в будущем возможны и обязательно произойдут изменения. Он достиг успеха, пытаясь соединить эти, казалось бы, противоположные стремления. Интеллектуалы «первой страницы»: это выражение носило иронический и несколько презрительный характер. Имя Пазолини среди других было наиболее ярким, именно вокруг него возникали самые ожесточенные споры. Моравиа, Кальвино, Фортини, Умберто Эко, Джорджо Бока, Наталия Гинзбург – вот те, кто торопился ему ответить. Пазолини находил для всех едкие доводы, бросался в яростную полемику, был неутомим. Несмотря на то что споры не утихали, Пьер Паоло смог не дать им отвлечь себя от первоначального проекта, довольно жестко придерживаясь выбранных им заранее тем для дискуссии. Казалось, что он выводит одни свои аргументы из других, стараясь все больше разгорячить своих собеседников. Первые статьи, посвященные антропологическим мутациям, стиранию граней между фашизмом и антифашизмом, направлены против общества потребления в самом общем смысле слова. В этот момент снова возникает старая тема «малой родины»: 584 Ни одна страна не обладала, как наша, таким количеством отдельных, реально существующих культур, таким количеством «малых родин», таким количеством обособленных диалектальных миров. Ни одна страна, повторяю, в которой потом наблюдалось бурное «развитие». В других больших странах в прошлом уже имели место культурные унификации, на которые и наложилась последняя, потребительская, что не нарушало логики их предыдущего развития.62 Но вот наступает черед «христианского» ответа на вопрос, поставленный жизнью. Перед угрозой общества потребления пусть церковь найдет мужество полностью отказаться от своих мирских притязаний! Церковь могла бы стать нашим проводником, великим, но не авторитарным, она могла бы повести за собой всех тех, кто отказывается принять (и тут я говорю как марксист, и именно потому, что я марксист) новую власть потребления, которая полностью отвергает религию, – власть тоталитарную, власть насилия, толерантную на словах, но гораздо более агрессивную, чем когда бы то ни было, власть коррумпированную, деградирующую. (Никогда прежде утверждение Маркса, согласно которому капитал превращает человеческое достоинство в товар, не соответствовало истине настолько полно). Церковь могла бы стать символом этого неприятия. Но для этого ей нужно было бы вернуться назад, к оппозиции, к противостоянию политической власти. Либо она должна решиться на это, либо принять власть, которой она не нужна, то есть покончить с собой.63 Все заметнее становится его желание пророчествовать, в его пророчествах экзистенциальные язвы приобретают все более отталкивающий вид. 585 Радостный номинализм социологов, кажется, уже полностью исчерпал себя в их узком кругу. Я живу в мире вещей и пытаюсь найти им имена. Конечно, если я пытаюсь «описать» ужасный вид целого нового поколения, которое претерпело все невзгоды, вызванные резким и глупым развитием, и пытаюсь описать его на примере этого конкретного молодого человека или этого конкретного рабочего, меня не поймут: потому что для профессионального политика или профессионального социолога никакого значения не имеет этот конкретный молодой человек, этот конкретный рабочий. А лично для меня только они имеют значение.64 Затем он перешел к темам аборта и секса. Радикальная партия, инициатор первого референдума о разводе, предложила рассмотреть возможности проведения новых референдумов, чтобы изменить все в законодательстве страны, что препятствовало осуществлению гражданских прав граждан. Легализация аборта представляла собой существенный момент в борьбе за права женщин. Это был пункт номер один в предложениях радикальной партии. Пазолини вступил в полемику с предложениями по поводу легализации аборта. Меня глубоко задело предложение о легализации аборта, потому что я, как многие, считаю, что это легализация убийства. В моих снах, в повседневной жизни – это знакомо многим людям – я снова переживаю мою жизнь до рождения, мое счастливое пребывание в чреве матери. Я знаю, что я уже тогда существовал.65 Предложение о новых референдумах (всего их было восемь), выдвинутое радикальной партией, с течением вре586 мени должно было получить большую поддержку. Парламент принял решение провести большую часть из них, включая и вопрос об аборте. В это время для Пазолини тема аборта была полезной, потому что позволяла ему начать дискуссию о роли секса. Я знаю ⟨…⟩, что большинство уже потенциально стоит за легализацию аборта. ⟨…⟩ Легализованный аборт на самом деле – в этом нет никакого сомнения – представляет собой большое удобство для большинства людей. В особенности потому, что он сделал бы более простыми сексуальные отношения – гетеросексуальные отношения, – для которых больше не возникало бы никаких препятствий. Но кто молчаливо требует этой свободы сексуальных отношений «пары» в том виде, как ее понимает большинство, этой великолепной вседозволенности, кто пытается потихоньку внедрить ее в жизнь, протащить решения, которые станут необратимыми? Это все то же общество потребления, все тот же новый фашизм. Новый фашизм, незаметный, неосязаемый, как кариес, развивающийся в недрах общества, никак не проявляющий свою разрушительную силу, стоит за всеми требованиями свободы, «либеральными и прогрессивными»; он извратил их, «изменил их природу». Сексуальная свобода, которую «дарует власть», вызывает «неврозы»: это внедренная легкость, предложенная сверху, именно она создает новый расизм, формирует массу, «готовую на шантаж, на поругание, на линчевание меньшинства». Отсюда новая нетерпимость – «грубая, жестокая, бесчестная»: «итальянский народ вместе с бедностью хочет забыть и свою настоящую, подлинную толерантность». По этому сценарию брак превращается в «погребальный обряд», погребальный оттенок приобретает и существова587 ние в мире, который предписывает паре механическое счастье сексуальных отношений. Пазолини заключает: «Мое мнение крайне разумно. ⟨…⟩ Вот оно: вместо того чтобы бороться против общества, которое осуждает аборт как таковой, нужно бороться против общества, которое создает условия для аборта, то есть поощряет половую жизнь. Давайте проведем ряд настоящих акций, которые будут касаться собственно секса (и, значит, его последствий): противозачаточные средства, таблетки, различные сексуальные приемы, современная сексуальная нравственность и т. д.». Самый настоящий пасквиль о сексе. И снова Пазолини говорит о «вседозволенности» – план был вполне прозрачен, или, вернее, его можно было ясно различить за всеми его рассуждениями. Христианское уважение к священной ценности жизни не мешало «либеральному» отношению к эротике. Но предметом спора было не это, его оппоненты не обсуждали с ним эту тему. При чтении текста Пазолини бросается в глаза скрытый, тлеющий огонек: та легкость, с которой он упоминает о гомосексуализме. «Гетеросексуальные отношения», которые станут свободными благодаря вседозволенности, лишат итальянцев присущей им терпимости, благодаря которой молодежь из народа была готова вступить в гомосексуальные отношения, поскольку гетеросексуальные находились для нее под запретом. Гомосексуальность, как и предположение о пропаганде противозачаточных средств, проходила красной нитью в словах Пазолини. Он даже иронически говорил об этом. Если сторонники абортов приводили в качестве довода возможность контролировать число рождений, чтобы препятствовать перенаселению, то он добавлял: 588 ⟨…⟩ если гетеросексуальные отношения представляют опасность в этом смысле, то гомосексуальные, несомненно, могут быть выходом из этой сложной ситуации. Говорили, что Пазолини пытается решить проблему аборта неестественным способом. Мол, вся его идея антропологического изменения обусловлена тем, что молодые люди из предместий с наступлением эпохи благосостояния вступали в гомосексуальные отношения без прежней готовности. Говорили также, что проблемы, которые он поднял, «совершенно личные», «частные», представляющие интерес только для него. В полемике Пазолини не пытался отказаться от психологических теорий, он делал свои выводы. 30 января 1975 года он ответил Моравиа: Я прекрасно знаю, что ты – прагматик, и поэтому готов принять статус кво. Я идеалист, и не готов это сделать. Кажется, ты хочешь сказать мне: «общество потребления уже существует. Что ты предлагаешь делать?» Позволь, я тебе отвечу. По-твоему, общество потребления есть – и все. Эта проблема не касается тебя только с точки зрения нравственности, а с практической точки зрения она касается тебя так же, как и всех остальных. Твоя глубокая личная жизнь от него не страдает. А для меня все обстоит по-другому. Как гражданин я не могу оставаться от всего этого в стороне. Я ощущаю насилие этого общества, которое меня глубоко оскорбляет (в этом мы с тобой схожи, мы можем подумать вместе о том, чтобы отправиться в совместную ссылку), но как личность (ты это хорошо знаешь) я гораздо ближе ко всем этим проблемам, чем ты. Возникновение общества потребления привело к настоящему антропологическому катаклизму, который, 589 по крайней мере, сейчас, ведет личность к полной деградации. Я живу в мое время, в формах моего существования, в моем теле. Поскольку моя общественная жизнь заключается в работе, она полностью зависит от того, какие люди меня окружают. Я говорю «люди» по понятным причинам, но имею в виду общество, народ, массы в тот момент, когда они вступают со мной в контакт (даже если это только видимость контакта). Именно из этого опыта, экзистенциального, прямого, конкретного, драматического, телесного и рождается вывод, который можно сделать из всех моих статей. Что же до антропологической трансформации (сейчас – деградации), то она вызывает разочарование, ярость, стремление уйти из жизни, ожесточенность, taedium vitae*, желание восстать, отказаться от статуса кво.66 Вольное пламя было приглушено taedium vitae; беспокойные доводы тела приводили к антропологическим гаданиям. Существование, со всей его трагичностью, все же не отрицалось. Пьер Паоло принимал его со всеми его последствиями. И вовсе не поэтому его «идеологические статьи» мало основывались на фактах. Пазолини стремился узаконить ненормальность как инструмент познания. Его «общественная» жизнь вся свелась к узкой полоске земли: на этой полоске и шла его борьба – и интеллектуальная, и нравственная. У него не было другого пространства. Его старая ночная «охота» превратилась в способ найти доказательства правильности собственных выводов, развеять докучливую taedium vitae, которая просто взяла его за горло. Пьер Паоло тяжело переживал собственное отречение. «Отречение» – это было слово, к которому он осо* Taedium vitae (лат.) – скука жизни. 590 бенно часто прибегал в своих полемических заметках в тот год. Его пожирала теологическая ярость, теологическая потребность в переменах. В 1974 году он завершил «Трилогию жизни». И начал разрабатывать проект «Святой Павел». Он переписал прежний сценарий. Его статьи – это те же послания к римлянам, к коринфянам, филиппийцам, ефесянам. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12,VI, 12) – так писал апостол. И Пазолини борется против влияния «власти» на плоть и кровь. Его мучает мысль о том, что зло – это судьба, от которой невозможно убежать. Апостольское служение. Противостояние святости и реальности, конкретность божественного против абстрактности того, что историчность воспринимает как случайное, сиюминутное. «Павел разрушил революционно, простой силой религиозного послания, тип общества, основанного на классовом насилии, имперскую власть и особенно рабство».67 Пазолини проводит аналогию между своими посланиями и посланиями святого Павла, внимательно изучает их, принимает их полностью. В сценарии приводится пастырская заповедь: Узнай же: в последние дни наступят тяжелые времена. Люди будут эгоистами, сребролюбцами, тщеславными, наглыми, богохульниками, они не будут почитать родителей, будут неблагодарными, пустыми, лишатся любви, будут нетерпимыми, хитрыми, ненасытными, безжалостными, отрекутся от добра, станут предателями, будут ослеплены дымом гордыни, полюбят удовольствия больше, чем Бога. Это 591 будут люди, с виду соблюдающие заповеди, но отказавшиеся от их истинной сути.68 И теперь, на третьем этапе, полемика Пазолини обращена как раз против людей, которые «с виду соблюдают заповеди, но отказались от их истинной сути», против Демохристианской партии. Это конец 1974 – первые месяцы 1975 года. Я знаю. Я знаю имена тех, кто несет ответственность за то, что называется военным переворотом (на самом деле этих переворотов было несколько и все они были направлены на укрепление власти). Я знаю имена тех, кто несет ответственность за гибель огромного числа людей в Бреши и в Болонье в 1974 году*. ⟨…⟩ Я знаю имена всех, я знаю все факты (попытки подорвать конституционную власть и массовые убийства), за которые они должны понести ответственность. Я знаю. Но у меня нет доказательств. У меня нет никаких намеков на доказательства. А знаю я их, потому что я писатель, интеллигент. 69 Пазолини утверждал, что «знает». Это был его собственный способ заниматься политикой, способ «интеллектуального мужества и бесстрашия». Он не боялся сказать правду. * 28 мая 1974 г. на Пьяцца делла Лоджа в центре г. Бреши во время демонстрации, организованной профсоюзами и антифашистским комитетом против терроризма, была взорвана бомба. 8 человек погибли, более 100 были ранены. 4 августа 1974 года в Сан Бенедетто Валь ди Самбро недалеко от Болоньи в поезде Рим–Мюнхен была взорвана бомба. 12 человек погибли, 48 были ранены. 592 Интеллектуальное мужество, умение бесстрашно говорить правду, и политическая практика – это в Италии две совершенно непримиримые вещи.70 Политический класс, не способный управлять страной, который открыл невосполнимую пустоту власти, – это политический класс, который умеет подробно рассказать о том, что он сделал хорошего, но полностью отдает себе отчет в том, что весь этот перечень добрых дел исключительно «номинален», «он не задумывается и не беспокоится о том воздействии, которое эти его поступки могли оказать на людей, культуру, политику, как будто это не его дело».71 Ему действительно нет никакого дела до того, какие изменения производит его деятельность. Да, страна изменилась. Страна, в которой раньше были хотя бы слабые проблески света, теперь погрузилась во тьму. Метафора «слабых проблесков света», «светлячков», означала для Пазолини изменение «демохристианского режима». В начале шестидесятых годов из-за загрязнения воздуха и в особенности из-за загрязнения водоемов (голубых рек и прозрачных источников) в сельской местности стали исчезать светлячки. Они исчезли внезапно и стремительно. Просто прошло несколько лет, и светлячков не стало.72 Сначала «светлячки», эти традиционные ценности крестьянского и докапиталистического мира, которые поддерживал фашизм, вместе с демохристианской партией оказывали сопротивление власти. Потом эти «светлячки», эти ценности, вдруг перестали иметь всякое значение. На смену им пришли «ценности» цивилизации нового типа, совершенно другой по сравне593 нию с крестьянской доиндустриальной цивилизацией. Эти ценности объединяют страну. Но одновременно они и подрывают ее устои. Существует только один исторический прецедент, сравнимый с этой культурной гомогенизацией: «Германия до прихода Гитлера к власти».73 Демохристиане, чтобы не потерять власть, делают вид, что ничего не произошло. Однако изменения налицо. Итальянцы не могли хуже прореагировать на подобный исторический перелом. Всего за несколько лет они превратились (особенно в центральной части страны и на юге) в народ, лишенный корней, смешной, чудовищный, преступный. Чтобы понять это, достаточно просто выйти на улицу. Но, естественно, чтобы увидеть изменения в людях, их нужно любить. Я, к сожалению, любил этот итальянский люд, любил его, не придерживаясь никаких политических схем власти (даже скорее за его постоянную оппозицию этой власти), не разделяя популистские и гуманистические взгляды. Это была настоящая любовь, любовь, происходившая из глубины моего сердца. И тогда я увидел, как власть общества потребления вынуждена перестраивать и деформировать сознание итальянского народа, приводя его к необратимой деградации.74 Политики, представители Демохристианской партии, ответственны за эту деградацию. Вина их еще более велика, потому что они не хотят это признать. «Христианские демократы ⟨…⟩ не заметив того, превратились в не что иное, как инструмент формальной власти, при помощи которого новая реальная власть уничтожила страну и ее народ».75 В этой стране, полностью деградировавшей, есть «островок безопасности» – это коммунистическая партия: 594 Итальянская коммунистическая партия – это чистый островок в грязной стране, честная страна в стране, утратившей понятие чести, умная страна внутри страны идиотов, страна образованных людей в стране невежд, страна гуманизма в стране потребления. И еще: Разделение страны на две, одна из которых по горло погрязла в деградации и дегенерации, а другая осталась целой и невредимой, ничем себя не скомпрометировала, не может стать основой мира и конструктивного решения текущих проблем.76 Вывод: чтобы уничтожить это разделение, необходимо «судебное разбирательство». Летом 1975 года Пазолини задумал начать «судебное разбирательство» против руководителей Демохристианской партии («уголовный судебный процесс, в суде»,77 откуда обвиняемые выйдут «в наручниках, под конвоем»)78. В чем же вина этих людей? Их вина не в том, что они безнравственны (хотя это так), но в том, что они ошиблись в политической оценке себя самих и власти, которой они служили: ошиблись в политической оценке, что повлекло чудовищные последствия для жизни нашей страны.79 Ошибка в «политической оценке» собственной роли и судьбы. Предательство истинной веры. Предательство гуманизма. Вот те преступления, которые совершили христианские демократы. Пазолини проповедовал: его стиль все больше приобретал стилистические оттенки религиозной проповеди. Пол595 ностью отдавшись полемике – а его оппонентами стали теперь такие политические комментаторы, как Лео Вльяни, Джорджо Галли, Луиджи Фирпо – Пьер Паоло, казалось, с удовольствием выступал в роли проповедника. Он заявил, что его идеи – это «фантазии моралиста»;80 но из его слов было видно, насколько важными и насущными были эти споры для того, чтобы страна избежала «трагической» и «смешной» судьбы, которая ожидала ее. «Уголовный процесс» над руководителями Демохристианской партии должен был принять «форму, смысл и значение синтеза»81 – именно так он говорил. И он необходим для того, чтобы выиграть «демократическую игру». 15 июня 1975 года, во время консультаций, предшествовавших административным выборам, левым удалось намного увеличить свой рейтинг. Повысился и рейтинг коммунистической партии. Пазолини решил, что, может быть, после этого и наступит момент, когда граждане Италии должны будут узнать правду, и узнать ее «в чисто стоическом духе».82 Итальянцы «хотят знать», даже если их вопросы еще не сформулированы «с достаточной точностью», что это за «человеческие условия ⟨...⟩, в которых они вынуждены жить, как будто во время мирового природного катаклизма». Они хотят знать, что такое «“новая культура” – в антропологическом смысле, – которую они воспринимают как сон: культура, которая всех уравнивает, ведет к деградации, культура откровенно вульгарная». И что такое «новый тип власти», который и породил эту культуру, поскольку «клерико-фашистская власть закончилась». Что такое «новый способ производства», если он не производит, впервые в истории, «базовых общественных отношений», которые были разрушены во имя всевозможных «измене596 ний». Не зная всего этого, невозможно управлять страной, а если и можно, то только так, как это делали демохристиане, запершись в «лабиринтах дворца Пацци*».83 В сентябре–октябре 1975 года Пазолини создал свой проект реформы: немедленное упразднение обязательного среднего образования и телевидения.84 Этим упразднением он намеревался подрубить корни Зла, воспрепятствовать распространению нравственной заразы, очистить всю страну от грязи, которая ее затопила. В эти месяцы казалось, что «ностальгические» настроения покинули Пазолини. Возможно, потому, что в его жизни наступали реальные кардинальные перемены, гораздо более важные, чем те, которые произошли, когда он начал заниматься кино. Активная политическая жизнь, которую он понимал как «долг и обязанность каждого интеллигента», могла захватить его гораздо сильнее, чем все его прошлые увлечения. Изменились и его отношения с коммунистической партией. Некоторые интеллектуалы-коммунисты продолжали полемизировать с ним. Руководители молодежной федерации партии превратились в его единомышленников.85 24 сентября 1975 года в Риме Пазолини принял участие в манифестации, которую римское отделение молодежной федерации проводило в парке на холме Пинчо. Там же был организован диспут на тему нравственной вседозволенности и наркотиков. Пазолини считал, что вседозволенность и наркотики напрямую связаны с преступностью. * Дворец во Флоренции, принадлежавший семье Пацци. Именно там был составлен заговор флорентийских патрициев и их сторонников, направленный на свержение правящей в Тоскане династии Медичи путем убийства главы династии Лоренцо Медичи и его брата Джулиано. На их место должны были стать представители семьи Пацци. 597 Нужно раз и навсегда понять, что толерантность потерпела крах. Это, конечно, была ложная толерантность, которая и была одной из основных причин деградации огромной массы молодежи.86 В молодежной федерации КПИ прошло широкое обсуждение форм социального кризиса, который поразил молодое поколение итальянцев. В дискуссии особо подчеркивалась необходимость правильной оценки происходящего и недопустимость недооценки идеологической роли партии. Проповедь марксизма, которую вел Пазолини, и его «морализм» (его «морализм» становился все более настойчивым, в нем были все более заметны его общегуманитарные интересы и глубокое знание основных гуманитарных концепций) могли оказать стимулирующее воздействие на любого, кто пытался выразить свои собственные политические убеждения языком, не связанным напрямую с языком далеких пятидесятых годов. 1968 год стал уже для большей части молодежи исключительно воспоминанием, отправной точкой политического движения, которое необходимо было подвергнуть историческому анализу. Пазолини предлагал идеи для такого анализа. Его отказ от «ложной толерантности», от вседозволенности, подвергал пересмотру одну из основополагающих идей шестьдесят восьмого года. «Необходимо судить, руководствуясь результатами, а не “априори” (суждение априори имело прогрессивное значение лет десять назад)»87. Молодые коммунисты в школах, на фабриках знали, что полученные ими критерии оценки, предложенные им методы вершить политику, лозунги и призывы теперь почти не нужны. Горячее слово Пазолини, его постоянный призыв к культуре, утверждающей традиционные ценности, к решению итальянских проблем, его отказ от кодифициро598 ванного языка официальной резиденции власти, имели огромное значение и оказывали огромное влияние. Популярность Пазолини росла, и росла потому, что, не доверяя политическим партиям и профессиональным политикам, он яростно требовал немедленных действий, способных спасти страну. Навряд ли можно положиться в этом на политиков.⟨...⟩ Сегодня кажется, что только интеллектуалы – последователи Платона (и, я добавлю, марксисты), хотя им часто не хватает информации, но абсолютно бескорыстные и незаинтересованные, имеют хоть какую-то возможность понять, что в действительности происходит. Естественно, только при условии, что их догадки будут переведены – буквально переведены – учеными, тоже последователями Платона, на язык единственной науки, чья связь с реальностью неоспорима, как природная связь, – на язык политической экономии.88 Это последние слова последней статьи Пазолини, опубликованной при жизни, 30 октября 1975 года. Последние слова его «посланий Павла». Это были слова его утопии, к сожалению, оставшейся незаконченной. Но основные ее направления ясно видны. Страна и ее история должны вновь обрести прежде всего свою культуру, а потом можно будет перейти к политической практике. Пазолини был прав, когда обвинял в исторической неосведомленности руководителей Демохристианской партии. Это совсем не то, как если бы он обвинил их в неспособности руководить. Он смотрел на ход жизни в далекой перспективе, туда направляя свои мысли, мчавшиеся на огромной скорости. 599 И действительно, его полемика основывалась на раннехристианской концепции Зла. К этому добавлялась ораторская устремленность марксистского палингенеза (он был хорошим читателем Грамши и полностью разделял конкретность его мысли). Эта идея Зла – что-то вроде первородного греха современного мира, который собирается варварски использовать тончайшие инструменты познания, – эта идея не позволяла ему согласиться с позитивной динамикой альтернативных социальных процессов, которые так тщательно пытался разработать неоиллюминизм. Пазолини был своеобразным радаром, находящимся в постоянном движении. Он на лету схватывал суть полемики экологов и революционеров, призывающих к террору радикалов и либералов, и верующих в священную неприкосновенность человеческой личности, тех, кто утверждал, что государственные институты действуют эффективно, и тех, кто стремился разрушить государство во имя губительных нигилистских проектов. Эти свои догадки он облекал в убедительные и исполненные драматизма слова, бесстрастные и напряженные. Это был язык, который приближал литературу к жизни, раскрывал ее болезненное экзистенциальное содержание. Здесь и зародилась его легенда, особенно среди молодежи, которая слушала его выступления. Во время этих встреч он отдавал себя, растрачивал свой педагогический потенциал. То, что он говорил, представляло собой странную смесь упрямства и преданности. Он импровизировал, он зачитывал вслух тексты, написанные на карточках, которые вынимал из кармана. В лице его отражалась сила, он отчаянно улыбался. Когда он замечал, что собеседника мучит та же тревога, он говорил с ним как с «товарищем по несчастью». В этот мо600 мент он был уверен, что его боль, самое большое переживание этого последнего года его жизни, отражаясь в другом человеке, утихала. «Привычки, эти сестры трагедии»89 Последние годы. Любовь к башне Кья. В Кья он встретил молодого человека, крестьянина. Кудрявый парнишка с прыщавым лицом, как будто воскресший Нинетто. Его звали Клаудио Трокколи, он называл его Трокколетто. Это был молчаливый, робкий мальчик. Несколько раз Пазолини брал его с собой в Рим. На его лице было выражение крайней невинности. Так заканчивается фильм «Сало»: те кадры, где два юноши танцуют. Он не избавился от привычки. Все еще, хоть, может, и не так часто, вечером, часов в одиннадцать, он вставал изза стола, за которым ужинал с друзьями, и отправлялся во тьму своей ночи. Воскресный ужин в доме Бетти – там они ели изысканные картофельные суфле – был исключением. Оттуда Пьер Паоло уходил вместе с другими и отправлялся спать. Именно там, в доме Лауры, они часто рассуждали о феминизме и феминистском движении. Лаура обличала или соглашалась. Пьер Паоло, как всегда, веселился. Лаура стала человеком, неотделимым от Пьера Паоло: Ты, старушка Бетти, старый ураган. И сто тысяч лет назад ты была в грязи этих будущих избранных. И еще: 601 Такая вспыльчивая, катастрофическая, разрушительная, саморазрушительная, она бросает на землю бокал, который, конечно, верный своему долгу, разбивается с грохотом, драматично, на тысячи мельчайших блестящих осколков, как кубки, которые бросали на землю языческие богини.90 Для последнего выступления Лауры в 1964 году Пьер Паоло написал небольшую одноактную пьесу, «Магическая Италия», и нарисовал ее портрет. Еще один раз он описал ее через несколько лет для журнала «Вог». Это был некролог, посвященный ей и подписанный «свидетель, 2001 год»91. Пионерка тотальной критики? Да, но и вынесшая тотальную критику. Мадам, так Лаура себя называла. Она утверждала, что предсказала все: свободный секс и феминизм, лингвистическое обновление песни* и театральное самоуправление. Пьер Паоло во всем с ней соглашался и комментировал: ⟨...⟩ и вынесшая тотальную критику, а следовательно, способная восстановить статус, существовавший прежде. Там, где все было переполнено (буржуазный порядок и официальная оппозиция), наступил хаос. Не стало хаоса, вновь появилось то, что заполняло пустоту прежде. Тот, кто был внутри и изображал из себя протестующего шута, оказался как бы в комнате, у которой внезапно исчезли стены. * Вплоть до послевоенного периода итальянская песня была диалектальной. После Второй мировой войны благодаря радио и телевидению появилась песня на итальянском языке, с простым бытовым содержанием. 602 Это были два года хаоса, 1968–1970. И протестующий «шут», закрытый в комнате, вернувшись к обыденной жизни, обнаружил очень обычную вещь: он постарел. За этим последовал «некролог»: Человек, о котором я говорю, никогда не согласится ни с одним из моих утверждений. Она состарилась и умерла, но я уверен, что в своей могиле она чувствует себя девочкой. Она, конечно, гордится своей смертью, считает ее смертью особенной ⟨...⟩. Она добавила к своему настоящему виду немного окаменелости и надела неснимаемую маску белокурой куколки (но внимание: за куколкой, которая, я готов согласиться, и есть ее маска, скрывается трагическая Марлен, настоящая Гарбо). Но в то же самое время, когда она попыталась закрепить свою детскость, надев соответствующую маску, она не переставала играть роли персонажей, противоположных друг другу, которые и знамениты-то тем, что постоянно противоречат один другому. Лаура воплощала идею противоречия, яркую игру противоречий, в которой соединялись «милосердие» и «великодушие» с «чем-то эротическим»: Это, действительно, некролог героине. Нужно еще добавить, что она была очень остроумной и прекрасно готовила. Так закончил Пьер Паоло свою статью. Лаура была влюблена в молодого немецкого сценариста. Потом она осталась одна. Однажды – в эти дни она расставалась со своим сценаристом – на нее упал книжный шкаф. Она и так часто обращалась к врачам, постоянно пробовала какое-нибудь лечение, лечилась от выдуманных болезней и от настоящих. Но на этот раз она действительно се603 рьезно заболела. Эмоциональные срывы, неожиданные приступы раздражения, отчаяние. Пьер Паоло постарался помочь. Она быстро поправилась, снова начались воскресные ужины, за которым они до хрипоты обсуждали новые проекты. К ужинам добавился и отдых на море. Моравиа снимал летом дом на песчаных дюнах Сабаудии. Тогда этот пляж не был еще популярен. Он тянется как узкая полоса под зеленой скалой Цирцеи. Его открыл друг, художник Лоренцо Торнабуони. В доме Моравиа Пьер Паоло проводил по нескольку недель. Мадам тоже снимала виллу, но не на дюнах, а на мысе, с видом на Понцу. Пьер Паоло разрывался между солнечными ваннами на камнях мыса и песчаным пляжем Сабаудии. Там он тоже временами предавался своим ночным «привычкам». Он ездил в Неттуно, где у него были друзья в школе полиции. Он говорил, что это «милейшие ребята», дети Юга доброй старой Италии. В Сабаудии в августе 1973 года вместе с Дачей Мараини он написал сценарий «Цветка тысячи и одной ночи». Работая у моря, он отдыхал. Потом он отправлялся к Сюзанне в горы, а в сентябре опять возвращался в Рим, к сотне своих повседневных занятий. Закончив «Трилогию жизни», он стал работать над «Святым Павлом», как я уже говорил. Но в конце 1973 года он рассказал Энцо Голино о другом плане: Да, в фильме, который я сделаю после того, как закончу «Тысячу и одну ночь», героями будут два неаполитанца. Я бы хотел, чтобы одного из них играл Эдуардо Де Филип604 по. Действие фильма начинается в Неаполе. Там будет долгое путешествие, во время которого эти два неаполитанца встретят множество других своих земляков, разбросанных по всему миру. ⟨...⟩ Неаполь остался теперь единственным большим диалектальным центром. Там наблюдается только поверхностное стремление приспособиться к моделям, навязанным центром, к нормам, предписанным сверху. Неаполитанцы веками были вынуждены мимикрировать, приспосабливаться к тем, кто правил ими. 92 Проект, от которого сохранилась предварительная версия киносценария на семидесяти пяти карточках с исправлениями от руки, называется «Порно-Тео-Колоссаль». Героев зовут Эдуардо и Нинетто. Это римейк фильма семидесятых годов «Птицы большие и малые», сюжет которого – воображаемое путешествие по трем символическим городам: Содом (Рим), Гоморра (Милан), Нуманция* (Париж) и, наконец, по индийскому Востоку. Герои следуют указаниям кометы, которая ведет их к познанию новой «благой вести». На своем пути они должны непременно посетить три города, которые, соответственно, представляют бессмысленную вседозволенность, жестокое восстание против всего, что отличается от местных нравов и обычаев, неокапиталистическую власть фашизма. Из-за какой-то стоической иронии Пазолини вывел своего двойника в образе простодушного мудрого старика, который одновременно и равнодушен к происходящему, и является его активным участником. Он отмечен изысканным аристократизмом ума, которым обладают только истинные выходцы из народа. * Нуманция – древнеиберийское укрепленное поселение на р. Дуэро, в Испании, центр героического сопротивления местных племен римлянам. 605 Образ, который должен был воплотить в жизнь в «ПорноТео-Колоссаль» Эдуардо Де Филиппо, – это образ поэта, проповедующего утопию в небесах собственной души, утопию политическую и религиозную, освещенную его улыбкой. Проект «Порно-Тео-Колоссаль» был отложен. Пазолини снял вместо этого «Сало,* или 120 дней Содома». Съемки начались в первые месяцы 1975 года и продолжались до поздней весны. Фильм снимался на вилле в окрестностях Мантуи. Серджо Читти и Пупи Аванти написали сценарий. Существовала легенда, что эротические сцены фильма были сняты с натуры, что актеры на самом деле участвовали в непристойных сценах мазохизма и садизма. В фильме действительно много обнаженного тела, много жестокости, скандальных кадров. Но сразу видно, например, что в сценах копрофагии вместо экскрементов использован шоколад. Всякий раз, когда известный режиссер снимает фильм, сюжет которого может спровоцировать скандал, неизбежны сплетни и легенды; создавать и опровергать их – задача персонала, занимающегося связями с общественностью. Это один из способов подогревать интерес ко всему, что попадает в поле зрения объектива кинокамеры. Сам сюжет «Сало» мог дать пищу бесконечному множеству сплетен. Так оно и случилось. Пьер Паоло, со своей стороны, в наиболее душераздирающих сценах провоцировал актеров, отпуская самые саркастические замечания, на которые только был способен. Заставить зрелого мужчину-гетеросексуала страстно поцеловать в губы мальчика (оба они – не профессиональные актеры) для него было * Салó – итальянский город на озере Гарда на севере Италии, где 8 сентября 1943 года была провозглашена Итальянская Социальная Республика во главе с Муссолини. 606 чем-то вроде игры, но вместе с тем и необходимостью, вызванной глубоким убеждением. Он был убежден в том, что все, пусть бессознательно, испытывают и гомосексуальное влечение, которое подавляют в себе, подчиняясь общественному мнению. Во время съемок в Мантуе он начал писать педагогический трактат, который назвал «Дженнарьелло». Он писал его для журнала «Иль Мондо», который публиковал трактат с продолжением, раз в неделю. «Дженнарьелло» должен был стать его «Эмилем»*, воплощением идей его безумной педагогики. Он объяснял мальчику-неаполитанцу, южанину – и поэтому исторически предрасположенному покоряться жестокости власти, – как спастись, как жить в современном обществе и вместе с тем противостоять его растлевающему влиянию. Отречение, утопия и надежда. Он лелеял в себе эту надежду. Месяцы, проведенные в Мантуе. Недалеко, в нескольких километрах, в окрестностях Пармы, Бернардо Бертолуччи снимал свой «Двадцатый век». Пьеру Паоло не понравилось «Последнее танго в Париже». Он высказался о фильме весьма критически. Он считал фильм уступкой, которую Бертолуччи сделал коммерческому кино. Разногласия, соперничество омрачали старые дружеские отношения между учителем и учеником: некоторое время Пьер Паоло и Бернардо старались не встречаться. А теперь они оказались рядом, оба занятые своей работой. Лаура Бетти участвовала в фильме «Двадцатый век». * «Эмиль, или О воспитании» (1762) – трактат Ж. Ж. Руссо, в котором он излагает свои педагогические воззрения. 607 Продюсером обоих фильмов был Альберто Гримальди. Нико Нальдини участвовал в съемках и того и другого. Съемочные группы организовали футбольный матч. Пьер Паоло участвовал в игре. В конце концов друзья обнялись. Пьер Паоло торопился завершить съемки. Лето он провел, занимаясь монтажом и подготовкой фильма к показу. За несколько лет до этого вместе с Моравиа он приобрел участок земли на дюнах Сабаудии. Они отремонтировали дом, который стоял на этом участке, и разделили его пополам. К этому лету дом был готов. Моравиа провел там отпуск. Сюзанна и Грациелла жили на своей половине. С Грациеллой был Винченцо Черами, который учился в Чампино. Он писал стихи, написал роман. «Сало» был закончен к концу октября. Пьер Паоло уже начал обсуждать с Эдуардо Де Филиппо его участие в «Порно-Тео-Колоссаль». Но в то же время в разговорах с некоторыми друзьями он говорил, что ему необходимо отложить свои кинопроекты, потому что он хочет закончить роман, над которым работает.93 Ощущая острую потребность, которая превратилась в настоящую манию, изменить свою жизнь, Пьер Паоло, казалось, все больше становился зависимым от своих привычек, а кино как раз и стало для него привычкой. В Швеции вышел сборник его стихов. В конце октября 1975 года он уехал в Стокгольм. До этого он съездил в Париж, где редактировал диалоги для французского дубляжа «Сало». «Сало, или 120 дней Содома» – это что-то вроде критического эссе в образах, Сюжет подсказан романом маркиза де Сада, изданным после смерти автора. 608 В его основе – описание фашистского менталитета, благодаря которому появились концентрационные лагеря. Но это не единственная тема фильма. Он рассказывает так же о разрушительной силе секса и смерти. В заглавных титрах, написанных на белом фоне шрифтом «Бодони», как, впрочем, во всех фильмах Пазолини, есть надпись: «Основная библиография». Там указаны работы о де Саде Барта, Клоссовского, Бланшо и других. Автор фильма, таким образом, показывает, что дополнил и обогатил собственное произведение результатами наблюдений некоторых исследователей творчества де Сада. Главный вывод в том, что творчество де Сада представляет собой существенный вклад в теорию номинализма. Де Сад вкладывает в уста своих персонажей бесконечно длинные речи, полные абстрактных нравоучений. Весь этот словесный поток, все эти разглагольствования имеют одну цель: они превращают действие романа в ритуал и символ. В «Сало» стремление де Сада к ритуалу и символу полностью сохранено. Персонажи «120 дней Содома» представляют на печатных страницах свои действия, как актеры, рассказывают о них, но мы не видим, что и как они делают. Таким образом, проявляется контраст между тем, что они говорят, и тем, что они делают. Пазолини стремится показать этот контраст, эту «отрешенность от действия», теоретически обоснованную Брехтом. «Сало» – это «брехтовский» фильм, фильм «критический», фильм ритуальный. Он открывается видами Паданской равнины. Нацисты устраивают там облаву на молодежь. Цвет первых кадров акварельный, нежный, чуть приглушенный и измененный туманом. Мы в самом начале церемонии. Сама церемония начнется в тот момент, когда закончится облава. 609 Четыре господина и четыре дамы уединяются на вилле в стиле неоклассицизма, чтобы провести там сто двадцать дней, исполняя чудовищные ритуалы. Власть сама по себе анархична, говорит Пазолини. Власть хочет упразднить историю и надругаться над природой. Историю и природу можно уничтожить при помощи секса. Хроника исторических событий подсказывает, что во время Республики Сало, с приходом к власти нацистов, подобная попытка уничтожения исторических и естественных корней, уничтожения тотального и радикального, вполне могла осуществиться. Вот поэтому в фильме, подсказанном де Садом, ясно прослеживается метафора апокалипсиса. Перед зрителем предстает ад боли и страданий, организованный, замкнутый. В нем все происходит так, как хотят дамы–участницы ритуала. Они с наслаждением рассказывают о своих фантазиях в Зале оргий. Дамы рассказывают, господа пытаются воплотить в жизнь их фантазии, используя как подопытный материал юношей и девушек, которых поймали во время облавы в соседних деревнях. Обнаженные тела, посиневшие от холода, – вот плоть, которую Пазолини показывает нам в «Сало». Здесь нет роскошной и прекрасной плоти «Трилогии жизни». Это тела серые, несомненно, красивые, пропорционально сложенные, но измученные, изломанные, лишенные своей красоты адом, в котором они оказались. Их слабость как жертв представляется чем-то окаменевшим, поскольку, хотя они и жертвы, они не могут избежать растлевающих отношений со своими мучителями. Страх вызывает только то, что они никак не могут выбрать, принять ли навязанные им роли или отказаться. Анархия ситуации создает условия, при которых они, иногда оказыва610 ясь свободными принимать решения, думают, что они могут свободно проявлять собственную склонность к комунибудь, что они могут любить. Иррационализм власти действует так, что ломает их, заставляет делать самые отвратительные вещи, включая копрофагию, ведет их к «заключительному решению», к смерти. По очереди каждый из четырех господ наблюдает сцены убийства в бинокль из окна виллы. Иногда они переворачивают бинокль, и тогда сцена предстает в виде картины в изящной раме. Полная капитуляция перед неизбежным. Даже если последняя сцена фильма, сцена танца, в котором сплетаются обнаженные тела двух юношей (фашистов, которые свободны и могут среди всего этого ужаса оставаться самими собой), намекает на некую слабую надежду. Но какую надежду? Согласно мнению Жоржа Батая, можно сказать, что в этом фильме познание смерти больше не является кошмаром, преследующим человека с момента его появления на свет. Кажется, что Пазолини, «корсар» и «лютеранин», в «Сало» ощущает в глубине души не что иное, как мистицизм превращения в ничто, и придает этому чувству пластический образ, обогащая его бесконечными подробностями и нюансами. Жизненная сила, смех на пике эротического наслаждения – то есть самые яркие знаковые моменты «Цветка тысячи и одной ночи» – кажется, полностью исчезают из поля его зрения. Или, лучше сказать, сводятся к тщательно продуманному ритуалу, иногда к мелодраме, к Grande Messe des Mortes*. * Grande Messe des Mortes (франц.) – Великая месса мертвых. Второе название «Реквиема» французского композитора Гектора Берлиоза (1803–1869). 611 В «Цветке тысячи и одной ночи» эрос был чистой любовью, в «Сало» он превратился в ненависть. Может быть, в этом и заключалось диалектическое единство противоположностей? Действительно, как уже отмечалось, в «Сало» «Пазолини использует маркиза де Сада, чтобы показать истинный облик Пазолини»94, однако эта попытка показать истинный облик принимает форму безоговорочной капитуляции: эрос, когда-то показанный в его первозданном виде, превращается в вину, в преступление. От греха сладострастия необходимо было очиститься; именно об этом грехе апостол Павел сказал самые горькие слова. В душе Пазолини этот грех, казалось, возник из мрачного беспокойства, которое мучило его в юношеские годы, и отразился в том, что он сам назвал «антропологическим геноцидом». Отчаяние, которое явственно читается на страницах политических памфлетов, выплескивается на страницы романа «Vas» и превращается в программное заявление на экране в сценах «Сало». Надежда, которая появлялась в разные моменты его жизни в эти годы, призрачное удовольствие, позволявшее ему предсказывать нечто хорошее в будущем, – все это уничтожается нашествием непредсказуемого Зла. В «Сало» тоже есть некая утопия, вернее, антиутопия: поскольку действие фильма происходит в сороковые годы, оно проецируется на будущее, создавая абсолютно черную его картину. Единственное исключение – это фокстрот, который танцуют юноши в финальной сцене картины. Кажется, что Эринии требуют от Пазолини печали и смерти. Действительно, эрос не доставлял ему больше радости. Тревога все больше овладевала им, и он не в силах был ее скрывать. Отречение от тела, от связей с юношами с окраин было вызвано вовсе не интеллектуальным маньеризмом. Река времени унесла образы и идеалы. Сюзанна старела, у нее все чаще проявлялись тревожные признаки физической деградации. Пьер Паоло обнимал ее, шептал ей нежные слова, говорил, что любит ее, но ее мозг уже заполнялся мутными водами старости. На террасе дома в Сабаудии летом того года Сюзанна в редкие минуты просветления разговаривала с морем, шепча ему свои старые мечты и фантазии. Это были месяцы печального заката человеческой жизни. В сердце Пазолини радость эроса помрачнела. Для него это означало поражение, это погружало его в уныние. Но Пьер Паоло не желал уступить ни малейшей частицы своей жизненной силы, не хотел просто покориться судьбе. Он строил планы, работал, пытался скрыть отчаяние и тревогу под множеством проектов, в разнообразной деятельности. Он пытался создать для себя другую повседневную жизнь. Он говорил, что зимой хотел бы ходить на концерты, снова услышать любимую музыку, попытаться осмыслить ее. Он также не оставил идеи вернуться к живописи и обязательно писать, писать романы. Но его привычки, как и его страсти, были подвержены рецидивам. В своих ночных прогулках по Риму в последние месяцы он несколько раз попадал в опасные ситуации, на него нападали. Он очень близко, на собственном опыте, познакомился с преступным миром. Он считал, что все это связано с мрачной судьбой итальянского общества. За себя он никогда не боялся. Отсутствие чувства страха было частью его эротического чувства, его личным качеством. Итак, 26 октября он уехал в Стокгольм. На той же неделе из Стокгольма он отправился в Париж, чтобы участвовать в подготовке французского текста для «Сало». В Рим он вернулся 31 октября. В субботу 1 ноября он завтракал дома. Завтрак ему приготовила Сюзанна. Вечером он решил пообедать с Нинетто. Обед в «Помидоро» в Сан Лоренцо. «Фотофиниш» его жизни запечатлел, как он исчезает в ночи на своей «Джулии GT». Его последние слова – это банальные слова прощания, обычные слова, обычный вечер. Во время всего происходящего потом Пьер Паоло молчит. Это немая тень, которая движется по строчкам протокола карабинеров, записывающих признания «Дженарьелло»-убийцы. Привычки и страсти победили в поэте любое его высокое предназначение, любую утопию. Пьер Паоло уже превратился в бесформенное тело, когда заря 2 ноября 1975 года постепенно осветила рассеянным светом (заполняющим светом, как говорят на языке кино) площадку гидродрома в Остии. ЭПИЛОГ ЖАЖДА ЖИЗНИ Хотел ли сам Пазолини умереть? Было ли его убийство «заказным самоубийством»? В прологе я задал сам себе вопрос о том, в чем же был смысл фатальной неизбежности смерти Паозолини. Кажется, что судьба разработала свой собственный сценарий до миллиметра, настолько поразительны совпадения реального пейзажа и воображаемого, представленного во многих фильмах и романах Пазолини. Я говорил об «ужасающей фатальности». Жизнь Пазолини могла объяснить все. «Охота», которой он предавался по ночам, казалось, неоспоримо свидетельствует о том, что он ежедневно подвергал себя риску, был готов предаться эросу самых мрачных тонов. Может быть, Пазолини и искал смерти в своих ночных экспедициях, и смерть предложила ему свои услуги, воспользовавшись руками Пелози или, вернее, предположительно воспользовавшись его руками. Древнее, противоречивое отвращение к собственному эросу. Пазолини жил с мыслью, что не может получить от 617 эроса то, что ему необходимо; его потребности были непонятными, туманными, ночными. Этот эрос не требовал инцеста, не требовал даже мечты об инцесте. А может быть, ему нужна была какая-то замена этой мечте. В то же время он требовал какой-то замены, компенсации всему тому, что означало ностальгию по отцу, к которому он испытывал сложное чувство любви-ненависти и которого потерял. Вывод напрашивается сам собой: мальчики. Их тысячи. И я не могу любить ни одного из них ⟨...⟩1 Каждый по-своему красив, по-своему вечен, каждый вышел из небытия, из невозможной сублимации. Это вовсе не пустые умозаключения. Пазолини «выдал» себя в стихах, он и не пытался ничего скрывать. Вот и я, освещенный апрельским светом, я пришел на исповедь, встал на колени. Я покаюсь во всем ⟨...⟩2 Но какое значение имеет то, что он бросается на землю и плачет? Как это понимать? Это исповедь. Если мы мысленно проанализируем сложные понятия, которые католическая традиция связывает с исповедью, нам придется представить себе самые мучительные переживания нашего «я». «Я», страдающее, разрываемое на части, которое, исповедуясь коленопреклоненным, то есть приблизившись как можно больше к земле (матери), пытается через мучительное действо облечения в слова избежать безумия, расщепления сознания, стремится собрать себя воедино. Это желание выздороветь, потому что грех – это болезнь, особенная болезнь, лечение которой состоит в том, что о ней нужно открыто заявить. 618 Но если грешник сознается в своем грехе, разве это не открывает для него путь к выздоровлению? Католик (и любой христианин) скажет, что, конечно, открывает. Нет никакой необходимости, таким образом, как-то дополнительно подтверждать, что Пазолини был христианином. Пазолини бросается на землю, кается в грехах. Потом… на солнце я вновь обретаю свою обычную радость ⟨...⟩3 Исповедование своих грехов приносило ему облегчение, но не избавление. J’ai fait le premier pas et le plus pénible dans le labyrinthe obscur et fangeux de mes confessions. Ce n’est pas ce qui est criminel qui coûte le plus à dire, c’est ce qui est ridicule et honteux. Dès à présent je suis sûr de moi; après ce que je viens d’oser dire, rien ne peut plus m’arrêter.* 4 Так писал Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди». «Смешно», «постыдно». Жан-Жак так описал момент, когда столкнулся с собственным мазохизмом, удивительное удовольствие, которое он испытал от жестоких упреков мадемуазель Ламберсье. Руссо не верит в простое исповедание греха, он верит в познавательную силу «исповеди». Руссо был неверующим. Но и он приходит в некое состояние восторга, произнося свою исповедь, при одной только мысли о собственной «непохожести», при мысли о том, что он, один, является обладателем истины. * Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня (франц.). – Ж. Ж. Руссо, «Исповедь» (пер. Д. А. Горбова и М. Я. Розанова). 619 Пазолини, исповедуя свой грех, ведет себя совершенно так же: в нем растет жажда «недопустимого»: Я должен защищать эту огромную отчаянную нежность, которую я получил, появившись на свет.5 Исповедание греха превращается, таким образом, в экстаз. Если экстаз не наступает, «лучше смерть, / чем отречение»6. Отречение означает отказ, а поэтому «лучше смерть». Кажется, мы все объяснили: похоже, что Пазолини был побежден при попытке примирить противоречия, которые составляли всю его жизнь. Все другие рассуждения не имеют смысла. Смерть – это абсолютное воплощение существования, это непосредственное упорядочивание всего, что выходило за пределы нормы. В нашем случае все то, что казалось противоречивым, приобрело трагическое единство. Но все то, что касается Пазолини, связано с оксюмороном, с этой риторической фигурой, которая основана на контрасте и диспропорции. Приговор суда по делу Пелози, вынесенный 4 декабря 1976 года и подписанный судьей Фердинандо Дзуккони Галли Фонсека, воссоздает ночь в окрестностях гидродрома в Остии, считая, что единственными действующими лицами там были Пазолини и Пино по прозвищу «лягушонок», один на один. Тщательно исследовав все доказательства относительно участия третьих лиц (отпечаток ноги и свитер, найденные внутри автомобиля, отпечатки подошв из рифленой резины, обнаруженные на футбольном поле, небольшое количество крови на одежде Пелози, наличие пятен крови на крыше автомобиля и другие), суд пришел к выводу: «не 620 вызывает сомнения, что наличие этих вещественных доказательств можно объяснить возможным присутствием третьих лиц на месте преступления, однако необходимо заметить, что их невозможно считать неопровержимыми и достоверными доказательствами такого присутствия». Действительно, отпечаток ноги был обнаружен под сиденьем. Грациелла Кьяросси, когда мыла машину, возможно, его не заметила. Свитер мог оставить там любой, с кем в течение дня 1 ноября встречался Пазолини (он в этот день ушел из дома один). Следы обуви с рифленой резиновой подошвой могли принадлежать тем, кто приходил на гидродром до момента убийства. Следов крови на одежде Пелози было мало, потому что молодой человек напал на Пазолини первым и неожиданно. Пятна крови на крыше автомобиля могли оставить отлетевшие щепки. То есть каждое доказательство может быть истолковано двояко. На одном пункте новый приговор настаивает: показания молодого убийцы недостоверны, Пелози лжет. Это доказывает то, что он виновен, доказывает, что его действия не были «случайными и необдуманными». Он прекрасно понимал, кто такой Пазолини и что могло произойти во время поездки с ним. Постановление также отклоняет гипотезу об агрессивном и садистском поведении Пазолини: Суд подчеркивает, что если тщательно исследовать рассказ (Пелози), даже не учитывая противоречий и неточностей, которые он содержит, о том, как именно в отношении к нему была проявлена агрессия, то нельзя обнаружить ничего, что могло бы заставить подумать, будто сексуальные предпочтения потерпевшего или его физическое состояние действительно могли представлять опасность или показаться угрожающими. Если Пазолини и хотел добиться чего бы то ни было от Пелози, несмотря на 621 то что он в последний момент устыдился своих намерений и стал отказываться от своих обещаний, то из рассказа обвиняемого все равно не явствует, что в отношении к нему была применена жестокая агрессия. Пелози сказал, что Пазолини пытался угрожать ему рейкой. Приговор суда отмечает, что если жест «как таковой и имел место как способ принудить к связи или запугать, но не сопровождался жестким требованием или попыткой насильно заставить молодого человека спустить брюки, то Пелози не нужно было оказывать такое яростное сопротивление и так агрессивно реагировать». В заключение этого обоснования, для того чтобы найти мотивы преступления, приговор упоминает «неясные обстоятельства», при которых и произошли все эти события. Суд приходит к выводу, что «установить причины этого преступления не представляется возможным». Пелози убил, но он не говорит, почему убил, и его поведение ничего не объясняет. Тогда, с точки зрения закона, представляется правомерным привести в движение колесо фортуны и заняться поисками хотя бы какой-нибудь мотивации преступления. Тогда версия о существовании засады оказывается вполне правдоподобной, а все сомнения по поводу того, была ли она возможна, рассеиваются. Но и в этом случае тоже (а какой мотив мог быть у тех, кто организовал эту засаду?) все не так просто, противоречия и неясность такой версии тоже очень сильны. Если недостает фактов, можно восполнить их недостаточное количество психологией. Мотивов агрессии может быть много. Мы их не знаем. Но смерть Пазолини – это психологическая реальность, 622 которая сама по себе имеет огромное значение. Несомненно, она была спровоцирована ненавистью убийцы к самому себе и тем, что в момент убийства он ассоциировал себя с Пазолини. Убив Пазолини, убийца хотел сам очиститься. Таким образом, убийство было вызвано неосознанной потребностью самоубийства. Это идея Моравиа.7 Заказное самоубийство было осуществлено руками Пелози. Идея представляется достаточно убедительной. Множество гомосексуалистов были убиты своими платными партнерами. Это полностью укладывается в логику рассуждений Моравиа. Несмотря на все это, мы так и не знаем, что вызвало в Пелози эту жажду крови. О деньгах они договорились. Условия были совершенно ясные и понятные. Возможно, что Пазолини потребовал еще чего-то; может быть, он сам спровоцировал агрессию, схватив планку. И в этот момент все пошло наперекосяк и в результате вылилось в непоправимую трагедию. Был ли поступок Пазолини чем-то вроде мазохизма? Хотел ли он сделать вид, что готов на кровопролитие? Созрела ли в нем в этот момент потребность «заказного самоубийства»? Можно бесконечно перебирать версии. Одна из них тащит за собой другую, появляются новые факты, которые до тех пор были неизвестны, но нам все равно не удается достоверно узнать, что там произошло. Но я могу только еще раз повторить: значение имеет сама реальность этой смерти, а не то, как все произошло на самом деле. Вся жизнь Пазолини – и в литературе, и просто человеческая его жизнь – свидетельствует о том, что он должен 623 был оказаться лицом к лицу со своим убийцей и проявил при этом небывалое мужество. Какова природа этого мужества? Если бы он выжил после той чудовищной ночи, утверждает Россана Россанда, он бы «встал на сторону того семнадцатилетнего парня, который забил его до смерти. Он ругался бы, но был бы на его стороне. И он продолжал бы его защищать до неизбежного другого подобного случая, который он, возможно, предвидел и которого боялся».8 Пазолини знал, что причины, которые определяют жизнь и смерть людей, – это исторические причины, что они не случайны. Это была особая форма мужества, которой он не был чужд, мужества интеллектуального, связанного с процессом познания. Он был не чужд и христианской любви. Россана Россанда полагает, что он был воспитан в духе этой любви, которую его знакомство с марксизмом сделало более полной и страстной. Мужество, о котором я говорю, однако имеет скорее экзистенциальный характер, чем культурный. Дерзко жить собственной жизнью, всегда быть готовым к экстремальному риску – вот мужество Пазолини. Многие полагали, что его жизнь является оскорблением образа просвещенного интеллектуала, поскольку он всегда был готов на любые противоречия, пытался изобразить из себя человека совершенно невоспитанного, отрицающего саму идею хорошего воспитания. Все немотивированное и постыдное казалось его царством, и не только казалось, он чувствовал себя в такой среде особенно комфортно. Поэтому неважно, как именно все свершилось на поле гидродрома. В то же время он не отказывался от того, что в его словах всегда была морально-нравственная посылка, его слова всегда были точными и острыми. Его судьба «отверженного» постоянно вынуждала его идти на компромисс с разумом. 624 Все это означало, что он отбросил все условности, даже самую последнюю из них: необходимость цепляться за жизнь, пытаться выжить несмотря ни на что. Его постоянный «обман». Пазолини часто пользовался «масками». Маска «соловья» или Христа, оскорбленного и осмеянного, маска «ворона» или странствующего идейного Дон Кихота, маска святого Павла. Это были маски, которые подсказывали идею всеобщего спасения. Глубокое, неразрешимое противоречие Пазолини происходило из того, что он был уверен, неколебимо и твердо уверен, что не может спасти никого, даже самого себя. Поэтому его слова надежды всякий раз, когда он осмеливается их произнести, звучат так слабо и неубедительно. Итак, Пазолини не просил у жизни «заказного самоубийства». Он смотрел в глаза смерти мужественно, как человек, который не пытается заглянуть за рамки своей собственной судьбы. Он был глубоко религиозным человеком, но в его религиозном чувстве понятие «Бога» отсутствует. «Трансцендентность» для него просто слово, утратившее всякий смысл. Его религиозность связана с дантовской гордостью; его не интересовали идеи, связанные с Богом-сыном и с подчинением божественному предначертанию. Он бросил вызов божественному. И наоборот: если «божественное» принимало облик создания, оно его захватывало, привлекало, но не как сына. Его самая обычная «маска» – это маска человека, который полностью лишен всех сыновних качеств, зато с лихвой наделен качествами «учителя». Только эта маска позволяла ему признавать существование идеи «мужа». Эту идею он, с другой стороны, мог вызвать к жизни, использовать, возвести в крайнюю степень с редким и поразительным мастерством. 625 Этот муж, однако, – и здесь кроется его «обман» – нужен ему для того, чтобы подчеркнуть парадоксальность и остроту его собственной мысли, чтобы она засверкала, как молния. Мысль эта тоже могла быть противоречивой и разрушительной, но именно она, и только она, могла привести к трудному, малопонятному и жестокому постижению жизни и нас самих. Даже в тот момент, когда он решил заняться политикой, решил «бросить свое тело в борьбу», Пазолини остался прежде всего художником. Он хотел придать своим словам огонь действия, но его мучили призраки больного воображения и неспокойной совести. Не существовало ни одного декадента, который стремился бы уничтожить себя действием, которому это доставляло бы удовольствие. Даже такой прозаик, как Джозеф Конрад, писал: «Действие несет успокоение. Оно враг мысли и друг соблазнительных иллюзий». Пазолини не испытывал никакого презрения к идеям. Он постоянно искал новые идеи, изучал, пытался довести до логического конца. Его манера говорить строилась на рациональной лексике психоанализа и марксизма. И все же несомненно, что как в кино, так и в журналистике последних лет его произведения отмечены жаждой деятельности, в них множество героев, живущих активной жизнью, преодолевающих всевозможные трудности. Если мы мысленно вернемся к его ранним годам, когда он напивался, когда впадал в экстаз от произведений чистой и высокой литературы – стихи Фосколо, возвышенная любовь, обольстительные произведения А. Жида, – мы увидим, что он тогда вроде бы и не жил. Он был, несомненно, гениален, он был утонченным поэтом, но его занятия литературой были чем-то вроде болезни, от которой само его существование не могло его излечить. 626 Чувство реальности возникало при преступных и сексуальных контактах с жизнью. Пьер Паоло интуитивно понял, что спасение ему может принести только непосредственное участие в жизни, конкретные действия. Помогли исторические обстоятельства, интеллектуальный пыл послевоенного периода, страстное желание сохранить маленькое культурное наследие, оставшееся нетронутым под развалинами фашизма, надежда на будущее, в котором восторжествует социальная справедливость. В общем, идеи Грамши помогли Пазолини. Состояние отверженности, сложные отношения с философией, битвы, разрушающие тело, – все это в его душе потом победила и успокоила христианская педагогика. Традиции «малой родины» смешались в его сознании с традициями «маленького сельского прихода». Найдя во всем этом равновесие, он пережил счастливый творческий период пятидесятых годов. Потом произошли изменения. Пазолини наложил собственную веру на объективность истории. Его внутренняя жизнь основывалась на диалектической связи с обществом. Он жил весьма насыщенной жизнью, занимаясь культурой и политикой, разделяя взгляды и убеждения левых. Эта жизнь имела для него символическое значение, сулила перспективы. В отношениях с коммунистической партией – отношениях отнюдь не мирных и не простых – он никогда не подвергал сомнению необходимость активной жизненной позиции. Более того, для того чтобы укрепить ее и развивать, он готов был постоянно сражаться. Я не думаю, что у Пазолини было четкое представление о том, что такое «диктатура пролетариата»: в его представлении социализм и коммунизм сливались в одно счастливое общество, где не будет ни людских страданий, ни исторических страданий нации. 627 Он был утопистом и, ни минуты не колеблясь, связал этот свой утопизм с непреодолимыми требованиями эроса. В этом полностью проявилась оригинальность его мышления: он не боялся своего демона. Наступление кризиса идеологий, разрушение мира «малых родин» или «маленьких сельских приходов» лишило его той пищи, без которой его творчество было немыслимо. Для того чтобы придать визуальную пластичность своей антропологической и поэтической фантазии, он обратился к кино, «письменному языку реальности». Кино подсказало ему идею о том, что он может совершить мистический познавательный обряд. Кино могло стать «библией бедных». Неизлечимая болезнь литературы могла, наконец, обрести свое действенное лекарство. Но равновесие уже было нарушено: поэт оказался под властью иллюзий, он хотел создать нечто грандиозное, эпическое. Эрос требовал сражений, борьбы. Это были особенно ожесточенные битвы, связанные с полным отказом от спокойной и праведной жизни. Казалось, что Пазолини движет императив, выдвинутый Ницше: «Еще недостаточно! Еще недостаточно показать нечто, необходимо искушать этим людей или вызывать у них к этому отвращение. Поэтому Мудрец должен научиться выражать свою мудрость словами, и зачастую так, чтобы она звучала как безумие!»9 В словах Пазолини звучит эхо философского безумия: его аргументы не представляются осмысленными ни политическим правым, ни левым, хотя он сам остается верен идеям левых. «Еще недостаточно!» Пазолини начал пророчествовать, его пророчество стало оружием в полемике, которая почти два года будоражила итальянское общественное мнение. 628 Утонченный поэт, автор «Соловья», теперь находил аргументы, которые глубоко задевали тех, кто находился у власти. Он призывал их к ответу, угрожал «судебным разбирательством». У Пазолини, несмотря на склонность к пророчествам, было вполне обоснованное и реальное представление о том, что произошло в Италии начиная с шестидесятых годов. Этот писатель, этот безумный маньерист, страстный поклонник маньеризма эпохи барокко, любитель асимметрии, неожиданных и провокационных высказываний, сделавший из собственного стиля блестящий образец для подражания, выходящий за рамки всего существовавшего прежде, который создал «поэтику регресса», чтобы сломать позолоченные нагромождения академизма двадцатого века, который обращался к героям греческих трагедий не потому, что стремился возродить классическую форму, а потому, что хотел, чтобы вечные страсти и чувства вновь заговорили во весь голос, – этот писатель и режиссер, казалось, вышел на политическую арену для того, чтобы жестко и четко анализировать факты. Полемика о роли правительства в Италии в период экономического бума сосредоточилась вокруг проблем, представлявшихся Пазолини абсолютно ясными: вред, который причинял обществу чрезмерный рост городов, обнищание сельского хозяйства, загрязнение берегов и пляжей, расточительное использование гидроресурсов, опаснейшие последствия внутренней миграции, внутренний климат городских окраин, больше напоминавших нацистские концлагеря. Все это для него было абсолютно ясным. Но сама эта ясность начинала замутняться. Из-за этого он никак не мог рассмотреть в правильном свете все аспекты «итальянского случая». Он не мог согласиться с тем, что увеличение национального валового продукта в четыре раза свидетельствует о позитивном развитии страны. Сама 629 готовность, с которой итальянцы стремились забыть о времени, когда были бедны, казалась ему ошибкой, слабым местом соотечественников. Эта его вынужденная «слепота», неспособность разобраться в происходящем – «слепота» человека, которого мы привыкли считать пророком, – заставила его примкнуть к иррационалистическому и «антииндустриальному» движению, которое вызвал кризис шестьдесят восьмого года. Школьная система взорвалась; интеллектуалов, не приспособленных к реальной жизни, становилось все больше. Пазолини отчетливо понимал, какие политические ошибки привели к этой трагедии, позволили ситуации накалиться до такой степени, что все кончилось взрывом. Пазолини на собственном опыте знал, какую угрозу социального взрыва и насилия хранят в себе «бидонвили» третьего мира вокруг мегаполисов. Чего же не хватало ему при таком четком понимании происходящего? В нем много загадочного. Самая простая загадка касается природы Пазолини как писателя: он был слишком утонченным, слишком ранимым, до такой степени, что, можно сказать, он считал необходимым не привлекать внимания к своей жизни, пытался избежать публичности. Но тут же необходимо признать, что Пазолини позволил себе не считаться с собственной ранимостью и утонченностью ради утоления жажды жизни. Другая загадка связана с его рационализмом, но и с ним он весьма энергично расправился. Это, скорее всего, было вызвано тем, что ему всегда не хватало прагматической культуры. Я говорю о философском эмпиризме, но само понятие эмпиризма было для Пазолини неприемлемым, связанным с грехом некой светской жизни, поэтому он его отвергал. 630 Он был целиком и полностью человеком своего времени, он сам решил жить среди врагов, постоянно споря, вынося град обвинений, доводя до парадокса свою личную жизнь и не заботясь ни о чем другом. Именно из-за этих причин его ясный ум начинал мутиться, идеология ложилась на его плечи слишком тяжким грузом. Он был скорее оратором, чем политиком, ему так никогда и не удалось избавиться от оков его психологической реальности. Он бы хотел освободиться, делал титанические усилия, пытаясь вырваться на свободу, когда, например, попытался стать похожим на мудреца-стоика, способного спасти людей своим примером, своими действиями, своим образом жизни, которым уже спас самого себя. Но это его желание так и осталось только одним из идеальных жизненных стремлений. Груз идеологии был наследием пятидесятых годов, еще остававшимся у Пазолини. Именно благодаря этому грузу он стал рассматривать сложный процесс культурной унификации страны как прискорбную «гомогенизацию». На нее он обрушился со всей яростью, на которую был способен. Его «безумие» позволяло ему смотреть дальше, преодолевать тщательно вымеренные пропорции средств и целей, ресурсов и «теорий потребностей» или «желаний». Благосостояние казалось ему прямым путем к несчастью. Он сам стал первой жертвой своего морализма. Злоупотребление идеологией, отказ от любой практической философии, риск полностью попасть под власть иррационализма – это чисто итальянские заблуждения, которые Пазолини полностью разделял. И вся его загадочность в этих условиях исчезает. Хотя он, казалось, полностью был проникнут итальянским духом, он все же попытался от него освободиться. Он никак не мог с ним смириться. 631 ⟨...⟩ Я приду к концу, не совершив ничего существенного в моей жизни, не накопив опыта, который объединяет людей и дает им идею, такую определенную, такую привлекательную, идею братства, хотя бы в любви! Как слепой, который в минуту смерти не сможет понять одной-единственной вещи: что же такое жизнь ⟨...⟩10 Его индивидуальность, в конце концов, побеждала все другие соображения: она возбуждала гнев и обиду, бередила старую тайную рану. Этому постепенному уничтожению всего пережитого Пазолини подчинил все завоевания разума, нравственности, формы. Иррационализм побеждал, проникая в темные и непроходимые лабиринты подсознания. В пачке бумаг, которые относятся к 1969 или 1970 году, был найден рисунок: единственный его абстрактный рисунок. Лист сложен вчетверо, точно так же, как он складывал листочки, на которых рисовал портреты Марии Каллас, а потом раскрашивал их вином, уксусом, кофе. На этом листе в каждой из четырех частей по диагонали повторяется линия, которая немного напоминает изгиб губ, или гряду холмов, или птицу в полете. Повторение постоянно, настойчиво, но поскольку сама повторяющаяся линия заключена в квадрат, то она кажется смягченной, настойчивость повторения из навязчивости превращается в совет. Внизу, в центре листа, – это лист простой, так называемой «хозяйственной» бумаги – Пьер Паоло написал: «Мир меня больше не хочет и не знает об этом». Это крайнее выражение гордыни? Или крайнее отчаяние? В Пазолини особенно сильным было чувство выживания. Это нечистое чувство возникало у него всякий раз, когда агрессивное отношение к нему, прямое или косвенное, становилось более жестоким. Его смерть, может быть, была мужественным способом рассказать миру о себе, заставить вспомнить себя, даже если сам мир этого и не хотел. ПРИЛОЖЕНИЕ ПАЗОЛИНИ: ЖИЗНЬ И СТИХИ Через тридцать лет после смерти, несмотря на неумолкающие с тех пор похвалы, которые превратились в риторическую потребность вернуть Пазолини к нам, сюда, сейчас, – присутствие писателя, автора «Праха Грамши», в итальянской литературе продолжает оставаться проблемой. Проблема остается, поскольку аргументов против него, суровых и в редких случаях взвешенных, вполне достаточно и все они не новы. Многие хотели бы, чтобы Пазолини-поэт остался в памяти только как автор его первого сборника, фриульского канцоньере, безупречной поэзии, написанной на так называемом родном языке. Они забывают, что это язык во многом искусственный, придуманный автором. Все же остальное, им созданное, должно представлять некий экзистенциальный курьез, эдакую притчу, – во всем своем трагическом единстве, вырванном из общего течения литературного процесса, – подобную взорвавшейся звезде, исчезнувшей в одной из черных дыр. В крайнем случае, его готовы признать гением, чья отчаянная жизненная сила не смогла спасти, хотя постоянно пыталась это сделать, то, 637 что составляло смысл его жизни, а именно поэзию, которую он как читатель всегда мог увидеть и понять в других. Было выдвинуто множество возражений, например, против публикации «Полного собрания сочинений» Пазолини в серии «Меридиани» издательства «Мондадори», которое было подготовлено Вальтером Сити. Критики постоянно, после выхода в свет каждого тома, повторяли один и тот же вопрос: неужели действительно необходимо публиковать все произведения Пазолини, писателя второстепенного, всеядного, до такой степени разнообразного, что отыскать зерно истинной литературы в куче соломы, которую он произвел на свет, становится подчас невозможно? В такой культуре, как наша, очень александрийской, всегда готовой устанавливать каноны, отбирать все с холодным расчетом, стирать границы между любой попыткой обрести свободу и аномалией (однако не стоит забывать, что наша культура вся – одна большая аномалия, все ее богатство как раз и состоит в отказе от лингвистического и стилистического канона), – в такой культуре присутствие Пазолини, его способность заполнять собой любое пространство, его выразительный язык всегда ощущались как некое инородное тело, которое подлежало удалению, изоляции. Проблема эта была не только культурной и литературной, это была общественная проблема, политическая, юридическая, если вспомнить огромное количество судебных разбирательств, героем которых он, писатель, автор «Шпаны», стал сразу после выхода романа в свет. Фриульский поэт, поэт начинающий, мало-помалу становится поэтом зрелым, полностью сформировавшимся в языковом окружении, которому он дал новую жизнь. Итальянский поэт, заявивший о себе стихами сборника «Прах Грамши», – это литератор, который легко ориентируется в современном мире, стихи которого перекликаются с самы638 ми актуальными событиями. Его поэзия напоминает пламенные речи ораторов на митингах, он с легкостью перемежает изысканные терцины с цитатами из Маркса и статьями из «Контемпоранео», еженедельного издания итальянской компартии пятидесятых годов, посвященного вопросам культуры. Он скрепляет все казавшиеся несовместимыми формы и идеи, как особым клеем, духом, почерпнутым из худших произведений Кардуччи, и жертвенными нарциссизмами, приемлемыми только для тех, кто понимает смятенную психологию гомосексуалистов, отвергнутых обществом. Очевидно, что сегодня ситуация изменилась. Но отношение к Пазолини во многом остается все тем же. Я полагаю, что именно публикация всего того, что вышло из-под его пера, показала бы, до какой степени все его произведения носят личный характер, почти дневниковый. Подобная публикация со всей очевидностью убедила бы читателей и критику, что пытаться наложить какие бы то ни было ограничения, сузить круг его творчества, означало бы вообще ничего в нем не понять. Попытка издать полное собрание его сочинений, как я уже говорил, была сделана, но мы знаем, что то, что увидело свет в серии «Меридиани», – это отнюдь не все, поскольку Сити, по его собственному признанию, сам выбрал в огромном количестве неизданного материала то, что, как ему казалось, было необходимо опубликовать. Принять Пазолини означает – для итальянской культуры в целом, не только для литературы – согласиться с тем, что она пережила сложный структурный кризис, который затронул все выразительные средства. Он начался в середине двадцатого века, когда социальные и лингвистические законы, созданные и упрочившиеся в прошлом, быстро устаревали, превращались в свою противоположность, во что-то неизведанное, проблематичное под давлением всепоглощающей современности, которую было все сложнее понимать. 639 Здесь напрашивается сравнение с Д’Аннунцио, который на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков воспользовался декадансом, чтобы оторваться от гуманистического классицизма литературной традиции, превратившегося к тому времени в некую губку, которая поглощала все возможные психологические и физиологические новшества, создавая тем самым препятствия к развитию. Д’Аннунцио был провозвестником трагедии, свидетелями которой стали его современники. Он воплотил ее всю в своей собственной личности, в которой парадоксальным образом соединились Капаней и Дионис*. Я думаю, что и к Д’Аннунцио неприменимы никакие ограничения, и в его случае бессмысленно рассуждать, какие произведения ему удались, а какие нет. Сам Кроче, говоря об авторе «Лауд», заявил, что настолько явный «психологический дилетантизм» мог найти свое выражение только в чрезвычайно «фрагментарной» поэзии. Кризис ценностей эпохи Рисорджименто, который пережил Д’Аннунцио – а он выражал также и структурное панегирическое чувство итальянской мелкой буржуазии, – не мог не привести его к национализму и к фашизму. Для Пазолини трагедия развивалась на стыке крушения идеалов движения Сопротивления и массификации производства, поэтому она немного другая. Его трагедия – это трагедия плоти, физического, материального, вызванная тем, что «маленькая, тихая Италия» подверглась метаморфозе и превратилась в страну, где правят неокапиталистические порядки. Он остро ощущал это, когда писал на родном фриульском языке, когда изобретал его литературный вариант, создавая стихи о Казарсе; он хотел отобразить эту трагедию в своих произведениях на итальянском, стараясь * Капаней – герой греческой мифологии, воин. Здесь имеется в виду, что Д’Аннунцио был и дионисийского (по Ницше) склада поэтом, и амбициозным военным деятелем. 640 как можно больше расширить его, используя просторечие и жаргон, только бы поймать и зафиксировать момент умирания действительности, чтобы запечатлеть ее в памяти и в слове. Все творчество Пазолини, писателя и режиссера, прошло под лозунгом, который можно сформулировать примерно так: «Всегда есть какой-нибудь способ, чтобы не забыть о том, что было, и о том, что есть». Он мог критично заметить, что он одновременно и самый архаический, и самый современный из итальянских писателей. Недаром в фильме «Овечий сыр» голосом Бассани режиссер Орсон Уэллс говорит: Я сила прошлого. Моя любовь обращена к традиции, я пришел из развалин, из церквей, от алтарей, из забытых селений на Апеннинах и у подножия Альп, где жили наши братья. И он заканчивает свою речь: Я, зародыш взрослого человека, я, самый современный из всех современных людей, брожу в поисках братьев, которых больше нет. Вооружившись этой идеей, Пазолини создал что-то вроде герба, на который поместил имена Грамши, Лонги и Контини; потом он добавил к ним и других своих друзей, поскольку чувствовал, что его творчество возможно, только если оно будет оплотом в борьбе против неминуемой катастрофы, оплотом борьбы, освещенной светом разума, который так щедро распространяли вокруг себя эти имена и идеи, с ними связанные, взятые в абсолютной чистоте, освобожденные от всех идеологических требований. 641 Если принять во внимание все, что я уже сказал, тогда радикальное суждение тех, кто считает, что Пазолини перешел все границы, кто выхолащивает и делает ненужной его поэзию и его неповторимый, единственно ему присущий способ существования в литературной среде, – тогда это суждение не может не привести в замешательство, которое человек обычно и испытывает, оказавшись перед поспешными риторическими заявлениями из тех, что делаются только для того, чтобы гарантировать поддержку устаревшим мнениям и решениям, при помощи которых литераторы пытаются защититься от очередного кризиса, поражающего все страны и народы. С другой стороны, тем, кто с тех пор как появились его фильмы «Аккаттоне» и «Овечий сыр», хотели считать его поэтом-неудачником, несостоявшимся писателем, взявшимся снимать кино, Пазолини ответил в первом стихотворении цикла «Светские стихи» сборника «Поэзия в форме розы»: Когда шестидесятые годы уйдут в прошлое, как тысячный год, я превращусь в скелет и не буду даже скучать по миру, и что же тогда будет с моей «личной жизнью», ведь у несчастных скелетов нет ни личной, ни общественной жизни. И что будет тогда иметь значение? Останется моя нежность, я после смерти весной выиграю спор благодаря моей любви к Аква Санта, освященной солнцем. Читателю, плохо знакомому с предместьями Рима, нужно пояснить, что Аква Санта – это как раз та окраина неподалеку от Аппиевой дороги, где снимался «Овечий сыр». И все же довольно трудно читать произведения Пазолини из-за многочисленных диалектальных вкраплений, жар642 гонных слов и словечек, которые автор «Страсти и идеологии» и «Еретического эмпиризма» щедро разбросал по своим страницам, не забывая при этом иронически усмехаться. Это обычное замечание фигурирует и во вступительной статье Фернандо Бандини к двухтомнику «Все стихотворения и поэмы» Пазолини, изданному в серии «Омниа» «Меридиани». Едва ли можно было написать более взвешенную, продуманную и столь же хорошо аргументированную статью. Ее аргументы часто звучат весьма убедительно – например, когда автор рассуждает о влиянии прозы Лонги на итальянский язык Пазолини, когда он уже был известен как диалектальный поэт. Это замечание очень тонкое и очень верное. Но мне кажется, что Бандини не совсем прав, когда утверждает, что разнообразие жанров и стилей, в которых писал Пазолини, вредит его поэзии, поскольку «невольно заставляет его громоздить один на другой предметы и абстракции, взрывы страсти и нудные проповеди. Все это делается в угоду лирическому “я”, порождающему поэзию в ее традиционном понимании». Или еще: «Гений, для которого такие различные и мертвые материалы оживают под дуновением оригинальности, всегда испытывает большое искушение выразить то, что настойчиво подсказывает ему его собственное “я”. Все это происходит, когда появляется парадоксальная связь между поэзией и жизнью.⟨...⟩ Пазолини открывает читателю свою жизнь, свои убеждения, свои страсти, как будто предъявляет некий сертификат соответствия своей поэзии». Все это можно считать скорее воображаемым образом Пазолини, чем критическим разбором его стихов и того, что, собственно, представляет собой явление Пазолини в литературе (если это, конечно, явление). Двадцатый век 643 частично уходит корнями в благодатную почву убеждения Флобера, что нас приучили удивляться тому, что произведения искусства встречаются очень редко, что они всегда являются плодом тяжкого, если не непосильного, труда и всегда связаны с желанием проповедовать что-то. Пазолини оказался на другой грани двадцатого века. Сартр считал, что век был одержим бесконечным, изменяющимся, переливающимся всеми цветами радуги интеллектом: чтобы понять его, уследить за ним, нужно быть полиграфистом. Пазолини как раз на этой грани века. Вот в этом-то и вопрос – в отказе от метафизической грезы, от стиля, который представляет жизнь в солнечном свете. Для Пазолини ограниченность «я» с его способностью ошибаться, вечным и переменчивым экзистенциальным замешательством, и придает смысл поэзии. Литература, замкнутая в жесткие рамки выразительных средств двадцатого века, для него не существует. Ничем другим нельзя объяснить, например, его конфликт с Монтале, горький тон его жестоких эпиграмм, которыми он отвечал на обращения Монтале к нему, их словесную пикировку, больше похожую на настоящую драку. Пазолини бродит по свалкам окраин; Бандини, будучи человеком проницательным, его прекрасно понимает, но считает, что грубый тон оправдан только в эпиграммах шестидесятых годов и в сборнике стихов «Выйти за пределы человеческой природы и обустроить мир» (где, как он утверждает, заметно влияние книги Эльзы Моранте «Мир, спасенный детьми», хотя на самом деле все обстоит как раз наоборот: это влияние Пазолини ощущается у Эльзы Моранте). Бандини хотел бы, чтобы Пазолини тщательно работал над своими стихами, постоянно подвергая их все более искусной отделке. Он признается в этом своем сокровенном желании с откровенностью, достойной его безупречной интеллектуальной честности: «Я всегда думал о нем как о 644 первом ученике, отличнике, который, пока ты с трудом выдавливаешь из себя полстраницы сочинения, легко и свободно, ни на минуту не останавливаясь, исписывает десять листов». Но именно непостижимый взрывной вихрь, чрезмерная дневниковая откровенность делают из Пазолини того, кем он и является, иначе не о чем было бы говорить. В Пазолини нет ничего омертвевшего, застывшего, кристаллизованного. В его произведениях ощущается динамика языка, мы видим в них вещи, взятые прямо из реальности, а не уложенные в драгоценные раки каких-то символов. Это «язык реальности». Пазолини искал его и нашел, пройдя долгий путь от «Стихов в Казарсе» до своего кино. Редактор серии «Омниа» издательства «Мондадори» прекрасно все это знает. И послесловие, которым он завершил свою работу, постаравшись живо и внятно разъяснить читателю ошибки, недостатки и достоинства Пазолини, само по себе является произведением, с которого можно начать внимательное и непредвзятое чтение поэта столь сложного и столь трудного для понимания. Сити отказывается от «невообразимых приблизительных определений», гипертрофии «я», гигантских проектов: «Достаточно лишь немного поработать с рукописями Пазолини и с его бумагами, чтобы тебя поразило многообразие текстов, огромное количество вариантов, легкость, с которой одна структура заменяется другой, создавая все новые и новые наброски, гораздо более сложные, чем то, что было первоначально». Он подчеркивает, что в подобной магме «поэзия переплавляет внутреннюю судьбу поэта». Нет такого литератора, который был бы литератором больше, чем Пазолини, пишет Сити. «И все же за этой одержимостью, за навязчивым стремлением быть автором, скрывается антилитературная мотивация, скрывается идея о недостаточности литературы». Но речь идет о литерату645 ре как о «чистом» институте, как о привилегии, которую настойчиво культивировали писатели двадцатого века, чтобы стерилизовать мир. Пазолини «бросил в борьбу» собственное стилистическое «тело»; ради этого он постоянно балансировал между «всемогуществом и беспомощностью, между покаянием и пороком, между эйфорией и нигилистическим отчаянием». Таким образом, для него полностью утратила смысл какая бы то ни было миссия по спасению человечества, в которую он, возможно, верил в пятидесятые годы. Слова «утешение» и «надежда» для него не имели значения. В Пазолини наблюдался «контраст, гораздо более ярко выраженный, чем обычно у других писателей, между талантом и необходимостью самовыражения, и хотя талант уводил его к маньеризму, все-таки когда этот талант мог сконцентрироваться на произведениях особенно важных и оригинальных, необходимость самовыражения заставляла Пазолини отказаться от маньеризма и вернуться к стилю свободному и неопределенному, как сама жизнь». На пороге Рима, представленного как врата, ведущие в Третий мир вообще, Пазолини изобразил свой апокалипсис, где переплелись деревенская простота и интеллектуальная изысканность итальянской истории. Можно провести только одну параллель в поэзии его века, параллель, которую он сам провел через много лет после того, как в ранний период отвергал любые сравнения и параллели. Когда я с ним познакомился в 1956 году, я только что написал статью о «Прахе Грамши», опубликованном отдельной небольшой поэмой в «Нуови аргоменти» Альберто Карочи и Моравиа. Я встретился с ним в его римском доме на улице Донна Олимпиа. Он спросил меня, что я читаю; я сказал, что читаю Эзру Паунда. Я в то время читал и перечитывал «Пизанские песни». Я пытался перевести отрыв646 ки из цикла «Перфоратор». Реакция Пазолини была яростной: Паунд для него был расистом, фашистом и т. д. Первая наша встреча была очень неудачной. Я полагал, что я, конечно, сторонник левых, но это не причина отрицать, что Паунд – великий поэт. Он для меня воплощал трагедию истории и гуманизма, пережитую через варварство войны, развязанной нацистами и фашистами. Паунд был раскаявшимся варваром, выставленным напоказ в его пизанской клетке, воскресшим Уитменом, который утратил или окрасил в черные тона радость бытия. Прошли годы. Пазолини встретился с Паундом. Результатом этой встречи было интервью, один раз показанное по телевидению. В морщинистом лице, в сухих глазах Паунда он увидел крушение Запада, который был побежден собственными доводами, собственным разумом, собственной мудростью. Пазолини сидел напротив. В его вопросах отражалось то же самое отчаяние, те же эсхатологические видения. Оба они были далеки от всех возможных идеологических и политических группировок, оба были живыми представителями поэзии, вышедшей за строгие рамки нормы. Оба они были бунтарями, готовыми бороться против любых законов, которые пытаются навязать что-либо литературе. Они оба верили, что История все равно пойдет вперед своими непознанными и непознаваемыми тропами. Торжествовала двойная истина: два одиночества отражались друг в друге, искали друг друга. Они оба были современнее современного, они были «братьями, которых больше нет». Дело как раз в том, что вне понимания истории двадцатого века Пазолини как поэт совершенно непонятен. О ВЫСТУПЛЕНИИ ПИНО ПЕЛОЗИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ (май 2005) Пино Пелози выступил по телевидению, чтобы сообщить, что в ту ночь, тридцать лет назад, на гидродроме в Остии он был не один. Пино Пелози пригласили участвовать в реалити-шоу на телеканале РАИ-3 (этот выпуск так и не был показан в эфире), и он рассказал свою правду о смерти Пазолини. Эта правда в основном совпадает с тем, что было сказано в первом решении суда, подписанном Председателем суда по делам несовершеннолетних Альфредо Карло Моро и вступившем в силу 21 мая 1976 года. Пелози сказал, что Пазолини убили трое взрослых мужчин, лет сорока, один из них был с бородой. Они неожиданно возникли из темноты рядом с машиной Пазолини. Все они говорили с южным акцентом, называли Пазолини «грязным коммунистом», вытащили его из машины и избивали палками до тех пор, пока его тело не превратилось в окровавленный кусок мяса. Они угрожали и Пелози, говорили, что убьют и его самого, и его семью, если он не возьмет на себя это убийство. Поэтому он и молчал до сегодняшнего дня. А теперь умерли от рака его родители и, возможно, умерли и те, кто убил Пазолини и шантажировал самого Пелози. А ему в ту ночь не оставалось ничего другого, как сесть за руль автомобиля писателя. Если он и переехал его тело и окончательно добил его, то он этого не заметил, потому что был вне себя от страха. Нужно сказать, что в рассказе Пелози перед телекамерами появилось нечто новое. Прежде всего, он говорит о 648 Пазолини как о милом человеке, «который говорил по-итальянски»; он говорит, что у него была с ним интимная связь («оральный секс»), которая прошла совершенно естественно и спокойно. Только когда они закончили, появились те трое, «неожиданно» (?) возникнув из темноты. В решении суда, подписанном Моро, приведены показания семнадцатилетнего Пелози: после того как Пелози закончил первый акт, Пазолини стал требовать продолжения, стал преследовать молодого человека, вооружившись рейкой от ограды, которую подобрал с земли, «он хотел засунуть ему ее в задний проход, по крайней мере, приставил ее к ягодицам, когда он даже не спустил брюки»; при этом у Пазолини был «совершенно сумасшедший вид», и Пелози испугался. Преследование закончилось жестокой дракой, потом они побежали к машине, Пазолини упал, и так далее. Вскоре Пелози догнал автомобиль полицейских. В тот момент он был совершенно чистым, на нем не было ни следов крови, ни грязи, только небольшое пятно на правой брючине и еще одно на манжете левого рукава. Образ Пазолини-садиста теперь исчез и из показаний Пелози, ставшего взрослым, зрелым мужчиной. Вместо этого появляется милый человек, которого мы и знали. А это немаловажно. Что же до появления незнакомцев, то рассказ Пелози 2005 года совпадает с версией событий, изложенной в анонимном письме, которое получил сотрудник газеты «Паезе сера» Франко Росси 3 мая 1976 года. Было ли это действительно так, или Пелози просто повторил ту, старую, версию? Это нужно тщательно выяснить. Тридцать лет назад мы не могли поверить, что Пазолини был убит одним человеком, версия эта не находила 649 подтверждения, в ней сомневались. В этом деле был только один факт, который не вызывал сомнений: убит один из самых великих представителей итальянской литературы. (Да, я знаю, что с тех пор и по сей день идут постоянные споры о том, насколько правомерно подобное определение, но я не вижу причин, по которым те, кто не считают себя приверженцами старой, строгой, слепой традиционной литературы, должны разделять подобные сомнения). Но был убит и интеллектуал, который открыл целой стране глаза на то, что на самом деле скрывается за экономическим чудом, которое кажется несомненным шагом вперед, а на деле оказывается хрупким и зыбким. Чудо итальянской экономики, стремительное «развитие» – Пазолини ненавидел это слово, он противопоставлял его «прогрессу» – разрушали страну, вовлекали ее в «послеисторический период», в котором история, антропологическая истина растворялись («⟨…⟩ утром я вижу, / как сумерки / спускаются на Рим, на Чочарию, на мир, / как первые акты после исторического периода, / а я присутствую при этом как бесстрастный наблюдатель, / смотрю с края какой-то позабытой эпохи ⟨…⟩»). Постепенно растаял свет, который помог сформировать республиканское сознание у нашей буржуазии; расползлась тонкая соединительная ткань крестьянской силы, которая питала внутреннюю миграцию, создавшую экономическое чудо; сила эта раздробилась в тяжелом неквалифицированном труде, в попытках скопить хоть немного, уклоняясь от налогов. Пазолини говорил об антропологических изменениях, об ответственности политиков. Его речь была исполнена силы, до той поры неизвестной нашим интеллектуалам. Его слова были подобны раскаленному железу. Правые продолжали против него полемику, которую, несомненно, можно определить как фашистскую. Левые, в 650 особенности на страницах газеты «Унита», не обошлись без оскорблений, обвиняя его в паникерстве. Пазолини защищали члены молодежной коммунистической федерации: Вальтер Вельтрони, Джанни Борнья, Гоффредо Беттини. С ними писатель встретился на открытой террасе в парке Пинчо в Риме однажды теплым весенним днем, когда его «корсарские» и «лютеранские» выступления были особенно острыми и яростными. И там стало ясно, сколько жизненной силы, совсем не полемической направленности, Пазолини мог предложить борьбе за будущее Италии, за свободу и демократию. То, что он пытался сломать идеологические схемы, к тому времени полностью устаревшие и бессмысленные, сочли провокацией. Пазолини заявлял, что страна морально устала, что свои позиции она повсеместно уступила империи средств массовой информации. Он обвинял правительство в слишком централизованной организации телевидения. Я виделся с ним в последний раз за неделю до того, как его убили. Он пришел к нам однажды вечером, после ужина, вместе с Лаурой Бетти. Лаура принесла торт для Франческо и Бернардо, но они уже спали, и Пьер Паоло оставил записку под дверью их комнаты. В записке было одно слово «Чао!» Он только что вернулся из Парижа и на следующий день уезжал в Стокгольм. Рассказывал, что на Елисейских полях повсюду показывают порнографические фильмы. Вот этим и закончится: не будет кино, только порнография и телевидение. И телевидение будет формировать наш образ жизни, предлагая нам хорошо продуманные готовые истории, наслаивая одни модели на другие, доказывая, что жизнь – это непрерывный сериал. И это будет новый фашизм, новая демагогия, которые полностью нас поработят. Вот посмотришь «Сало» и поймешь, что я имею в виду, го651 воря, что когда политика сводит эротическое чувство к простому повторению сексуальных отношений, она уничтожает ценность человеческой личности, индивида. Его ярость обрушивалась на политические партии, которые цинично управляли постепенным и неуклонным разрушением общественного сознания. Он видел суть вещей, а не их внешние проявления, и его взгляд испепелял. В этом разрушении он видел причину всплеска насилия в его самом примитивном виде, насилия, которое проникало во все формы гражданского существования, нарушая все его законы, начиная, собственно, с политических законов и правил. Антропологическая мутация – а изменялись лица, тела итальянцев, писал он, – казалась ему чем-то вроде проказы. Он занимался политикой, он вел политическую полемику, необходимость которой была вызвана его огромной, необычной страстью к размышлению и познанию. И поэтому его убийство, хотим мы воссоздать его обстоятельства или нет, было прежде всего убийством «политическим»1. Все эти годы, которые прошли после его гибели, о нем вспоминали, часто адресуя ему те же критические замечания, что и при жизни. Это одна из форм коллективной ностальгии, которая выражает особые угрызения совести и сожаления о том, что мы плохо знали его при жизни. Гомосексуалист, изгнанный КПИ из своих рядов, как будто он был зачумленным, призвал все политические круги к общему ответу, что разрушало все барьеры, воздвигнутые между правыми и левыми. И поэтому, нужно повторить еще раз, Пазолини не пытался совершить самоубийство чужими руками, на что намекал ведущий в комментарии, сопровождавшем призна652 ние Пелози на телевидении. Намек этот был потом высказан более прямо, с чисто римским цинизмом, в интервью, которое дал журналистам Джулио Андреотти: Пазолини «сам искал смерти». Нужно положить конец этой болтовне, непозволительно снова и снова настаивать на этой глупости, которая представляется удобной для оправдания любого преступления. Пазолини был убит, убит неизвестным; несчастный Пелози при этом присутствовал, поэтому потом его шантажировали, и он молчал вплоть до сегодняшнего дня, но он не может не знать, кто был настоящим убийцей. Мы сразу это поняли. Нужно потребовать, чтобы эту смерть не пытались больше замалчивать, чтобы дело опять не потонуло во множестве новых противоречий и неясных версий. Мы уже знали, и нам не нужно было об этом говорить, что, забивая его до смерти, убийцы кричали «грязный коммунист». ЗАМЕТКА О РОМАНЕ «НЕФТЬ» (2003) В публикации «Поэт Праха», появившейся после его смерти, – автобиографии в стихах, как будто продиктованной американскому интервьюеру (это стихи 1966 года), говоря о своих планах на будущее, Пазолини написал: «Я бы хотел просто жить, / оставаться поэтом, / потому что жизнь можно выразить только через саму жизнь. / Я бы хотел выражать мои чувства через примеры, / бросить мое тело в борьбу. / Но если жизненные поступки выразительны, / то выражение – это тоже поступок». Пазолини, и мы прекрасно это знаем, без колебаний бросил свое тело в борьбу: но он вступил в борьбу как писатель, он использовал для этого свою «корсарскую» и «лютеранскую» полемику. Его мучила одна мысль: Италия переживает процесс приспособления к собственной деградации, превращается в «страну аполитичную, в мертвое тело, у которого остались только механические рефлексы». Он хотел быть одновременно и судьей, и активным участником этого процесса. Обвинения, которые он выдвигал, были жестоки, но это была жестокость влюбленного. В нашей литературе слишком мало писателей, влюбленных, как Пазолини, во всю Италию целиком, в ее культуру, в ее природу, в ее людей. В последние два-три года жизни он написал немногим более пятисот набросков для романа, который, по его замыслу, должен был насчитывать две тысячи страниц. Это роман «Нефть». Ярость обвинений и страсть влюбленного, кажется, смешались на страницах этого романа, в кото654 ром явственно ощущается драматическая потребность в жертве. Издательство «Эйнауди» опубликовало эти пятьсот незаконченных отрывков. Получилось почти шестьсот печатных страниц – результат сложного филологического исследования, которое осуществил Аурелио Ронкалья. Благодаря проделанной им работе чтение текста, изобилующего отступлениями, отрывочного, иногда бессвязного, стало, насколько это возможно, доступным. В книге отражается итальянский кризис, культурный и политический. Именно он выведен на первый план. В центре всего повествования – террористический акт, который стоил жизни Энрико Маттеи, президенту «Eni*». События разворачиваются на фоне жизни римской бюрократии, которая пытается совместить собственные интересы с государственными и извлекает выгоду из того, что ей принадлежит финансовая и государственная власть. Это «Дворец», двери которого распахиваются перед нами, показывая знакомые лица в знакомом окружении. Фантазия Пазолини превращает его в место, где разворачиваются совсем не романтические события. Рядом с этим «Дворцом» и внутри него движется герой романа, человек, работающий в нефтяной промышленности, фигура двойственная, с профилем гермафродита, полностью отражающий мир, который его окружает, и вместе с тем являющийся его противоположностью, воплощением неугасимой потребности в переменах и болезненной двойственности этих перемен. Этот двойственный герой, двойственный и по сексуальной ориентации – одновременно и мужчина, и женщина по своим желаниям, – не случаен для творческого воображения Пазолини. Он уже присутствует в его юношеских ви* «Eni» – нефтяная компания, основатель и президент которой, Энрико Маттеи, погиб при загадочных обстоятельствах в 1962 году. 655 дениях, из которых появились на свет «Мечта о чем-то» и «Божественное подражание». В романе «Нефть» смысл совсем другой. Он исполнен новой яростью, которая просто заливает страницы незаконченной книги. Кажется, что благодаря этой ярости книга таинственным образом приобретает законченный вид. Кажется, что писатель вытаскивает на свет чувства, которые света не выносят. У читателя возникает ощущение, что он проникает в тайну, постигает таинственную писательскую «кухню», которую автор ревностно скрывал. Образ Италии, воссозданный в романе, образ происходящей на глазах метаморфозы, чудовищной деформации мира вызывает вполне однозначный отклик. Но Пазолини не делает никакого снисхождения, для него то, каким должен быть этот мир, вовсе не имеет значения. Важна ярость бытия, бытия без надежды. Именно она захватывает его, овладевает им полностью. Самые счастливые страницы, счастливые в пластическом смысле, окрашенные смутным и траурным цветом, – это эротические сцены. Никогда прежде Пазолини не представлял с сакральной, вызывающей содрогание откровенностью природу гомосексуальной чувственности. В ночной сцене на лугу на окраине Казилино, где местные подростки предаются оральному сексу с двойственным и женственным героем, как будто это священный ритуал, призванный одновременно и залечить душевные раны, и посыпать их солью, можно заметить, какой тайный жизненный опыт стоит за всем этим, сколько за ним личного, пережитого, мучительного. Эротическая страсть на этих страницах – это рецидив, постоянно повторяющийся ритм, который заставляет жизнь всегда оставаться такой, как она есть. В интервью, данном во Франции еженедельнику «Луи», Пазолини сказал: «Я пожираю свое собственное существо656 вание с ненасытным аппетитом. Как это все кончится? Я не знаю.⟨...⟩ Я скандалист. Я скандалист в той мере, в которой мне удается поддерживать связь, вернее, даже самому служить этой связью, этой пуповиной между священным и мирским». Я полагаю, что «Нефть» давала ему прекрасный повод для скандала. В середине октября 1975 года он попросил Дино Педриали, чтобы тот сфотографировал его обнаженным из-за стеклянной двери его спальни в башне Кья. Он сказал, что эти фотографии будут иллюстрациями для романа, над которым он работает. На снимках, сделанных Педриали, в комнате горит резкий электрический свет, кажется, что снаружи ночь. В этом свете сухое тело полулежит на белом покрывале кровати. На другой фотографии Пазолини стоит у комода и листает книгу. В его нагой плоти никакого скандала нет. Он поглощен чтением, всем своим видом он выражает полное безразличие к происходящему; это особая, природная стыдливость, при которой нет места никаким инсинуациям. В этом образе содержится зрительная метафора всего его существования, существования между священным и мирским, его невинности, которая была особым свойством разделения его «я». Скандальность «Нефти» на самом деле совсем в другом. Она в том ожесточении, с которым Пазолини, как камикадзе, бросается на неприступную стену нашего общества, в ясности, с которой он анализирует развал этого общества и его неизбежный откат к авторитаризму. Среди образованных людей не нашлось ни одного, кто осмелился бы протестовать. Риск стать непопулярным пугал больше, чем вечный страх истины. Кроме того, и культура была вполне достойна своего времени. Ее внутренняя организация была полностью прагматичной, продукт ин657 теллектуального труда стал продуктом по сути и смыслу, как вещи и предметы. На них можно было спорить, выигрывать спор или проигрывать. Обман был идеологизирован как один из способов стать человеком образованным или даже поэтом. «Группы» – они тоже психологически и физически были подобны буржуазии, с которой, казалось, было покончено навсегда, – делали из «литературной власти» главную и прямую свою цель, они заявляли об этом, не только позабыв всякий стыд, но даже пытаясь морализировать на эту тему, призывали к террору и шантажу с неслыханной наглостью, с левацким напором, обреченным на поражение. Единственная реальность, которая развивалась как истина, была реальность промышленного производства, защиты валюты, поддержания институтов, необходимых новой власти; конечно, речь шла не о школах и не о больницах. 2 НОЯБРЯ 1975 ГОДА1 Пьер Паоло был добрым и щедрым другом. У него был мягкий взгляд, его голос звучал очень вежливо, даже когда он злился, даже когда он неистово отстаивал свои идеи. Его неистовость придавала ему уверенности в его одиночестве. Казалось, что его дружба вечна: он всегда знал наперед твои мысли. Он сумел заранее предсказать причины своего убийства. И это для тех, кто его любил, особенно горько и поразительно. Рассказать о его жизни, сказать, что он гений, – одновременно и просто, и трудно. Кажется, что Пазолини удалось, как это иногда случается с поэтами, совместить реальность и вымысел. Какую реальность? Нужно обратиться к его стихам, нужно мысленно вернуться к образам «Аккаттоне», фильма, в котором ему удалось показать, в какое мучение превратилась жизнь люмпен-пролетариата. «Потом… Ах, моя радость заключена в солнце… / Эти тела в летних брюках, / немного потертых на коленях, / испачканных пыльными руками… Компании / потных подростков / на пустырях, у стен / домов, в наступающих сумерках… / Оргазм праздничного города, / покой покрытых цветами полей…» Поэт, живущий в его душе, полностью изменил его видение мира; он не снисходил до заключения соглашений с миром, он позволил всем самым отвратительным запахам жизни пропитать себя. Такова была его страсть. Такова была его идеология. 1 Эта статья была опубликована в газете «Стампа сера», № 245, понедельник, 3 ноября 1975 г. (Прим. автора.) 659 Его поэзия не была той, которая рождается в сознании, охваченном извращенным гедонизмом. Пазолини не трогало и не восхищало зрелище мира, того мира, который вторгался в его слова, в его стихи, в его кадры. Он искал в том, что открывалось перед ним, несчастным и поверженным, отброшенным на окраины сияющих горизонтов сначала «итальянского чуда», а потом «общества потребления», поддержку силе своего интеллекта. У него всегда хватало мужества говорить правду там, где другие молчали. Он жил благодаря этому мужеству, бросая вызов любому, всему и всем, даже собственному сердцу: «…когда / я пишу стихи, я делаю это, чтобы защищаться и бороться,/я компрометирую себя, я отказываюсь / от всех моих достоинств, и мое сердце / оказывается таким беззащитным, / что я стыжусь его, и мой язык, / усталый и жизненный, рассказывает обо всех мечтах / сына, который никогда не будет отцом…». Я вновь и вновь произношу эти слова и чувствую, что не нахожу в них образа Пьера Паоло. Нельзя вновь зажечь огонь его «отчаянной жизненной силы». Однако останутся его произведения, его стихи. В последнее время он называл себя «лютеранином», пытался отгородиться от тех, кто обвинял его в том, что он чистый и примитивный католик. И он был прав: он принадлежал к бесчисленному ряду отрекшихся во имя веры, к тем, кто считает справедливым потратить свою жизнь, лично заплатить за каждое свое слово ради собственного кредо. И вот, сначала «элегическое сердце поэта»: фриульские стихи. Горе, вызванное гибелью брата, убитого югославами во времена Сопротивления. Уже тогда его взгляд был устремлен на малейшие проявления физиологического существования: «Юношеские годы! / Сколько в них красоты! / И мне досталась вся эта красота/ в ее юном сиянии». Это стихи, пропетые, продиктованные восторженным ды660 ханием юности. Экстаз нарциссизма – их самая явная черта, экстаз, выраженный совершенно недвусмысленно. Кажется, царит идиллия чувств. Однако сегодня мы знаем, что «Прекрасная молодость» (под этим названием он опубликовал в 1954 году свои ранние стихи, которые по отдельности уже публиковал в 1942, 1945 и 1953 годах) – это первый шаг поэта, который никогда себе не изменял. Пазолини был удивительным знатоком языка. Он овладел языком итальянской бедноты и языком образованного класса, он сумел неустанным трудом превратить их в инструмент своей поэзии. Он проверял звучание слов, руководствуясь не параметрами чистой музыки, а их глубиной, идеальным содержанием и чувством. Через слова он постигал душу того, кто их произносил, движения этой души увлекали его, он сам становился действующим лицом этой речи и полностью терялся в ней. В общем, идеологическое прочтение. Поэтому у его стихов двойной облик: выражая сокровенные чувства субъекта, который оказывался в центре стиха, самого Пазолини («я ищу в моем сердце только то, что в нем есть»), они открывают некое неуловимое отражение, их объект: «бедную Италию», как мы можем его определить, обратившись к названию небольшой поэмы, в составе сборника «Прах Грамши» (1956). Бедная Италия с выразительными словами диалекта, бедная Италия с ее далеким и прекрасным прошлым (спрятанным на дне ее изысканного литературного языка). Пазолини был ею очарован, и наступил момент, когда сила его воображения увлекла его в мир разума и видимых образов: от печатного слова он перешел в кино. От романа к фильму, от «Шпаны» (1955) и «Жестокой жизни» (1959) к «Аккаттоне» (1961). Необходимость познать и показать заставила его отказаться от слов и прибегнуть 661 к фотограммам. Точно так же, как когда он начал писать романы, он перешел с родного фриульского диалекта на римский. Именно в 1959 году, отвечая на вопрос Моравиа, заданный на страницах журнала «Нуови аргоменти» относительно современного романа, Пазолини говорит о необходимости «позволить вещам говорить самим за себя». Только, по его мнению, это требовало одного качества: «Необходимо быть писателем, даже в огромной степени писателем». Переход в кино не предполагал, что он откажется от этого качества в себе («быть в огромной степени писателем»), он требовал большей самоотдачи, как Пазолини и утверждал раньше: «Кино – это письменный язык реальности». Реальность была его насущной необходимостью. Может быть, это было слово, которое чаще всего встречалось в его разговорах. Если что-то для него было «реальным», это означало, что была достигнута высшая степень выразительности, как эмоциональной, так и формальной. Позволить «реальности говорить самой за себя» – это означало раскрыть ее политическую подоплеку, то есть весь потенциал боли, которую нужно излечить, превратить во благо, если только человеку когда-нибудь удастся своими руками дотронуться до блага. Пазолини был и гражданским поэтом. Он был им потому, что гениально связал поэзию с процессом познания: слово должно было вернуть значение происходящему в мире, форма должна была это значение закрепить. Но он был готов к тому, что его и его мужественное и элегическое сердце, подвергнут нападкам. Его стихами говорил человек, разрываемый действительностью на части, оказавшийся не в силах преодолеть противоречия, о которых «Прах Грамши», наша первая политическая поэма послевоенного периода, сказала четко и ясно. 662 Его собеседником был Грамши. Пазолини признался: «Ужас в том, что я противоречу сам себе, / что я с тобой и против тебя: я с тобой в сердце / на свету, против тебя во тьме». Грамши, его могила, его история показывают светлую перспективу прогресса и разума. Тьма действует против всего этого, тьма – это та часть бессознательного в человеке, которая вопреки всякому рационализму предает его и приводит к поражению. Что сказал множеству своих читателей Пазолини в этих стихах? Тогда для него начался счастливый период в жизни. Он показал, что правда на стороне той итальянской литературы, особенно новой, самой молодой, которая родилась в трудах и муках после 1945 года. История – по его собственному определению, «красная тряпка надежды» – призывала к обновлению, которого давно желали, но которому что-то противилось. Что же должно приключиться с нами, чтобы мы смогли осуществить то, чего сами хотим? Пазолини постоянно повторял, что то, что мы ищем, – в нас и вокруг нас. Мы должны спасти эту часть нас самих, которую мы любим, но которую бросили, оставили на произвол судьбы. В связи с этим говорили о его регрессивном «популизме». Но Пазолини ненавидел холодные рассуждения, он был поэтом, он жил образами и пластичностью образов. Городской люмпен-пролетариат был для него метафорой, метафорой «отчаянной жажды жизни», которая могла воплотиться в конкретную позитивную силу. И вот тогда «бедная Италия», которую он открыл в диалектальной литературе, в народной поэзии (Пазолини в молодости, в пятидесятые годы, глубоко изучил диалектальную литературу и ее историю), была физически представлена им, как на некое «аутодафе»,* на всеобщее обсуждение. Аутодафе (порт. auto da fé – акт верты) – торжественная церемония покаяния осужденных еретиков. 663 Мы знаем, как были приняты его стихи, его романы: они вызвали бурю судебных разбирательств. Публичный человек в Пазолини победил «благопристойного академика». Его присутствие было всеразрушающим. Он преследовал своих врагов силой интеллекта, напором чувств, просто и радостно. Он испытывал еще большую радость, если чувствовал, что его поведение может вызвать скандал. Но настоящую причину этого скандала он никогда не скрывал ни от себя, ни от других. Об этом, я повторяю, он написал в «Прахе Грамши»: «Ужас в том, что я противоречу сам себе, / что я с тобой и против тебя». Да, противоречия между мужеством и элегией, между эпосом и нарциссизмом отчетливо видны на каждой его странице, вплоть до самых последних, которые ему нравилось определять как «лютеранские». Это полемические заметки, в которых он призывал к ответу эту «бедную Италию», которую больше не узнать. Он хотел обратить внимание на изменения, давно вышедшие за рамки рационального. Он был тверд, он никогда не верил в возможность спасения, которое принесет благосостояние, он не верил в благодушные обещания политиков. Бедная Италия уже погрязла в трясине зла, не существовало больше ее страданий, ее робкой стыдливости. Теперь ее лицо дышит незабываемой жестокостью. Поэзия в нем не погибла, хотя все больше окрашивалась нечистым, не лирическим, не изысканным цветом. Но она оставалась исполненной страсти, гражданского пыла. Он был не слишком хорошим оратором, его речь была очень богатой по содержанию, но слова иногда были маловыразительны, и тогда речь превращалась в своего рода проповедь. Повторяю: он был очень мягким человеком и добрым другом. С ним и с Моравиа мы вместе в течение девяти лет 664 руководили новой серией журнала «Нуови аргоменти». Для этого журнала он планировал создать антологию молодых поэтов. Я ждал, что сегодня-завтра он мне позвонит: мы должны были обсудить критерии отбора стихов для этого сборника. Бедная Италия, превратившаяся в жестокую насильницу, убила его. Он никогда не позвонит. Я не услышу его голоса: «Привет, это я, Пьер Паоло». БЛАГОДАРНОСТИ Эта книга была написана благодаря дружескому участию Эреди Пазолини, Сюзанны Пазолини-Колусси, Грациеллы Кьяркосси и Нико Нальдини, которые позволили автору поработать с неизданными рукописями Пазолини, с огромным библиографическим материалом, хранящимся у них. Автор благодарен также Лауре Бетти, которая открыла ему доступ к архиву «Фонда Пьера Паоло Пазолини». Автор также благодарит всех тех, кто поделился своими воспоминаниями, устными и письменными, текстами, письмами, которые позволили восстановить – настолько, насколько это было возможно, – жизнь Пьера Паоло Пазолини. Особенно автор благодарен Альберто Арбазино, Адриане Асти, Анне Банти, Мариелле Баудзано, Гаспаре Барбьеллини Амидеи, Джорджо Бассани, Дарио Беллецца, Джованне Бемпорад, Аттилио Бертолуччи, Бернардо Бертолуччи, Альфредо Бини, Джанни Борнья, Чезаре Бортотто, Джулио Каттанео, Сузо Чекки Д’Амико, Винченцо Черами, Пьетро Читати, Серджо Читти, Нинетто Даволи, Федерико Феллини, Марчелле Феррара, Франко Фортини, Аугусто Фрассинети, Чезаре Гарболи, Ливио Гардзанти, Серджо Грациани, Паоло Лепри, Даче Мараини, Нино Марадзита, Фабио 666 Маури, Фердинандо Маутино, Эльзе Моранте, Альберто Моравиа, Оттьеро Оттьери, Сильване Маури Оттьери, Пьеро Оттоне, Николо Пазолини Далл’Онда, Тоти Сцьялоха, Витторио Серени, Лучано Серра, Тонути Спаньолу, Джачинто Спаньолетти, Антонелло Тромбадори, Паоло Вольпони, Андреа Дзандзотто, Джузеппе Дзигаине. Автор хотел бы поблагодарить также Лауру Мацца и Валерио Магрелли, которые помогли ему в библиографических исследованиях. В подготовке этого нового издания неоценимую помощь своими советами оказали Арнальдо Колазанти, Марио Дезиати, Франческо Скарабикки, Эммануэле Треви и Джорджо Витале. ПРИМЕЧАНИЯ* Пролог Гидродром в Остии 1 Потом выяснится, что машина была в общем пользовании, но у каждого из владельцев были свои ключи. 2 Alberto Arbasino, Troppe coincidenze nella morte di Pasolini, in «Corriere della sera», 5 novembre 1975. 3 Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane, Torino 1976, pp. 8–9. 4 Lettere luterane, cit., pp.16–17. Очерк «Дженнарьелло» публиковался с продолжениями каждую неделю в «Мондо» с 6 марта 1975 по 5 июня того же года, с сокращениями, вызванными недостатком места в газете. Издание, указанное выше, является его единственной законной полной версией. 5 Lettere luterane, cit., p. 73. 6 Alberto Moravia, Come in una violenta sequenza di «Accattone», in «Corriere della sera», 4 novembre 1975. Часть первая Сердце мальчишки 1 2 3 4 Oggi, in Ragazzi di vita, Torino, 1979. Pier Paolo Pasolini, Le poesie, Milano 1975, pp. 670–72 passim. Ibidem, p.193. Ibidem, p. 573. * Поскольку все источники, упоминаемые в Примечаниях, доступны только по-итальянски, они даны по правилам европейской библиографии – так, как в оригинале 668 5 Dacia Maraini, E tu chi eri?, Milano 1978, pp. 259-69. Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico, Milano, 1972: на с. 72 этот эпизод рассказан очень подробно. Там написано: «В то время в Беллуно, когда мне было года три, три с половиной, я испытал первое сексуальное влечение, абсолютно такое же, как я испытываю и по сей день (в период между шестнадцатью и тридцатью годами оно было особенно острым). Это ужасная и тревожная сладость, которая рождается внутри, охватывает все внутренности, жжет, терзает, как жаркий вихрь, разрушительный и испепеляющий. Он появляется внезапно, когда перед тобой оказывается объект любви. От этого первого объекта в моей памяти сохранились только ноги, точнее, впадина под коленом с натянутыми связками». 7 Pier Paolo Pasolini, Affabulazione, Pilade, Milano 1977, p. 124. Выделено в оригинале. 8 Ibidem, p. 129. И здесь тоже выделено в оригинале. 6 Время Аналогики 1 Franco Farolfi, Un ricordo, in «Nuovi argomenti», gennaio-marzo 1976, pp. 85–88. 2 Pier Paolo Pasolini, Lettere a Franco Farolfi, in «Nuovi argomenti» cit., p. 21. 3 Ibidem, p. 6. 4 Pier Paolo Pasolini, Lettere agli amici (1941–1945), Milano 1976, p. 7. 5 Ibidem, pp. 15–16. 6 Giacomo Leopardi, Zibaldone, 3837–38. 7 Lettere agli amici, cit., pp. 29–31. 8 Lettere a Franco Farolfi, cit., p. 12. 9 Pier Paolo Pasolini, Al lettore nuovo, in Poesie, Milano 1970, p. 6. 10 Ibidem. 11 Luciano Serra, Prefazione a Lettere agli amici, cit., p. XI. 12 См. по поводу журнала: Pasolini e «Il setaccio» (1942–1943), a cura di Mario Ricci, Bologna 1977. 13 В тексте статьи «Новому читателю», в сборнике «Poesie», Пазолини отмечает дату – 1937 год. Ринальди в статье «Пазолини и состояние постоянной партизанской войны» (Pasolini o dello stato di «guerriglia permanente», in «Salvo imprevisti», gennaio-aprile 1976, p. 1) исправляет дату и пишет: «1938–1939 учебный год». 14 Lettere a Franco Farolfi, cit., p.12. 15 Ibidem, p. 21. 669 16 Lettere agli amici, cit., pp. 16–17. Ibidem, pp. 33–34. 18 Al lettore nuovo, in Poesie, cit., p. 7. 19 Предисловие к Lettere agli amici, cit., pp. XI–XII. 20 Empirismo eretico, cit., pp. 62–63. 21 «Botteghe Оscure»,VIII, pp. 405–36. 22 Пусть вас не вводит в заблуждение третье лицо. Это тоже цитата из: I Parlanti, in «Botteghe oscure», cit., p. 430. 23 Le poesie, cit., 467. 24 Alberto Asor Rosa, Scrittori e popolo, Roma, 1966І, p. 73. 25 Le poesie, cit., pp. 454–56. 26 Цитата, приведенная в этой главе, взята из «Стихов в Казарсе» (название, мне кажется, подсказано «Умершим в полях» Альфонсо Гато). Это стихотворение есть в издании 1942 года. В дальнейшем, и в сборнике «Tal cour di un frut» (Udine, 1953 – где помещена новая редакция стихотворения «Оливковое воскресенье»), и в сборнике «La meglio gioventщ» (Firenze, 1954) Пазолини прибегает к более упрощенным диалектальным выражениям, гораздо менее звучным. 17 «Чистый свет» Сопротивления 1 Al lettore nuovo, in Poesie, cit., p. 8. Cм.: Lettere agli amici, cit., p. 37. 3 Al lettore nuovo, in Poesie, cit., p. 9. 4 Pier Paolo Pasolini, I turcs tal Friùl, Udine 1976, postfazione di Andreina Ciceri, p. 59. 5 Le poesie, cit., p. 217. 6 Passione e ideologia, Milano 1960, pp. 136-37. 7 La meglio gioventщ, Firenze 1954, p. 149, а также La nuova gioventщ, Torino 1975, p. 157. 8 «Это был единственный способ познания [автора «Стихов в Казарсе»]: у истоков его чувственности стояла преграда, мешавшая ему познавать мир напрямую; между ним и всем миром упал занавес, и он с ненасытным любопытством пытался понять, что за ним скрывается. Поскольку он не мог освоить мир психологически нормальным, разумным путем, он мог только погружаться в него: вернуться назад, вновь проделать этот путь от того места, где он был счастлив на фоне очаровательного пейзажа Казарсы, где жизнь его была проста и приятна. Жизнь эта приобрела для него эпический характер, по ней он испытывал ностальгию. Познавать для него означало 2 670 иметь возможность высказывать. Отсюда и лингвистический надлом, возвращение к языку, который был ближе всего к той, реальной жизни». Cм.: Passione e ideologia, cit., p. 187. 9 Ibidem, p. 198. 10 Ibidem, p. 196. 11 «La Panarie», maggio-dicembre 1949. 12 Lettere agli amici, cit., p. 36. 13 Ibidem, cit., p. 38: «Послушай, спроси у Калькатерры, если можешь, могу ли я, ввиду сложившихся обстоятельств, написать диплом о “Джованни Пасколи”» (26 января 1944). 14 Ibidem, cit., pp. 39–40. 15 Ibidem, pp. 41–42. 16 Le poesie, cit., pp. 206–207. И далее: «по мартовской траве, под невинным солнцем». В шестой картине «Богатства» сказано, что Гвидо «ушел безмолвным мартовским утром». Речь, несомненно, идет о более поздней ошибке в датах. Такие ошибки у Пазолини нередки. В этом случае речь идет о мае, об этом говорят и другие свидетели, и это ясно следует из писем к Лучано Серра. 17 Lettere agli amici, cit., p. 43–44. 18 Le poesie, cit., p. 196. 19 Passione e ideologia, cit., p. 134. 20 L’Osoppo e la «questione slavo-garibaldina», Trieste 1951, pp. 49–54. 21 Особенно ценно исследование Марко Чезелли: Marco Ceselli, Porzûs: due volti della Resistenza, Milano 1975. 22 Cм.: Marco Ceselli, Porzûs: due volti della Resistenza, cit., pp.101–103 23 Lettere agli amici, cit., p. 43. 24 Le poesie, cit., pp. 196–197. 25 Другим доказательством служит письмо к Серре, уже цитировавшееся, от 21 августа, где говорится о восторженности Гвидо, послужившей причиной его гибели, – создается впечатление, что Пьера Паоло эта мысль преследовала и не оставляла его многие месяцы. 26 Lettere agli amici, cit., pp. 36–37. 27 Le poesie, cit., pp. 218–22 passim. Фриульский эпос 1 I parlanti, in «Botteghe oscure», cit., pp. 422–23. Pier Paolo Pasolini, Antologia della lirica pascoliana, a cura di M. Bazzocchi e E. Raimondi, Torino 1994. 2 671 3 Депутат-коммунист Марио Лидзеро вспоминает о встрече с Пазолини в начале 1946 года в помещении Коммунистической федерации в Удине (cм: «Confronto», dicembre 1975): «Он с горечью, с глубокой скорбью рассказал мне о том, какую трагедию пережила его мать после гибели его брата Гвидо Альберто, партизана Эрмеса. Он хотел узнать от меня, поскольку я был комиссаром гарибальдийских подразделений, как могло произойти то, что произошло в Порцусе. Он говорил, что невозможно будет простить гибель его брата Гвидо и его товарищей в Порцусе, настолько несправедливой и нелепой была эта гибель. Партизаны против партизан, как такое могло произойти? ⟨…⟩ Мы разговаривали долго. В такой момент трудно найти подходящие слова. Я сказал, что судить всегда легко, что все это случилось в таком месте, на восточной границе, где всегда существовало множество этнических и национальных проблем, в такое трудное время, когда шла жестокая борьба, когда совершалось множество ошибок, которые были неизбежны. Я сказал, что мы со всей ответственностью осознаем, какая вина лежит на нас, гарибальдийцах, допустивших трагедию в Порцусе. Я сказал ему, что мы думаем о случившемся. Сказал, что ответственность за это несут отдельные лица – например, командир Группы патриотических действий. Я сказал ему также, что, хотя мы глубоко сочувствуем ему, его матери, всем близким погибшиx в Порцусе, мы примем участие в процессах по этому делу, что все эти факты попытаются использовать в политических целях на волне общей антикоммунистической пропаганды. Но мы понимаем, что эти вопиющие факты останутся трагической реальностью. В дальнейшем, я думаю, году в 1948, мы говорили с ним об этом еще раз, потом в 1952 и в 1958 году в Риме. В последний раз разговор произошел на площади дель Джезу, когда представитель Демохристианской партии в очередной раз попытался убедить Пазолини обратиться в суд по поводу случившегося в Порцусе и получил, как всегда, отказ. Пазолини всю оставшуюся жизнь страдал, его страдания усугублялись страданиями его матери, он был убежден, что гибель Эрмеса была чудовищным преступлением, которое невозможно простить. Однако он никогда не участвовал в судебных разбирательствах, поскольку – он это многократно повторял – там невозможно найти справедливость, там только преследуют политические реакционные цели, которые никакого отношения не имеют ни к его брату, ни к нему самому». 4 Стоит посмотреть и комментарии Нико Нальдини относительно принадлежности этих текстов именно Пазолини: Nico Naldini, Vita di Pasolini, Torino 1991. 672 5 Последний номер «Стролигута» с подзаголовком «Романский сборник № 3» датирован «июнем MCMXLVII». Критические статьи написаны по-итальянски. Пазолини перепечатал в нем свои статьи об автономии, публиковавшиеся ранее в газете «Либерта»; там есть небольшая подборка каталанских поэтов, подборка фриульских стихотворений Нальдини, Бортотто, Кантарутти, Тонути Спаньола и Де Джиронколи. Этому выпуску не хватает, несмотря на богатое содержание, свежей напористости первых номеров. После него журнал больше не выходит, деятельность Академии тоже постепенно затухает. 6 Об интересе, который испытывали к его статьям даже неизвестные еще писатели, достоверно свидетельствует письмо Элио Пальярани, отправленное 27 марта 1947 года Джованне Бемпорад: «Кстати, о “Фьера леттерариа”. Я там прочитал прекрасную статью, немного перегруженную цитатами, по правде сказать. Она написана П. Пазолини и посвящена вдохновению. Она настолько отвечает моим мыслям (даже ссылка на сомнительное утверждение Бо о том, что поэзия – это отсутствие, с которым я давно не могу согласиться), что я злюсь и радуюсь одновременно (я подумал, что моя блестящая статья никогда теперь не будет написана). Как бы то ни было, П. Пазолини мне очень, очень понравился». 7 Одно из стихотворений этого сборника, «Заповеди сердца», потом вошло в окончательное издание «Лучших из молодых». Это поэтическая исповедь молодого крестьянина, казненного нацистами сразу после того, как он в первый раз в жизни познал любовь. «Un incant thentha pretho» – «Бесценное очарование» – сказано в стихотворении. Это лирико-эпический синтез жизненной позиции самого Пазолини, который писал: «Меня поглотили волны жизни, едва заметные в неощутимых формах». 8 Le poesie, cit., pp. 58–63. 9 «Rinascita», 4 novembre 1977, p. 48. 10 Как это случилось с его статьей в журнале «Политекнико» Витторини. «Политекнико» Пазолини посвятил несколько слов в своем выступлении: журнал способствовал появлению разоблачительной литературы, благодаря Сопротивлению она окрепла, но она не «“нова”, поскольку с точки зрения языка она остается продуктом литературных образцов, пусть даже и очень высоких, но, с нашей точки зрения, имеющих отрицательное влияние». В этом выражении – «отрицательное влияние» – явно чувствуется мрачный тон марксиста-детерминиста; это зловещий тезис, который, к счастью, был быстро забыт. 673 11 Широко известна книга «Пазолини. Мечта о чем-то», написанная Энцо Голино (Enzo Golino, Pasolini. Il sogno di una cosa, Milano 1985). Критик сумел найти в педагогике Пазолини не только тему, но и основное содержание творчества Пазолини. 12 Pier Paolo Pasolini, Opinioni sul latino, in «L’illustrazione italiana», maggio 1959, p. 62. 13 Эти два стихотворения вместе с тремя другими были опубликованы в «Конфронто» («Confronto», cit.). В комментарии к ним говорится, что они были найдены в тетради бывшего ученика Франческо Сколдарелло, который в настоящее время преподает в Сан Мартино на Тальяменто. Пазолини сочинил их в классе по просьбе учеников и посвятил родным селениям ребят. Сколдарелло написал также «Воспоминания об учителе Пазолини» (Ricordo del prof. Pasolini, F. Scoldarello, M. Lenarduzzi, in AA.VV., Pasolini in Friuli, Udine, 1976, p.144). В том же издании приведены эти стихи. 14 Andrea Zanzotto, Per una pedagogia?, in «Nuovi argomenti», gennaiomarzo 1976, pp. 47–51. 15 Amado mio, con uno scritto di Attilio Bertolucci, Milano 1991. 16 Среди этих стихов есть две терцины, которые предваряют вдохновенные строки «Соловья католической церкви»: «Дрожи, малыш, / тень сгущается / над твоей деревней. // Ах, как больно / ловить твое обнаженное тело / моим лучом». 17 Во время дальнейшей работы над текстом в начале пятидесятых годов эта стопка листов с набросками отдельных глав получила название «Дни приговора Де Гаспери». 18 Cм. раздел «Paolo e Baruch» в L’usignolo della Сhiesa Сattolica. 19 В неизданном сборнике «Дневников» в стихах, среди текстов, датированных 1948 годом, в поэме в прозе, озаглавленной «Единственное божество», мы читаем: «Зеркало напротив зеркала, тайны отражаются, повторяются в отражениях до тех пределов, где кончается время и пространство, в сердце мальчика, который не знает своей тайны. Я умираю, потому что много раз смирялся и покорялся. Я умираю один на один с моей навязчивой идеей. Я умираю, растворяясь в запахе уборной моего детства, к жизни меня навсегда привязала оса, которая блестит в воздухе золотом лета». 20 См. выступление на I конгрессе Региональной Коммунистической Федерации Порденоне в «Rinascita», 4 novembre 1977, cit. 21 AA-VV., Ritratti su misura, a cura di E. F. Accrocca, Venezia 1960, p. 321. 22 Le poesie, cit., p. 255. 674 Charles Baudelaire, CEuvres complètes, II, Paris 1975, p. 677: «La femme est le contraire du Dandy. ⟨…⟩ La femme est naturelle, c’est-àdire abominable» («Женщина – прямая противоположность денди. ⟨…⟩ Женщина естественна, то есть отвратительна»). 24 Так Пазолини назвал длинное стихотворение 1948 года, строфа из которого появится как первая строфа в стихотворении «Примулы» в сборнике «Соловей…». 25 Текст письма был впервые приведен Фердинандо Бандини в AA.VV., Pasolini: cronaca gindiziaria, persecuzione, morte, Milano 1977, pp. 48–54. 23 Как в романе 1 Это письмо довольно сложно датировать. Оно написано 25 октября 1947 или 1948 года. 2 AA.VV., Pasolini: cronaca gindiziaria, persecuzione, morte, cit., p. 46. 3 Ibidem, p. 45. На письме почтовый штемпель 31 октября, но оно, несомненно, было написано вечером 29-го, утром того дня «Унита» опубликовала заметку о его исключении из партии. 4 Al lettore nuovo in Poesie, cit., p. 9. 5 Le poesie, cit., pp. 219–20. 6 О фриульской поэзии см.: La Cresima, a cura di A. Giacomini, Pordenone 1985. 7 Pietro Citati, Il tè del cappellaio matto, Milano 1972, p. 227. 8 Cм. Charles Baudelaire, ÑEuvres complètes, I, cit., pp. 676–608 passim. 9 Все цитаты из «Соловья католической церкви» приводятся по книге, опубликованной в Милане в 1958 году. Часть вторая Открытие Рима 1 Cesare Garboli, Ricordo di Longhi, in «Nuovi argomenti», aprile– giugno 1970, p. 36. 2 В письме Лучано Серра из Рима, написанном предположительно в начале 1950 года, – письме, приведенном в спектакле «Поля Фриули: читая и перечитывая Пазолини», поставленном Роберто Роверси в 1978 году, – Пазолини писал: «Дорогой Лучано, я получил твое невероятное письмо. Невероятное потому, что я думал, что ты 675 знаешь, что я в Риме. Мы с мамой сбежали из Казарсы примерно месяц назад. Перед отъездом я написал записку, чтобы предупредить тебя. Все могло кончиться очень плохо. Моя мать устроилась на работу служанкой, я работу найти не могу, чувствую себя очень одиноким, ни на что не годным, нахожусь в ужасном состоянии духа... Пока я живу на иждивении у дяди. Мы сбежали из Казарсы, потому что не могли больше оставаться с отцом. Он сводил мою мать в могилу. Сейчас я скрываю от нее, насколько я близок к самоубийству, она немного оправилась, мне кажется, что она теперь немного похожа на ту, какой была в Болонье». 3 Pier Paolo Pasolini, Roma 1950: Diario, 1960, Milano, pp. 40 e sgg., ora in Bestemmia, op. cit., vol. II, pp. 1479-95. 4 Ключевой эпизод из «Шпаны» для удобства читателя я привожу здесь: «Ричетто удалялся, сильно загребая воду. Они увидели, как он становился все меньше и меньше, потом он подплыл к ласточке по маслянистой воде, попытался ее схватить. «Эй, Е-е-е-жик! – крикнул Марчелло. – Ты чего ее не берешь?» Должно быть, Ричетто услышал его, потому что сразу послышался его голос: «Она клюется!» – «Смотри, заклюет до смерти!» – закричал Марчелло. Ричетто попытался схватить ласточку, а она вырывалась, била крыльями. Течение их относило к сваям, там оно было очень сильным, в реке было много водоворотов. «Эй, Ричетто! – кричали друзья с лодки. – Брось! Оставь ее!» Но в эту минуту Ричетто решился, схватил ласточку и поплыл к берегу, загребая одной рукой. «Давайте вернемся!» – сказал Марчелло, который сидел на веслах. Они развернулись. Ричетто поджидал их, сидя на траве, с ласточкой в руках. «Ну, и на что ты ее спасал? – спросил Марчелло. – Так было забавно смотреть, как она тонет!» Ричетто ответил не сразу. «Она промокла. Подождем, пока она обсохнет!» – сказал он немного спустя. Чтобы обсохнуть, ей понадобилось совсем немного времени. Через пять минут она уже летала со своими товарками над Тибром, и Ричетто уже не мог отличить ее от других». 5 Почти все рассказы, опубликованные в римских газетах в 1950– 1951 годах и приведенные выше, вошли потом вместе с рассказами, написанными позднее, в сборник, который Пазолини назвал «Али с голубыми глазами». Pier Paolo Pasolini, Ali dagli occhi azzurri, Milano 1965, pp. 5–102. 6 О природе маньеризма раннего римского периода творчества Пазолини см.: Marco Vallora, Ali dagli occhi azzurri, in «BN», gennaioaprile 1976, pp. 156–204. 7 Cм.: Un poeta e Dio, in Passione e Ideologia, cit., pp. 354–73. 676 8 Если влияние Гадды и можно заметить в творчестве Пазолини, то его легче всего обнаружить в рассказе «Юбилей (обломок юмористского романа)». Уже в названии намечена точка соприкосновения между двумя писателями: это попытка применения метода «юморизма» к персонажу, представляющему мелкую буржуазию. Область, очень характерная для Гадды. Cм.: Ali dagli occhi azzurri, cit., pp. 53–63. 9 AA.VV. Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, cit., pp.52-53. 10 Cм.: P. P. Pasolini, Il portico della morte, a cura di Cesare Segre, Associazione «Fondo P. P. Pasolini», Roma 1988. 11 Pier Paolo Pasolini, Gli «Appunti» do Sandro Penna, in «Il Popolo di Roma», 28 settembre 1950. 12 Pier Paolo Pasolini, La capanna indiana, in «Il Giornale», 18 agosto 1951. 13 Cм:. Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, Torino 1975, II, p. 1384. 14 Ali dagli occhi azzurri, cit., pp. 80–88. 15 Частично письмо было приведено в AA.VV., Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, cit., pp. 58–59. 16 Антологии были включены в серию «Фениче» в издательстве «Гуанда» в Парме. Редактором серии был Аттилио Бертолуччи. 17 Le poesie, cit., pp. 23–31. 18 Pier Paolo Pasolini, Sonetto primaverile (1953), Milano 1960, pp. 38 passim. 19 Le poesie, cit., pp. 161–162. 20 Ibidem, pp. 108–104. Автор «Праха» 1 AA.VV., Pasolini: cronaca giudiziaria; persecuzione, morte, cit., pp. 63– 68. 2 Теперь в: Carlo Salinari, Preludio e fine del realismo in Italia, Napoli 1967, pp. 55–59 passim. 3 Единственным исключением среди литераторов-коммунистов был Николо Галло, который в «Лаворо», выражая свое несогласие с Салинари и другими, например, Гаэтано Тромбаторе, написал, что «Шпана» – это важное произведение, «в особенности потому, что Пазолини попытался и, в основном, смог перенести описание острой и жгучей реальности в план нравственных и культурных размышлений» (cм.: N.G., Scritti letterari, Milano 1975, pp. 138–39). 4 Pietro Citati, Il tи del cappellaio matto, cit. p. 230. 677 5 О встрече с братьями Читти см.: Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma, Milano 1962, pp. 134–37. 6 С 1957 по 1961 год, до тех пор пока он не задумал «Аккаттоне», Пазолини прошел своеобразное ученичество в кинематографе, создав сценарии к одиннадцати фильмам. Его участие в разработке сценариев ясно видно из названий, которые близки названию его романа «Шпана»: «Бандитская ночь», «Дурацкий день». Кроме «Ночей Кабирии» он участвовал в написании сценариев фильмов: «Кокетка Мариза», реж. Мауро Болоньини (1957), «Молодые мужья», реж. Мауро Болоньини (1958), «Смерть друга», реж. Франко Росси (1959), «Бандитская ночь», реж. Мауро Болоньини (1959), «Прекрасный Антонио», реж. Мауро Болоньини, (1960), «Танк 8 сентября», реж. Джанни Пуччини (1960), «Дурацкий день», реж. Мауро Болоньини, (1960), «Длинная ночь 1943 года», реж. Флорестано Вачини (1960), «Кантата сточной канавы», реж. Чечилия Маньини (1960), «Девушка на витрине», реж. Лучано Эммер (1961). 7 Elio Filippo Acrocca, Che cosa fanno gli scrittori italiani: 10 domande a Pier Paolo Pasolini, in «La Fiera letteraria», 30 giugno 1957. 8 Все, что касается истории создания и содержания журнала, издававшегося в Болонье, см.: Gian Carlo Ferretti, «Officina»: cultura, letteratura e politica negli Anni Cinquanta, Torino 1975. 9 Francesco Leonetti, Il decadentismo come problema contemporaneo, in «Officina», aprile 1956, p. 223. 10 Gian Сarlo Ferretti, «Officina», cit., pp. 472–73. 11 Pier Paolo Pasolini, La libertà stilistica, in «Officina», giugno 1957, p. 345; ora in Passione e ideologia, cit., p. 489. 12 Edoardo Sanguineti, Una polemica in prosa, in «Officina», novembre 1957, pp. 453–57. 13 Le poesie, cit., p. 260. 14 Ibidem, p. 277. 15 Gian Carlo Ferretti, «Officina», cit., pp. 110–11. 16 См., что написал по этому поводу Джено Пампалони: Geno Pampaloni, La saga degli Olivetti, in «Il Giornale nuovo», 31 maggio 1978. 17 Le poesie, cit., p. 258. 18 Gian Carlo Ferretti, «Officina», cit., p. 458. 19 Ibidem, pp. 454–55. 20 AA.VV., Ritratti su misura, a cura di Elio Filippo Acrocca, cit., p. 321. 21 Ibidem. 22 Le poesie, cit., p. 267. 678 23 Это первая строка из стихотворения Ферретти «Похвала другу-поэту». Cм.: Massimo Ferretti, Allergia, Milano 1968, p. 36. 24 Дружеские отношения Пазолини и Ферретти продолжались долго. Они прекратились, когда в 1965 году Ферретти опубликовал свою третью книгу, экспериментальный роман, который он назвал «Шумное веселье». Отойдя от натурализма ранних стихов, Ферретти попытался найти новые выразительные средства. Пазолини в большой статье «Прочтение “Шумного веселья” как газеты» («Nuovi argomenti», gennaio-marzo 1967, pp. 167-80) поставил под сомнение эксперимент Ферретти; он счел книгу «произведением, не предназначенным для какого-то конкретного читателя». И этого оказалось достаточно, чтобы дружба между ними навсегда прервалась. 25 Cм.: Pier Paolo Pasolini, La lunga strada di sabbia, in «Successo», luglio-agosto-settembre 1959. 26 Cм.: AA.VV., Pasolini: cronaca giudiziaria; persecuzione, morte, cit., pp. 101–106. 27 Это слова из его автобиографии в стихах, написанной в 1966 году, когда он собирался поехать в Соединенные Штаты. Стихи остались незаконченными, поскольку писать об этом для него было слишком болезненно; их обнаружили среди его неизданных произведений. 28 AA.VV., Ritratti su misura, a cura di E. F. Acrocca, cit., p. 321. 29 Roberto De Monticelli, «Non ho campanile» dice Pier Paolo Pasolini, in «Il Giorno», 16 dicembre 1958. 30 Le poesie, cit., p. 72. 31 Cesare Garboli, La stanza separata, Milano 1969, pp. 11–18. 32 Это первая терцина «Праха Грамши». Cм.: Le poesie, cit., pp. 67 sgg. 33 Pietro Citati, Il tè del cappellaio matto, cit., p. 228. 34 Le poesie, cit., pp. 233–34. 35 Giorgio Amendola, Il rinnovamento del PCI, intervista di Renato Nicolai, Roma 1978, pp. 140–41. 36 Ibidem. 37 Эту небольшую поэму Сангвинети попробовал пародировать, написав «Полемику в прозе» и опубликовав ее на страницах «Оффичины». 38 Pier Paolo Pasolini, La posizione, in «Officina», aprile 1956, p. 250. 39 Cм.: Maramaldi e Ferrucci, in «Il Contemporaneo», 9 giugno 1966: редакционная статья, опубликованная в рубрике «Кафе», написан- 679 ная Карло Салинари; P. P. Pasolini, Lettera al direttore, ibidem, 23 giugno 1956; P. P. Pasolini, Italo Calvino e Carlo Salinari, Lettere al direttore, ibidem, 30 giugno 1956. Салинари, кроме всего прочего, обвинял Пазолини в том, что он «ведет себя несдержанно, как капризный ребенок». 40 C. Salinari, Preludio e fine del realismo in Italia, cit., p. 145. 41 Гаэтано Тромбаторе, литературный критик, дядя Антонелло Тромбадори, был в рядах марксистов одним из самых ярых противников произведений Пазолини и его идей. 42 Le poesie, cit., pp. 117–25. 43 В сентябре 1958 года Пазолини принял приглашение Союза советских писателей принять участие в конференции, посвященной поэзии, которая проводилась в Москве. Отголосок этого путешествия можно найти в «Религии моего времени»: толпа на Красной площади, «благочестивая бледность» ночи, «этот огромный ров, / над которым так близко сверкают звезды». Вот картина толпы, которая играет «просто, трогательно и радостно»: много молодых людей, которые встают в круг, в центре которого несколько девушек», они держатся за руки, «сжимая руки в сильном и дружеском пожатии». (Le poesie, cit., pp. 225–27). Больше всего поразил Пазолини в Советском Союзе радостный и здоровый вид простых людей: народ, который радуется своему «невинному», религиозному счастью под сенью золоченых куполов Василия Блаженного, памятника безжизненному прошлому. Вот, собственно, и все. Никакого другого любопытства к миру социализма он не испытывал. 44 См.: «Иль Пунто», 14 ноября 1959 года: статья Джанни Рокка, посвященная вручению премии «Кротоне», которая была присуждена роману Пазолини «Жестокая жизнь». Рокка приводит слова Пазолини: «Я не хочу быть литературным событием. Я не хочу, чтобы меня рассматривали только с точки зрения актуальности моего произведения, чтобы считали поверхностным журналистом. Я прекрасно знаю, что такие попытки уже делаются, и причина этому ясна. На первый план выносят второстепенные моменты моего романа, такие как язык, жестокость и обнаженность моей правды жизни. Это лишь изящный способ избежать социальных проблем, которые для меня, для тех целей, которые я ставил перед собой как художник, гораздо важнее». 45 Le poesie, cit., p. 235. 46 Ibidem, pp. 214–215. 47 Ibidem, p. 238. 680 48 49 50 Ibidem, p. 241. Ibidem, p. 242. Ibidem, pp. 243–44. Кино 1 Cesare Garboli, La stanza separata, cit., p. 18. Massimo D’Avaсk, Cinema e letteratura, Roma 1964, p. 111. 3 См. относительно этой и последующих цитат из «Дневника «“Аккаттоне”»: Pier Paolo Pasolini, Accattone, Roma 1961, pp. 1–15 passim. 4 Il padre selvaggio, cit., p. 60. 5 См. выступление Пазолини во время дискуссии в Бреши на открытии выставки Романино, в которой приняли участие Бальдуччи, Делл’Аква, Гуттузо, Паолини, Пьовене, Руссоли. Дискуссия состоялась 7 сентября 1965 года. L’arte del Romanino e il nostro tempo, Brescia 1976. 6 Daisy Martini, L’Accattone di Pier Paolo Pasolini, in «Cinema nuovo», marzo-aprile 1961. 7 Accattone, cit., p. 7. 8 Le poesie, cit., pp. 283–89. 9 Этот текст никогда не был поставлен на сцене и никогда не был опубликован. Его переработка была представлена – под названием «46-й год» – в Театре Сатиры в Риме, в апреле 1965 года, режиссер Серджо Грациани. 10 Le poesie, cit., p.337. 11 Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma, Milano 1962, p. 145. 12 Le poesie, cit., p. 180. 13 Так Пазолини написал в письме Антонелло Тромбадори, опубликованном в «Контемпоранео» («Contemporaneo», 21 agosto 1957). 14 Le poesie, cit., p. 179. 15 Pier Paolo Pasolini, Lettera del traduttore, in Eschilo, Orestiade, Torino, 1960, con testi di C. Thomson, V. Gassman, T. Otto, R. Bianchi Bandinelli, L. Zorzi, L. Lucignani, C. Stanislavkij, pp. 1–3. Спектакль был поставлен 19 мая 1960 года в Театро Греко в Сиракузах, режиссер Витторио Гассман, декорации и костюмы Тео Отто, музыка Анджело Муско, при участии балета Вуду Матильды Бовуар (Гаити). Пазолини еще раз обратился к переводу для театра в 1963 году. На этот раз речь шла о комедии Плавта «Хвастливый воин», которую Пазолини перевел для римского режиссера Франко Энрикеса и назвал «Хвастун» (cм.: Pier Paolo Pasolini, Il Vantone di Plauto, Milano 1963). 2 681 16 Le poesie, cit., p. 455. Ibidem, pp. 304–305. 18 Ibidem, p. 344. 19 Accattone, cit., p. 14. 20 Об этом написал Андреа Барбато в статье «Имена и фамилии» (Nomi e cognomi, «La stampa», 4 marzo 1978). 21 Alberto Moravia, Immagini al posto d’onore, in «L’Espresso», 1 ottobre 1961. 22 Le poesie, cit. p. 350. 23 Pier Paolo Pasolini, Dialoghi con Pasolini, in «Vie nuove», 26 novembre 1960. 24 Pier Paolo Pasolini, La mia avventura a Panico, in «Paese sera», 4 luglio 1960. 25 AA.VV., Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, cit., pp. 111-19. 26 Ibidem, pp. 109–110. 27 Poeta delle ceneri, «Nuovi argomenti», luglio-dicembre 1980, a cura di Enzo Siciliano. Т. ж. в Bestemmia, cit., vol. II, p. 2056–84. Текст, вероятно, написан в августе 1966 года. 28 Полностью документы процесса представлены в AA.VV., Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, cit., pp. 119–33. 29 S.f., Si riconosce in un romanzo di Pаsolini e denuncia lo scrittore per diffamazione, in «Il Tempo», 11 aprile 1962. 30 Nino Ferrero, «Mamma Roma» ovvero Dalla responsabilità individuale alla responsabilità collettiva, in «Filmcritica», settembre 1962. 31 S.f., «Cerco Cristo fra i poveri», in «Italia-Notizie», 20 novembre 1963. 32 Empirismo eretico, cit. p. 30. 33 Alberto Moravia, L’uomo medio sotto il bisturi, in «L’Espresso», 3 marzo 1963. 34 Adelio Ferrero, Il cinema di P. P. Pasolini, Venezia 1977, p. 45. 35 AA.VV., Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, cit., pp. 162–63. 36 «Cinema e Film», inverno 1966–1977; ora in Empirismo eretico, cit., p. 233. 37 Le poesie, cit., p. 347. 17 Мечты возвращаются 1 Gian Carlo Ferretti, Introduzione a Pier Paolo Pasolini, Le belle bandiere, Milano 1977, p. 21. 2 Ibidem, p. 219. 3 Ibidem, p. 228. 682 4 Ibidem, p. 234. Ibidem, p. 239. 6 Pier Paolo Pasolini, L’odore dell’India, Milano 1962, p. 43. 7 Ibidem, p. 24. 8 Ibidem. 9 Ibidem, p. 79–80. 10 Ibidem. 11 Le poesie, cit., p. 336. 12 Le belle bandiere, cit., p. 159. 13 Ibidem, p. 170. 14 См.: Franco Monicelli, Rabbia e ingenuità, in «Paese sera», 19 aprile 1963. Там сказано: «Я особо хочу сказать о наивности Пазолини, который принимает предложение продюсера снять фильм вместе с фашистом, редактором фашистской юмористической газетенки, который был осужден (и провел год в тюрьме) за злостную клевету и распространение порочащих сведений о человеке, которого мы считаем честным и благородным, несмотря на то что он был и остается нашим политическим противником, – о депутате Де Гаспери. Мне хочется рассказать об этом сорокадвухлетнем крестоносце нашей беззащитной и непорочной литературы, который и не подозревал, что ему предложили подружиться с хорошо известным ярым фашистом ⟨…⟩ и который только после того, как вместе с ним снял фильм, заметил эту свою грубую ошибку и бросился писать в газеты, оправдываясь и заявляя, что ляжет костьми, чтобы снять свое имя с титров фильма». 15 Pier Paolo Pasolini, Nenni (1960), in «Avanti!», 31 dicembre 1961. 16 Именно тогда Пазолини «понял», почему Израиль ведет войну, увидел жизнь в осаде, которая там протекала. См.: Le poesie, cit., pp. 492–93: «когда я стоял, прислонившись к кузову автомобиля, / – кабальный знак ученичества, – неискренний / исследователь мест Господних, / пришел вслед за парой верблюдов / на звук клаксона машин, как из героических мифов, молодой араб, / в джинсах и белой майке, / засунув руки под ремень, / опоясывающий узкие бедра, / ремень с огромной пряжкой под пупком, / мрачный, с тяжелым взглядом, – как парень из Квартиччоло. / У него блестящие зубы, у него лицо / совсем такое, как у нас, евреев. / Но на наших лицах не только никогда нет / ни ярости, ни ненависти, но и / нет даже возможности, что эта ярость, эта ненависть возникнут. / А у него они есть. Это так же верно, как и то, что он человек. / Его сущность отражает жестокость его расы / к нам, евреям, вернее, израильтя5 683 нам, / и поэтому мы сжимаем оружие в руках, / мы хотим, чтобы насилие разума / познало смирение гнева и ненависти». 17 Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, Milano 1964, pp. 16–17. 18 Ibidem, p. 14. 19 Le belle bandiere, cit., p. 265. 20 Il Vangelo secondo Matteo, cit., p. 265. 21 Ibidem, p. 266. 22 Ibidem, p. 20. 23 Felice Chilanti, La serata veneziana di Matteo e Pasolini, in «Paese sera», 22 settembre 1964. 24 Mario Soldati, Il «Vangelo» di Pasolini, in «L’Europeo», 28 novembre 1964: ora in M.S., Da spettatore, Milano 1973, pp. 170–179. 25 Le poesie, p.355. 26 Ibidem, p. 444. 27 Ibidem, p. 398. 28 Ibidem, p. 371. 29 Ibidem, p. 439. 30 Ibidem, p. 333. 31 Ibidem, p. 432. 32 Ibidem, p. 530. 33 Ibidem, p. 372. 34 Среди них Ролан Барт, Морис Бланшо, Ганс М. Энценсбергер, Уве Йонсон, Мартин Вальзер, Маргерит Дюрас, Жан Старобинский, Клод Оллье, Гюнтер Грасс, Жан Жене. Пазолини опубликовал там «Заметки для народной поэмы». 35 Le poesie, cit., p. 473. 36 Ibidem, p. 473. 37 Стихи включены в «Предисловие» к сборнику «Али с голубыми глазами» (Alì dagli occhi azzurri, cit., pp. 515–16); там же автор благодарит Нинетто за «его неоценимую лингвистическую помощь и особенно за ту радость, которую он доставляет просто своим существованием». 38 Cм.: Alfredo Bini, I primi passi del regista Pasolini, in «L’Europeo», 28 novembre 1975. Теорема 1 Le poesie, p. 348. Alì dagli occhi azzurri, cit. pp. 494–513. 3 Когда эти строчки были обнаружены после его смерти, многие истолковали их как пророчество. Кажется, что Пазолини пред2 684 сказал собственную смерть: он тоже был убит ударом палки возле своего автомобиля. Автор этой книги предпочитает литературную трактовку: в стихах слышны отголоски литературной полемики. Это подтверждается также и фотографиями (включенными в «Пожелтевшую иконографию»), на которых представлены несколько членов «Группы 63». Эта интерпретация (см.: Enzo Siciliano, L’inferno postumo di Pasolini, in «Mondo», 25 dicembre 1975) была поддержана в: Gian Carlo Ferretti, Pasolini. L’universo orrendo, Roma 1976, p. 53, а также в предисловии к Le belle bandiere, cit., pp. 15-16 и в: Luigi Malerba, Ce mal-aimé qui aimait le scandale, «Le Pont de l’épée», 1976, pp. 56–57. 4 Le belle bandiere, cit., p. 343. 5 Le poesie, cit., p. 531. 6 Empirismo eretico, cit., p. 22. 7 Ibidem, pp. 25–26. 8 Ibidem, p. 29. 9 Ibidem. 10 Ibidem, pp. 55–81. 11 Ibidem, p. 53. 12 Ibidem. 13 Ibidem, p. 73–74. 14 Ibidem, p. 80. 15 Ibidem, p. 81. 16 Ibidem, pp. 5–107 (Intervento sul Discorso Libero Indiretto) e pp. 119–25 (La fine dell’avanguardia). 17 Pier Paolo Pasolini, Uccellacci e uccellini, Milano 1966, p. 57. 18 Adelio Ferrero, Il cinema di P. P. Pasolini, cit., p. 71. 19 Uccellacci e uccellini, cit., p. 58. 20 Баснями являются и два киноэпизода, снятые в 1966 и 1967 годах: «Земля, какой она представляется с Луны» и «Что такое облака». Героями этих эпизодов снова являются Тотò и Нинетто. И снова в них постоянно, настойчиво, но малозаметно внешне проходит тема «Божественного мимесиса» и «Птиц больших и малых»: люди идут к будущему, позабыв о древних орудиях разума; как уживутся в них простодушие и чистота? Надежда на будущее, как сохранить ее? Вопросы до сих пор остаются без ответа. 21 Pier Paolo Pasolini, dichiarazione sul caso Siniavski-Daniel, in «Il giorno», 17 febbraio 1966. 22 Giorgio Bocca, L’arrabbiato sono io; in «Il Giorno», 19 luglio 1966. 23 Empirismo eretico, cit., p.174. 685 24 Le poesie, cit., p. 608. Giorgio Bocca, L’arrabbiato sono io, in «Il Giorno», 19 luglio 1966. 26 Cм.: «Nuovi argomenti» luglio-dicembre 1967; e «Nuovi argomenti» luglio–settembre 1969. 27 Empirismo eretico, cit., pp. 235. 28 Geno Pampaloni, Vince la pietà, in «Corriere della sera», 27 agosto 1972. 29 Affabulazione, Pilade, cit., pp. 111–112. 30 Pier Paolo Pasolini, Edipo re, Milano 1967, pp. 11–15 passim. 31 Guido Piovene, Fino in fondo nel sangue nel buio, in «La Fiera letteraria», 14 settembre 1967. 32 Empirismo eretico, cit., p. 148. 33 Ibidem, p. 149. 34 Oriana Fallaci, Un marxista a New York, in «L’Europeo», 13 ottobre 1966. 35 Empirismo eretico, cit., p. 150. 36 Фильм был показан также на фестивале в Монреале в конце июля, и Пазолини ездил туда на несколько дней. 37 Empirismo eretico, cit., p. 149. 38 Ibidem, p. 150. 39 Ibidem, p. 151. 40 Ibidem, p. 152–153. 41 Ibidem, p. 154. 42 Ibidem, p. 252. 43 Camilla Cederna, Tra le braccia dell’arcangelo, in «L’Espresso», 21 aprile 1968. 44 Pier Paolo Pasolini, Teorema, Milano 1968, текст на обложке. Что же касается «примерно три года назад», то здесь нужно читать: «два года назад». Это одна из обычных ошибок Пазолини, который, как известно, никогда не был точен в датах. 45 Cesare Garboli, La stanza separata, cit., p. 266. 46 Emperismo eretico, p. 154. 47 Emperismo eretico, cit., p. 136-37. 48 Цитируется по: Maria Bellonci, Come in un racconto gli anni del Premio Strega, Milano 1971, p. 103. 49 Pier Paolo Pasolini, «Il Caos», in «Tempo illustrato», 20 agosto 1968. 50 G. Gh. (Gigi Ghirotti), Il regista invita il pubblico a non vedere la sua pellicola, in «La Stampa», 5 settembre 1968. 25 686 Отречение и утопия 1 Arturo Colombo, Anche noi sbagliammo nel ’68, in «Corriere della sera», 12 aprile 1978. 2 Paolo Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali, Bari 1976, p. 61. 3 Alberto Ronchey, Accadde in Italia, 1968-1977, Milano 1977, pp. 5–6. 4 Empirismo eretico, cit., p. 162. 5 Cм.: «Nuovi argomenti», gennaio-marzo 1968. Тексты опубликованы без указания авторов, подборку сделал А. Моравиа. Napalm LDT, а также Da non leggere и Il rifiuto dei libri a Palazzo Fontana di Enzo Siciliano. См., кроме того, все тексты Пазолини в «Nuovi argomenti», aprile– giugno 1968, а также Impegno e integrazione di Alberto Moravia, Lettera a Pasolini di Enzo Siciliano и Roma: Le due linee del Movimento Studentesco di Giorgio Manacorda. 6 Cм.: «L’Espresso», 16 giugno 1968. 7 Empirismo eretico, cit., p.155 sgg. 8 Cм.: «L’Espresso», 23 giugno 1968 или 30 giugno 1968. 9 Walter Benjamin, Angelus Novus, Torino 1962, pp.14–15. 10 Empirismo eretico, cit., p. 162. 11 По выражению Умберто Черрони в его политико-философском дневнике. Carte della crisi, Roma 1978, прежде всего pp. 49 и 65–66. 12 Pier Paolo Pasolini, San Paolo, Torino 1977, pp. 6–7. 13 Le poesie, cit., p. 601. 14 «Il Caos», in «Tempo illustrato», 18 ottobre 1969. 15 Piero Sanavio, «Porcile» o no, tiriamo le somme su Pasolini, in «Il Dramma», 12 settembre 1969. 16 Alberto Moravia, Oreste a 30° all’ombra, in «L’Espresso» 14 febbraio 1971. 17 Pier Paolo Pasolini, Medea, Milano 1970, p. 92. 18 Le poesie, p. 719. 19 Ibidem. 20 Ibidem. 21 Ibidem, pр. 717–18. 22 Ibidem, p. 637. 23 Cм. L’hobby del sonetto (1971–1973), шесть неопубликованных стихотворений, в Bestemmia, cit., vol. II, pp. 2343–48. 24 Против «Декамерона» в конце сентября–ноябре 1971 года было выдвинуто более тридцати обвинений, рассмотренных в суде. Его допустили в прокат по решению судебных властей Тренто, потом запретили решением прокуратуры Сульмоны и Анко- 687 ны. «Кентерберийские рассказы» были запрещены 7 октября 1971 года, запрет был снят 9 января 1973 года, потом их снова запретили решением Прокуратуры Республики в Терамо 19 марта 1973 года. Кассационный суд отменил это решение 2 апреля 1973 года. Через два дня Прокуратура Республики в Беневенто снова наложила запрет на этот фильм. Был поставлен вопрос о соответствии этого решения Конституции. Конституционный суд собрался для обсуждения этого вопроса 27 марта 1975 года и снял запрет. «Цветок тысячи и одной ночи» был запрещен 27 июня 1974 года, запрет был отменен решением миланского окружного суда 5 августа 1974 года. Cм.: AA. VV., Pasolini: cronaca giudiziaria; persecuzione, morte, cit., pp. 180–207. 25 Alberto Moravia, Dall’Oriente a Salò, in «Nuovi argomenti», gennaio– marzo 1976, pp. 93–95. 26 Lettere luterane, cit., pp. 72–73. 27 Cм.: AA. VV., Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, cit., pp. 177–79. 28 Jean-Michel Gardair, Entretien avec Pier Paolo Pasolini, in «Le Monde», 26 febbraio 1971. 29 Le poesie, cit., p. 677. 30 Ibidem, p. 621. 31 Ibidem, p. 678. 32 Ibidem, p. 680. 33 Ibidem, p. 698. 34 Ibidem, p. 699. 35 Ibidem, p. 652. 36 Ibidem, p. 616. 37 Pier Paolo Pasolini, Che cos’é un vuoto letterario, in «Nuovi argomenti», gennaio-marzo 1971, pp. 7–10. 38 Le poesie, cit., pp. 670–672. 39 Francesco Alberoni, Crisi di identità della gente borghese, in «Corriere della sera», 17 ottobre 1975. 40 Pier Paolo Pаsolini, Pasolini recensisce Pаsolini, in «Il Giorno» 3 giugno 1971. 41 Пазолини писал о книгах в 1971 году на страницах «Нуови аргоменти». 26 ноября 1972 года в «Темпо иллюстрато» он начал еженедельную колонку литературной критики, которой занимался до 10 января 1975 года. 42 Pier Paolo Pasolini, Satura, in «Nuovi argomenti», gennaio–marzo 1971, pp. 17–20. 688 43 Eugenio Montale, Diario del ‘71, in «L’Espresso», 19 dicembre 1971, ora in Diario del ‘71 e del ‘72, Milano 1973, p. 32 e pp. 61-62. 44 Pier Paolo Pasolini, Oафйт, in «Nuovi argomenti», maggio–giugno, 1972, pp. 149-150. 45 Enzo Siciliano, L’odiato Pаsolini, in «Il Mondo», 14 luglio 1972. 46 Louis Valentin, Tête à-tête avec Pier Paolo Pаsolini, in «Lui», avril 1970. 47 «Il Caos», in «Tempo illustrato», 13 dicembre 1969. 48 Le poesie, cit., p. 421. 49 Ferdinando Camon, Il mestiere di scrittore, Milano 1973, p. 121. 50 «Il Caos», in «Tempo illustrato», 13 dicembre 1969. 51 Ferdinando Camon, Il mestiere di scrittore, cit., p. 119. 52 Enzo Golino, Letteratura e classi sociali, Bari 1976, p. 108. Речь идет об интервью Пазолини, опубликованном впервые в «Иль Джорно» 29 декабря 1973 года. 53 Pier Paolo Pasolini, La nuova gioventщ, Torino 1975, p. 167. 54 Piero Ottone, Intervista sul giornalismo italiano, a cura di Paolo Murialdi, Bari, 1978, pp. 112–13. 55 Ora con il titolo Il discorso dei capelli; l’articolo и compreso in Scritti corsari, cit., pp. 9–16. 56 Ibidem, p. 17–23. 57 Ibidem, p. 31–34. 58 Ibidem, pp. 36–37, из текста, сначала напечатанного в «Драмма» в марте 1974 года. 59 Сотрудничество с «Коррьере делла сера» предполагало, что Пазолини будет писать критические статьи, продолжая на страницах газеты разговор на темы, уже затронутые им в «Темпо иллюстрато». Пьер Паоло задумал колонку под названием «Что делать?», в которой собирался вести разговор о литературе. Колонку он намечал открыть в конце 1975 года. 60 Scritti corsari, cit., pp. 50–56. 61 Ibidem, pp. 64–69. 62 Ibidem, p. 93. 63 Ibidem, p. 101. 64 Ibidem, p. 94. 65 Ibidem, p. 123 sgg. 66 Ibidem, pр. 134–135. 67 San Paolo, cit., pp. 5–8 passim. 68 Ibidem, p. 161. 69 Scritti corsari, cit., p.11–12. 70 Ibidem, p. 114. 689 71 Ibidem, p. 172. Ibidem, p. 161. 73 Ibidem, p. 164. 74 Ibidem. 75 Ibidem, p. 173. 76 Ibidem, p. 114–115. 77 Lettere luterane, cit., p. 112. В те недели, которые последовали за 16 марта 1978 года, когда Красными бригадами был похищен Альдо Моро, председатель Демохристианской партии, общественное мнение вспомнило, что Пазолини писал о «процессе», к которому необходимо было привлечь руководителей Демохристианской партии. Члены Красных бригад в своих посланиях говорили о «суде», который проходит в «неприступной народной тюрьме». На этом суде достопочтенный депутат Альдо Моро выступает в качестве обвиняемого. Ходили слухи, что Пазолини, хотя бы и очень косвенно, мог быть ответственен за трагический исход событий. Кроме формального аспекта (Пазолини говорил об «обычном» судебном разбирательстве) существовал и институционный аспект власти, который, имея в виду социалистические перспективы развития, Пазолини считал необходимым спасти и усилить (cм.: Giorgio Galli, Non era questo il processo voluto da Pasolini, in «La Repubblica», 28 marzo 1978). «Обычность» и открытость судебного разбирательства благодаря его символическому значению как раз составляли основные требования Пазолини, который видел в них легитимность подобных действий. 78 Ibidem, p. 122. 79 Ibidem, p. 115. 80 Ibidem, p. 148. 81 Ibidem. 82 Ibidem, p. 148. 83 Ibidem. 84 Ibidem, p. 169. 85 Это произошло после публикации его статей по поводу консультаций о референдуме о разводе. Руководители римского отделения молодежной коммунистической федерации Джанни Борнья и Гоффредо Беттини решили встретиться с Пазолини. Внутри партии изза этого решения возникли противоречия, которые разрешил Джорджо Наполетано, тогда отвечавший за культурные связи партии. Наполетано санкционировал встречу с Пазолини. И в июне 1974 года Пьер Паоло на Вилла Боргезе встретился с молодыми коммунистами и принял участие в политическом диспуте. 72 690 86 Lettere luterane, cit., p. 168. Ibidem. 88 Ibidem, p. 184. 89 Le poesie, cit., p. 747. 90 AA.VV., Potentissima Signora, Milano 1965, pp. 187–203. 91 Pier Paolo Pasolini, Necrologia su una certa Laura Betti, in «VogueUomo», aprile 1971. 92 E. Golino, Letteratura e classi sociali, cit., p. 112. 93 Cр. Слова Паоло Вольпоне в AA.VV., Perché Pasolini, Firenze 1978, pp. 25–26. 94 Franco Cordelli, Per «Salò-Sade» in «Nuovi argomenti», gennaio– marzo 1976, pp. 89–92. 87 Эпилог Жажда жизни 1 Le poesie, cit., p. 355. Ibidem, p. 353. 3 Ibidem. 4 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, I, Paris 1934, p. 18. 5 Le poesie, cit., p. 356. 6 Ibidem. 7 A. Moravia, Come in una violenta sequenza di «Accattone», cit. 8 Rossana Rossanda, In morte di Pasolini, in «Il Manifesto», 4 novembre 1975. 9 Friedrich Nietzsche, Aurora e Frammenti postumi (1879–1881), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, trad. di Ferruccio Masini e Mazzino Montinari, Milano 1964, p. 198. 10 Le poesie, cit., p. 361. 2 Приложение 1 Что касается недавно поднятого вопроса о причинах убийства – причины эти можно усмотреть в романе «Нефть», в исследованиях, которые Пазолини проделал, чтобы установить личности убийц президента «Eni» Энрико Маттеи, в тех встречах, которые он организовал, чтобы написать об этом преступлении в романе, над которым 691 непрерывно работал в 1975 году, – то, поскольку сейчас возобновлено расследование убийства Пазолини по вновь открывшимся фактам, до окончания расследования я не могу присоединиться к какой-либо версии. Поскольку исчезло несколько страниц романа «Нефть», напечатанных и отредактированных самим автором, было высказано предположение, что их изъяли заинтересованные лица (эта версия была выдвинута Джанни Д’Элиа в его книге (Gianni D’Elia, L’eresia di Pasolini, Stellefilanti, Milano 2005). Рукопись романа с множеством авторских исправлений в течение многих лет оставалась в руках Аурелио Ронкалья, который подготавливал текст к печати. Мне представляется маловероятным, что листы рукописи могли похитить прямо из рук ученого-филолога. Я не сомневаюсь, что Пазолини собрал все необходимые документы по преступлениям, о которых он рассказывает в книге. Но кто мог знать, когда работа по изучению рукописи была не закончена, что конкретно написано на страницах романа «Нефть»? И поэтому планировать, основываясь на точных данных, убийство писателя, а после его смерти – похищение рукописи представляется бессмысленным. Семидесятые годы зачастую оказываются покрыты густой тенью, многие тайны все еще остаются неразгаданными, это правда. А задавать вопросы вполне дозволительно, это не причиняет никому вреда. Но я бы не торопился давать прямые ответы. Поскольку пролить свет на то, что произошло под покровом ночи на гидродроме, до сих пор очень важно. СПИСОК ИМЕН Авати, Пупи (1938) – итальянский режиссер, сценарист, кинопродюсер, писатель. Агамбен, Джорджо (1942) – итальянский философ, политолог, писатель. Азор Роза, Альберто (1933) – итальянский литературный критик, писатель и политический деятель. Аккрокка, Элио Филиппо (1923–1996) – итальянский поэт и писатель. Аликата, Марио (1918–1966) – деятель итальянского рабочего движения, публицист, литературный критик. Альберони, Франческо (1929) – итальянский социолог, психолог и журналист. Альфьери, Витторио (1749–1803) – итальянский поэт и драматургклассицист. Амендола, Джорджо (1907–1980) – деятель итальянского рабочего движения. Аморозо, Роберто (1911–1994) – итальянский режиссер, продюсер, сценарист. Анджолетти, Джован Батиста (1896–1961) – итальянский журналист и писатель. Андреотти, Джулио (1919) – итальянский политик, христианский демократ, неоднократно Председатель Совета министров Италии. Андрес, Стефан (1906–1970) – немецкий писатель. Антониони, Микельанджело (1912–2007) – выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист. 693 Анчески, Лучано (1911–1995) – итальянский литературовед, теоретик искусства, философ. Аньоли, Иоханнес (1925–2003) – итальянский политолог, теоретик марксизма. Апра, Адриано (1940) – итальянский кинокритик. Арбазино, Альберто (1930-) – итальянский писатель и публицист, друг Пазолини. Ардиго, Акиле (1921–2008) – итальянский социолог и политический деятель. Ариосто, Лудовико (1474–1533) – итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения. Арканджели, Франческо (1915–1974) – итальянский искусствовед и поэт. Асколи, Грациадио Исайя (1829–1907) – итальянский лингвист. Аслан, Анна (1897–1988) – румынский ученый-геронтолог. Ассунто, Розарио (1915–1994) – итальянский историк, философ, публицист. Асти, Адриана (1933) – итальянская актриса театра и кино. Ауэрбах, Эрих (1892–1957) – немецкий филолог, историк романских литератур. Бальдини, Габриэле (1919–1969) – итальянский актер и сценарист. Бальдуччи, Эрнесто (1922–1992) – итальянский теолог, издатель, писатель. Банти, Анна (наст. имя Лучия Лопрести, 1895–1985) – итальянская писательница и переводчица. Банфи, Антонио (1886–1957) – итальянский философ-рационалист. Барбато, Андреа (1934–1996) – итальянский журналист, писатель, политический деятель. Барбе д’Оревильи, Жюль Амеде (1808–1889) – французский писатель и публицист. Барбьеллини Амидеи, Гаспаре (1934–2007) – писатель, социолог, журналист, один из самых видных представителей современной итальянской католической либеральной мысли.. Барилли, Карлотта (1935) – итальянская актриса театра и кино 60–70-х годов. Бартоли, Даниэлло (1608–1685) – итальянский ученый и писатель. Бартолини, Луиджи (1892–1963) – итальянский писатель, поэт, литературный и художественный критик, живописец и гравер. 694 Бассани, Джорджо (1916–2000) – итальянский писатель. Батай, Жорж (1897–1962) – известный французский философ и писатель, стоявший у истоков постмодернизма. Бацлен, Бобби (Роберт) (1902 – Milano, 1965) – итальянский писатель и литературный критик. Бевилаква, Альберто (1934) – итальянский писатель, киносценарист, поэт и журналист. Беллецца, Дарио (1944–1996) – итальянский поэт, писатель и драматург. Беллини, Джованни (1433–1516) – итальянский художник. Беллончи, Мариа (1902–1986) – итальянская писательница и журналистка. Беллончи, Гоффредо (1882–1964) – итальянский журналист и литературный критик. Бемпорад, Джованна (1928) – итальянская поэтесса и переводчица. Бенджамин (Беньямин), Вальтер (1892–1940) – немецкий философ, культуролог, литературный критик и переводчик. Бенедетти, Арриго (1910–1976) – итальянский журналист и писатель. Беренсон, Бернард (1865–1959) – американский историк искусств и художественный критик, при жизни считавшийся крупнейшим в США авторитетом в области живописи итальянского Ренессанса. Бернини, Джованни Лоренцо (1598–1680) – итальянский скульптор и архитектор XVII века, один из создателей стиля барокко. Бернстайн, Леонард (1918–1990) – американский композитор, пианист и дирижер. Берто, Джузеппе (1914–1978) – итальянский писатель. Бертокки, Нино (1900–1956) – итальянский художник. Бертолуччи, Аттилио (1911–2000) – итальянский поэт и киносценарист. Бертолуччи, Бернардо (1940) – итальянский кинорежиссер, драматург и поэт, сын Аттилио Бертолуччи. Бертони, Джулио (1878–1942) – итальянский лингвист, филолог и литературный критик. Бетти, Лаура (1927–2004) – итальянская актриса театра и кино. Беттини, Гоффредо (1952) – итальянский политический деятель и кинокритик. Бетокки, Карло (1899–1986) – итальянский поэт и писатель. Бигонджари, Пьеро (1914–1997) итальянский поэт-герметик. Биджаретти, Либеро (1905–1993) – итальянский поэт и писатель. 695 Биленки, Романо (1909–1989) – итальянский писатель, автор романа «Консерватория Святой Терезы» Бини, Альфредо (1926–2010) – итальянский кинопродюсер. Биньярди, Агостино (1921–1983) – итальянский политический деятель. Бланшо, Морис (1907–2003) – французский писатель, мыслительэссеист. Бо, Карло (1911–2001) – итальянский литературный критик. Боббио, Норберто (1909–2004) – итальянский философ, историк, политолог. Бодлер, Шарль (1821–1867) – французский поэт. Бокка, Джорджо (1920) – итальянский писатель и журналист. Болоньини, Мауро (1922-2001) – итальянский режиссер, сценарист. Бомпьяни, Валентино (1898–1992) – итальянский издатель, писатель и драматург. Боначелли, Паоло (1937) – итальянский актер театра и кино Борнья, Джанни (1947) – итальянский музыкальный критик, журналист и политический деятель. Борромини, Франческо (1599–1667) – итальянский архитектор. Бортотто, Чезаре (1923–1996) – поэт, член Академии фриульского языка. Бранкати, Витальяно (1907–1954)- итальянский писатель и киносценарист. Брехт, Бертольд (1898–1956) – немецкий поэт, прозаик, драматург, реформатор театра, основатель театра «Берлинский ансамбль», коммунист. Бруно, Джордано (1548–1600)– итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель пантеизма. Бьянки Бандинелли, Рануччо (1900–1975) – итальянский археолог и историк искусства. Бьянки, Пьетро (1909–1976) – итальянский кино- и литературный критик, журналист. Ваагенаар, Сэм (1908–1997) – американский журналист, фотограф, писатель и путешественник. Валенте, Гаэтано (Энеа) (1913–1945) – итальянский антифашист, командир партизанского отряда в области Фриули. Валери, Поль (1871–1945) – французский поэт, член Французской академии (1927). 696 Вальмарана, Паоло (1928–1984)