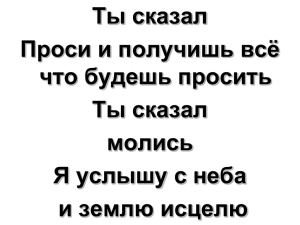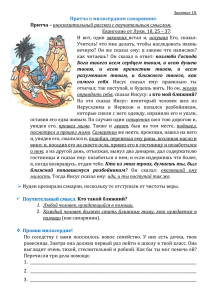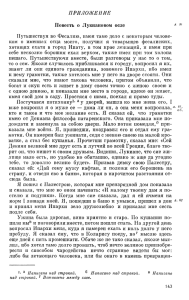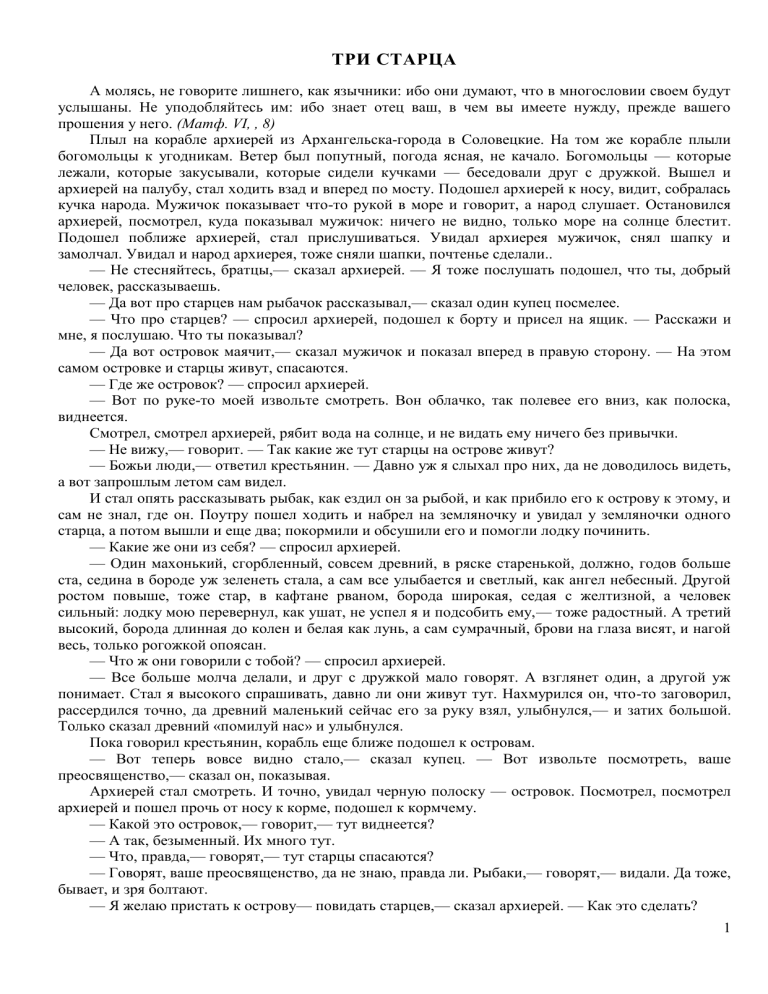
ТРИ СТАРЦА А молясь, не говорите лишнего, как язычники: ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им: ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. (Матф. VI, , 8) Плыл на корабле архиерей из Архангельска-города в Соловецкие. На том же корабле плыли богомольцы к угодникам. Ветер был попутный, погода ясная, не качало. Богомольцы — которые лежали, которые закусывали, которые сидели кучками — беседовали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить взад и вперед по мосту. Подошел архиерей к носу, видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок: ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерея мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и народ архиерея, тоже сняли шапки, почтенье сделали.. — Не стесняйтесь, братцы,— сказал архиерей. — Я тоже послушать подошел, что ты, добрый человек, рассказываешь. — Да вот про старцев нам рыбачок рассказывал,— сказал один купец посмелее. — Что про старцев? — спросил архиерей, подошел к борту и присел на ящик. — Расскажи и мне, я послушаю. Что ты показывал? — Да вот островок маячит,— сказал мужичок и показал вперед в правую сторону. — На этом самом островке и старцы живут, спасаются. — Где же островок? — спросил архиерей. — Вот по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко, так полевее его вниз, как полоска, виднеется. Смотрел, смотрел архиерей, рябит вода на солнце, и не видать ему ничего без привычки. — Не вижу,— говорит. — Так какие же тут старцы на острове живут? — Божьи люди,— ответил крестьянин. — Давно уж я слыхал про них, да не доводилось видеть, а вот запрошлым летом сам видел. И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой, и как прибило его к острову к этому, и сам не знал, где он. Поутру пошел ходить и набрел на земляночку и увидал у земляночки одного старца, а потом вышли и еще два; покормили и обсушили его и помогли лодку починить. — Какие же они из себя? — спросил архиерей. — Один махонький, сгорбленный, совсем древний, в ряске старенькой, должно, годов больше ста, седина в бороде уж зеленеть стала, а сам все улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая с желтизной, а человек сильный: лодку мою перевернул, как ушат, не успел я и подсобить ему,— тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колен и белая как лунь, а сам сумрачный, брови на глаза висят, и нагой весь, только рогожкой опоясан. — Что ж они говорили с тобой? — спросил архиерей. — Все больше молча делали, и друг с дружкой мало говорят. А взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать, давно ли они живут тут. Нахмурился он, что-то заговорил, рассердился точно, да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся,— и затих большой. Только сказал древний «помилуй нас» и улыбнулся. Пока говорил крестьянин, корабль еще ближе подошел к островам. — Вот теперь вовсе видно стало,— сказал купец. — Вот извольте посмотреть, ваше преосвященство,— сказал он, показывая. Архиерей стал смотреть. И точно, увидал черную полоску — островок. Посмотрел, посмотрел архиерей и пошел прочь от носу к корме, подошел к кормчему. — Какой это островок,— говорит,— тут виднеется? — А так, безыменный. Их много тут. — Что, правда,— говорят,— тут старцы спасаются? — Говорят, ваше преосвященство, да не знаю, правда ли. Рыбаки,— говорят,— видали. Да тоже, бывает, и зря болтают. — Я желаю пристать к острову— повидать старцев,— сказал архиерей. — Как это сделать? 1 — Кораблем подойти нельзя,— сказал кормчий. — На лодке можно, да надо старшо́го спросить. Вызвали старшо́го. — Хотелось бы мне посмотреть этих старцев,— сказал архиерей. — Нельзя ли свезти меня? Стал старшо́й отговаривать. — Можно-то можно, да много времени проведем, и, осмелюсь доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские. — Я желаю,— сказал архиерей. — Я заплачу за труды, свезите меня. Нечего делать, распорядились корабельщики, переладили паруса. Повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к носу, все на островок глядят. И у кого глаза повострее, уж видят камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех старцев разглядел. Вынес старшой трубу, посмотрел в нее, подал архиерею. «Точно,— говорит,— вот на берегу, поправей камня большого, три человека стоят». Посмотрел архиерей в трубу, навел куда надо; точно, стоят трое: один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький; стоят на берегу, за руки держатся. Подошел старшой к архиерею. — Здесь, ваше преосвященство, остановиться кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вы извольте съездить, а мы тут на якорях постоим. Сейчас распустили тросо, кинули якорь, спустили парус — дернуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили гребцы, и стал спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке, ударили гребцы в весла, поплыли к острову. Подплыли как камень кинуть; видят — стоят три старца: высокий — нагой, рогожкой опоясан, пониже — в кафтане рваном, и древненький сгорбленный — в ряске старенькой; стоят все трое, за руки держатся. Причалили гребцы к берегу, зацепились багром. Вышел архиерей. Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей. — Слышал я,— говорит,— что вы здесь, старцы божии, спасаетесь, за людей Христу-богу молитесь, а я здесь, по милости божьей, недостойный раб Христов, его паству пасти призван; так хотел и вас, рабов божиих, повидать и вам, если могу, поучение подать. Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают. — Скажите мне, как вы спасаетесь и как богу служите,— сказал архиерей. Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего; нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древнего. И улыбнулся старший, древний старец и сказал: «Не умеем мы, раб божий, служить богу, только себе служим, себя кормим». — Как же вы богу молитесь? — спросил архиерей. И древний старец сказал: «Молимся мы так: трое вас, трое нас, помилуй нас». И как только сказал это древний старец, подняли все три старца глаза к небу и все трое сказали: «Трое вас, трое нас, помилуй нас!» Усмехнулся архиерей и сказал: — Это вы про святую троицу слышали, да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы божий, вижу, что хотите вы угодить богу, да не знаете, как служить ему. Не так надо молиться, а слушайте меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из божьего писания научу тому, как бог повелел всем людям молиться ему. И начал архиерей толковать старцам, как бог открыл себя людям: растолковал им про бога отца, бога сына и бога духа святого и сказал: — Бог сын сошел на землю людей спасти и так научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной. И стал архиерей говорить: «Отче наш». И повторил один старец: «Отче наш», повторил и другой: «Отче наш», повторил и третий: «Отче наш». — «Иже еси на небесех». Повторили и старцы: «Иже еси на небесех». Да запутался в словах средний старец, не так сказал; не выговорил и высокий, нагой старец: ему усы рот заросли — не мог чисто выговорить; невнятно прошамкал и древний беззубый старец. Повторил еще раз архиерей, повторили еще раз старцы. И присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смотрели ему в рот, и твердили за ним, пока он говорил им. И весь день до вечера протрудился с ними архиерей; и десять, и двадцать, и сто раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала. 2 И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве господней. Прочли они ее за ним и прочли сами. Прежде всех понял средний старец и сам повторил ее всю. И велел ему архиерей еще и еще раз сказать ее, и еще повторить, и другие прочли всю молитву. Уж смеркаться стало, и месяц из моря всходить стал, когда поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей с старцами, поклонились они ему все в ноги. Поднял он их и облобызал каждого, велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку и поплыл к кораблю. И плыл к кораблю архиерей, и все слышал, как старцы в три голоса громко твердили молитву господню. Стали подплывать к кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно было при месяце: стоят на берегу, на том же месте, три старца — один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, взошел на палубу, вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло корабль, и поплыли дальше. Прошел архиерей на корму и сел там и все смотрел на островок. Сначала видны были старцы, потом скрылись из вида, виднелся только островок, потом и островок скрылся, одно море играло на месячном свете. Улеглись богомольцы спать, и затихло все на палубе. Но не хотелось спать архиерею, сидел он один на корме, глядел на море, туда, где скрылся островок, и думал о добрых старцах. Думал о том, как радовались они тому, что научились молитве, и благодарил бога за то, что привел он его помочь божьим старцам, научить их слову божию. Сидит так архиерей, думает, глядит в море, в ту сторону, где островок скрылся. И рябит у него в глазах — то тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит, блестит и белеется что-то в столбе месячном; птица ли, чайка или парусок на лодке белеется. Пригляделся архиерей. «Лодка,— думает,— на парусе за нами бежит. Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко, далеко было, а вот уж и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус не похоже. А бежит что-то за нами и нас догоняет». И не может разобрать архиерей, что такое: лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба. На человека похоже, да велико очень, да нельзя человеку середь моря быть. Поднялся архиерей, подошел к кормчему: — Погляди,— говорит,— что это? — Что это, братец? Что это? — спрашивает архиерей, а уж сам видит — бегут по морю старцы, белеют и блестят их седые бороды, и, как к стоячему, к кораблю приближаются. Оглянулся кормчий, ужаснулся, бросил руль и закричал громким голосом: — Господи! Старцы за нами по морю, как по суху, бегут! — Услыхал народ, поднялся, бросились все к корме. Все видят: бегут старцы, рука с рукой держатся — крайние руками машут, остановиться велят. Все три по воде, как по суху, бегут и ног не передвигают. Не успели судна остановить, как поравнялись старцы с кораблем, подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос: — Забыли, раб божий, забыли твое ученье! Пока твердили — помнили, перестали на час твердить, одно слово выскочило — забыли, все рассыпалось. Ничего не помним, научи опять. Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал: — Доходна до бога и ваша молитва, старцы божий. Не мне вас учить. Молитесь за нас, грешных! И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились старцы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сиянье с той стороны, куда ушли старцы. Т р и с т а р ц а . — Работа над легендой относится к январю — февралю 1886 года. В январе Толстой читал рассказ гостившему у него художнику Н. Н. Ге. «Удивительная вещь!»— отозвался Н. Н. Ге («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 79). Опубликована легенда в журнале «Нива», 1886, № 13 (цензурное разрешение 26 марта), с подзаголовком «Народное сказание»; одновременно помещена в части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». На сохранившейся корректуре С. А. Толстая зачеркнула помету синим карандашом «год какой?» и поставила «1886». Для издания в «Посреднике» рассказ был запрещен. Легенду о трех старцах Толстой, по-видимому, слышал от В. П. Щеголенка, хотя среди сказаний и легенд, записанных со слов Щеголенка, этой легенды нет. Несомненно, что услышал тогда Толстой больше, чем записал. Сюжет сказания принадлежит к числу очень распространенных и широко известен как в устных, так и в письменных источниках. В древнерусских рукописях XVI века находится восходящее к западноевропейской учительной литературе «Сказание о явлениях святому Августину, епископу Ионийскому», по содержанию близкое рассказу Толстого. «Сказание» записано А. М. Курбским, который слышал его на Руси от многих, в частности, от Максима Философа (Грека). Высокий авторитет Максима 3 Грека в среде старообрядцев способствовал сохранению этой «сказки» на Волге. Отсюда — подзаголовок рассказа Толстого «Из народных сказок на Волге». Легенда подтверждала излюбленную мысль Толстого — о добром деле и скромном подвижничестве, никак не связанных с официальной, церковной догматикой. Верный своей манере преображения источников, Толстой, работая над рассказом, ослаблял элемент чудесного. По легенде, старцев, бегущих по воде, впрямь увидали люди, стоявшие на палубе. У Толстого в первоначальном наброске архиерей поднял голову на шум: «И поклонился архиерей в землю старцам и весь народ на корабле» СВЕЧКА Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. (Мф. V, 38, 30) Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников, как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было. Завелся такой приказчик в господском имении. Крестьяне были на барщине. Земли было много, и земля была добрая; и воды, и луга, и леса, всего бы всем достало — и барину и мужикам, да поставил барин приказчиком своего дворового из другой вотчины. Забрал приказчик власть и сел на шею мужикам. Сам он был человек семейный — жена и две дочери замужем — и нажил уж он денег: жить бы да жить ему без греха, да завидлив был и завяз в грехе. Началось с того, что стал он мужиков сверх дней на барщину гонять. Завел кирпичный завод, всех — и баб и мужиков — поморил на работе, а кирпич продавал. Ходили мужики к помещику в Москву жаловаться, да не вышло их дело. Ни с чем отослал мужиков и не снял воли с приказчика. Прознал приказчик, что ходили мужики жаловаться, и стал им за то вымещать. Еще хуже стало житье мужикам. Нашлись из мужиков неверные люди: стали приказчику на своего брата доносить и друг дружку подводить. И спутался весь народ, и обозлился приказчик. Дальше да больше, и дожил приказчик до того, что стал его народ бояться, как зверя лютого. Проедет по деревне, так все от него, как от волка хоронятся, кто куда попало, только бы на глаза не попадаться. И видел это приказчик и еще пуще злился за то, что боятся его. И битьем и работой донимал народ, и много от него муки приняли мужики. Бывало, что и изводили таких злодеев; и про этого стали поговаривать мужики. Сойдутся где в сторонке, кто посмелее и говорит: «Долго ли нам терпеть злодея нашего? Пропадать заодно — такого убить не грех!» Собрались раз мужики в лесу до святой: лес господский послал приказчик подчищать. Собрались в обед, стали толковать. — Как нам,— говорят,— теперь жить? Изведет он нас до корня. Замучил работой: ни дня, ни ночи ни нам, ни бабам отдыха нет. А чуть что не по нем, придерется, порет. Семен от его поронья помер. Анисима в колодках замучал. Чего ж еще нам дожидать? Приедет вот сюда вечером, станет опять озорничать,— только сдернуть его с лошади, пристукнуть топором, да и делу конец. Зарыть где, как собаку, и концы в воду. Только уговор: всем стоять заодно, не выдавать! Говорил так Василий Минаев. Пуще всех он был зол на приказчика. Порол он его каждую неделю и жену у него отбил, к себе в кухарки взял. Поговорили так мужики, и приехал на вечер приказчик. Приехал верхом, сейчас придрался, что не так рубят. Нашел в куче липку. — Я,— говорит,— не велел рубить липы. Кто срубил? Сказывай, а то всех запорю! Стал добираться, в чьем ряду липа. Показали на Сидора. Исколотил приказчик Сидору все лицо в кровь. Отхлестал и Василия татаркой за то, что куча мала. Поехал домой. Сошлись опять вечером мужики, и стал говорить Василий: — Эх, народ! Не люди, а воробьи. «Постоим, постоим»,— а пришло дело, все под застреху. Такто воробьи против ястреба собирались: «Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!» А как 4 налетел, все по крапиве. Так-то и ястреб ухватил, какого ему надо, поволок. Выскочили воробьи: «Чивик, чивик!» — не досчитываются одного. «Кого нет? Ваньки. Э, туда ему и дорога. Он того и стоит». Так-то и вы. Не выдавать, так не выдавать! Как он взялся за Сидора, вы бы сгрудились, да и покончили. А то: «Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!» — а как налетел, так и в кусты. Стали так говорить чаще и чаще, и совсем собрались мужики уходить приказчика. Повестил на страстной приказчик мужикам, чтобы готовились на святой барщину под овес пахать. Обидно это показалось мужикам, и собрались они на страстной у Василья на задворке и опять стали толковать. — Коли он бога забыл,— говорят,— и такие дела делать хочет, надо и вправду его убить. Пропадать заодно! Пришел к ним и Петр Михеев. Смирный был мужик Петр Михеев и не шел в совет с мужиками. Пришел Михеев, послушал их речи и говорит: — Грех вы, братцы, великий задумали. Душу погубить — великое дело. Чужую душу погубить легко, да своей-то каково? Он худо делает — перед ним худое. Терпеть, братцы, надо. Рассердился на эти речи Василий. — Заладил,— говорит,— одно: грех человека убить. Известно — грех, да какого,— говорит,— человека? Грех человека доброго убить, а такого собаку и бог велел. Собаку бешеную убить надо, людей жалеючи. Не убить его — грех больше будет. Что он людей перепортит! А мы хоть и пострадаем, так за людей. Нам люди спасибо скажут. А слюни-то распусти, он всех перепортит. Пустое ты, Михеич, толкуешь. Что ж, разве меньше грех будет, как в Христов праздник все работать пойдем? Ты сам не пойдешь! И заговорил Михеич. — Отчего не пойти? — говорит. — Пошлют, и пахать поеду. Не себе. А бог узнает, чей грех, только нам бы его не забыть. Я,— говорит, — братцы, не свое говорю. Кабы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от бога закон лежал; а то нам другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить — душу себе окровенить. Ты думаешь — худого человека убил, думаешь — худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того завел. Покорись беде, и беда покорится. Так и не договорились мужики: разбились мыслями. Одни так думают по Васильевым речам, другие на Петровы речи соглашаются, чтобы не заводить греха, а терпеть. Отпраздновали мужики первый день, воскресенье. На вечер приходит староста с земским с барского двора и сказывают — Михаил Семеныч, приказчик, велел назавтра наряжать мужиков, всем пахать под овес. Обошел староста с земским деревню, повестил всем назавтра выезжать пахать, кому за реку, кому от большой дороги. Поплакали мужики, а ослушаться не смеют, наутро выехали с сохами, принялись пахать. В церкви благовестят к ранней обедне, народ везде праздник справляет,— мужики пашут. Проснулся Михаил Семеныч, приказчик, не рано, пошел по хозяйству; убрались, нарядились домашние — жена, дочь вдовая (к празднику приехала); запряг им работник тележку, съездили к обедне, вернулись; поставила работница самовар, пришел и Михаил Семеныч, стали чай пить. Напился Михаил Семеныч чаю, закурил трубку, позвал старосту. — Ну что, мол, поставил мужиков на пахоту? — Поставил, Михаил Семеныч. — Что, все выехали? — Все выехали, я их сам расставлял. — Расставить-то расставил, да пашут ли? Поезжай посмотри, да скажи, что я после обеда приеду, чтоб десятину на две сохи выпахали, да чтоб пахали хорошо! Если огрех найду, я на праздник не посмотрю! — Слушаю-с. И пошел было староста, да Михаил Семеныч вернул его. Вернул его Михаил Семеныч, а сам мнется, хочет что-то сказать, да не знает как. Помялся, помялся, да и говорит: — Да вот что, послушай ты еще, что они, разбойники, говорят про меня. Кто ругает и что говорит — все мне расскажи. Я их, разбойников, знаю, не любо им работать, только бы на боку лежать, лодырничать. Жрать да праздновать — это они любят, а того не думают, что пахоту пропустишь, опоздаешь. Так вот ты и отслушай от них речи, кто что скажет, все мне передай. Мне это знать надо. Ступай да смотри все расскажи, ничего не утаивай. 5 Повернулся староста, вышел, сел верхом и поехал к мужикам в поле. Услыхала приказчица мужнины речи с старостой, пришла к мужу и стала его просить. Приказчица была женщина смирная, и сердце в ней было доброе. Где могла, усмиряла мужа и застаивала перед ним мужиков. Пришла она к мужу и стала просить. — Друг ты мой, Мишенька,— говорит,— для великого дня, праздника господня, не греши ты ради Христа, отпусти мужиков. Не принял Михаил Семеныч жениных речей, только засмеялся на нее. — Али давно,— говорит,— по тебе плетка не гуляла, что ты больно смела стала,— не в свое дело вяжешься? — Мишенька, друг ты мой, я сон про тебя видела нехороший, послушай ты меня, отпусти мужиков! — То-то,— говорит,— я и говорю: видно, жиру много наела, думаешь, и плеть не проймет. Смотри! Рассердился Семеныч, ткнул жену трубкой с огнем в зубы, прогнал от себя, велел обед подавать. Поел Михаил Семеныч студню, пирога, щей со свининой, поросенка жареного, лапши молочной, выпил наливки вишневой, закусил сладким пирогом, позвал кухарку, посадил ее песни играть, а сам взял гитару и стал подыгрывать. Сидит Михаил Семеныч с веселым духом, отрыгивается, на струнах перебирает и с кухаркой смеется. Вошел староста, поклонился и стал докладывать, что на поле видел. — Ну что, пашут? Допашут урок? — Уж больше половины вспахали. — Огрехов нет? — Не видал, хорошо пашут, боятся. — А что, разборка земли хороша? — Разборка земли мягкая, как мак рассыпается. Помолчал приказчик. — Ну, а что про меня говорят,— ругают? Замялся было староста, да велел Михаил Семеныч всю правду говорить. — Все говори, ты не свои слова, а ихние говорить будешь. Правду скажешь, я тебя награжу, а покроешь их, не взыщи, выпорю. Эй, Катюша, подай ему водки стакан для смелости. Пошла кухарка, поднесла старосте. Поздравил староста, выпил, обтерся и стал говорить. «Все одно,— думает, — не моя вина, что не хвалят его; скажу правду, коли он велит». И осмелился староста и стал говорить: — Ропщут, Михаил Семеныч, ропщут. — Да что говорят? Сказывай. — Одно говорят: он богу не верует. Засмеялся приказчик. — Это,— говорит,— кто сказал? — Да все говорят. Говорят, он, мол, нечистому покорился. Смеется приказчик. — Это,— говорит,— хорошо. Да ты порознь расскажи, что кто говорит. Васька что говорит? Не хотелось старосте сказывать на своих, да с Василием у них давно вражда шла. — Василий,— говорит,— пуще всех ругает. — Да что говорит-то? Ты сказывай. — Да и сказать страшно. Не миновать,— говорит,— ему беспокаянной смерти. — Ай, молодец,— говорит. — Что ж он зевает-то, не убивает? Видно, руки не доходят? Ладно,— говорит,— Васька, посчитаемся мы с тобой. Ну, а Тишка-собака, тоже, я чай? — Да все худо говорят. — Да что говорят-то? — Да повторять-то гнусно. — Да что гнусно-то? Ты не робей сказывать. — Да говорят, чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекла. Обрадовался Михаил Семеныч, захохотал даже. — Посмотрим, у кого прежде вытекет. Это кто же? Тишка? 6 — Да никто доброго не сказал, все ругают, все грозятся. — Ну, а Петрушка Михеев что? что он говорит? Тоже, говняк, ругается, я чай? — Нет, Михайло Семеныч, Петра не ругается. — Что ж он? — Да он из всех мужиков один ничего не говорил. И мудреный он мужик! Подивился я на него, Михаил Семеныч! — А что? — Да что он сделал! И все мужики дивятся. — Да что сделал-то? — Да уж чудно очень. Стал я подъезжать к нему. Он на косой десятине у Туркина верха пашет. Стал я подъезжать к нему, слышу — поет кто-то, выводит топко, хорошо так, а на сохе промеж обжей что-то светится. — Ну? — Светится, ровно огонек. Подъехал ближе, смотрю — свечка восковая пятикопеечная приклеена к распорке и горит, и ветром не задувает. А он в новой рубахе ходит, пашет и поет стихи воскресные. И заворачивает я отряхает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне, переложил палицу, завел соху, все свечка горит, не тухнет! — А сказал что? — Да ничего не сказал. Только увидал меня, похристосовался и запел опять. — Что же, говорил ты с ним? — Я не говорил, а подошли тут мужики, стали ему смеяться: вон, говорят, Михеич ввек греха не отмолит, что он на святой пахал. — Что ж он сказал? — Да он только сказал: «На земле мир, в человецех благоволение!»— опять взялся за соху, тронул лошадь и запел тонким голосом, а свечка горит и не тухнет. Перестал смеяться приказчик, поставил гитару, опустил голову и задумался. Посидел, посидел, прогнал кухарку, старосту и пошел за занавес, лег на постель и стал вздыхать, стал стонать, ровно воз со снопами едет. Пришла к нему жена, стала его разговаривать; не дал ей ответа. Только и сказал: — Победил он меня! Дошло теперь и до меня! Стала его жена уговаривать: — Да ты поезжай, отпусти их. Авось ничего! Какие дела делал, не боялся, а теперь чего ж так оробел? — Пропал я,— говорит,— победил он меня. Крикнула на него жена: — Заладил одно: «Победил, победил». Поезжай, отпусти мужиков, вот и хорошо будет. Поезжай, я велю лошадь оседлать. Привели лошадь, и уговорила приказчица мужа ехать в поле отпустить мужиков. Сел Михаил Семеныч на лошадь и поехал в поле. Выехал в околицу, отворила ему ворота баба, въехал в деревню. Как только увидал народ приказчика, похоронились все от него, кто во двор, кто за угол, кто на огороды. Проехал всю деревню приказчик, подъехал к другим выездным воротам. Ворота заперты, а сам с лошади отворить не может. Покликал, покликал приказчик, чтоб ему отворили, никого не докликался. Слез сам с коня, отворил ворота и стал в воротищах опять садиться. Вложил ногу в стремя, поднялся, хотел на седло перекинуться, да испугалась лошадь свиньи, шарахнулась в частокол, а человек был грузный, не попал на седло, а перевалился пузом на частокол. Один был только в частоколе кол, завостренный сверху, да и повыше других. И попади он пузом прямо на этот кол. И пропорол себе брюхо, свалился наземь. Приехали мужики с пахоты; фыркают, нейдут лошади в ворота. Поглядели мужики — лежит навзничь Михаил Семеныч, руки раскинул, и глаза остановились, и нутро все на землю вытекло! и кровь лужей стоит, — земля не впитала. Испугались мужики, повели лошадей задами, один Петр Михеич слез, подошел к приказчику, увидал, что помер, закрыл ему глаза, запряг телегу, взвалил с сыном мертвого в ящик и свез к барскому дому. 7 Узнал про все дела барин и от греха отпустил мужиков на оброк. И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила божия. С в е ч к а . — Рассказ написан в конце мая — июне 1885 г. и в начале июля отправлен в «Посредник» для печатания. 17— 18 июня Толстой заметил в письме В. Г. Черткову: «Я написал еще рассказ для вас и, кажется, лучше прежних» (т. 85, с. 229). Чертков, однако, возразил против «грубого конца» рассказа: «Эта ужасная смерть приказчика как раз после того, как он сознал торжество добра над злом и признал себя побежденным, это буквальное исполнение дурных пожеланий крестьян о «беспокаянной смерти» и о том, чтобы у него «пузо лопнуло и утроба вытекла», все это ужасно тяжело напоминает мне ветхозаветный рассказ о пророке, отомстившем смертью детям, смеявшимся над ним, который всегда поражал меня своей несправедливою жестокостью» (т. 85, с. 277). Чертков приложил к письму два варианта окончания «Свечки»— один, составленный им самим, другой — сотрудницей «Посредника» А. М. Калмыковой. В ответном письме Толстой послал свой измененный, «добрый» конец рассказа, с которым тот и был опубликован, под названием «Свечка, или Как добрый мужик пересилил злого приказчика», в «Книжках Недели», 1886, № 1, и в отдельном издании «Посредника». В том же письме Черткову Толстой, однако, признавался: «...целый вечер думал о «Свечке» и начинал писать и написал другой конец. Но все это не годится и не может годиться. Вся история написана в виду этого конца. Вся она груба и по форме и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял, и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою» Об источнике рассказа Толстой говорил: «Я слышал его от пьяных мужиков, с которыми мне пришлось ехать из Тулы. Он мне поправился именно своею грубою простотою — так и пахнет мужицкими лаптями» О том, что содержание рассказа противоречит отчасти теории непротивления злу, писала и критика тех лет. Н. К. Михайловский в статье «Еще о гр. Л. Н. Толстом» («Северный вестник», 1886, № 6) заметил: в рассказе «Свечка» торжествует, в сущности, не подвиг добра, а недоброе слово другого мужика, чтоб у злого управляющего «пузо лопнуло и утроба вытекла»; в другом рассказе —«Вражье лепко, а божье крепко» на волю отпущен «злой» работник Алеб, прощенный добрым хозяином. ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать — возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик — трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел — подумал: «Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти, оставлю его при себе». И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у бога смерти и укорял бога за то, что он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок — уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться. — И жить,— говорит,— божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек. И сказал ему старичок: — Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя божьи дела судить. Не нашим умом, а божьим судом. Твоему сыну судил бог помереть, а тебе — жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь. — А для чего же жить-то? — спросил Мартын. 8 И старичок сказал: — Для бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется. Помолчал Мартын и говорит: — А как же для бога жить-то? И сказал старичок: — А жить как для бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай, там узнаешь, как для бога жить. Там все показано. И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый завет крупной печати и стал читать. Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него бог хочет и как надо для бога жить, и все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава тебе, слава тебе, господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживая и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и оговорит человека. Теперь все это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и веселее на сердце. Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Прочел и дальше те стихи, где господь говорит: «Что вы зовете меня: господи, господи! и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое». Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И думает сам с собой: — Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один сидишь, кажется, все и сделал, как бог велит, а рассеешься — и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне господи! Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще 7-ю главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал господа к себе в гости, и прочел о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами, и как он оправдал ее. И дошел он до 44-го стиха и стал читать: «И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал; а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал; а она миром помазала мне ноги». Прочел он эти стихи и думает: «Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал...» И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался. «Такой же, видно, как я, фарисей-то был. Тоже, я чай, только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтобы об госте подумать. Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. А гость-то кто? Сам господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал?» И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал. 9 — Мартын! — вдруг как задышало что-то у него над ухом. Встрепенулся Мартын спросонок: — Кто тут? Повернулся он, взглянул на дверь — никого. Прикурнул он опять. Вдруг явственно слышит: — Мартын, а Мартын! смотри завтра на улицу, приду. Очнулся Мартын, поднялся со стула, стал протирать глаза. И не знает сам,— во сне или наяву слышал он слова эти. Завернул он лампу и лег спать. Наутро до света поднялся Авдеич, помолился богу, истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич, работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает надвое: то думает — померещилось, а то думает, что и вправду слышал он голос. «Что ж, думает, бывало и это». Сидит Мартын у окна, и столько не работает, сколько в окно смотрит, и как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз, потом поравнялся с окном старый солдат николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеичева окна Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу. — Вишь, одурел, видно, я со старости,— сам на себя посмеялся Авдеич. — Степаныч снег чистит, а я думаю, Христос ко мне идет. Совсем одурел, старый хрыч. Однако стежков десяток сделал Авдеич, и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно, видит, Степаныч прислонил лопату к стене, и сам не то греется, не то отдыхает. Человек старый, ломаный, видно, и снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеич: напоить его разве чайком, кстати и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь. — Войди, погрейся, что ль,— сказал он. — Озяб, чай. — Спаси Христос, и то — кости ломят,— сказал Степаныч. Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается. — Не трудись вытирать. Я подотру, наше дело такое, проходи, садись,— сказал Авдеич. — Вот чайку выпей. И Авдеич налил два стакана и подвинул один гостю, а сам вылил свой на блюдечко и стал дуть. Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху, и на него положил огрызок, и стал благодарить. А самому, видно, еще хочется. — Кушай еще,— сказал Авдеич и налил еще стакан и себе и гостю. Пьет Авдеич свой чай, а сам нет-нет на улицу поглядывает. — Али ждешь кого? — спросил гость. — Жду кого? И сказать совестно, кого жду: жду не жду, а запало мне в сердце слово одно. Виденье или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой; читал я вчера Евангелие про Христабатюшку, как он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты, я чай? — Слыхать слыхал,— отвечал Степаныч,— да мы люди темные, грамоте не знаем. — Ну вот, читал я про самое то, как он по земле ходил, читаю я, знаешь, как он к фарисею пришел, а тот ему встречи не сделал. Ну так вот, читал, братец ты мой, я вчера про это самое и подумал: как Христа-батюшку честь честью не принял. Доведись, к примеру, мне или кому, думаю, и не знал бы, как принял. А он и приему не сделал. Вот подумал я так-то и задремал. Задремал я, братец ты мой, и слышу, по имени кличет; поднялся я, голос, ровно шепчет кто-то, жди, говорит, завтра приду. Да до двух раз. Ну вот, веришь ли, запало мне это в голову — сам себя браню, и все жду его, батюшку. Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком, но Авдеич опять поднял стакан и налил еще. — Кушай на здоровье. Ведь тоже думаю, когда он, батюшка, по земле ходил, не брезговал никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил, учеников-то набирал все больше из нашего брата, таких же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы меня, говорит, господом называете, а я, говорит, вам 10 ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга. Потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые. Забыл свой чай Степаныч, человек он был старый и мягкослезный. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся. — Ну, кушай еще,— сказал Авдеич. Но Степаныч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал. — Спасибо тебе,— говорит,— Мартын Авдеич, угостил ты меня, и душу, и тело насытил. — Милости просим, заходи другой раз, рад гостю,— сказал Авдеич. Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу — строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно — Христа ждет, все о нем и об его делах думает. И в голове у него все Христовы речи разные. Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах, прошел потом в чищеных калошах хозяин из соседнего дома, прошел булочник с корзиной. Все мимо прошли, и вот поравнялась еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из-под окна Авдеич, видит: женщина чужая, одета плохо и с ребенком, стала у стены к ветру спиной и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя, да и плохая. И из-за рамы слышит Авдеич, ребенок кричит, и она его уговаривает, никак уговорить не может. Встал Авдеич, вышел в дверь и на лестницу и кликнул: — Умница! а умница! — Женщина услыхала и обернулась. — Что же так на холоду с ребеночком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот. Удивилась женщина. Видит, старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе. Пошла за ним. Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати. — Сюда,— говорит,— садись, умница, к печке ближе — погреешься и покормишь младенца-то. — Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела,— сказала женщина, а все-таки взяла к груди ребенка. Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, налил в чашку щей, вынул горшок с кашей, да не упрела еще, налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил. — Садись,— говорит,— покушай, умница, а с младенцем я посижу, ведь у меня свои дети были — умею с ними нянчиться. Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть, а Авдеич присел на кровать к ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами, да плохо чмокается, зубов нету. Все кричит ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать, замахнется-замахнется на него пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому палец черный, в вару запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих, а потом и смеяться стал. И обрадовался и Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила. — Я,— говорит,— солдатка, мужа восьмой месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. Проела все с себя. Хотела в кормилицы — не берут: худа, говорят. Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала совсем. А она велела на той неделе приходить. А живет далеко. Изморилась и его, сердечного, замучила. Спасибо, хозяйка жалеет нас заради Христа на квартире. А то бы и не знала, как прожить. Воздохнул Авдеич и говорит: — А одежи-то теплой али нет? — Пора тут, родной, теплой одеже быть. Вчера платок последний за двугривенный заложила. Подошла женщина к кровати и взяла ребенка, а Авдеич встал, пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку. — На,— говорит,— хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть. Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся и Авдеич; полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять против женщины. И сказала женщина: — Спаси тебя Христос, дедушка, наслал, видно, он меня под твое окно. Заморозила бы я детище. Вышла я, тепло было, а теперь вот как студено завернуло. И наставил же он, батюшка, тебя в окно поглядеть и меня, горькую, пожалеть. 11 Усмехнулся Авдеич и говорит: — И то он наставил. В окно-то я, умница, неспроста гляжу. И рассказал Мартын и солдатке свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний день господь прийти к нему. — Все может быть,— сказала женщина, встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича. — Прими, ради Христа,— сказал Авдеич и подал ей двугривенный — платок выкупить. Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеич и проводил женщину. Ушла женщина; поел Авдеич щей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно помнит, как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили и чужие, и не было никого особенного. И вот, видит Авдеич: против самого его окна остановилась старуха, торговка. Несет лукошко с яблоками. Немного уж осталось, видно, все распродала, а через плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет. Да, видно, оттянул ей плечо мешок; захотела на другое плечо переложить, спустила она мешок на панель, поставила лукошко с яблоками на столбике и стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть, да сметила старуха, повернулась и сцапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его обеими руками, сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается старуха. Не поспел Авдеич шила воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу: старуха малого треплет за вихры и ругает, к городовому вести хочет; малый отбивается и отпирается. — Я,— говорит,— не брал, за что бьешь, пусти. Стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит: — Пусти его, бабушка, прости его, ради Христа! — Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию шельмеца сведу. Стал Авдеич упрашивать старуху: — Пусти,— говорит,— бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа! Пустила его старуха, хотел мальчик бежать, но Авдеич придержал его. — Проси,— говорит,— у бабушки прощенья. И вперед не делай, я видел, как ты взял. Заплакал мальчик, стал просить прощенья. — Ну, вот так. А теперь яблоко на, вот тебе. И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику. — Заплачу, бабушка,— сказал он старухе. — Набалуешь ты их так, мерзавцев,— сказала старуха. — Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился. — Эх, бабушка, бабушка,— сказал Авдеич. — По-нашему-то так, а по-божьему не так. Коли его за яблоко высечь надо, так с нами-то за наши грехи что сделать надо? Замолчала старуха. И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой долг его, а оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и мальчик стоял слушал. — Бог велел прощать,— сказал Авдеич,— а то и нам не простится. Всем прощать, а несмысленому-то и поготово. Покачала головой старуха и вздохнула. — Так-то так,— сказала старуха,— да уж очень набаловались они. — Так нам, старикам, и учить их,— сказал Авдеич. — Так и я говорю,— сказала старуха. — У меня самой их семеро было,— одна дочь осталась. И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери и сколько у ней внучат. — Вот,— говорит,— сила моя уж какая, а все тружусь. Ребят, внучат жалко, да и хороши внучата-то; никто меня не встретит, как они. Аксютка, так та ни к кому и не пойдет от меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная... — И совсем размякла старуха. — Известно, дело ребячье. Бог с ним,— сказала старуха на мальчика. Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик и говорит: — Дай я снесу, бабушка, мне по дороге. — Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика. 12 И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. Авдеич стоял и все смотрел на них и слушал, как они шли и что-то все говорили. Проводил их Авдеич и вернулся к себе, нашел очки на лестнице, и не разбились, поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать и видит: фонарщик прошел фонари зажигать. «Видно, надо огонь засвечать»,— подумал он, заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем; повертел, посмотрел: хорошо. Сложил струмент, смел обрезки, убрал щетинки, и концы, и шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком сафьяна заложил, да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит: стоят точно люди в темном углу — стоят люди, а не может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос: — Мартын! А Мартын. Или ты не узнал меня? — Кого? — проговорил Авдеич. — Меня,— сказал голос. — Ведь это я. И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его... — И это я,— сказал голос. И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали. — И это я,— сказал голос. И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали. И радостно стало на душе Авдеича, перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие, там, где открылось. И наверху страницы он прочел: — И взалкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня... И внизу страницы прочел еще: — Так как вы сделали это одному из сих братий моих, меньших, то сделали мне (Матфея 25 глава). И понял Авдеич, что не обманул его сон, что, точно, приходил к нему в этот день Спаситель его и что, точно, он принял его. Г д е л ю б о в ь , т а м и б о г . — Рассказ написан во второй половине марта 1885 года. 17 мая Толстой «окончательно поправил» его в корректуре. В начале июня вышел в свет отдельной брошюрой в издательстве «Посредник», с рисунками А. Д. Кившенко на обложке. Представляет собою переделку напечатанного анонимно в петербургском журнале «Русский рабочий» (1884, № 1) рассказа «Дядя Мартын», являющегося, в свою очередь, обработанным переводом рассказа французского писателя Рубена Сайяна «Le père Martin». Номер «Русского рабочего» прислал Толстому В. Г. Чертков: мысль рассказа, писал Чертков, «до такой степени важна и дорога, что желательно передать ее возможно трогательнее и убедительнее» (т. 85, с. 155). Текст перед отправлением в печать переделывался и переписывался несколько раз. Источник преобразился: устранены сентиментальный тон и внешние эффекты, добавлены многочисленные реальные подробности, в частности, живая уличная сцена — торгующая яблоками старуха и мальчуган, пытающийся утащить у нее яблоко. Посылая Черткову корректуру рассказа, Толстой заметил: «Мне это очень нравится» (т. 85, с. 204). После публикации рассказа (и другого — «Упустишь огонь — не потушишь») Н. Н. Страхов в письме к Толстому сообщил восторженный отзыв И. С. Аксакова: «На него повеяло таким духом, что он уже отказывается судить об Вас» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894». СПб., 1914, с. 322). В среде радикально настроенных журналистов рассказ, как и другие издания «Посредника», был встречен отрицательно. «По гр. Л. Толстому выходит,— писал рецензент газеты «Русское дело»,— будто нравственное совершенство достигается не через постепенное тяжкое воспитание и упорную душевную борьбу, а является плодом единичного, чуть ли не мгновенного уразумения истины...» («Русское дело», 1886, № 18, 23 августа). КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК 13 И сказал Иисусу: помяни меня, господи, когда приидешь в царствие твое. — И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. (Лук. XXIII, 42, 43) Жил на свете человек 70 лет, и прожил он всю жизнь в грехах. И заболел этот человек и не каялся. И когда пришла смерть, в последний час заплакал он и сказал: «Господи! как разбойнику на кресте, прости мне!» Только успел сказать — вышла душа. И возлюбила душа грешника бога, и поверила в милость его, и пришла к дверям рая. И стал стучаться грешник и проситься в царство небесное. И услыхал он голос из-за двери: — Какой человек стучится в двери райские? и какие дела совершил человек этот в жизни своей? И отвечал голос обличителя, и перечислил все грешные дела человека этого, и не назвал добрых дел никаких. И отвечал голос из-за двери: — Не могут грешники войти в царство небесное. Отойди отсюда. И сказал человек: — Господи! голос твой слышу, а лица не вижу и имени твоего не знаю. И отвечал голос: — Я — Петр-апостол. И сказал грешник: — Пожалей меня, Петр-апостол, вспомни слабость человеческую и милость божию. Не ты ли был ученик Христов, не ты ли из самих уст его слышал учение его и видел пример жизни его? А вспомни, когда он тосковал и скорбел душою и три раза просил тебя не спать, а молиться, и ты спал, потому глаза твои отяжелели, и три раза он застал тебя спящим. Так же и я. — А вспомни еще, как обещал ему самому до смерти не отречься от него и как ты три раза отрекся от нею, когда повели его к Каиафе. Так же и я. — И вспомни еще, как запел петух и ты вышел вон и заплакал горько. Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня. И затих голос за дверьми райскими. И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в царство небесное. И послышался из-за дверей другой голос и сказал: — Кто человек этот? и как жил он на свете? И отвечал голос обличителя, и опять повторил все худые дела грешника, и не назвал добрых дел никаких. И отвечал голос из-за двери: — Отойди отсюда: не могут такие грешники жить с нами вместе в раю. И сказал грешник: — Господи, голос твой слышу, но лица твоего не вижу и имени твоего не знаю. И сказал ему голос: — Я — царь и пророк Давид. И не отчаялся грешник, не отошел от двери рая и стал говорить: — Пожалей меня, царь Давид, и вспомни слабость человеческую и милость божию. Бог любил тебя и возвеличил пред людьми. Все было у тебя — и царство, и слава, и богатство, и жены, и дети, а увидел ты с крыши жену бедного человека, и грех вошел в тебя, и взял ты жену Урия, и убил его самого мечом амонитян. Ты, богач, отнял у бедного последнюю овечку и погубил его самого. То же делал и я. — И вспомни потом, как ты покаялся и говорил: «Я сознаю вину свою и сокрушаюсь о грехе своем». Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня. И затих голос за дверьми. И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в царство небесное. И послышался из-за дверей третий голос и сказал: — Кто человек этот? и как прожил он на свете? И отвечал голос обличителя, и в третий раз перечислил худые дела человека, и не назвал добрых. И отвечал голос из-за двери: — Отойди отсюда: не могут грешники войти в царство небесное. И отвечал грешник: — Голос твой слышу, но лица не вижу и имени твоего не знаю. 14 И отвечал голос: — Я — Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. И обрадовался грешник и сказал: — Теперь нельзя не впустить меня: Петр и Давид впустят меня за то, что они знают слабость человеческую и милость божию. А ты впустишь меня потому, что в тебе любви много. Не ты ли, Иоанн Богослов, написал в книге своей, что бог есть любовь и что кто не любит, тот не знает бога? Не ты ли при старости говорил людям одно слово: «Братья, любите друг друга!» Как же ты теперь возненавидишь и отгонишь меня? Или отрекись от того, что сказал ты сам, или полюби меня и впусти в царство небесное. И отворились врата райские, и обнял Иоанн кающегося грешника и впустил его в царство небесное. К а ю щ и й с я г р е ш н и к . — В феврале 1886 года, говоря о сюжетах, найденных в сборнике А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды», Толстой заметил: «Я уж кой-чем воспользовался, написал три маленьких вещицы и одну большую» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 81). «Маленькие вещицы»— это «Как чертенок краюшку выкупал», «Кающийся грешник» и «Зерно с куриное яйцо»; «большая» — «Крестник». Источником рассказа «Кающийся грешник» послужила «Повесть о бражнике», заимствованная из рукописи XVIII столетия, но восходящая к старинной повести XVII века — «Притча о бражнике». Толстой снял упоминание о главном грехе человека, просящегося в рай,— бражничестве. Сначала грехи подробно перечислялись: «В молодости пил и пьянствовал, в карты играл и развратничал. Жену в гроб загнал. Детей разогнал и под старость жил с любовницами. Никого не любил, кроме своего тела и денег. Копил деньги и деньги в рост давал, никого не жалел и с бедной, с сироты, с вдовы последнюю рубашку и крест с шеи тянул» (т. 25, с. 586). Все это было зачеркнуто: вероятно, Толстой решил, что такого грешника, даже и покаявшегося перед смертью, нельзя прощать: притча потеряла бы всякую убедительность. Рассказ опубликован в части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», вышедшей в апреле 1886 года. 15