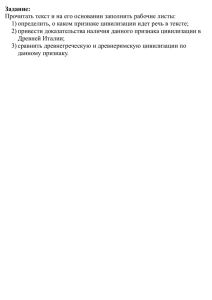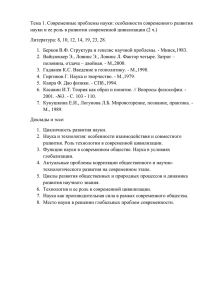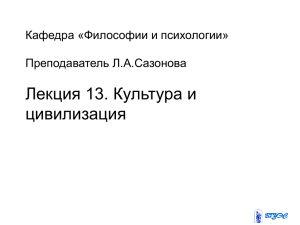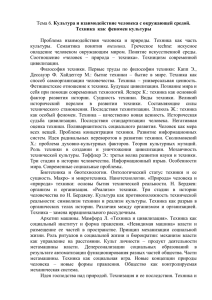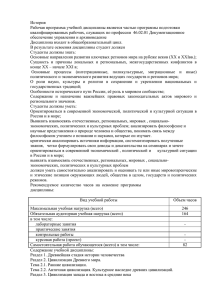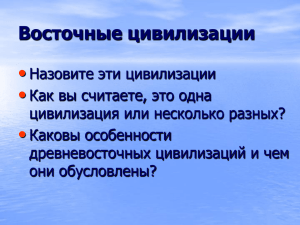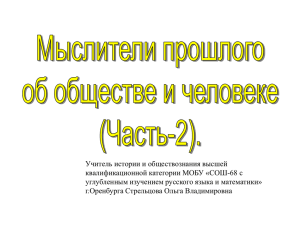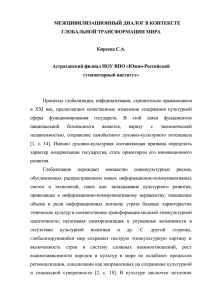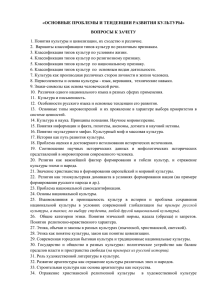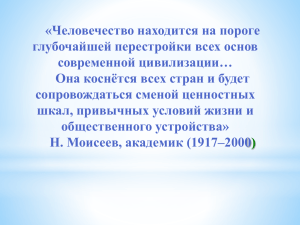Леви-Стросс_-_Раса_и_история.txt Toplam 26 sayfadan 1. sayfa Леви-Стросс КлодРаса и история Клод Леви-Стросс Раса и история СОДЕРЖАНИЕ 1. Раса и культура 2. Разнообразие культур 3. Этноцентризм 4. Культуры архаические и культуры примитивные 5. Идея прогресса 6. История стационарная и история кумулятивная 7. Место западной цивилизации 8. Случайность и цивилизация 9. Сотрудничество культур 1. Раса и культура В собрании брошюр, направленных на борьбу с расовым предрассудком, может вызвать удивление обсуждение вклада человеческих рас в мировую цивилизацию. Вовсе не требуется посвящать талант и столько усилий доказательству, что при нынешнем состоянии науки ничто не позволяет утверждать об интеллектуальном превосходстве или же ущербности какой-либо расы по отношению к другой лишь ради стремления обнаружить, окольным путем вновь воплощая понятие расы, что большие этнические группы, составляющие человечество, внесли как таковые специфический вклад в общее достояние. Но подобное предприятие, увенчивающееся формулированием расистской доктрины навыворот, чрезвычайно далеко от нашего замысла. Когда пытаются охарактеризовать биологические расы, приписывая им особенные психологические качества, тем самым уходят в сторону от научной истины, будь то определения позитивного или негативного толка. Не надо забывать, что Гобино, из которого история сделала родоначальника расистских теорий, зачинал "неравенство человеческих рас" не количественным, но качественным образом. Для него изначальные крупные расы, образовывавшие человечество в его истоках белая, желтая, черная, - были неравны не столько по их абсолютной ценности, сколько по присущим каждой из них способностям. Согласно Гобино, порок вырождения вменялся скорее явлению метисации, а не той позиции, какую занимала каждая раса относительно прочих на шкале ценностей; он предназначался всему обреченному человечеству, без различения расы, по мере роста метисации. Но первородный грех антропологии состоит в смешении чисто биологического понятия расы (допуская, вообще говоря, что на этом ограниченном участке данное понятие может претендовать на объективность - что современная генетика оспаривает) и социологических, психологических продуктов человеческих культур. Достаточно было Гобино этот грех совершить, чтобы оказаться заключенным в инфернальный круг, приводящий от интеллектуальной ошибки, возможно и непредвзятой, к непроизвольному узаконению всяческих попыток дискриминации и эксплуатации. И в данной работе, ведя речь о вкладе человеческих рас в цивилизацию, мы не подразумеваем, что некая оригинальность культурного взноса Азии или Европы, Африки или Америки определяется тем фактом, что эти континенты, беря в целом, заселены представителями разных расовых начал1. Если таковая оригинальность существует, что несомненно, то она зависит от географических, исторических и социологических обстоятельств, а не от отличительных способностей, связанных с анатомической или физиологической конституцией чернокожих, желтых или белых. Но мы заметили, что в той степени, в какой брошюры данной серии были нацелены на обоснование правоты этой негативной точки зрения, возникла опасность отвода на второй план еще одного, равно важного аспекта жизни человечества, - оно развивается не в режиме унифицированной монотонии, но проходя сквозь чрезвычайно разнообразные формы обществ и цивилизаций. Это интеллектуальное, эстетическое, социологическое разнообразие никоим образом не объединяется отношением причины и следствия с тем разнообразием, что существует на биологическом плане между определенными наблюдаемыми аспектами человеческих групп: имеется лишь некоторая разноплановая аналогия. И в то же время этому разнообразию присущи две важные отличительные черты. Во-первых, иной порядок величины. Человеческих культур гораздо больше, чем рас, поскольку одни насчитывают тысячи, а другие единицы. Две культуры, выработанные людьми, принадлежащими к одной и той же расе, могут настолько же и даже более различаться, чем две культуры, происходящие из расово отдаленных групп. Во-вторых, в противоположность разнообразию рас, главный интерес в связи с чем состоит в их историческом происхождении и распределении в пространстве, разнообразие культур чревато множеством проблем, поскольку можно задаться вопросом, представляет ли оно преимущество или же помеху, - общим вопросом, подразделяющимся, разумеется, на многие другие. Наконец, что особенно важно, надо задаться вопросом, в чем состоит это разнообразие, рискуя увидеть, как расовые предрассудки, едва лишившись корней в биологическом обосновании, вновь образуются на новом поле. Ибо напрасны заверения обычного человека, что он отвергает приписывание интеллектуальной или моральной значимости факту обладания черной или белой кожей, прямыми или курчавыми волосами, ведь при этом он пребывает в молчании перед другим вопросом, который, как показывает опыт, тут же возникает: если не существует врожденных, присущих разным расам способностей, то как же объяснить, что цивилизация, развитая белым человеком, достигла, как известно, огромного прогресса, тогда как цивилизации цветных народов остались позади, одни - на полпути, а другие - отстав на тысячи и десятки тысяч лет? Невозможно считать, что проблема неравенства человеческих рас решена негативно, не рассмотрев также проблему неравенства - или разнообразия - человеческих культур, которая если не по праву, то фактически, в обыденном сознании, тесно с ней связана. 2. Разнообразие культур Чтобы понять, каким образом и в какой мере человеческие культуры отличаются друг от друга, сглаживаются или вступают в противоречие эти различия или же они способствуют формированию гармоничной целокупности, сначала следует попытаться составить их опись. Но здесь уже возникают трудности, ведь нам требуется учесть то, что человеческие культуры и не одинаковым образом, и не на одном и том же плане отличаются друг от друга. Сначала нам предстают общества, взаимно прилаженные в пространстве, среди них одни близкие, а другие отдаленные, - все это современные общества. Затем нам необходимо учесть формы социальной жизни, следовавшие одна за другой во времени, которые нам не постичь из непосредственного наблюдения. Любой человек может сделаться этнографом и отправиться к интересующему его обществу, чтобы на месте разделить его образ жизни; напротив, даже если он станет историком или археологом, он никогда напрямую не войдет в контакт с исчезнувшей цивилизацией, но соприкоснется с ней лишь через письменные документы или изобразительные памятники, которые данным обществом - или другими - оставлены. Наконец, не надо забывать, что современным обществам, все еще не знающим письменности, называемым нами "дикими", или "примитивными", также предшествовали другие формы, познание которых практически невозможно, разве что непрямо. В добросовестно сделанном инвентаре должны остаться для них пустые клетки в несравненно большем числе, чем те клетки, в которые мы ощущаем себя способными нечто вписать. Напрашивается первая констатация: разнообразие человеческих культур гораздо значительней и богаче всего того, что нам суждено когда-либо познать - в настоящем это "фактически", а в прошлом "фактически и юридически". Но даже проникнутые чувством смирения и убежденные в такой ограниченности, мы сталкиваемся с другими проблемами. Что следует подразумевать, говоря о различных культурах? Некоторые кажутся различными, но если они возникают из общих корней, то их отличие не таково, как у тех обществ, что ни в какой из моментов развития не вступали в какие-либо отношения. Так, древние империи инков Перу и дагомеев Африки различаются в гораздо большей степени, чем, скажем, Англия и США сегодня, хотя эти два общества следует также трактовать как различные. Напротив, те общества, что недавно пришли в весьма тесное соприкосновение, являют, по видимости, образ одной и той же цивилизации, тогда как они достигли этого, следуя разными путями, что нельзя не учитывать. В человеческих обществах одновременно действуют противоположно направленные силы: стремящиеся сохранить и даже акцентировать особенности; стремящиеся к конвергенции и уподоблению. Изучение языка дает поразительные примеры таких феноменов. Так, в то время как языки одного происхождения имеют тенденцию к взаимному различению (в числе таковых - русский, французский и английский), у языков с неодинаковым происхождением, но функционирующих на смежных территориях, развиваются общие черты: например, русский язык, дифференцировавшийся в определенных отношениях от других славянских языков, сблизился, по крайней мере по некоторым фонетическим чертам, с финно-угорскими и тюркскими языками, на которых говорят в непосредственном географическом соседстве. Изучая подобные факты - ив других областях цивилизации, таких, как социальные институты, искусство, религия, с легкостью предоставляющих их, приходим к постановке вопроса, не определяют ли себя человеческие общества, в отношении их взаимосвязей, посредством определенного оптимума разнообразия, за пределы которого они не преступают, но и, оставаясь в этих пределах, они не могут снижать его, не подвергаясь опасности. Этот оптимум варьирует, вероятно, в зависимости от количества обществ, их численности, географической отдаленности и средств коммуникации (материальных и интеллектуальных), имеющихся в их распоряжении. Фактически проблема разнообразия возникает не только в связи с культурами, рассматриваемыми в контексте их двусторонних связей; она существует также в недрах каждого общества, во всех образующих его группах: в кастах, классах, различной профессиональной и конфессиональной среде и т. д. Формируются определенные отличия, которым каждая из этих групп придает чрезвычайную значимость. Можно задаться вопросом, нет ли тенденции к возрастанию внутренней диверсификации тогда, когда общество, в других отношениях, становится более крупным и более гомогенным; вероятно, так было в случае древней Индии, с ее системой каст, расцвет которой наступил после утверждения гегемонии ариев. Итак, мы видим, что понятие разнообразия человеческих культур не следует воспринимать статически. Это не разнообразие бездеятельного собрания образчиков и не разнообразие засушенного каталога. Несомненно, людьми созданы различные культуры ввиду географического отдаления, особенных свойств окружающей среды и незнания об остальной части человечества. Это положение было бы истинным и строгим, только если бы каждая культура или общество находились и развивались в изоляции от всех прочих. Однако так никогда не бывает, кроме, возможно, исключительных примеров, как в случае с тасманийцами (и там опять-таки в течение ограниченного периода времени). Человеческие общества никогда не одиноки; когда они, как кажется, наиболее сепарированы, то все же существуют в виде групп, в какойто связке. Так, не будет преувеличением предположить, что севере- и южноамериканские культуры были почти отрезаны от каких-либо контактов с остальным миром в течение периода длительностью от десяти до двадцати пяти тысяч лет. Но этот крупный фрагмент отделенного человечества состоял из множества обществ, больших и малых, поддерживавших весьма тесные взаимные контакты. И помимо отличий, обусловленных изоляцией, имеются столь же важные отличия, обусловленные смежностью, - желаниями противополагаться, различаться, обладать самобытностью. Множество обычаев порождены не какой-то внутренней необходимостью или благоприятным случаем, но единственно лишь из стремления не остаться в долгу перед соседней группой, подчинившей вполне определенному обычаю какую-либо сферу, относительно которой первая группа и не помышляла предписывать правила. Следовательно, разнообразие человеческих культур не должно побуждать нас к разделяющему или же дробному наблюдению. Разнообразие выступает не столько функцией изоляции групп, сколько отношений, их объединяющих. 3. Этноцентризм И все же, кажется, разнообразие культур редко представало людям в качестве того, чем оно является, - естественного феномена, проистекающего из прямых или непрямых отношений между обществами. В нем видели скорее нечто чудовищное, скандальное. При, таких обстоятельствах прогресс познания состоял не столько в рассеивании этой иллюзии в пользу более точного видения, сколько в принятии этого разнообразия и нахождении средства, как подчиниться ему. Наиболее древняя установка, несомненно, покоящаяся на прочном психологическом основании, поскольку имеет тенденцию проявляться всякий раз в каждом из нас, как только попадаем в неожиданную ситуацию, состоит в простом огульном отвержении культурных форм (моральных, религиозных, социальных, эстетических), наиболее отдаленных от тех, с которыми мы себя идентифицируем. "Дикарские повадки", "это не как у нас", "это не следует позволять" и т. п., такие грубые реакции, передают все то же содрогание, отталкивание при встрече со стилем жизни, верований и мышления, нам чуждыми. Именно так, под одним и тем же наименованием варварства, античность смешивала все то, что не входило в греческую культуру; а западная цивилизация воспользовалась позднее термином "дикарь" для выражения такого же смысла. Однако за этими эпитетами скрывается суждение: вероятно, слово "варвар" содержит этимологическую отсылку к неартикулированному пению птиц, противопоставляемому, по его способности к означиванию, человеческой речи; и слово "дикарь", что подразумевает "из леса", также вызывает представление об образе жизни животных, в противоположность человеческой культуре. В обоих случаях отказываются признать именно факт культурного разнообразия; предпочитают вывести за пределы культуры, в природу все то, что не сообразуется с привычными нормами жизни. Эту наивную, но глубоко укорененную у многих людей точку зрения нет необходимости обсуждать, поскольку данная брошюра как раз служит тому, чтобы ее отвергнуть. Достаточно будет здесь отметить, что эта точка зрения таит в себе довольно важный парадокс. Эта установка мышления, во имя которой отбрасывают "дикарей" (или тех, кого предпочитают считать таковыми) за пределы человечества, является наиболее маркирующей, отличительной для самих дикарей. Известно, однако, что в действительности понятие человечества в целом, без различения на расы и цивилизации, - всех форм человеческого существа - явление весьма позднее и имеющее ограниченное распространение. Даже там, где, кажется, оно достигло своего наивысшего развития, вовсе нет ясности (как доказывает новейшая история), что оно защищено от двусмысленности и регресса. Ну а для больших подразделов человеческого вида и на протяжении десятков тысячелетий это понятие, по-видимому, вовсе отсутствует. Человеческое прекращается на границе племени, языковой группы, иногда даже на границе деревни: в той степени, в какой значительное число так называемых примитивных популяций обозначают себя словом, имеющим значение "люди" (а иногда - и это, можно сказать, более сдержанно "хорошие", "превосходные", "совершенные"), подразумевая тем самым, что другие племена, группы или деревни не разделяют достоинства, а то даже и природы людей, будучи составленным преимущественно из "плохих", "злых" или же "земляных обезьян", "гнид". Доходят часто до того, чтобы лишить чужака последнего рубежа реальности, делая из него "фантом" или "привидение". Таковы курьезные ситуации, в которых стороны с жестокостью реагируют друг на друга. На Больших Антильских островах несколько лет спустя после открытия Америки, в то время как испанцы снаряжали исследовательские комиссии, чтобы установить, есть ли у туземцев душа, сами туземцы обходились тем, что белых узников бросали в воду, чтобы проверить, путем продолжительного наблюдения, подвержены ли их трупы гниению. Этот анекдотический случай, вычурный и трагичный одновременно, хорошо иллюстрирует парадокс культурного релятивизма (встречаемый и в других местах в иных формах): именно в той мере, в какой стремятся осуществить дискриминацию между культурами, обычаями, наиболее полно идентифицируют самих себя с теми, кого пытаются отрицать. Отказывая в человеческом качестве тем, кто предстает в качестве "дикарей" или "варваров", тем самым запечатлевают в себе одну из их типичных установок. Варвар - это в первую очередь человек, верящий в варварство. Без сомнения, великие философские, религиозные системы, созданные человечеством идет ли речь о буддизме, христианстве или исламе, доктринах стоицизма, кантовской или марксистской, - постоянно возвышали свою критику этой аберрации. Но если просто провозгласить естественное равенство всех людей и братство, долженствующее их объединить, без различия рас и культур, это содержит в себе некий обман сознания, поскольку тем самым мы пренебрегаем фактическим разнообразием, постигаемым из наблюдения. И недостаточно сказать об этом разнообразии, что оно не затрагивает сути проблемы, для того чтобы и теоретически, и практически было дозволительно действовать так, как если бы его не существовало. Так, преамбула ко второй декларации ЮНЕСКО по проблеме рас содержит юридическую ремарку, что убеждение обычного человека в существовании рас - это "непосредственное свидетельство его органов чувств, когда он совокупно воспринимает африканца, европейца, азиата или американского индейца". Великим декларациям прав человека также присущи и сила, и бессилие в провозглашении идеала, слишком часто предаваемого забвению, ввиду того, что человек реализует свою природу не в недрах абстрактного человечества, а внутри традиционных культур, где и наиболее революционные изменения оставляют целые полосы незатронутыми, а сами получают объяснение как функция ситуации, строго определенной во времени и пространстве. Зажатый в тисках двоякого стремления - отторжения аффективно воздействующих на него данных опыта и, с другой стороны, отрицания различий, не понятых им интеллектуально, - современный человек предается сотне философских, социологических спекуляций, тщетно пытаясь установить компромисс между взаимоисключающими полюсами и учесть разнообразие культур, при этом опуская все то, что кажется ему возмутительным и шокирующим. Но подобные умозрения, столь различные, а порой и причудливые, фактически сводятся к единственному решению, которое, конечно же, лучше всего способен охарактеризовать термин ложный эволюционизм. В чем же он состоит? Наиболее точно, речь идет о попытке упразднить разнообразие культур, а при этом оно якобы всецело признается. Ибо если различные состояния, присущие человеческим обществам, как древним, так и пространственно отдаленным, трактуются в качестве стадий или этапов единого процесса развития, который отправляется из одной и той же точки и должен подвести их к одной и той же цели, то легко заметить, что разнообразие превращается не более чем в кажимость. Человечество становится единым и тождественным себе самому; а это единство и тождественность могут реализоваться только поступательно, и вариативность культур иллюстрирует моменты процесса, скрывающего более глубокую реальность или замедляющего ее проявление. Такое определение может показаться обобщающим, если сознание сосредоточивается на огромных завоеваниях дарвинизма. Но последний не составляет предмета рассмотрения, ведь биологический эволюционизм и псевдоэволюционизм предстают здесь перед нами как две весьма разные доктрины. Дарвинизм рожден как широкая рабочая гипотеза, фундированная наблюдениями, а интерпретациям в нем отведена весьма небольшая часть. Так, различные типы, образующие генеалогию лошади, могут быть ранжированы в эволюционный ряд на основе двух соображений. Первое из них то, что для порождения лошади требуется лошадь; второе состоит в том, что в идущих вглубь один за другим слоях земли (исторически слои делаются, следовательно, все более древними) содержатся скелеты, форма которых постепенно меняется от совсем недавней до наиболее архаической. Таким образом, высока вероятность, что Hipparion был реальным предком Equus caballus. И конечно, такое же рассуждение применяется к человеческому виду и его расам. Но при переходе от биологических фактов к фактам культуры вещи особенным образом усложняются. Можно извлечь из земли материальные объекты и констатировать, что соответственно глубине геологических слоев форма и техника изготавливаемых объектов определенного типа поступательно изменяется. И, однако, топор не рождает топор физически, подобно животным. Сказать, что топор прошел эволюцию, отправляясь от какого-то другого топора, означает образовать метафорическую приблизительную формулу, без научной строгости, привязанную к подобному выражению, применяемому для биологических феноменов. То, что справедливо для материальных объектов, находящихся в земле, и физическое присутствие которых тем самым засвидетельствовано для устанавливаемых эпох, еще более справедливо для институтов, верований и эстетических вкусов, чье прошлое нам совершенно неизвестно. Понятие биологической эволюции соответствует гипотезе, наделенной одним из наиболее высоких коэффициентов вероятности, какие могут встретиться в сфере естественных наук; тогда как понятие социальной или культурной эволюции привносит всего-навсего соблазнительную, но при этом опасно удобную процедуру представления фактов. Впрочем, это различение, которым слишком часто пренебрегали, между подлинным и ложным эволюционизмом, объяснимо временем их появления. Несомненно, социологический эволюционизм должен был получить мощный импульс от биологического эволюционизма; но фактически предшествовал ему. Не совершая восхождения к античным концепциям (воспроизводимым Паскалем), уподобляющим человечество живому существу, проходящему последовательно стадии детства, юности и зрелости, мы видим, как в XVIII в. расцветают фундаментальные схемы, которые составят позднее предмет для стольких манипуляций: "спирали" Вико, его же "три возраста", предвозвещающие "три стадии" Конта, "лестница" Кондорсе. Два основателя социального эволюционизма Спенсер и Тайлор разработали и опубликовали свои доктрины до выхода "Происхождения видов"3, не ознакомившись с этой работой. Предшественник биологического эволюционизма научной теории, социальный эволюционизм - это чаще всего не более чем псевдонаучный макияж старой философской проблемы, и нет никакой уверенности, что когда-нибудь наблюдение и индукция смогут снабдить нас ключом к ней. 4. Культуры архаические и культуры примитивные Мы высказали утверждение, что всякое общество, исходя из собственной точки зрения, может подразделять культуры на три категории: современные, но расположенные в других местах земного шара; те, что проявили себя на том же пространстве, но предшествовали данным культурам, но во времени; наконец, те, что и предшествовали им во времени, и располагались на ином участке пространства. Мы видели, что эти три группы познаны вовсе не в равной степени. Относительно третьей группы и когда речь идет о бесписьменных культурах, не имевших архитектуры и рудиментарных техник (именно так для половины заселенной земли и, в зависимости от региона, 90-99% того промежутка времени, что миновал от начала цивилизации), можно сказать, что нам ничего о них не узнать и все, что пытаются себе вообразить по их поводу, сводится к безосновательным гипотезам. Напротив, весьма соблазнительна попытка установить среди культур, входящих в первую группу, отношения, эквивалентные порядку следования во времени. Как же тем современным обществам, что все еще пребывают в неведении относительно электричества, парового двигателя, не вызвать у нас представления о соответствующей фазе развития западной цивилизации? Как не сопоставить туземные племена, без письменности и без обработки металлов, но вычерчивающие на скалах изображения и изготавливающие каменные орудия, с архаическими формами именно этой цивилизации, следы которой, обнаруженные в пещеpax Франции и Испании, свидетельствуют о сходстве? Здесь ложный эволюционизм особенно свободно следует своим курсом. И все же эта соблазнительная игра, которой мы предаемся, почти не сопротивляясь, всякий раз, как представится случай (разве западный путешественник откажет себе в удовольствии обнаружить "средневековье" на Востоке, "век Людовика XIV" в Пекине перед Первой мировой войной, "каменный век" у туземцев Австралии и Новой Гвинеи?), чрезвычайно пагубна. Исчезнувшие цивилизации нам известны лишь в некоторых аспектах, которые тем малочисленное, чем древнее цивилизация, поскольку известные аспекты - то единственное, что выдержало разрушительный натиск времени. Итак, процедура состоит в принятии части за целое и в выводе, исходя из того, что некоторые аспекты обеих цивилизаций (нынешней и исчезнувшей) имеют сходство, об аналогии во всех аспектах. Но такой способ рассуждения не только логически нетерпим, но и в значительном числе случаев опровергается фактами. Вплоть до относительно недавнего времени тасманийцы и патагонцы располагали инструментами, вырезанными из камня, а некоторые австралийские и американские племена еще изготовляли их. Но изучение этих инструментов весьма немногим поможет нам в понимании, как употреблялись эти орудия в эпоху палеолита. Каким образом действовали знаменитыми ручными рубилами, использование которых должно было быть настолько определенным, чтобы их форма и техника изготовления сохранились жестко стандартизированными на протяжении одной-двух сотен тысяч лет и на территории, простирающейся от Англии до Южной Африки и от Франции до Китая? Чему служили те необычайные вещи леваллуа, в виде уплощенных треугольников, встречаемые сотнями в археологических памятниках, по поводу которых нет ни одной удовлетворительной гипотезы? Чем были так называемые "batons de commandement"2из оленьей кости? Какова могла быть технология у культур тарденуаз, оставивших после себя невероятное число крошечных кусочков оббитого камня, имеющих бесконечно разнообразную геометрическую форму, но весьма немного инструментов размером с человеческую руку? Из всех этих случаев неопределенности видно, что между обществами палеолита и некоторыми современными туземными обществами все же существует сходство: употребление инструментов, вырезанных из камня. Но даже в плане технологии трудно пойти дальше: применение конкретного материала, типов инструментов, а значит и их назначение, были различными, и одни из них мало что сообщат нам о других в этом отношении. А каким образом они могли бы осведомить нас о социальных институтах или религиозных верованиях? Одна из наиболее известных интерпретаций - из числа тех, что вдохновлены культурным эволюционизмом, - трактует наскальные рисунки, оставленные нам обществами среднего палеолита как магические наглядные изображения, связанные с охотничьими ритуалами. Ход рассуждения следующий: нынешние примитивные популяции обладают охотничьими ритуалами, которые часто кажутся нам лишенными утилитарной значимости; доисторические наскальные рисунки - и по их количеству, и по их расположению в самой глубине пещер кажутся нам лишенными утилитарной значимости; творцы этих рисунков были охотниками: стало быть, рисунки служили охотничьим ритуалам. Достаточно проговорить эту имплицитную аргументацию, чтобы заметить ее непоследовательность. Впрочем, она имеет хождение преимущественно среди неспециалистов, поскольку этнографы, располагающие непосредственным опытом общения с этими примитивными популяциями, столь охотно "под разными соусами" потребляемыми псевдонаучным каннибализмом, не почитающим полноту человеческих культур, солидарно утверждают, что ничто из наблюдаемых фактов не позволяет сформулировать какую-либо гипотезу относительно рассматриваемых памятников. И поскольку здесь мы ведем речь о наскальных рисунках, то подчеркнем, что за исключением южноафриканских наскальных изображений (некоторые считают их недавним туземным творением), "примитивные" искусства настолько же далеки от искусства мадлен и ориньяк, как и от современного европейского. Ибо эти искусства характеризуются весьма высокой степенью стилизации, вплоть до крайних деформаций, тогда как палеоисторическому искусству присущ захватывающий реализм. Вероятно, можно попытаться увидеть здесь начало европейского искусства; однако это будет неточным, поскольку на той же территории за палеолитическим искусством последовали другие формы, не обладавшие такой характеристикой. Преемственность географического местонахождения ничего не меняет в том факте, что на той же территории друг за другом следовали различные популяции, не знавшие искусства своих предшественников или не придававшие ему значения, и каждая из них несла с собой противоположение в верованиях, техниках и стиле. Доколумбова Америка накануне ее открытия по состоянию цивилизации напоминает европейский неолитический период. Но это уподобление не выдерживает скольконибудь внимательного рассмотрения: в Европе земледелие и доместикация животных происходят совместно, тогда как в Америке развитие касается исключительно первого из этих занятий, что сопровождается почти полным незнанием второго (во всяком случае, оно чрезвычайно ограниченно). В Америке каменные орудия находят свое продолжение в земледельческой экономике, а в Европе она ассоциируется с началом металлургии. Не стоит множить примеры. Ибо попытки познать богатство и оригинальность человеческих культур и одновременно свести их к положению реплик западной цивилизации в разной степени отсталых, сталкиваются с другой трудностью, гораздо более глубокой: в целом (делая исключением для Америки, к чему мы вскоре обратимся) все человеческие общества имеют позади себя прошлое, величиной примерно одного и того же порядка. Чтобы можно было трактовать определенные общества в качестве "этапов" развития некоторых других, следовало бы признать, что в то время как для этих последних нечто происходило, для первых не происходило ничего или совсем немногое. И действительно, охотно говорится о "народах без истории" (с тем чтобы иногда сказать, что они самые счастливые). Эта эллиптическая формула лишь означает, что их история неизвестна и таковой останется, а не то, что ее не существует. На протяжении десятков и даже сотен тысячелетий, также и у этих народов, человеческие существа любили, ненавидели, страдали, изобретали, сражались. Поистине нет народов-детей; все - взрослые, даже те, кто не вел дневников своего детства и отрочества. Можно сказать, несомненно, что человеческие общества в неравной степени использовали прошедшее время, для некоторых из них это будет потерянное время; одни ели в две глотки, тогда как другие в пути ротозейничали. Таким образом, подходим к различению двух видов истории: одна история поступательная, приобретающая, аккумулирующая находки и изобретения для возведения великих цивилизаций, а другая история, возможно, равно деятельная и исполненная таланта, но ей недостает дара синтеза, являющегося преимуществом первой. Всякая инновация, вместо того чтобы прибавляться к прежним, таким же образом ориентированным инновациям, растворяется в каком-то колыхающемся потоке, который никогда надолго не отклонится от изначального направления. Эта концепция представляется нам гораздо более гибкой и нюансированной, чем те упрощенные воззрения, которым было отдано должное в предыдущих параграфах. Нам удастся сохранить для нее место в нашем очерке, интерпретирующем разнообразие культур, причем не ущемляя какую-либо из них. Но прежде чем к этому приступить, требуется рассмотреть несколько вопросов. 5. Идея прогресса Сначала нам надо рассмотреть культуры, принадлежащие ко второй из трех выделенных нами групп: те, которые исторически предшествовали культуре какова бы она ни была, с той точки зрения, где мы себя поместим. Их ситуация гораздо сложнее, чем в прежде рассмотренных случаях. Ибо гипотеза эволюции, кажущаяся столь неопределенной и хрупкой, когда ее используют для того, чтобы внести иерархию в современные общества, отстоящие друг от друга в пространстве, здесь предстает трудно оспоримой и даже впрямую удостоверенной фактами. Из солидарных свидетельств археологии, палеоистории и палеонтологии известно, что нынешняя Европа сначала была населена различными видами рода Homo, использовавшими инструменты из грубо вырезанного кремния; что за этими первичными культурами последовали другие, с более тонкой обработкой камня, позднее сопровождавшейся шлифовкой и работой по кости и бивню; что затем появляются гончарство, ткачество, земледелие, скотоводство, постепенно ассоциируемые с металлургией, где мы можем также различить два этапа. Эти последовательные формы упорядочиваются в смысле эволюции, прогресса: одни превосходят, а другие занимают подчиненное положение. Но если все это верно, то как же этим различиям не повлиять неизбежно на тот способ, каким мы трактуем современные формы, между которыми присутствуют аналогичные разрывы? Наши прежние выводы рискуют быть пересмотренными ввиду этой новой уловки. Шаги прогресса, совершенные человечеством со времени его происхождения, настолько явственны и ярки, что любая попытка оспорить их сведется к упражнению в риторике. И все же не так легко, как полагают, упорядочить их в регулярный продолжающийся ряд. Вот уже около пятидесяти лет как ученые, чтобы представить их себе, используют восхитительно простые схемы: век оббитого камня, век шлифованного камня, века меди, бронзы, железа. Все это слишком удобно. Сегодня мы подозреваем, что шлифовка и оббивка камня иногда сосуществовали. Когда вторая техника полностью затмевает первую, это не выступает результатом спонтанного технического прогресса, скакнувшего из предшествующего этапа, но является попыткой повторить в камне оружие и орудия из металла, какими располагали цивилизации, несомненно более "передовые", но бывшие фактически современниками своих подражателей. Наоборот, гончарство, которое считали сопряженным с "веком шлифованного камня", в некоторых регионах Северной Европы ассоциировано с оббитым камнем. Рассматривая период оббитого камня, называемый палеолитом, еще несколько лет назад думали, что различные формы этой техники характеризующиеся использованием орудий из цельных кусков камня, затем орудий из отщепов и, наконец, орудий на пластинах, - соответствуют историческому прогрессу в три этапа, называемых нижний, средний и верхний палеолит. Сегодня допускают, что эти три формы сосуществовали, образуя не этапы однонаправленного прогресса, но аспекты или, как говорят, "обличья" одной реальности, конечно, нестатичной, а подверженной весьма сложным вариациям и трансформациям. Действительно, культура леваллуа, уже нами упоминавшаяся, расцвет которой наступает между 250-м и 70-м тысячелетиями до н. э., достигает совершенства в технике оббивки, что должно обнаруживаться только в конце неолита на двести сорок пять - шестьдесят пять тысяч лет позднее и что мы воспроизведем сегодня с большим трудом. Что справедливо для культур, верно и в плане рас, хотя и нет возможности (ввиду различий в величине порядков) установить какую-либо корреляцию между двумя процессами: в Европе неандерталец не опередил появление наиболее древних форм Homo sapiens; таковые были его современниками, а возможно, даже его предшественниками, и не исключено, что наиболее отличающиеся типы гоминид сосуществовали во времени, если не в пространстве: "пигмеи" Южной Африки, "великаны" Китая и Индонезии и т. д. Еще раз подчеркнем, что все это нацелено не на отрицание реальности прогресса человечества, но предрасполагает нас мыслить о нем с большей осторожностью. С развитием знаний по палеоистории и археологии возникает тенденция расставлять в пространстве те формы цивилизации, которые мы приучены воображать в качестве эшелонированных во времени. Это означает две вещи: во-первых, то, что "прогресс" (если этот термин все еще удобен для обозначения некой реальности, весьма отличающейся от той, к которой он первоначально применялся) не является ни необходимым, ни непрерывным; он происходит скачками, или, как сказали бы биологи, посредством мутаций. Во-вторых, эти скачки жении несколько поступательных движений, но никогда в одну и ту же сторону. Прогрессирующее человечество вовсе не похоже на персонажа, взбирающегося по лестнице, каждым из своих движений прибавляющего новую ступень к тем, что уже завоеваны. Скорее оно напоминает игрока, чья удача размещена на нескольких костях, и всякий раз, бросая их, он видит, как те разлетаются по ковру, вызывая столько разных расчетов. Что обретается в одном, обычно подвергается опасности быть утраченным в другом, и лишь по временам история кумулятивна - иначе говоря, расчеты дополняют друг друга, образуя благоприятное сочетание. То, что эта кумулятивная история не была привилегией какой-то одной цивилизации или одного периода истории, убедительно показывает пример Америки. Этот огромный континент видел прибытие человека, - несомненно, небольшими группами кочевников, пересекавших Берингов пролив во время последнего ледникового периода, что могло происходить несколько ранее 20-го тысячелетия до н. э. Двадцать - двадцать пять тысяч лет назад эти люди преуспели в одной из самых поразительных демонстраций кумулятивной истории, имевших место в мире: использовав коренным образом ресурсы новой природной среды, доместицировав там (помимо некоторых животных видов) самые различные растительные виды - в целях питания, как лекарства и яды; и что совершенно беспрецедентно - возвысив такие ядовитые растения, как маниок, до роли базового продукта питания, а другие - использовав как стимуляторы и для анестезии; собирая определенные яды или наркотики, сообразно тому избирательному действию, какое они оказывают на конкретные животные виды; наконец, продвинув до высокой степени совершенства такие производства, как ткачество, гончарство и обработка драгоценных металлов. Чтобы оценить этот огромный труд, достаточно измерить вклад Америки в цивилизации Старого Света. Во-первых, картофель, каучук, табак и кока (основа современной анестезии) - у каждого, конечно, своя функция, которые образуют четыре столпа западной культуры; кукуруза и арахис, которые должны были революционизировать африканскую экономику перед тем, как стать общепринятыми в пищевом режиме Европы; затем какао, ваниль, томат, ананас, стручковый перец, некоторые виды фасоли, хлопка и тыквенных растений. Наконец нуль основа арифметики и, непрямо, современной математики, был известен майя, использовался ими по меньшей мере за полтысячелетия до его открытия учеными Индии (от них через посредство арабов получила его и Европа). Возможно, по этой причине их календарь был более точен, чем, на то же время, календарь Старого Света. Много чернил уже было затрачено в связи с ученым вопросом, было ли политическое устройство инков социалистическим или тоталитарным. Во всяком случае, оно затрагивает самые современные формулы, а существовало за много столетий до европейских феноменов того же типа. Вновь возникший интерес к кураре послужит напоминанием, если угодно, что научные познания американских индейцев, применявшиеся к такому числу растительных веществ, не имевших употребления в остальном мире, еще не раз могут представить важный вклад. 6. История стационарная и история кумулятивная Предшествующее рассмотрение американского примера должно побудить нас далее поразмыслить над различием между "стационарной историей" и "кумулятивной историей". Если мы предоставили Америке привилегию кумулятивной истории, то не потому лишь, что признаем ее авторство и вклад в определенные области, заимствованный нами от нее или же сходный с тем, что сделано нами? А какова будет наша позиция перед лицом цивилизации, которая стремилась бы развивать собственные ценности, при том что ни одна из них не составила бы интереса для цивилизации наблюдателя? Не был бы ли таковой расположен квалифицировать эту цивилизацию как стационарную? Иными словами, различение между двумя формами истории зависит от внутреннего характера, присущего самим культурам, к которым оно применяется, или же оно проистекает из этноцентрической перспективы (обычно мы там помещаемся, желая оценить чужую культуру)? Тогда мы сочли бы кумулятивной всякую культуру, которая развивалась бы в направлении, аналогичном нашему, иначе говоря, чье развитие было бы наделено для нас значением. Тогда как другие культуры казались бы нам неподвижными, необязательно оттого, что они таковы, но оттого, что их линия развития ничего не значит для нас, не соизмерима по языку с используемой нами системой референций. О том, что случай именно таков, следует из рассмотрения, даже в обобщенном виде, условий, при которых мы применяем различение между двумя историями - не для того, чтобы охарактеризовать общества, отличающиеся от нашего, а внутри него самого. Это применение производится гораздо чаще, чем полагают. Пожилые люди вообще-то рассматривают как стационарную ту историю, что происходит в период их старости - в противоположность кумулятивной истории, засвидетельствованной их молодостью. Эпоха, в которую они уже не вовлечены активно, где они уже не играют роли, более не обладает смыслом: там ничто не происходит или же происходящее имеет в их глазах негативные черты, тогда как их внуки проживают этот же период со всей горячностью, позабытой старшими родственниками. Противники политического режима неохотно признают, что он эволюционирует; они отвергают его целиком, выбрасывая его за пределы истории как своего рода чудовищный антракт, лишь по окончании которого жизнь возобновится. Совсем иная концепция у сторонников режима, тем более, отметим, чем теснее и на более высоком уровне они участвуют в функционировании его аппарата. Историчность, а точнее говоря, событийность культуры или культурного процесса также являются функцией не их внутренних свойств, а ситуации, в которой мы оказываемся относительно них, числа и разнообразия наших интересов, замыкающихся на них. Таким образом, противоположение культур прогрессивных и инертных кажется проистекающим в первую очередь из различия в местоположении. Для наблюдателя у микроскопа, "наладившего по глазам" на определенном расстоянии, отмериваемом от объектива, тела, размещенные по эту или по ту сторону, с разрывом хотя бы в несколько сотых миллиметра, покажутся смутными, неотчетливыми или даже совсем незаключаются не в том, чтобы продвигаться все в том же направлении дальше; они сопровождаются изменениями в ориентации, несколько наподобие шахматного коня, обычно имеющего в своем распорябудут видны: смотрится как бы сквозь них. Другое сравнение позволит обнаружить все ту же иллюзию: ее используют для объяснения элементарных понятий теории относительности. Чтобы показать, что размер и скорость перемещения тел являются не абсолютными ценностями, а функциями от позиции наблюдателя, то вспоминают, что для путешественника, сидящего у окна поезда, скорость и протяженность других поездов меняются сообразно с тем, следуют ли эти поезда в том же или противоположном направлении. И всякий человек, принадлежащий какой-либо культуре, настолько же плотно сообразуется с ней, как "идеальный путешественник" - со своим поездом. Ведь от самого нашего рождения среда проникает в нас - через тысячу сознательных и неосознаваемых ходов, посредством сложной референциальной системы, состоящей в ценностных суждениях, мотивациях, средоточиях интересов, включая сюда и умозрение, вменяемое нам образованием, об историческом становлении нашей цивилизации, без чего таковая будет немыслима или покажется вступающей в противоречие с реальными поведенческими актами. Мы прямо-таки передвигаемся вместе с этой референциальной системой, и внешние культурные реалии наблюдаемы только сквозь те деформации, которые она накладывает на них (если это не заходит настолько далеко, что мы не в состоянии что-либо постичь из происходящего). Беря весьма широко, различие между "культурами, которые движутся", и "культурами, которые не движутся", можно объяснить той же разницей в позиции, отчего для нашего путешественника несущийся поезд предстает движущимся или неподвижным. Все это так, но с отличием; важность его выявится в тот день, отдаленное наступление которого уже можно предугадать, когда будет сделана попытка сформулировать теорию относительности, но в ином смысле "общую", чем у Эйнштейна, мы имеем в виду, применимую и к физическим, и к социальным наукам: в тех и других все, похоже, происходит симметричным образом, но инвертирование. Для наблюдателя в физическом мире (как показывает пример с путешественником) те системы, которые эволюционируют в том же направлении, что его собственная, представляются неподвижными, а наиболее быстрыми- эволюционирующие в других направлениях. И наоборот, для культур, поскольку они представляются нам тем более деятельными, чем в большей мере направление их перемещения совпадает с нашим, и стационарными при расхождении в ориентациях. Но в случае наук о человеке фактор скорости не более чем метафора. Для достоверной сопоставимости его следует заместить факторами информации и значения. Однако мы знаем, что можно аккумулировать гораздо больше информации о поезде, движущемся параллельно нашему и на близкой скорости (например, изучая пассажиров по головам, считая их и т. д.), чем о поезде, мчащемся мимо нас или мимо которого мы промчимся на большой скорости, или же о том, что покажется нам более коротким, оттого что следует совсем в ином направлении. В предельном случае он проследует настолько быстро, что у нас останется лишь смутное впечатление, где даже знаки скорости отсутствуют; оно сведется к мгновенному замутнению в визуальном поле: это уже не поезд, это ничего не означает. Итак, кажется, существует связь между физическим понятием видимого движения и другим понятием, затрагивающим равно физику, психологию и социологию, - понятием количества информации, способной быть воспринятой, "при переходе" от индивида к индивиду и от группы к группе, в зависимости от большей или меньшей степени различия культур, к которым они принадлежат. Всякий раз, как нам предстоит квалифицировать какую-либо человеческую культуру как инертную, или стационарную, нам, следовательно, необходимо задаться вопросом, не является ли эта видимая неподвижность результатом нашего неведения относительно ее подлинных интересов, сознательных или бессознательных, и, если критерии этой культуры отличны от наших, не является ли она жертвой все той же иллюзии с нашей стороны. Иначе говоря, мы показались друг другу лишенными интереса просто потому, что мы не похожи. Вот уже два-три столетия как западная цивилизация всячески разворачивается к тому, чтобы предоставить в распоряжение человека все более мощные механические средства. Если принять этот критерий, то из количества энергии, приходящейся на одного обитателя, мы сделаем выражение большей или меньшей степени развития человеческих обществ. Западная цивилизация, в ее североамериканской форме, займет тогда головное место, следом за ней будут идти европейские общества3, а в хвосте останется масса азиатских и африканских обществ, которые скоро станут неразличимыми. Однако эти сотни, даже тысячи обществ, обществ, называемых нами "недостаточно развитыми", "примитивными", растворяющихся в неразличимую совокупность при рассмотрении их под только что упомянутым углом зрения (который совершенно не пригоден для их квалификации, поскольку данная линия развития у них отсутствует или занимает довольно второстепенное место), в других отношениях сами выстраиваются как антиподы друг другу; в зависимости от выбранной точки отсчета получаем различные разбиения на группы. Если бы критерием служила степень способности возобладать над наиболее враждебной географической средой, то, вне всякого сомнения, пальму первенства получили бы, с одной стороны, эскимосы, а с другой - бедуины. Индия смогла лучше, чем какая-либо другая цивилизация, разработать философско-религиозную систему, а Китай - образ жизни, то и другое способные преуменьшить психологические последствия демографического неравновесия. Вот уже тринадцать столетий как ислам сформулировал теорию солидарности всех форм человеческой жизни - технической, экономической, социальной, духовной, а Западу пришлось открыть это для себя совсем недавно, под некоторым воздействием марксистской мысли и благодаря рождению современной этнологии. Известно, какое выдающееся место благодаря этому профетическому видению заняли арабы в интеллектуальной жизни средних веков. Запад, будучи господином машин, выказывает довольно элементарные познания в использовании ресурсов такой превосходной машины, как человеческое тело. Напротив, Восток и Дальний Восток в этой области, как и в области связи, взаимоотношений физического и морального, опередили западный мир на несколько тысячелетий; они создали такие обширные теоретико-практические системы, как индийская йога, китайские техники дыхания или висцеральная гимнастика древних маори. Земледелие без почвы, лишь недавно ставшее актуальным, в течение нескольких столетий практиковалось у ряда полинезийских народов, которым также удалось преподать миру искусство навигации, а в XVIII в. потрясти мир, открыв ему более свободный и более великодушный способ социальной и моральной жизни, о каком и не подозревали. Во всем том, что касается организации семьи и гармонизации отношений между семейной и социальной группами, австралийцы, отсталые в экономическом плане, настолько продвинуты относительно остальной части человечества, что для понимания системы правил, выработанных ими сознательно и промысленных, требуется прибегнуть к наиболее изысканным формам современной математики. Именно им принадлежит поистине открытие, что брачные связи образуют канву, а другие социальные институты - не что иное, как вышивка по ней; ведь даже в современных обществах, где есть тенденция к понижению роли семьи, интенсивность семейных связей не менее значительна: она лишь ограничивается более тесным кругом, за пределами которого сразу же берут верх другие связи, относящиеся к другим семьям. Сочленение семей посредством заключения браков между ними может повести к образованию больших шарниров, поддерживающих все социальное сооружение и придающих ему гибкость. Австралийцы создали замечательно ясную теорию этого механизма, придумали основные способы, позволяющие его реализовать, с достоинствами и недостатками, присущими каждому из них. Они также превзошли план эмпирического наблюдения, дойдя до математических закономерностей, управляющих этой системой. Так что не будет преувеличением приветствовать их не только как основателей общей социологии4, но и за введение измерений в социальное познание. Богатство и смелость эстетической выдумки меланезийцев, их талант интегрировать в социальную жизнь наиболее темные продукты бессознательной деятельности духа, представляют одну из самых высоких вершин, достигнутых людьми в этом направлении. Вклад Африки более сложен, но и более непрояснен, ведь лишь с недавнего времени заподозрили о важности ее роли как культурного melting pot5Старого Света - места, где все приходящие влияния смешивались, с тем чтобы вновь отправиться в путь или же сохраниться в качестве резерва, но обычно трансформированными по новым направлениям. Египетская цивилизация, важность которой для человечества известна, может быть постигнута лишь как совместное творение Азии и Африки. Великие политические системы древней Африки, ее юридические построения, философские доктрины, долгое время остававшиеся сокрытыми от западных людей, ее пластические искусства и музыка, последовательные в разработке всех возможностей, присущих тому или иному средству выражения, столь много указаний на чрезвычайно плодотворное прошлое. Последнее, вообще говоря, прямо подтверждается совершенством древних техник обработки бронзы и слоновой кости, далеко превзошедших все то, чем располагал в этих областях Запад на тот же период. (Мы уже вспоминали об американском вкладе, не будем к этому возвращаться.) И все же нам следует обратить внимание не только на такой дробный вклад, способный внушить идею, двояко ложную, мировой цивилизации, скроенной подобно одеянию Арлекина. Не слишком ли много придавали значения всем этим "правам собственности": финикийской культуры - на письмо, китайской - на бумагу, порох, буссоль, индийской - на стекло и сталь... Эти элементы менее важны в культуре, чем тот способ, каким она их группирует, удерживает или исключает. И то, что составляет самобытность той или иной культуры, покоится скорее на ее особенном способе разрешать проблемы, прокладывать перспективу для ценностей, являющихся примерно одинаковыми у всех людей, поскольку все люди без исключения обладают языком, техниками, искусством, познаниями научного характера, религиозными верованиями, а также социальной, экономической и политической организацией. Но их соотношение никогда в точности не совпадает у разных культур, и современная этнология все более стремится обнаружить сокровенные истоки такого выбора, а не составлять инвентарь из обособленных черт. 7. Место западной цивилизации Возможно, появятся возражения на такую аргументацию ввиду ее теоретического характера. Можно допустить, скажут, в плане абстрактной логики, что никакая культура не в состоянии вынести истинного суждения о другой культуре, поскольку культура не может избегнуть самой себя и, следовательно, в своих оценках остается узницей безоговорочного релятивизма. Однако поглядите вокруг; проявите внимание к тому, что происходит в мире вот уже столетие, и все ваши умозрительные построения рухнут. Далекие от состояния закрытость в себе самих, все цивилизации признают, одна за другой, превосходство одной из них - западной цивилизации. Разве мы не видим того, что весь мир постепенно заимствует ее техники, образ жизни, формы развлечения, а то и одежду? Подобно тому как Диоген доказывал существование движения собственной ходьбой, ход человеческих культур, от обширных масс Азии до племен, затерянных в бразильских или африканских джунглях, доказывает - посредством единодушного согласия, беспрецедентного в истории, - что одна из форм человеческой цивилизации превосходит все прочие. Страны "недостаточно развитые" упрекают других на международных ассамблеях не в том, что их озападнивают, но в том, что не столь быстро представляют им средства себя озападнить. Мы здесь затрагиваем наиболее чувствительную точку в нашей дискуссии; бессмысленно желание защитить самобытность человеческих культур вопреки им самим. Кроме того, этнологу чрезвычайно трудно вынести справедливую оценку такому феномену, как универсализация западной цивилизации, и это по нескольким причинам. Во-первых, существование мировой цивилизации по-видимому, уникальный факт в истории; прецеденты его, возможно, следует отыскивать в отдаленной палсоистории, но о ней нам почти ничего не известно. Далее, царит огромная неопределенность относительно консистентноеTM рассматриваемого феномена. Фактически вот уже полтора века как западная цивилизация имеет тенденцию - то в целом, то своими ключевыми элементами, такими, как индустриализация, распространяться по миру. В той мере, в какой другие культуры стремятся сохранить нечто из их традиционного наследия, эта попытка в общем сводится к суперструктурам6, то есть наиболее хрупким аспектам, и можно предположить, они будут сметены под действием происходящих глубоких преобразований. Но феномен находится в процессе развития, и результат нам еще не известен. Завершится ли этот процесс интегральным озападниванием планеты, на основе русского и американского вариантов? Появятся ли синкретические формы, возможность чего заметна в исламском мире, Индии и Китае? Или же поток уже достиг своих пределов и вот-вот начнется откат: западная цивилизация близка к изнеможению, подобно доисторическим монстрам, поддавшись физической экспансии, несовместимой с обеспечивающими существование этой цивилизации внутренними механизмами? Учтя все эти оговорки, попытаемся оценить процесс, разворачивающийся у нас на глазах, в котором, сознавая это иди нет, мы являемся деятелями, пособниками или жертвами. Начнем с замечания, что эта приверженность западному образу жизни (или определенным его аспектам) далеко не так уж спонтанна, как хотелось бы полагать западным людям. Она есть результат не столько свободного решения, сколько отсутствия выбора. Западная цивилизация разместила своих солдат, торговые представительства, плантации и миссионеров по всему миру. Прямо или косвенно, она вмешалась в жизнь цветных популяций; перевернула снизу доверху их традиционный способ бытия, навязывая им свой собственный или создавая обстоятельства, которые вызвали слом существовавших рамок, не заместив их чем-либо другим. Будучи покорены или дезорганизованы, народы могли лишь принять те эрзац-решения, что им предлагались, а если не были к этому расположены, то все же достаточно к ним приблизиться в надежде стать способными дать им бой на том же поле. В отсутствие неравенства сил общества не предавали себя с такой легкостью; их Weltanschauung7скорее сближается с мировоззрением тех бедных племен Восточной Бразилии, которые усыновили этнографа Курта Нимуендаю, и всякий раз, как он возвращался к туземцам после пребывания в центрах цивилизации, они рыдали, испытывая жалость к нему при мысли о страданиях, которые он, должно быть, претерпел вдали от единственного места - их деревни, - где, как они считали, жизнь стоила того, чтобы жить. Тем не менее, формулируя эту оговорку, мы лишь подменили вопрос. Если и не на добровольном согласии основывается приоритет Запада, то разве та более значительная энергия, которой он располагает, как раз не позволяет ему понуждать к согласию? Здесь мы достигли сердцевины вопроса. Ибо это неравенство сил уже не восходит к субъективности коллективов, такой, как факты приверженности, о чем только что упоминалось. Это объективное явление, и объяснить его можно, только обратившись к объективным причинам. Речь не идет о том, чтобы предпринять философское исследование цивилизаций; можно заполнить тома дискуссией о природе ценностей, исповедуемых западной цивилизацией. Выделим среди них наиболее манифестируемые, наименее оспариваемые. Они, похоже, сводятся -к двум: западная цивилизация, с одной стороны, согласно выражению Лесли Уайта, стремится к непрерывному возрастанию количества энергии, затрачиваемой в расчете на одного жителя; с другой стороны, к охране и продлению человеческой жизни. Если желать высказаться покороче, то второй аспект есть одна из форм первого, поскольку количество затрачиваемой энергии возрастает в абсолютном выражении с ростом продолжительности и пользы, получаемой от индивидуального существования. Чтобы устранить какую-либо дискуссию, сразу признаем также, что эти характеристики могут сопровождаться компенсаторными феноменами, служащими в каком-то смысле обузданию: так, истребление людей в огромных размерах, производимое мировыми войнами, и неравенство между индивидами и классами, царящее в сфере распределения наличной энергии. После сказанного сразу же отметим, что если фактически западная цивилизация всецело предается таким целям (в чем, возможно, и состоит ее слабость), то в этом она не одинока. Все человеческие общества, с самого давнего времени, действовали в том же направлении. И наиболее решительный прогресс в этой сфере совершили как раз те весьма отдаленные и весьма архаичные общества, которые мы сегодня охотно приравниваем к "диким" народам. В настоящее время продвижение в заданных ими направлениях по-прежнему составляет наиболее важную часть того, что мы называем цивилизацией. Мы все еще зависим от тех огромных открытий, которыми отмечена, без какого-либо преувеличения, неолитическая революция: земледелие, разведение скота, гончарство, ткачество... За последние восемь десять тысяч лет в эти "искусства цивилизации" мы лишь привносили усовершенствования. Действительно, некоторым умам присуща досадная тенденция отдавать преимущество - по затраченному усилию, интеллектуальности и воображению недавним открытиям, а те, что совершены человечеством в его "варварский" период, как бы становятся делом случая, и вообще никакое из них не обладает заметным достоинством. Такая аберрация кажется нам настолько тяжелой и при этом распространенной, настолько служащей препятствием в принятии точного взгляда на отношение между культурами, что мы полагаем необходимым полностью ее развеять. 8. Случайность и цивилизация В научных сочинениях по этнологии, и не в худших из них, читаем, что знанием огня человек обязан такой случайности, как молния или лесной пожар; то, что находка случайно при этом зажарившейся дичи открыла ему обработку пищевых продуктов; то, что изобретение гончарства проистекает оттого, что забыли глиняный катышек вблизи огня. Словно человек сначала проживал в некоем золотом веке технологии, когда изобретения набирались с такой же легкостью, как плоды и цветы. А на долю современного человека останутся усталость от тяжелого труда и озарения гения. Этот наивный взгляд проистекает из абсолютного неведения той сложности и разнообразия операций, которые содержатся в наиболее элементарных техниках. Для изготовления эффективного каменного орудия недостаточно ударять по камню, пока не произойдет отделение скола, - это постигается в тот самый день, когда мы делаем попытку воссоздать основные типы доисторических орудий. Тогда - и наблюдая ту же технику у туземцев, которые ею располагают, - открываем сложность необходимых процедур, доходящих порой до предварительного изготовления подлинных "оббивочных аппаратов": отбойников с противовесом - для регулировки удара и направления воздействия; амортизирующих устройств, чтобы от вибрации не произошло повреждения скола. Потребуется также обширная сумма представлений о местном источнике, процедурах добычи, сопротивлении и структуре используемых материалов, применяемой мускульной тренировке, навыках ру-кодействия и т. д.; словом, подлинная "литургия", соответствующая, mutatis mutandis8, различным главам металлургии. И точно так же природные пожары могут порой произвести обжиг или зажаривание; но довольно трудно представить себе (помимо случаев вулканических явлений, но их география ограничена), чтобы они произвели варку в воде или на пару. Однако эти способы готовки не менее универсальны, чем прочие. Итак, раз уж пожелали объяснять прежде упомянутые способы, то нет оснований исключать акт изобретения, который, конечно, требовался для последних. Гончарство представляет собой превосходный пример, поскольку, согласно весьма распространенному представлению, нет ничего проще, чем отрыть ком глины и дать ему затвердеть на огне. Попытаемся это проделать. Сперва потребуется найти глину, подходящую для обжига. Для такого действия большое число природных условий необходимы, но ни одно из них не является достаточным, ведь никакая глина, не будучи смешана с инертном веществом, подобранным в зависимости от его особенных характеристик, не даст после обжига пригодный к употреблению сосуд. Требуется разработать техники формовки, позволяющие ловко сохранять уравновешенность в течение значительного времени, при этом видоизменяя пластику сосуда, который "не держится". Наконец, требуется обнаружить особое топливо, форму печи, тип жара и продолжительность обжига, которые позволят сделать сосуд прочным и водонепроницаемым, неподвластным всяческим неприятностям - трещинам, крошению и деформациям. Можно множить примеры. Слишком многочисленны и слишком сложны все эти операции, чтобы их мог учесть случай. Любая из них, взятая отдельно, ничего не значит, а только их сочетание возникшее в воображении, ставшее желанием, стремлением и прошедшее эксперимент - приводит к успеху. Случайность, несомненно, существует, но сама по себе не приводит ни к какому результату. Около двух тысяч пятисот лет назад западный мир узнал о существовании электричества конечно, случайное открытие, но этой случайности предстояло оставаться бесплодной вплоть до направленных усилий, руководствовавшихся гипотезами Ампера и Фарадея. Случайность сыграла не более значительную роль в изобретении лука, бумеранга и сарбакана, в рождении земледелия и скотоводства, чем в открытии пенициллина (ведь известно, что он не отсутствовал). Таким образом, надо внимательно проводить различение между трансмиссией техники от поколения к поколению, что происходит всегда сравнительно непринужденно благодаря повседневному наблюдению и тренировке, и, с другой стороны, созданием техник или их улучшением в пределах каждого поколения. Последнее обычно предполагает и силу воображения, и столь же упорные усилия со стороны определенных индивидов, какова бы ни была конкретная техника, на которую нацелены. Общества, называемые нами примитивными, не менее богаты Пастерами и Палис-си5,чем прочие. Очень скоро мы обнаружим и случайность, и вероятность, но с другими местом и ролью. Мы воспользуемся ими не для ленивого объяснения того, как рождаются изобретения любых вещей, но чтобы дать интерпретацию феномену, располагающемуся на другом уровне реальности: для познания того, что, несмотря на толику воображения, выдумки, творческого усилия (мы предположили, что так везде происходит, почти постоянно, на протяжении истории человечества), их сочетание предопределяет важные культурные мутации лишь в определенные периоды и в определенной среде. Ибо для достижения этого результата недостаточно чисто психологических факторов: сперва они должны быть в наличии, со сходной ориентацией у достаточного числа индивидов, так чтобы сразу же творец был обеспечен публикой, а само это условие зависит от соединения значительного числа других факторов - исторического, экономического и социологического характера. Получается, таким образом, что для объяснения различий в самом ходе цивилизаций требуется привлечь столько причин, сложных и прерывистых, что их целокупность окажется непознаваемой, то ли по практическим, то ли теоретическим основаниям, таким, как неизбежное появление помех, связанных со способами наблюдения. Действительно, чтобы распутать клубок, образованный столь многочисленными и тончайшими нитями, потребуется никак не менее, чем подвергнуть конкретное общество (а также и окружающий его мир) глобальному и длительному этнографическому обследованию. Не говоря даже об огромности такой затеи, мы знаем, что этнографы, работающие все же в несравненно меньшем масштабе, часто ограничены в своих наблюдениях теми неуловимыми изменениями, что привнесены ввиду лишь одного их присутствия в изучаемой ими человеческой группе. Для современных обществ также известно, что polls9общественного мнения - одно из наиболее результативных средств зондажа - видоизменяют ориентацию во мнении самим фактом их применения, задействующим у населения фактор рефлексии, до того отсутствовавший. Такая ситуация оправдывает введение в социальные науки понятия вероятности, уже долгое время присутствующего в определенных областях физики, например в термодинамике. Мы к этому вернемся; сейчас достаточно вспомнить, что сложность современных открытий не является результатом большей частоты или большего резерва гениальности у наших современников. Как раз наоборот, поскольку мы признали, что на протяжении веков каждому поколению для участия в прогрессе потребуется лишь прибавить постоянных сбережений к общему капиталу, переданному предшествующими поколениями. Девятью десятыми наших богатств мы обязаны им; и даже больше, если, как это уже делалось ради забавы, оценивать эту долю по дате появления основных открытий, отсчитывая от приблизительного начала цивилизации. Тогда устанавливаем, что земледелию, появляющемуся в недавнюю фазу, соответствует 2% продолжительности всего периода, металлургии - 0,7%, алфавиту 0,35%, физике Галилея - 0,035% и дарвинизму - 0,009%10. Научная и индустриальная революция Запада целиком вписывается в период, равный примерно половине одной тысячной всей жизни человечества. Итак, можно бы поостеречься перед тем, как утверждать, что ее предназначение - полностью изменить смысл человеческой жизни. Тем не менее верно - и вот то определенное выражение, которое, полагаем, мы можем придать нашей проблеме, - что в отношении технических изобретений (и научной мысли, делающей их возможными) западная цивилизация проявила себя как более кумулятивная сравнительно с прочими; что, получив в свое распоряжение тот же первоначальный неолитический капитал, она смогла внести улучшения (алфавитное письмо, арифметика и геометрия), кое-какие из них, впрочем, вскоре оставила забытыми. Но после периода стагнации, длившегося две-две с половиной тысячи лет (с первого тысячелетия до н. э. до приблизительно XVIII в.), она вдруг проявила себя в качестве очага индустриальной революции, которой некогда представляла эквивалент по размаху, универсальности и значительности последствий - одна лишь неолитическая революция. Следовательно, дважды в своей истории, примерно с интервалом в две тысячи лет, человечество смогло аккумулировать множество изобретений, ориентированных в одном и том же направлении. С одной стороны, их число, а с другой - их непрерывность были сосредоточены в достаточно коротком промежутке времени для осуществления высоких технических синтезов. Эти синтезы вызвали значительные изменения в отношениях человека с природой, что, в свою очередь, сделало возможным другие изменения. Образ цепной реакции, запускаемой катализаторами, позволяет проиллюстрировать этот процесс, который, вплоть до настоящего времени, повторялся дважды, и только дважды, в истории человечества. Как же это произошло? Во-первых, не надо забывать, что другие революции, с такими же кумулятивными характеристиками, смогли развернуться в различных местах и в другое время, но - в разных областях человеческой деятельности. Мы объяснили выше, почему наша собственная индустриальная революция и революция неолита (предшествовавшая во времени, но обусловленная теми же интересами) единственные, которые нами могут быть восприняты в качестве таковых, поскольку наша референциальная система предоставляет для них меру. Все другие изменения, несомненно происходившие, обнаруживаются лишь во фрагментарном виде или глубоко деформированными. Они не могут составить смысла для современного западного человека (в любом случае, не все, что в них самих окрашено смыслом); для него они могут даже оставаться как бы не существовавшими. Во-вторых, пример с неолитической революцией (единственной революцией, которую современный западный человек в состоянии представить себе достаточно ясно) должен внушать ему некоторую скромность по части возможной попытки настаивать на превосходстве одной расы, одного региона или страны. Индустриальная революция зародилась в Западной Европе; затем она возникла в США, позднее в Японии; после 1917 г. она взяла ускорение в Советском Союзе, а завтра, несомненно, внезапно проявится еще где-либо; от одного к другому полувеку более или менее ярким светом она сверкает в том или другом своем центре. Чем же становятся - на шкале тысячелетий - вопросы приоритета, которым мы так кичимся? На одну-две тысячи лет ранее неолитическая революция одновременно разворачивалась в Эгейском бассейне, Египте, на Ближнем Востоке, в Индийской долине и Китае; а после того как стали использовать радиоактивный углерод для определения археологических периодов, мы подозреваем, что американский неолит более древний, чем это некогда полагали, и, должно быть, он дебютировал не намного позднее, чем в Старом Свете. Вероятно, три или четыре небольшие долины могли бы в этом состязании заявить о приоритете в несколько столетий. Что нам известно сегодня? Мы уверены, напротив, что вопрос приоритета не важен, именно потому, что одновременность наступления одних и тех же технологических потрясений (сопровождаемых социальными потрясениями) на столь обширной территории и в отдаленных друг от друга регионах делает очевидным, что это зависит не от гениальности одной расы или культуры, но от условий, настолько общих, что они располагаются вне сознания людей. Итак, не усомнимся в том, что если индустриальная революция не возникла бы сначала в Западной и Северной Европе, то однажды она проявила бы себя на другом участке глобуса. И если, что правдоподобно, она должна простереться по всей заселенной территории, то каждая культура привнесет столько самобытного вклада, что историк будущих тысячелетий законно сочтет пустым вопрос о том, кто может, в пределах одного-двух столетий, претендовать на приоритет. После сказанного нам необходимо ввести новое ограничение, касающееся если не самой пригодности, то, по меньшей мере, строгости в различении между стационарной и кумулятивной историей. Дело не только в том, что это различение соответствует нашим интересам, как уже показано, но пока что ему не удавалось стать отчетливым. В случае технических изобретений вполне определенно, что никакой период, никакая культура не стационарны. Все народы располагают достаточно сложными техниками (а также преобразуют их, улучшают или предают забвению), что позволяет им доминировать над их природным окружением. Без этого они бы уже давно исчезли. Итак, суть отличия никогда не состоит в различении между кумулятивной и некумулятивной историей; всякая история является кумулятивной, разница в степени. Известно, например, что древние китайцы и эскимосы весьма далеко продвинули искусства механики; и потребовалось бы совсем немного, чтобы дойти до точки развязывания "цепной реакции", детерминирующей переход от одного типа цивилизации к другому. Известен пример с порохом: китайцы разрешили, говоря языком техники, все проблемы, которые он ставит, кроме проблемы, как его использование сделать высокорезультативным. Древние мексиканцы не знали колеса, о чем часто говорится; но оно было достаточно известно им, чтобы изготовлять для детей игрушки в виде животных на колесиках; им не хватило еще одного дополнительного хода, чтобы располагать повозкой. При таких обстоятельствах проблема относительной редкости (для каждой референциальной системы) "более кумулятивных" сравнительно с "менее кумулятивными" культурами сводится к известной проблеме расчета вероятностей. Такая же проблема - в определении относительной вероятности сложного сочетания сравнительно с другими сочетаниями того же типа, но меньшей сложности. Например, на рулетке ряд из последовательных номеров (7 и 8,12 и 13,30 и 31) встречается достаточно часто; ряд из трех таких номеров уже редко, а из четырех - гораздо реже. И только однажды при весьма значительном количестве пусков рулетки, быть может, осуществится ряд из шести, семи или восьми номеров, подобный порядку натуральных чисел. Если наше внимание зафиксировано исключительно на длинных рядах (например, если мы держим пари на ряды из пяти последовательных номеров), то более короткие ряды станут для нас эквивалентом неупорядоченных рядов. Это означает забвение того, что они отличаются от наших лишь значимой фракцией и что, будучи рассмотрены под другим углом зрения, они, возможно, представляют такую же строгую регулярность. Продолжим далее наше сравнение. Игрок, который станет перемещать весь свой выигрыш на все более длинные ряды, возможно, испытает отчаяние после тысячи или миллиона ударов оттого, что никак не появится ряд из девяти последовательных номеров, и будет думать, что было бы лучше остановиться пораньше. Однако это не означает, что какой-то другой игрок, следующий той же формуле пари, но избравший ряды другого типа (например, определенный ритм чередования красного и черного или четного и нечетного), не увидит значимые сочетания там, где первый игрок усмотрит лишь беспорядок. Человечество эволюционирует не по единому направлению. И если в каком-то определенном плане оно покажется стационарным или даже регрессивным, это не значит, что, будучи рассмотрено с другой точки зрения, оно не содержит в себе важных преобразований. Великий английский философ XVIII в. Юм однажды попытался развеять ложную проблему, возникающую у многих людей, задающихся вопросом, почему не все женщины привлекательны, а лишь малая часть. Без особого труда он показал, что этот вопрос не имеет смысла. Если бы все женщины были в той же мере привлекательны, как самая красивая из них, то мы нашли бы их банальными и сохранили бы наш эпитет для той небольшой части, которая превосходила бы общую модель. И точно так же когда мы заинтересованы в каком-то определенном типе прогресса, то заслугу обладания им предоставляем тем культурам, которые в высшей степени его реализуют, и остаемся индифферентными ко всем остальным. Таким образом, прогресс - всегда не что иное, как максимум поступательного продвижения в направлении, предопределенном чьим-либо вкусом. 9. Сотрудничество культур Требуется, наконец, рассмотреть последний аспект нашей проблемы. Игрок, подобный тому, о котором шла речь в предыдущем параграфе, держащий пари только на самые длинные ряды (каким бы способом ни замышлялись эти ряды), будет иметь все шансы разориться. Иначе будет в случае коалиции держателей пари, ставящих на такие же ряды, в их абсолютной значимости, но на нескольких рулетках и договорившихся о таком преимуществе, как передача в общее достояние результатов, благоприятных для комбинаций каждого из них. Ведь если извлекши только 21 и 22, я нуждаюсь и в числе 23 для продолжения моего ряда, то, очевидно, больше шансов, что оно выйдет на десяти столах, чем на одном. Эта ситуация весьма сходна с ситуацией культур, достигших наиболее кумулятивных форм истории. Такие крайние формы никогда не были делом изолированных культур, но тех культур, которые сочетали, вольно или невольно, свои взаимные ходы, реализуя разнообразными средствами (миграции, заимствования, торговые обмены, войны) коалиции, модель которых мы только что изобразили. И вот мы уже прямо доходим до абсурдности декларирования того, что одна культура обладает превосходством над другой. Ибо в той мере, в какой она была бы сама по себе, культура никогда не смогла бы быть "превосходящей". Подобно игроку, действующему отъединенно, она преуспела бы лишь в малых рядах из нескольких элементов, а вероятность, что длинная серия "даст выход" в ее историю (что теоретически не исключено), настолько слаба, что потребовался бы бесконечно больший отрезок времени, чем тот, в который вписывается все развитие человечества, чтобы надеяться увидеть ее реализованной. Но, как уже упомянуто нами выше, никакая культура не одинока; она всегда находится в коалиции с другими культурами, что и позволяет ей выстраивать кумулятивные ряды. Вероятность того, что среди них появится длинный ряд, зависит, естественно, от его протяженности, а также длительности и вариабельности режима коалиции. Из этих заметок проистекают два следствия. По ходу данного исследования мы неоднократно задавались вопросом, как же произошло, что человечество могло оставаться стационарным на протяжении девяти десятых своей истории и даже больше: первые цивилизации старше двухсот - пятисот тысяч лет, а условия жизни трансформируются лишь в течение последних десяти тысяч лет. Если наш анализ верен, то дело не в том, что палеолитический человек был менее разумен и менее одарен, чем его неолитический преемник, а просто в том, что в человеческой истории на совершение комбинации, скажем, п-ной ступени затрачивалось время длительностью она могла бы произойти гораздо раньше или гораздо позже. Этот факт не более наделен значением, чем число ударов рулетки, которого должен дождаться игрок, чтобы увидеть совершившейся свою комбинацию: она может появиться сразу, после тысячи, миллиона ударов и никогда. Но в течение всего этого времени человечество, подобно игроку, не переставало размышлять. Не всегда желая того и не всегда ясно отдавая себе в том отчет, человечество налаживало дела между культурами, бросалось в "цивилизационные операции", увенчивавшиеся переменным успехом. То близость к удаче, то компрометация приобретений своих предшественников. Огромное упрощение, как бы дозволенное нашим неведением относительно многих аспектов доисторических обществ, дает возможность проиллюстрировать это ветвящееся неопределенное продвижение, ведь ничто не поражает настолько, как эти попятные ходы - от зенита леваллуа до посредственности мустье, от великолепия ориньяка и солютре до суровости мадлен, а позднее к крайним контрастам, характерным для различных аспектов мезолита. Что справедливо в отношении времени, то не менее справедливо и в отношении пространства; но следует выразить это иначе. Успех какой-либо культуры, стремящейся объять всю сложную целокупность изобретений во всех порядках, называемую нами цивилизацией, является функцией от числа и разнообразия культур, с которыми она участвует в выработке - чаще всего, непроизвольно - общей стратегии. Мы говорим: число и разнообразие. Сопоставление Старого и Нового Света накануне того, как произошло открытие, хорошо иллюстрирует эту двоякую необходимость. Европа в период раннего Возрождения была местом встречи и сплав-ления самых разных влияний: греческой, романской, германской и англосаксонской традиций, арабского и китайского влияний. Доколумбова Америка располагала не меньшими, в количественном отношении, культурными контактами, поскольку две Америки в целом образовывали одну огромную территорию полушария. Но если культуры, оплодотворявшие друг друга на европейской почве, были продуктом прежней дифференциации, происходившей несколько десятков тысячелетий ранее, культуры Америки, заселенной сравнительно недавно, располагали меньшим временем для дивергенции; они представляют более гомогенную картину. Так, хотя нельзя сказать, что на момент открытия Америки культурный уровень Мексики или Перу был ниже, чем в Европе (мы даже видели, что он в определенных отношениях превосходил), те или иные аспекты культуры, возможно, были там не так хорошо вычленены. Наряду с поразительными достижениями доколумбовы цивилизации полны лакун, у них, так сказать, имеются "прорехи". Они также являют зрелище, менее противоречивое, чем это может показаться, сосуществования скороспелых и невыношенных форм. Их организация, недостаточно гибкая, слабо варьирующая, по-видимому, объясняет их крушение от горстки завоевателей. А глубокую причину этого можно отыскать в том факте, что культурная американская "коалиция" была установлена между взаимно менее дифференцированными партнерами, чем это было в Старом Свете. Итак, нет обществ, кумулятивных внутри себя и благодаря себе. Кумулятивная история не является собственностью определенных рас или культур, выделяющих себя таким образом среди прочих. Она есть результат скорее их поведения, а не их природы. Она выражает определенную форму существования культур - не что иное, как их способ совместного бытия. В этом смысле можно сказать, что кумулятивная история - это историческая форма, характерная для социальных суперорганизмов, образованных группами обществ, тогда как стационарная история - если таковая действительно существует будет маркировать тот уступающий первому образ жизни, что присущ уединенным обществам. Исключительная неизбежность и единственный изъян, способные поразить человеческую группу и помешать ей полностью реализовать свою природу, - это быть одной. Итак, нам понятно, что именно сознанию представляется часто неуклюжим и малоудовлетворительным в попытках, которыми обычно довольствуются, узаконить вклад человеческих рас и культур в цивилизацию. Составляют перечень характеристик, тщательно расследуют вопросы происхождения и присуждают приоритеты. И, будучи даже хорошо задуманными, эти пустые попытки обречены на провал в трех отношениях. Во-первых, никогда нет надежности в приписывании заслуги изобретения той или иной культуре. В течение столетия твердо полагали, что маис был создан американскими индейцами путем скрещивания диких сортов, и мы продолжаем пока это признавать, но с возрастающим сомнением, так как, возможно, маис пришел в Америку (неизвестно как и когда) из Юго-Восточной Азии. Во-вторых, всегда можно подразделить культурные вклады на две группы. С одной стороны, перед нами отдельные приобретения, важность которых легко оценить, и обычно они имеют также ограниченный характер. Приход табака из Америки является фактом; но при всем том и несмотря на добрые намерения, выказываемые в эту сторону международными институтами, мы не можем всякий раз испытывать великую благодарность к американским индейцам, когда выкуриваем сигарету. Табак изысканное дополнение к искусству жить, подобно другим, являющимся полезными (например, каучук); мы обязаны им удовольствием и дополнительным удобством, но если бы их не было, корни нашей цивилизации не были бы поколеблены. В случае настоятельной потребности мы смогли бы их открыть или чем-либо заменить. На противоположном полюсе (и, конечно, с целым рядом промежуточных форм) располагаются вклады, имеющие системный характер, а значит, соответствующие тому особому способу, которым всякое общество предпочитает выражать и удовлетворять пелокупность человеческих устремлений. Самобытность, ничем не заменимый характер этих стилей жизни, или, как говорят англосаксы, patterns11, невозможно отрицать; но поскольку они в такой степени представляют собой выбор, исключающий все прочее, то трудно понять, каким образом одна цивилизация могла бы надеяться воспользоваться стилем жизни другой, разве что отвергнув самоё себя. Действительно, попытки компромисса, как можно заметить, приводят к одному из двух результатов: либо дезорганизация и растворение pattern'а одной из групп; либо своеобразный синтез, но заключающийся в возникновении третьего pattern'a, нередуцируемого к двум другим. Проблема, впрочем, состоит даже не в том, чтобы узнать, может ли какое-либо общество извлечь пользу из стиля жизни своих соседей, а может ли оно и в какой мере понять и даже познать их. Мы видели, что на этот вопрос нет какого-либо категорического ответа. Наконец, нет вкладов, не имеющих пользователей. Но если существуют конкретные культуры, которые можно расположить во времени и пространстве и о которых говорится, что они "внесли вклад" и продолжают это делать, что же собой представляет "мировая цивилизация" - предполагаемый бенефициарий всех этих вкладов? Она не является какой-то цивилизацией, отличной от всех прочих, обладая тем же коэффициентом реальности. Когда мы говорим о мировой цивилизации, мы не обозначаем какую-либо одну эпоху или человеческую группу: мы используем абстрактное понятие, придавая ему то моральную, то логическую значимость. Моральную - если речь идет о цели, предлагаемой нами существующим обществам; логическую - если имеем в виду сгруппировать под одним словом те общие элементы, что посредством анализа удается извлечь у разных культур. В обоих случаях, не следует скрывать, понятие мировой цивилизации весьма бедно, схематично, и его интеллектуальное и эмоциональное содержание не обладает большой плотностью. Желание оценивать весомость культурных вкладов тысячелетней истории со всем грузом мыслей, страданий, желаний и труда людей, осуществивших их, но при этом соотнеся эти вклады исключительно с эталоном мировой цивилизации, которая является все еще формой с пустым содержанием, означает странным образом обеднить их, лишить собственной сущности, сохранив лишь костяк, освобожденный от плоти. Мы стремились, напротив, показать, что подлинный вклад культур состоит не в списке частных изобретений, а в тех дифференциальных разрывах, которые имеются между ними. Чувства признательности и смирения, которые могут и должны испытываться каждым членом данной культуры по отношению ко всем остальным, основываются на единственном убеждении, а именно, что все прочие культуры отличны от нашей самым различным образом; и так происходит даже тогда, когда конечная природа этих отличий ускользает от человека или, невзирая на все его попытки, удается уловить ее лишь весьма несовершенно. С другой стороны, мы рассмотрели представление о мировой цивилизации как некоем предельном понятии или как сокращенный способобозначения сложного процесса. Ибо если наша интерпретация приемлема, нет и не может быть мировой цивилизации в том абсолютном смысле, который часто придается этому термину, поскольку цивилизация подразумевает сосуществование культур, представляющих максимум разнообразия, и она как раз состоит в этом сосуществовании. Мировая цивилизация может быть только коалицией, в мировом масштабе, культур, каждая из которых сохраняет свою самобытность. 10. Двоякое значение прогресса Не оказываемся ли мы перед странным парадоксом? Беря термины в том значении, какое мы им придали, видим, что всякий культурный прогресс есть функция коалиции культур. Эта коалиция состоит в том, чтобы сделать общим достоянием (осознанно или бессознательно, произвольно или непроизвольно, намеренно или случайно, стремясь к этому или по принуждению) те шансы, что встречаются каждой культуре в ее историческом развитии. Наконец, мы признали, что эта коалиция тем более плодотворна, чем разнообразнее культуры, между которыми она устанавливается. И вот теперь похоже, что мы оказались перед лицом взаимно противоречивых условий. Ибо эта игра сообща, отчего проистекает любой прогресс, должна иметь последствием, раньше или позже, гомогенизацию ресурсов каждого из игроков. И если разнообразие является начальным условием, то следует признать, что шансы на выигрыш становятся тем более слабыми, чем дольше продолжается партия. Против этого неизбежного последствия существуют, кажется, два средства. Одно из них состоит для каждого игрока в том, чтобы в своей игре провоцировать появление дифференциальных разрывов. Такая вещь возможна, поскольку каждое общество ("игрок" в нашей теоретической модели) складывается из коалиции групп: конфессиональных, профессиональных и экономических, - и ставка общества образуется из вкладов всех этих составляющих. Социальное неравенство - вот наиболее поразительный пример такого решения. Великие революции, выбранные нами в качестве иллюстрации неолитическая и индустриальная, - сопровождались не только диверсификацией социального тела (как это хорошо увидел Спенсер), но также учреждением дифференциальных статутов групп, особенно с экономической точки зрения. Уже давно замечено, что неолитические открытия быстро повлекли за собой социальную дифференциацию с возникновением на Древнем Востоке крупных городских концентраций, появлением государств, каст и классов. Такое же наблюдается и применительно к индустриальной революции, что обусловлено появлением пролетариата и приводит к новым, более продвинутым формам эксплуатации человеческого труда. Вплоть до настоящего времени существовала тенденция трактовать эти социальные преобразования как последствия технических преобразований и устанавливать между тем и другим отношение причины и следствия. Если наша интерпретация точна, отношение причинности (что подразумевает последование во времени) следует отставить, и такая тенденция в целом присутствует в современной науке - в пользу функциональной корреляции между этими двумя феноменами. Попутно отметим, что признание того факта, что технический прогресс обрел, в качестве исторического коррелята, развитие эксплуатации человека человеком, побудит нас, возможно, к определенной сдержанности в выказывании гордости, внушаемой первым из этих феноменов, чему мы столь охотно поддаемся. Второе средство обусловлено во многом первым: введение, волей-неволей, в коалицию новых партнеров, на этот раз внешних, "вложения" которых весьма отличаются от тех, что характеризуют первоначальную ассоциацию. И это решение равно опробовано; если термин "капитализм" дает возможность в целом идентифицировать первое, то термины "империализм" и "колониализм" помогут проиллюстрировать второе решение. Колониальная экспансия XIX в. в значительной степени позволила индустриальной Европе, конечно не только к своей выгоде, взять новый разбег, поскольку без введения в круг взаимодействия колонизованных народов опасность исчерпания могла возникнуть гораздо скорее. Видно, что в обоих случаях средство состоит в расширении коалиции либо через внутреннюю диверсификацию, либо через принятие новых партнеров; в конечном счете речь идет всегда о возрастании числа игроков, что означает возвращение к сложности и разнообразию начальной ситуации. Но также видно, что эти решения могут лишь временно замедлить процесс. Эксплуатация может существовать только в рамках коалиции: между двумя группами, господствующей и подчиненной, имеются контакты и производятся обмены. В свою очередь, несмотря на объединяющую их связь, на первый взгляд одностороннюю, им приходится, осознавая это или нет, делать общим достоянием их вклады, и поступательно, в тенденции, уменьшаются между ними контрастные отличия. С одной стороны, благодаря социальным улучшениям, а с другой - постепенному достижению колониальными народами независимости, мы присутствуем при разворачивании этого феномена. И хотя все еще остается много непройденного по этим двум направлениям, мы знаем, что ход вещей будет неизбежно таковым. Возможно, конечно, что появление в мире антагонистических режимов, политических и социальных, следует интерпретировать как третье решение; можно себе вообразить, что диверсификация, возобновляясь всякий раз на другом плане, позволит сохранить на неопределенное время - через изменчивые формы, не перестающие удивлять людей, - это неравновесное состояние, от которого зависит биологическое и культурное выживание человечества. Как бы там ни было, трудно представить себе непротиворечивым процесс, резюмируемый следующим образом: для прогресса требуется, чтобы люди сотрудничали; по ходу этого сотрудничества они видят, как постепенно происходит стирание качественного различия их вкладов, хотя именно первоначальное разнообразие в этом отношении делало сотрудничество плодотворным и необходимым. Но даже если это противоречие неразрешимо, священный долг человечества сохранить оба термина равно присутствующими в сознании, никогда не потерять из виду один в пользу лишь другого. И необходимо, конечно же, уберечься от слепого партикуляризма, предоставляющего, в тенденции, привилегию человеческого какойлибо одной расе, культуре или обществу; но также и никогда не надо забывать, что никакая частица человечества не располагает формулами, применимыми ко всему в целом, и что человечество, сплавленное одним-единственным образом жизни, немыслимо, ведь это будет окостеневшее человечество. В этом отношении перед международными институтами стоит огромная задача, им нести тяжелое бремя ответственности. Это сложнее, чем можно себе представить. Ибо у международных институтов двоякая миссия; она состоит, в одной части, в ликвидации, а в другой - в пробуждении. Сперва они должны помочь человечеству, сделав, насколько это возможно, безболезненным и безопасным устранение отмерших различий - не имеющих ценности остатков прежних форм сотрудничества, присутствие которых в состоянии гниения постоянно создает риск ин-фицирования международной корпорации. Они должны устранить лишнее, ампутировав в случае необходимости, и облегчить рождение других форм адаптации. Но в то же время международные институты должны проявлять страстную бдительность: ведь чтобы этим новым формам обладать такой же функциональной ценностью, какая была у предшествующих, они не могут воспроизводить их или замышляться по той же модели, не будучи сведены ко все более нелепым и в конечном счете немощным решениям. Наоборот, необходимо знать, что человечество богато непредвиденными возможностями, каждая из которых, возникнув, изумит людей; что прогресс не делается по удобному образу "улучшенного подобия" (когда ищем для себя ленивого отдыха), но всегда полон приключений, разрывов и возмущений. Человечество постоянно борется с двумя противоположно направленными процессами, один из которых имеет тенденцию к учреждению унификации, тогда как другой нацелен на удержание и восстановление диверсификации. Позиция каждой эпохи, каждой культуры, вовлеченной в эту систему, и формирующаяся у нее ориентация таковы, что лишь один из двух упомянутых процессов представляется ей имеющим смысл, а второй кажется его отрицанием. Но утверждение - к которому, возможно, у кого-то есть склонность, - что человечество разрушается в то самое время, как происходит его созидание, происходило бы все же от неполноты картины. Ибо в двух планах, на двух уровнях мы имеем дело с двумя различными способами самосозидания. Необходимость сохранить разнообразие культур в мире, которому угрожают монотонность и униформность, конечно, не оставлена вниманием международных институтов. Они также понимают, что для достижения этой цели будет недостаточным лелеять локальные традиции и предоставить отсрочку минувшему. Надо спасти факт разнообразия, а не историческое содержание, придаваемое ему каждой эпохой (ведь никакая из них не может увековечить его вне своих пределов). Надо прислушаться к тому, как поднимаются хлеба, поощрить сокровенные потенциалы, пробудить всяческую склонность, хранимую историей в резерве, к тому, чтобы жить сообща. Необходима также готовность встретить без удивления, отвращения и возмущения то, что все эти новые социальные формы выражения не обойдутся без того, что окажется неупотребимым. Толерантность не является созерцательной позицией, раздачей индульгенций тому, что было, и тому, что есть. Это динамическая установка, она состоит в предвидении, понимании и продвижении того, что желает быть. Разнообразие человеческих культур - позади, вокруг и впереди нас. Единственное, чего мы могли бы пожелать в адрес этого разнообразия (созидающего для каждого индивида соответствующие обязанности), - чтобы оно реализовывалось в таких формах, каждая из которых была бы вкладом, способствующим наибольшей щедрости других. ПРИМЕЧАНИЯ 1Для выражения последнего значения ("начало, основа") автор использует метафору - souche, с буквальным значением "пень, чурбан"; тем самым читатель подготавливается к усмотрению подлинного значения расовых начал - не как корней, ствола культуры, а как ее строительного материала. - Примеч. пер. 2Букв.: "жезлы военачальников" (фр.). - Примеч. пер. 3В издании 1973 г. (в сборнике работ разных лет "Структурная антропология-два") здесь имеется отличие: "...Следом за ней пойдут европейские общества, советское и японское...". - Примеч. пер. 4В издании 1973 г.: "...социологии семьи". - Примеч. пер. 5плавильный котел (англ.). - Примеч. пер. 6Этим термином автор обозначает мировоззренческие системы. Примеч. пер. 7Мировоззрение (нем.). - Примеч. Пер. 8с известными оговорками (лат.). - Примеч. пер. 9опрос избирателей (предваряющий голосование) (англ.). - Примеч. пер. 10White. Lesli A. The Science of Culture. N. Y., 1949. P. 196. 11образцы, модели (англ.). - Примеч. пер. See more books in http://www.e-reading.club