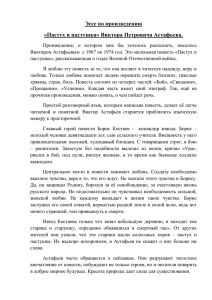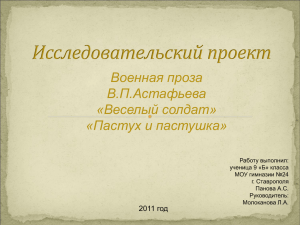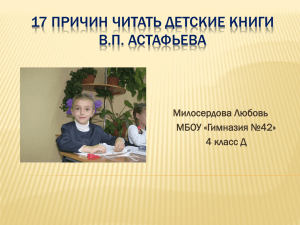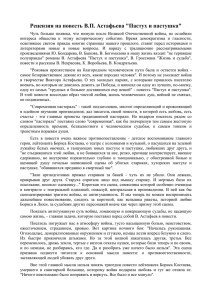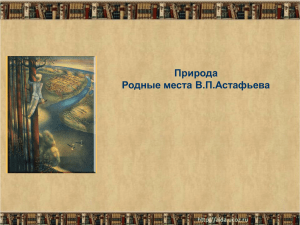2 Оглавление Введение ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. Глава 1. Творчество В.П. Астафьева в контексте «военной прозы» второй половины ХХ века................................................................................................ 7 1.1. Советская «военная проза» и литературная традиция ............................ 7 1.2. Художественное своеобразие «военной прозы» В.П. Астафьева ......... 19 Глава 2. Поэтика и жанровая специфика повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» ........................................................................................................... 28 2.1. Повесть «Пастух и пастушка» как современная пастораль .................. 28 2.2. Символика и «грубый реализм» в повести «Пастух и пастушка» ........ 36 2.3. Развитие религиозных мотивов в раскрытии темы войны в повести «Пастух и пастушка» ..................................................................................... 45 Заключение ......................................................................................................... 67 Список использованной литературы................................................................. 70 3 Введение Отечественная война – незаживающая рана в памяти народа. Нет, наверное, семьи, где она не оставила бы свой страшный след. Поэтому осмысление событий, связанных с ее трагическими страницами, продолжается до сих пор, в том числе и в литературе. Писатель, берущийся за тему войны, получает возможность показать, как в экстремальных обстоятельствах, какие непрерывно являет война, обостряются чувства, до конца раскрываются характеры, обнажаются самые потаенные мотивы поведения, скрытые подчас даже от самого человека. Трудно представить себе более «выгодный» для художника материал. Считается, что литература в не меньшей (а подчас и в большей) степени, чем наука, формирует представление об истории. На наш взгляд, именно проза писателей фронтового поколения в целом дает представление об истинной войне, без идеализации и романтизации, без сгущения красок и пристрастия, показывает духовную силу и величие народов нашей страны, которые были вынуждены в окопах защищать свою Родину, свой дом. За более чем шестьдесят лет, прошедших после начала Отечественной войны, военная тема в нашей литературе претерпела интересную эволюцию. В первые послевоенные годы художественных книг о войне появлялось мало. Шел процесс осмысления происшедшего, освоения сложного материала. Поэтому в это время появляются лишь документальные произведения – очерки, дневники, записки очевидцев военных событий. В период «оттепели» важным этапом в эволюции военной пробыл приход в литературу «поколения лейтенантов» – А. Ананьева, Г.Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Воробьева. Официальная критика заклеймила их сочинения ярлыком «окопная правда», посчитав, что правду о войне, правду большую, настоящую, не могут нести люди, чей кругозор был ограничен обзором окопа. О войне нужна иная правда, считали наверху, – правда масштабная, исключительно с высоких командных постов. 4 Настоящая правда о войне не нужна была и в 80-х и 90-х годах ХХ века. Последний министр обороны СССР маршал Д. Язов уже в 1990-е годы разогнал редакционную коллегию очередной «Истории Великой Отечественной войны», задуманной на этот раз в десяти томах. В свое время главный идеолог КПСС М. Суслов пообещал писателю В. Гроссману, что его роман о войне «Жизнь и судьба» увидит свет не ранее чем через двести лет. О чем говорят все эти факты? В первую очередь о том, что полная правда о войне по-прежнему остается тайной. Американцы имели основания назвать свой фильм о Великой Отечественной «Неизвестная война». В этих условиях особенно важна роль высокохудожественных книг, где правдиво освещены эпизоды трагического времени. Проза В.П. Астафьева (1924 – 2001), одного из крупнейших русских писателей второй половины XX века, является важным объектом исследования для современного литературоведения. Творчество писателя вот уже много лет является предметом монографического изучения. В работах А.Н. Макарова, Н.Н. Яновского, В.Я. Курбатова, Т.М. Вахитовой, А.П. Ланщикова, А.Ю. Большаковой, С.В. Переваловой, в диссертациях, научных статьях, докладах исследовались характерные для писателя темы, отдельные жанры, поэтические особенности произведений, философское наполнение его творчества. В мере, необходимой для решения поставленных исследователями задач, в этих работах рассматривались вопросы художественного своеобразия, влияния традиций, взаимодействия творчества В. Астафьева с современной литературой. Однако фундаментальных работ, раскрывающих идейно-нравственное содержание произведений В. Астафьева в контексте «военной прозы», которое позволило бы определить место писателя среди других авторов-фронтовиков, в современном литературоведении не существует. Соответственно, практически нет работ, посвященных одному из первых произведений В.П. Астафьева, – повести «Пастух и пастушка». 5 Актуальность исследования и определяется необходимостью целостного и по возможности полного анализа данной повести в контексте ее поэтики и жанровой специфики, что позволит значительно расширить и углубить представление о творческой индивидуальности выдающегося русского писателя и его роли в литературном процессе второй половины XX века. Итак, предметом дипломного исследования является творчество В.П. Астафьева в его сложном и противоречивом взаимодействии с наиболее значимыми художественными произведениями жанра «военной прозы» во второй половины XX века. Объектом исследования – жанровая специфика и поэтика повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка». Целью данной работы является изучение повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка», являющейся частью советской «военной прозы», в русле традиций предшествующей русской литературы. Задачи, которые были поставлены в ходе данного исследования, следующие: - дать краткий обзор произведений советской литературы второй половины ХХ столетия, относящихся к «военной прозе» и определить их преемственность с произведениями этого жанра прошлых эпох; - рассмотреть особенности «военной прозы» В.П. Астафьева и ее художественное своеобразие; - определить жанровую специфику повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка»; - проанализировать «двухполярность» повести, в основе которой лежит сочетание реализма и религиозно-символических тенденций. Основными методами настоящего исследования являются литературоведческий и сравнительно-сопоставительный. Методологической базой работы являются литературоведческие труды таких исследователей, как А.Г. Бочаров, Т.М. Вахитова, В.А. Зайцев, Ю.А. Озеров, С.В. Перевалова, С.В. Расторгуева, З. Хоппе, Н.П. Хрящева, Л.Г. Швех, Н.Н. Яновский и др. 6 Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Во Введении обосновывается проблематика и актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, его предмет и объект, определяются методы исследования и структура работы. В Первой главе дается общий анализ «военной прозы» второй половины ХХ века и рассматривается художественное своеобразие произведений В.П. Астафьева на военную тематику. Во Второй главе дается комплексный литературоведческий анализ повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» В Заключении подводятся итоги и делаются выводы по всему изложенному материалу. 7 Глава 1. Творчество В.П. Астафьева в контексте «военной прозы» второй половины ХХ века 1.1. Советская «военная проза» и литературная традиция Существует мнение, что история литературы – это история ее жанров. Можно добавить, что, познав закономерности развития жанров, мы во многом познаем и законы развития литературы. Действительно, жанр – и наиболее всеобщая, универсальная, и в то же время вполне конкретная категория ее. Универсальная – потому что в ней отражаются черты самых разнообразных художественных методов, школ и направлений литературы. Конкретная – потому, что именно в жанрах литературное творчество получает свое непосредственное выражение. Окончание Великой Отечественной войны ознаменовалось новым этапом в развитии русской литературы ХХ века – появлением жанра так называемой «военной прозы». Но что такое «военная проза»? Казалось бы, ответ очевиден: романы, повести и рассказы о войне. Однако к семидесятым годам ХХ столетия в советском литературоведении термин «военная проза» устоялся в качестве синонима «идеологически приемлемых» литературных произведений о Великой Отечественной войне. И это при том, что многие писатели, работавшие в жанре «военной прозы», опирались на традиции этого жанра, существовавшего в России всегда. Еще к сороковым годам XX века в советской литературе сформировалась достаточно прочная традиция воспроизведения как больших, так и малых войн. Не удаляясь в глубь столетий, к сокровищам фольклора и древнерусской литературы (былины, «Слово о полку Игореве», «Задонщина» и т.д.), а также к литературе XVIII века (военно-патриотические оды М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина и др.), несомненно, сохраняющим свое значение для последующего литературного развития (концепты мужества, героизма, пат- 8 риотизма, непримиримости к врагам земли русской ведут свое происхождение именно отсюда), следует прежде всего обратиться к классике позапрошлого столетия. Разумеется, самый значимый автор здесь – Л.Н. Толстой. Он писал о Крымской войне 1853 – 1856 гг. («Севастопольские рассказы»), о Кавказской войне 1817 – 1864 гг. («Набег», «Рубка леса», «Казаки», «Хаджи-Мурат» и др.) и, конечно, об Отечественной войне 1812 г. («Война и мир»). Творчество Л.Н. Толстого оказало наиболее сильное влияние на русскую «военную прозу» второй половины XX века. В иных исторических условиях толстовские эпические традиции воплотили К. Симонов, Ю. Бондарев, В. Гроссман, Г. Владимов, В. Карпов и многие другие авторы. Конечно, никто из этих писателей не превзошел Толстого, но высокие образцы его прозы оказали большое влияние на писателей советского периода. Другая ветвь традиции, незаметно просуществовавшая длительное время и обнаружившая свою актуальность для советской «военной прозы», взращена Всеволодом Гаршиным. «Жестокий реализм» (натурализм) его рассказов о русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. («Четыре дня», 1877 г.; «Трус», 1879 г.; «Из воспоминаний рядового Иванова», 1882 г.) приобрел последователей среди авторов так называемой «окопной» и документальной прозы (В. Некрасов, Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, К. Воробьев, В. Кондратьев, А. Адамович, Д. Гранин, Я. Брыль, В. Колесник и др.). В гораздо меньшей степени, на наш взгляд, ощутимо воздействие на советскую «военную прозу» произведений о гражданской войне. Здесь восприятие традиции не носило системного характера: слишком разными были войны – между своими и против иноземцев. Необходимо отметить и влияние зарубежных авторов на изображение военных коллизий писателями советской эпохи. Несмотря на то, что, согласно идеологическим инстанциям той эпохи, все, что не принадлежало к социалистическому реализму или, в крайнем случае, к реализму оставалось вне советской литературы, советские писатели той поры, обращаясь к жанру «во- 9 енной прозы», заимствовали творческий метод и своеобразный взгляд на военную проблематику у некоторых писателей Европы. Так, как отмечают многие литературоведы, среди которых В.А. Зайцев, В.В. Агеносов, Т.М. Колядич, А.Ю. Горбачев и др., творчество отдельных советских писателей (В. Быков, К. Воробьев, В. Кондратьев и др.) отмечено печатью родства с философией и литературой экзистенциализма, а также с близкой этой традиции прозой Ремарка. Уже в годы самой войны появились произведения, посвященные этой народной трагедии. Их авторы, преодолевая очерковость и публицистичность, стремились подняться до художественного осмысления событий, очевидцами которых они оказались. Несмотря на то, что «идеологические стереотипы и принципы тоталитарной пропаганды в годы войны остались без изменения и контроль над средствами информации, культурой и искусством не был ослаблен, людей, сплотившихся ради спасения Отечества, охватило, как писал Б. Пастернак, “вольное и радостное” “чувство общности со всеми”, что позволило ему назвать этот “трагический, тяжелый период” в истории страны “живым”» [Русская литература ХХ века 2005: 4 – 5]. В «военной прозе» того времени превалировал очерковый жанр. В страстных декларациях таких авторов, как М. Шолохов, Л. Леонов, И. Эренбург, Б. Горбатов и др. говорилось об ужасах войны, вопиющей жестокости противника, боевой доблести и патриотических чувствах соотечественников. Большинство авторов отдавали предпочтение малой эпической прозе, годы войны были неблагоприятны для развития романного жанра. Из числа наиболее интересных произведений, созданных в малом эпическом жанре, следует отметить циклы рассказов «Морская душа» (1942) Л. Соболева, «Севастопольский камень» (1944) Л. Соловьева, «Рассказы Ивана Судврева» (1942) А. Толстого, а также героико-патриотические повести «Радуга» (1942) В. Василевской, «Дни и ночи (1943 – 1944) К. Симонова, «Волоколамское шоссе» (1943 – 1944) А. Бека, «Взятие Великошумска» (1944) Л. Лепонова, «Народ бессмертен» (1942) В. Гроссмана. 10 В годы войны не были создано произведений мирового значения, но будничный, каждодневный подвиг русского народа во имя «жизни на земле», его колоссальный вклад в дело победы над врагом был воспет ярко и образно. После Великой Победы не существовало иных войн, кроме Великой Отечественной. Поэтому советским писателям запрещалось писать о военных действиях на других фронтах и в других регионах планеты, например, в Корее, Вьетнаме, Анголе и т.д., где также участвовали, совершали подвиги и гибли советские люди. Например, о финской кампании 1940 г. допускалось упоминание вскользь (как, например, у А. Твардовского в стихотворении «Две строчки»: «На той войне незнаменитой») и то в нескольких словах. Таким образом, многоаспектная действительность была упрощена и представлена самым масштабным явлением – Великой Отечественной войной, которую по идеологическим соображениям не рекомендовалось называть Второй Мировой, ведь это, означало признание вступления СССР в войну с 1939 г. и явно не с оборонительными целями. 15 мая 1945 года открылся Пленум Правления Союза писателей СССР, на котором Н. Тихонов в докладе о литературе 1944 – 1945 гг. заявил: «Я не призываю к лихой резвости над могилами друзей, но я против облака печали, закрывающего нам путь». 26 мкая в «Литературной газете О. Берггольц ответила ему статьей «Путь к зрелости»: Существует тенденция представители которой всячески протестуют против изображения и запечатления тех великих испытаний, которые вынес наш народ в целом и каждый человек в отдельности. Но зачем же обесценивать народный подвиг? И зачем же преуменьшать преступления врага, заставившего наш народ испытать столько страшного и тяжкого? Враг повержен. А не прощен, поэтому ни одно из его преступлений, т.е. ни одно страдание наших людей не может быть забыто» [Русская литература ХХ века 2005: 9 – 10]. Литература о войне в послевоенное время развивалась в трех направлениях: «Первое из этих направлений – произведения художественно- 11 документальные, в основе которых – изображение исторических событий и подвигов реальных людей. Второе – героико-эпическая проза, воспевавшая подвиг народа и осмыслявшая масштабы разразившихся событий. Третье связано с развитием толстовских традиций сурового изображения «негероических» сторон окопной жизни и гуманистическим осмыслением значения отдельной человеческой личности на войне» [Русская литература ХХ века 2002: 341]. Следует отметить, что в СССР существовала система военнопатриотического воспитания, в которой литература о Великой Отечественной войне занимала одно из ведущих мест. За заслуги в этой области военные писатели поощрялись Сталинскими премиями (так К. Симонов 7 раз был представлен к этой награде), а начиная с хрущевской «оттепели» – Ленинскими и Государственными премиями. Произведения-лауреаты непременно экранизировались (причины, видимо, здесь кроются в недоверии власти к читательской активности «самого читающего в мире» народа плюс огромный пропагандистский потенциал кино как «важнейшего из искусств»). Краеугольным камнем советской пропаганды было постоянное подчеркивание руководящей и направляющей роли коммунистической партии. Характерна в этом отношении история создания романа «Молодая гвардия». Если в редакции 1945 г. А. Фадеев не смел написать о существовании в Краснодоне еще одного – некомсомольского – антифашистского подполья, то в новой версии романа (1951 г.) к этому умолчанию прибавляется идеологически обусловленное лукавство: автор утверждает, что создателями и руководителями организации молодогвардейцев были коммунисты. Тем самым Фадеев отказывает своим любимым героям в важной инициативе. В результате это уникальное произведение послужило впоследствии основанием для уголовного преследования, нередко необоснованного, реальных людей, ставших прототипами отрицательных персонажей романа. И все же, если относиться к «Молодой гвардии» как к произведению русской литературы, то следует отметить, что до сегодняшнего дня этот ро- 12 ман не утратил своей актуальности, в том числе и педагогической. Героизм на положительной нравственной основе выступает важным компонентом содержания «Молодой гвардии», составляет суть характеров Олега Кошевого, Ульяны Громовой и их товарищей. Художественное мастерство Фадеева позволило ему психологически достоверно изобразить молодогвардейцев: им веришь, их духовная высота и чистота несомненны. Хотя в настоящее время находятся скептики, отрицающие значение этой великой книги, не следует уклоняться от правды о том, за какую страну и какие идеалы шли на смерть краснодонские комсомольцы, которые погибли за Родину. Несмотря на идеологические каноны советской цензуры, в тогдашних непростых условиях литература все же высказала главную правду о Великой Отечественной войне. Прежде всего, эта правда заключалась в том, чтобы, в соответствии с постулатом социалистического реализма, показать «героическую личность в героических обстоятельствах». Толстовская мысль о том, что война есть убийство и затея убийц, для советской «военной прозы», не будь в ней таких авторов, В. Некрасов, Д. Гранин, В. Быков, Б. Васильев, оставалась бы ветшающим частным мнением «зеркала русской революции». Новый для русской литературы жанрово-тематический раздел – «окопную», или «лейтенантскую», прозу, открывает повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Время появления повести на свет было удачным: она вышла по следам горячих событий, когда еще не успел сформироваться ритуал советской «военной прозы», когда еще были живы многие вчерашние окопники. Ее автор – не профессиональный писатель, даже не журналист, а боевой офицер. Упоминание имени Сталина в названии и в тексте произведения сыграло по странной противоречивости советского литературного бытия позитивную роль: защищенная Сталинской премией, повесть создала прецедент для появления в печати книг В. Быкова, К. Воробьева, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Кондратьева и других писателей-«окопников». Однако поначалу на повесть Виктора Некрасова обрушился шквал критики, пошли негативные отклики. Например: «Правдивый рассказ <…>, но в 13 нем нет широты»; «Взгляд из окопа»; «Дальше своего бруствера автор ничего не видит» и т.д. Эта критика справедлива лишь внешне, глубинный смысл ее был в отвлечении читательского внимания от опасной правды и переносе его в зону фанфарного оптимизма, апогеем которого стала «штабная», или «генеральская», проза (для нее и готовилась почва). И «окопная», и «штабная» тенденции, если эти термины перенести на классическое произведение, органично переплетены в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. Предтечей «штабной» прозы можно считать Леонида, который еще в 1944 г. публикует повесть «Взятие Великошумска», где война представлена явлением масштабным, увиденным глазами генерала, а не лейтенантаокопника. Сопоставив стиль двух писателей, чьи произведения принадлежат к полярным тенденциям «военной прозы», мы быстро заметим разницу. У В. Некрасова: «На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить – и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался» [Некрасов 1990: 11]. У Л. Леонова: «По живому проводу шоссе волна смятенья прокатилась на передовую, и тот момент, когда в армейском немецком штабе была произнесена фраза: «На коммуникациях русские танки», – надо считать решающим в исходе великошумской операции. Одновременно с этим корпус Литовченки с трех направлений схлестнул поле сражения, и третья танковая группа двигалась как раз той трассой, которую за сутки перед тем проложил Собольков… Одинокая размашистая колея двести третьей, изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. Похоже было – не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становища и шла дальше, волоча по земле свои беспощадные палицы» [Леонов 1983: 45]. Разница видна и в отношении к героям: у В. Некрасова солдаты – работники, пахари войны, у Л. Леонова – былинные богатыри. Добросовестный труженик литературной нивы, Леонид Леонов брался за перо, досконально изучив то, о чем собирался поведать миру. Тактика танкового боя и военно- 14 технические детали во «Взятии Великошумска» воссозданы настолько дотошно, что заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками в шутку предложил писателю «инженерно-танковое звание». Опыт тонкого и основательного художника был учтен, дополнен конъюнктурными соображениями, и возникшая в последующие десятилетия «штабная» («генеральская») проза стала авангардной частью официальной литературы (А. Чаковский, «Блокада», 1975 г. и «Победа», 1980 г.; И. Стаднюк, «Война», 1981 г.; В.Карпов, «Полководец» (другое название — «Маршал Жуков»), 1985 г. и др.). Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», удостоенная Сталинской премии в 1947 году, уже через год была запрещена по причине «недостатка идейности», хотя причина эта заключалась в том, что, как сказал В. Быков, «Виктор Некрасов увидел на войне интеллигента и утвердил его правоту и его значение как носителя духовных ценностей» [Русская литература ХХ века 2005: 15]. После смерти И.В. Сталина, на волне «оттепельной» демократизации возрастает стремление писателей к достоверному воспроизведению войны, к освещению неизвестных широкой публике военных эпизодов, к открытию новых, необычных ракурсов трагедии XX века. В 1950 – 1980-е гг. эти задачи решает документальная и мемуарная проза. Сергей Смирнов возвращает из небытия имена и подвиги героев Брестской крепости («Брестская крепость», 1957); судьбы ленинградских блокадников запечатлены в «Блокадной книге» (1975 г.) А. Адамовича и Д. Гранина; А. Адамович, Я. Брыль и В. Колесник со слов свидетелей пишут о сожженных фашистами населенных пунктах («Я из огненной деревни», 1979 г.); С. Алексиевич открывает малоизвестную сторону проблемы «человек и война», воспроизводя на страницах книги «У войны – не женское лицо» (1985 г.) рассказы многочисленных защитниц Отечества о восприятии трагических событий эпохи прекрасной половиной человечества. С опорой на исторические документы и мемуарные свидетельства написаны «Хатынская повесть» (1972 г.) и «Каратели» (1979 г.) А. Ада- 15 мовича, «В августе сорок четвертого...» (другое название – «Момент истины», 1974 г.) В. Богомолова, «Блокада» и «Победа» А. Чаковского и другие произведения. И в хрущевскую, и в брежневскую эпоху «военная проза» была представлена самым большим – относительно других тематических подразделений советской литературы – объемом произведений. Это связано прежде всего с тем, что «военная проза» имела официальную поддержку, потому что идеологические структуры КПСС рассчитывали на ее пропагандистский эффект и активную роль в военно-патриотическом воспитании. В результате цензурное вмешательство было ослаблено. В этих условиях появляются романтическая «Альпийская баллада» (1963 г.) В. Быкова, а также отнесенная критикой к причудливо гибридной художественной системе – социалистическому сентиментализму – повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие...» (1969 г.). Центральная идея этих книг выражает квинтэссенцию «окопной» («лейтенантской») прозы: в войне участвуют не безликие боевые единицы, а люди с их трогательными, неповторимыми судьбами. В произведениях писателей того времени чувствуется влияние натурализма – литературного направления, возникшего на Западе, которое обычно ассоциируется с именами французских писателей Э. Золя и Г. де Мопассана. К натурализму уместно отнести и рассказ Всеволода Гаршина «Четыре дня», с которого, на наш взгляд, начинается в русской литературе традиция описания войны с позиции детального, скрупулезного воспроизведения ее реалий и особого внимания к телесной стороне человеческих страданий. У психически и нравственно здоровых людей натуралистические описания вызывают реакцию отторжения. Натурализм, который именуют еще и «жестоким реализмом», безусловно, является одной из немаловажных составляющих «военной (особенно «окопной» и документальной) прозы». Его черты присутствуют в произведениях Ю. Бондарева («Батальоны просят огня», 1957 г.; «Горячий снег», 1969 г.), К. Воробьева («Это мы, Господи!», 16 1943 г.; «Убиты под Москвой», 1963 г.), В. Быкова («Мертвым не больно», 1965 г.; «Дожить до рассвета», 1972 г.), А. Адамовича («Каратели», 1979 г.), В. Кондратьева («Сашка», 1974 г.) и др. Пять лет, вплоть до 1979 г., шла к читателю кондратьевская повесть «Сашка»: слишком необычной показалась она тем, от кого зависела ее публикация. Прежде всего, невозможно было простить автору, что враг изображен таким же солдатом, таким же человеком из плоти и крови, как и любой советский воин. Как можно было объяснить Сашкину жалость к пленному немцу и нежелание его расстреливать? О главной коллизии своей повести В. Кондратьев пишет так: «Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть, что сплелось с остальным: не может он беззащитного убивать. Не может и все!» [Кондратьев 1990: 56]. С позиций идеологии того времени главный герой В. Кондратьева был какой-то «неправильный», в результате чего повесть получила статус «крамольной». К чему эти сомнения и терзания? Бить надо врага, а не жалеть его! Брежневская цензура не была заинтересована в углублении правды о войне. «Окопной» прозе присущ антивоенный, точнее, гуманистический пафос. Однако в «Сашке» привычные советскому читателю описания героизма дополняются картинами бессмысленной жестокости, причем проявленной не только к чужим, но и к своим. Возникает созданная автором линия связи между слепой ненавистью к врагам и нелепой, но лишь на первый взгляд, беспощадностью по отношению к однополчанам. Взводный Володька признается: «Мне сержант мой, помкомвзвода, который на войне второй раз, советовал завести взвод за балочку и там переждать немного, чуял он – захлебнется наступление... А я ни в какую! Вперед и вперед! А ребят косит то слева, то справа. Клочья от взвода летят, а я вперед и вперед. Потом залегли, невозможно дальше было, и через минуту- 17 две отход. Если бы в этой балочке переждали, считай полвзвода сохранил бы» [Кондратьев 1990: 83]. Повесть «Сашка», о которой в советские времена говорили, что это «не наша литература», была прямым отклонением от задач «военнопатриотического воспитания». Война, показанная В. Кондратьевым, вместо победного восторга вызывает чувство неприятия, а точность психологической детали у писателя, играющего на контрасте (удивительно живой образ Сашки противопоставлен антуражу повседневной смерти) представляет убийство на войне заурядным убийством, т.е. попранием человеческого в человеке, наносящем непоправимый урон психике «победителя». Многие произведения «военной прозы» (даже те, которые проводят необходимую для того времени идеологическую линию) доносят до читателя правду войны и правду жизни. Ярчайший пример тому – роман Ю. Бондарева «Берег» (1974 г.), главный герой которого лейтенант Андрей Княжко (явная аллюзия на князя Андрея из «Войны и мира»), – романтизированный образ, воплощающий архетипические черты русского офицера. Его физическая и духовная красота удивительны: в боевых условиях у него всегда белый подворотничок, до блеска начищенные сапоги, выглаженная гимнастерка; у него отменная армейская выправка, он безукоризненно честен, скромен и храбр. А гибнет молодой лейтенант, пожалев подростков из гитлерюгенда, – детей, а не взрослого бойца вражеской армии. Здесь общая идея бондаревского романа и кондратьевской повести очевидна: и Сашке, и Андрею трудно приходится на войне в силу их природного гуманизма. Советская «военная проза» не избегала художественных приемов и художественных систем, относимых в мировом литературоведении к модернизму. Изображение военных коллизий в творчестве отдельных писателей (В. Быков, К. Воробьев, В. Кондратьев и др.) отмечено печатью родства с философией и литературой экзистенциализма и модернизма. Конечно, тогдашняя критика не могла открыто признать наличие элементов западных течений в 18 литературе, которая считалась соцреалистической. Однако куда отнести финал романа «Берег», исполненный в соответствии со стилистикой «потока сознания»? Но явно не к толстовскому «внутреннему монологу». У Бондарева, на наш взгляд, чувствуется некоторое присутствие литературного опыта XX века (влияние Джойса, Сартра, Камю и др.), хотя и не в той степени, что у В. Быкова, в повестях которого война нередко ставит человека в пограничную ситуацию (борьба, страдание, гибель), в ситуацию нравственного выбора (в предельно жестком варианте – выживание или совесть), когда, согласно доктрине экзистенциализма, человек актуализирует собственную сущность. Если писатели-«штабники» в такие тонкости не вникали, а документальная проза лишь намечала эту проблематику, то «окопная» проза в полной степени соответствовала теории экзистенциализма, хотя и развивалась в двух, взаимоисключающих друг друга, направлениях, одно из которых воплощало оптимизм (пафос борьбы и страдания уравновешивался пафосом победы), а другое – пессимизм (борьба и страдания усугублялись отчаянием, гибелью, а в случае гибели – ощущением невосполнимости, абсолютности потери). «Оптимистическая» часть «окопной» прозы обычно располагалась в художественном пространстве между реализмом и социалистическим реализмом, «пессимистическая» – между реализмом и экзистенциализмом. В «пессимистической» прозе также присутствовала «примесь» натурализма («жестокого реализма»), усложняющая картину и более весомая на «пессимистическом» полюсе. Если смерть героя «оптимистического» произведения была вписана в контекст настоящей, будущей или неизбежной победы, то «пессимистический» герой умирает, подчеркивая смертность каждого человека и безысходность любой человеческой судьбы, покидая читателя с ощущением экзистенциального отчаяния. Герой-«оптимист», выживая, олицетворяет собой преодоление и готовность к преодолению, подвиг, сулящий новые подвиги; «пессимист» является игрушкой в руках судьбы: даже избежав смерти, он не уходит от отчаяния, его спасение лишено поучительности, оно никогда не 19 является образцом для подражания, а являет собой единичный или случайный пример. В этом контексте уместно противопоставить, с одной стороны, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Горячий снег» Ю. Бондарева и т.д., с другой – «Убиты под Москвой» К. Воробьева, «Дожить до рассвета» В. Быкова и т.д. Само название повести писателя-фронтовика К. Воробьева «Убиты под Москвой» (1961) накладывает трагический отпечаток на все повествование, и становится ясно, что для автора важно не просто рассказать одну из бесчисленных историй войны: он не стремится заинтриговать читателя или обнадежить его возможностью счастливой развязки. Двести сорок отборных курсантов, вооруженные винтовками, гранатами и бутылками с бензином, в новом обмундировании после первого же боя оказываются в окружении, вырваться из которого им так и не удается. К писателям второе направления «окопной» («лейтенантской») прозы, которые представили читателю войну такой, какой она была на самом деле, рассказав о ней жестокую правду – ту правду, которая была ненавистна официальной пропаганде Советского Союза, относится и Виктор Астафьев. Его, как и многих других своих «собратьев по перу», часто упрекали в «дегероизации» подвига, пацифиизме, увеличенном внимании к страданиям и смерти, излишнем натурализме описаний, не замечая того, что усмотренные «недостатки» порождены прежде всего болью за человека, оказавшегося в нечеловеческих условиях войны. 1.2. Художественное своеобразие «военной прозы» В.П. Астафьева О войне В. Астафьев заговорил не случайно. Свое творчество, всю свою жизнь он, по словами Н, Яновского, измеряет «войной, тяжко пережитой, долгом перед святой и светлой памятью погибших» [Яновский 1982: 270]. 20 В статье «Нет, алмазы на дороге не валяются», вызвавшей полемику и упреки, В. Астафьев требовал неукоснительной правды о войне: «Я считаю, что самая правдивая книга о войне еще только пишется, и она будет без дозировки: “сто граммов положительного и пятьдесят граммов отрицательного”. Для правы еще никто гирь не придумал и не придумает, полагаю» [Астафьев 1940: 42]. Эта статья, по мнению Н. Яновского, «была в чем-то несобранной, непривычно для такого жанра эмоциональной, без отточенных, безупречно звучащих формулировок, но писатель заявлял, что война не большо бои, но и ежедневный труд, а это означает, что он активно защищает принцип историзма в изображении войны» [Яновский1982: 271]. Но писатель, когда создавал свои произведения, руководствовался не только принципом историзма. Правда, он считал, должна звучать, без «идеологических прикрас». Поэтому уже на первом этапе становления писателя, в Пермский период творчества (1951 – 1969), отторжение и неприятие Астафьевафронтовика вызвала сакрализованная к тому времени литература о войне. Уже в первом его рассказе «Гражданский человек» (1951) название приобретает парадоксально оксюморонное звучание в соотнесении с повествованием о воине-связисте. Актуализация иронической семантики названия (о воине-связисте – «гражданский человек») для писателя является частью его отношения к изображаемому, частью позиции автора, заключающейся в неприятии устоявшихся мнений, догм, штампов, в данном случае имеющих отношение к военной теме в русской литературе. «Устойчивая примета стиля В.П.Астафьева пародирование штампов» [Перевалова 1997: 60], - отмечает С.В. Перевалова. Ложь, смерть, войны, крушение идеалов у человека такого характера, как Астафьев, не могли не вызвать отторжения, неприятия, которое с течением времени приобретает у писателя характер тенденции в мироощущении и в творческом поведении. «Свой первый рассказ писатель создавал «во зле», в яростной оппозиции» [Вахитова 1995: 122], - пишет Т.М. Вахитова. Главный персонаж рассказа – не герой-богатырь, а обычный «гражданский человек» в военном об- 21 мундировании с его слабостями и силой, ненавистью к разрушению и страхом смерти, было, по признанию самого писателя, реакцией на «неправду» о войне. О конкретном поводе для написания своего первого рассказа «Гражданский человек» Астафьев в 1984 году писал следующее: «Бывший фронтовик читал свой военный рассказ. Взбесило меня это сочинение. Герой рассказа, летчик, таранил и сбивал фрицев, как ворон, благополучно приземлился и получил орден» [Астафьев 1985: 7]. Во вступительной статье к красноярскому собранию сочинений предыстория первого рассказа выглядит несколько иначе: «На этом занятии литкружка читал рассказ бывший работник политотдела наших достославных лагерей. Рассказ назывался «Встреча». В нем встречали летчика после победы, и так встречали, что хоть бери и перескакивай из жизни в этот рассказ. Никто врать его, конечно, и в ту пору не заставлял. Но человек так привык ко лжи, что жить без неё не мог» [Астафьев 1997, 1: 13]. Таким образом, первый свой рассказ на военную тематику В. Астафьев пишет в полемике с уже укоренившимися стереотипами изображения войны и послевоенной жизни. «Я написал его за ночь и <...> на следующем занятии кружка, то есть через неделю, прочел рассказ вслух. Рассказ был воспринят положительно, и его решили печатать в газете «Чусовской рабочий» как можно скорее» [там же]. С этого момента «жить не по лжи» становится главным кредо писателя, которое лежало и в основе творчества таких творцов русской литературы, как А. Твардовский, В. Некрасов, Э. Казакевич, В. Панова. Исследовательлитературовед А.К. Соколов так определяет послевоенную парадигму развития русской литературы: «Несмотря на большое число произведений о войне, выдержанных в стиле казенного оптимизма, в целом, однако, необходимо отметить укрепление реалистических тенденций» [Соколов 2002: 68]. Л.П. Кременцов, отсылая читателей к произведениям А. Ахматовой, О. Берггольц, В. Некрасова, М. Исаковского, В. Гроссмана, В. Овечкина, дает такую оценку литературы послевоенного времени: «Процессы, происходившие в духов- 22 ной жизни общества, нашли свое отражение в литературе и искусстве тех лет. Развернулась борьба против лакировки, парадного показа действительности» [Русская литература ХХ века 2005: 16]. Вероятно, В. Астафьева и следует отнести к тем начинавшим в это время свой путь писателям, которые отозвались на сохранившиеся, не искорененные «лакировочной» критикой «реалистические тенденции», противостоявшие упомянутым «лакировочным поделкам». В первом своем рассказе В. Астафьев изменяет всё, полностью переворачивая ситуацию. В сложившуюся жанровую форму «победного рассказа» о войне вливается новое содержание. Героя-летчика сменяет связист, «аристократия» войны заменяется самыми низшими и рядовыми её работниками. Зовут персонажа и вовсе не героически, почти женским именем Мотя – таким способом убавляется показное, внешнее мужество. Примечательно, что окончательная редакция рассказа получает название «Сибиряк». Тем самым автор приближает своего первого героя не только по военной специальности, но и по землячеству к себе, а понятие «сибиряк» с этого момента всё более наполняется в его творчестве особым духовным, нравственным и психологическим содержанием. Можно предположить, что название рассказа (и первоначальное, и окончательное) было дано писателем в противовес понятию «советский человек» (лейтмотив «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого). Наверное потому Астафьев и останавливается на «Сибиряке». Следуя жизненной достоверности и наметившимся реалистическим тенденциям, Астафьев в первых литературных опытах стремится избавиться от псевдооптимистических мотивов. В редакции, вошедшей в первую книгу рассказов «До будущей весны» (1953), рассказ «Гражданский человек» завершался ранением и награждением главного героя. В последующем Астафьев, по замечанию критика и близкого друга писателя А.Н. Макарова, «восстановит рукописный вариант – не выздоравливать в госпиталь пошлет его» [Макаров 1969: 710]. Он убирает из финала всякую надежду на благополуч- 23 ный исход. В рассказе «Сибиряк» вместо ранения, тем более – вместо победы и орденов (в первой редакции Мотя скромно отказывался от ордена), Савинцев находит в бою смерть. Вопреки штампам военного плаката, вместо чудобогатыря читатель видит перед собой обычного «гражданского человека», делающего кровавую «работу» войны. Следует также отметить композиционно-стилевые особенности первого астафьевского рассказа. Одна из них будет развита в целом ряде литературных произведений В. Астафьева. Это своеобразная прерывистость повествования, его особого рода дискретность, когда эпическое повествование о событиях из жизни героя прерывается эмоциональными лирическими размышлениями автора: « - Постой, Савинцев... - Лейтенант замолк, только глубокое дыхание, приглушённое расстоянием, слышалось в трубке. О чём ты задумался, командир? Ведь не первый раз по твоему приказу идет человек туда, откуда может не вернуться. Многое пережил ты, часто видел смерть, сам ходишь рядом с ней, а всё ещё не можешь привыкнуть. О многом может задуматься командир, посылая бойца на опасное дело. - Связь нужна, Савинцев, - твёрдо сказал лейтенант» [Астафьев 1953: 14]. Впоследствии лирическое начало, манифестация размышляющего и чувствующего автора-рассказчика окажутся жанрово-стилевым свойством многих астафьевских произведений. В годы, отделяющие первый рассказ о войне от первой военной повести «Звездопад», В. Астафьев написал еще несколько рассказов на военную тему («Солдат и мать», «Ария Каварадосси», «Кавказец», «Старая лошадь», «Старый да малый», «В одной деревушке» и др.). Газетный вариант рассказа «В одной деревушке» (1954) выглядит неспешной зарисовкой одного случая на фронтовых перепутьях войны. В толь- 24 ко что освобожденной деревне одну крестьянку односельчане жестоко называют «фашистихой», потому что ее сын бежал из армии, поступил на службу к немцам и был за это расстрелян. В этом рассказе, как считает Н. Яновский, «внимание сосредоточено на людях, по сердцам которых проехало тяжелое колесо войны» [Яновский 1982: 18]. Женщина-мать с великим терпением несет свой крест, понимая, что не односельчане виноваты в своем ожесточении. Фабула рассказа «Ария Каварадосси» (1959) тоже довольно проста и сводится к эпизоду из фронтовой жизни. Услышав на передовой из русских окопов оперную арию, итальянцы сталкиваются с немцами и сдаются «нашим»: «немецкие фашисты бежали, а итальянцы сдались нам» [Астафьев 1959: 54]. Искусство мыслится в этом рассказе как субстанция, противостоящая войне, разрушению, смерти. Соприкосновение с искусством объединяет разобщенных смертельной враждой людей. В коротком рассказе «Старая лошадь» (первоначальное название – «Домашнее животное») (1958) В. Астафьев смог совместить две характерные для всего его творчества темы: природы и войны. Такое совмещение приводит писателя к трагическим мыслям. Война беспощадна не только к воюющим людям, но и ко всему живому, а потому она противна всей природе. Раненная осколком снаряда лошадь, стоящая на нейтральной полосе, оказывается символом бессмысленной жестокости войны. «Так стояла она между двумя враждебными мирами, в самом центре войны» [Астафьев 1997, III, 146]. Необычность этого рассказа первым заметил А. Макаров. Дело не в том, как изображен здесь солдат или израненный, измученный коняга, а в том, как прекратил мучения лошади солдат. Она, смертельно раненая, отвоевалась, отжила свое. Но «почему герой рассказа, - спрашивает А. Макаров, рискуя жизнью, дошел до коняги. Почему? Не легче ли было бы ему самому, если бы он стрелял издали? Зачем же подвергал он себя опасности и шел на излишние муки? Да только затем, чтобы, неся лошади избавительную смерть, 25 согреть ее последнее мгновение жалостью, участием, человеческим теплом. Ей хотелось к людям, и человек, рискуя собой, принес ей последний дар дружбы». Это верное, на наш взгляд, толкование рассказа завершается таким обобщением: «И тот, кто поймет, что двигало явно «неразумным» поведением Ванягина, многое поймет в характере астафьевских героев» [Макаров 1973: 296]. В рассказах этой поры складывается и характерная для Астафьева повествовательная модель произведения о войне. Писатель внимателен не столько к живописанию боев, сражений, сколько к изображению краткой фронтовой «передышки». Именно «Передышкой» называется один из рассказов Астафьева 60-х годов, а сама повествовательная модель используется, помимо уже перечисленных рассказов, в повестях «Звездопад», «Пастух и пастушка», «Обертон», в рассказах «Горсть спелых вишен», «Сашка Лебедев» и других. Даже в повести «Пастух и пастушка» и романе «Прокляты и убиты», где значимой оказывается функция батальных эпизодов, приверженность этой повествовательной модели сохраняется, и изображаемая Астафьевым «передышка» в боях выполняет в композиции произведения важнейшую контрастную войне и убийству функцию. «Звездопад» - первое из крупных произведений В. Астафьева, написанных в жанре «военной прозы». В этой повести ощутимо прежде всего воздействие толстовского стремления изобразить войну не «в блестящем строе», а «в крови, в страданиях, в смерти» [Толстой 1987: 11]. Вероятно, поэтому повесть переполнена госпитальным бытом. Раны, контузии, операции, наркоз, сцены массовых психических расстройств, на фоне которых развиваются отношения Лиды и Мишки, составляют здесь основу повествования. В повести «Звездопад» Мишка Ерофеев одинок в своих душевных страданиях. Причина его переживаний и страданий – несвобода, обусловленная войной. Любовь его, едва родившись, оказывается обречённой тоже из-за войны. Война изображается в повести не в событийно-батальном плане, а как 26 проявление несвободы. Госпиталь, пересылка, невозможность самому решать свою судьбу – именно это угнетает главного героя. «Казарма не казарма, тюрьма не тюрьма. От того и другого помаленьку. Я думаю, что о запасных военных полках и о таких пересылках напишут ещё люди» [Астафьев 1997, II, 251]. Следует отметить, что ко времени появления «Звездопада» изменились тематические пристрастия «военной» литературы. «Если военная проза 1945 – 1954 годов чаще тяготела к изображению действий человека в опасной ситуации, - отмечал А.Г. Бочаров, - то теперь она всё увереннее склонялась и к исследованию его духовного состояния. Объективный процесс времени – возрастание интереса к нравственным проблемам – сочетался с субъективным для военной прозы, отдалявшейся от «собственно события», процессом: усложнением самих нравственных проблем» [Бочаров 1973: 237]. Благодаря тому, что писатель в «военной» повести использует композиционно-стилевой прием лирической прозы (повествование от имени лирического «я», «исповедальность»), трагедийность произведения оказывается предельно выразительной. «Звездопад» побуждал своего читателя размышлять об обреченности человека на войне. Война заставляет астафьевского героя делать трагический выбор между долгом и свободой, причем исполнение долга почти обязательно сопряжено со смертью. Предметом трагических раздумий автора в «Звездопаде» оказывается не вся Россия (как это будет в 1990-е годы), но пока лишь судьба фронтового поколения. Художественное своеобразие «Звездопада» – в его особом космизме. Героев окружают различные люди, но чувствуют они себя одинокими не потому, что испытывают недостаток внимания к себе, а потому, что острее воспринимают происходящее вокруг них и войну - прежде всего. Астафьевские Мишка и Лида представляются писателем как существа уникальные и одинокие в целом мире в своем целомудренном чувстве и страданиях. Знаковый финал повести (юношеская любовь светит людям всю жизнь, подобно сиянию давно погасших звезд) соотносится не только с событийностью и компо- 27 зицией повести, но и с её названием, усиливая, таким образом, её элегическое, содержащее трагические аллюзии звучание. Заглавный символический образ этой повести – образ «звездопада». В послевоенной прозе образ звезды обычно интерпретируется как «знак» доблести и избранности героя. В. Астафьев обращается к этому образу в совершенно ином контексте. Душа, по народному поверью, уподобляется звезде, а падающая звезда символизирует смерть. Вот и у Астафьева звездопад стал символом трагедии времени, всего военного поколения. «В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли ещё задолго до того, как мы родились, но свет их всё ещё идёт к нам, всё ещё сияет нам» [Астафьев 1997, II, 258]. «Звездопад» открывал ряд крупных произведений В. Астафьева о войне, включающих в свою структуру обобщенно-знаковые, символические образы. Но именно в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка» реалистическая символика приобретет характер глубинный, предельно многозначный и откровенно трагический. В этом можно усмотреть характерную тенденцию развития всей военной прозы 60 – 90-х годов, для которой оказалось свойственно осмысление прошедшей войны прежде всего как трагедии. 28 Глава 2. Поэтика и жанровая специфика повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» 2.1. Повесть «Пастух и пастушка» как современная пастораль По мнению Ю. Ковалева, «история литературы – это история возникновения литературно-художественных произведений и их последующего бытия в контексте других литературно-художественных произведений. Они рождаются в глубинах культурного потока, текущего меж «хронотопких» и непрерывно меняющих очертания берегов социальной истории» [Ковалев 1998: 52]. Повесть «Пастух и пастушка» является одним из наиболее известных и ярких произведений русской послевоенной прозы о Великой Отечественной войне, а потому уже стала принадлежностью истории литературы. В. Астафьев относился к своей повести как к самому дорогому и трудному детищу. Объяснением этому может служить не только её драматический и долгий путь к читателю, но и отношение автора к теме, к материалу, легшему в основу повести. В одном из интервью 70-х годов В. Астафьев сказал о Великой Отечественной войне: «Это уральский хребет нашей жизни» [Астафьев 1980: 175]. И далее: «Война войнам рознь. Такого перенапряжения, как за последние десятилетия, человечество еще не переживало. Пресс оказался тяжелым, болезненным. Он нарушил гармонию развития» [там же, с 184]. Повесть В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» навсегда останется «визитной карточкой» писателя, несмотря на то, что и до и после нее автором было написано много произведений о войне в разных жанрах: повести «Звездопад» и «Веселый солдат», роман «Прокляты и убиты» и др. Замысел этого произведения, как утверждает сам писатель в статье «Сопричастный», возник еще в 1954 г., в 1967 г. непосредственно началась работа над повестью [Астафьев 1980]. Впервые произведение было издано в 1971 г. и затем переписывалось еще 14 раз, издаваясь в разных вариантах. 29 Канонической считается редакция 1989 г., которую сам Астафьев включил в последнее полное собрание сочинений в 15 томах, изданное при его жизни в 1997 – 1998 гг. На наш взгляд, можно выделить две основные причины постоянного обращения писателя к повести. Во-первых, автор вносил изменения в повесть, так как на него оказывала давление цензура. В интервью журналу «Вопросы литературы» в 1974 г. писатель отметил, что его повесть прошла редакции почти всех московских и ленинградских журналов, и везде предлагалось что-то конкретизировать, уточнять упрощать [Астафьев 1998]. Вовторых, Астафьев считал, что писательский труд – это беспрестанный поиск, о чем заявил в статье «Сопричастный», и именно поэтому новые идеи, образы, изменения в авторском мироощущении побуждали писателя вносить в повесть определенные коррективы. В основу повести «Пастух и пастушка» легла любовная история Бориса и Люси, которая проецируется прежде всего на ее название. Показательно, что первоначальное, рабочее название этого произведения – «Ко¬мета» – продолжало «красиво-романтическую» «космическую» тради¬цию «Звездопада» и в большей степени акцентировало «непохожесть» XX века, любви и смерти, характерных для этого времени, на времена давние. С появле¬нием окончательного названия акцент отличий снимается с «поверхности» по¬вести, хотя еще убедительнее начинает звучать в ее образной структуре и сю¬жете. Повесть «Пастух и пастушка» удивила своих читателей, прежде всего ее жанровым обозначением – «современная пастораль», что предполагает возрождение пасторальной традиции в контексте литературы о войне последней трети ХХ века. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова определяет пастораль как «драматическое или музыкальное произведение (в европейском искусстве XIV – XVIII вв.), идиллически изображающее жизнь пастухов и пастушек на лоне природы» [Ожегов 1984: 426]. 30 Одни исследователи (М.М. Бахтин, А. Песков, Э. Панофский, Т.В. Зверева и др.) считали, что пастораль является разновидностью идиллии – чаще всего любовной идиллией. Другие исследователи (Г.В. Синило, Н.В. Забабурова, Г.Н. Ермоленко, Л.В. Никифорова и др.), наоборот, считают идиллию разновидностью пасторали, ибо последняя «покоится на гармоническом равновесии и безмятежности чувств» [Синило 2002: 11]. В качестве устойчивых жанрообразующих признаков пасторали Г.В. Синило называет «топос пастушества как идеального состояния мира и души», сплетение пастушеского мотива с любовным, указывает на такие характерологические черты пастуха / пастыря, как кротость, жертвенность, глубинное внутреннее зрение и слух, музыкальный дар. Писатели ХХ века, особенно те из них, которые затрагивают «военную» тематику, довольно часто обращаются к данной жанровой форме. По мнению Г.В. Синило, это связано с тем, что подобного рода исторические события служат толчком к звучанию в литературе пасторальных тенденций: «Думается, можно говорить об устойчивых пасторальных тенденциях в европейской литературе, которые не только достигли особого пика в ХV – ХVII вв. и в ХVIII в., но и неизменно заявляют о себе – особенно в эпохи кризисов и потрясений, переоценки ценностей, на так называемых «рубежах веков» (в этом смысле особенно показательны рубежи ХVI – ХVII, ХVIII – ХIХ, ХIX – XX вв.)» [Синило 2002: 3]. Как справедливо замечает Т.В. Саськова, «пастораль, пожалуй, не знает себе равных по размаху экспансии на разные виды и жанры искусства. Трудно найти аналогичный феномен, способный, при всей устойчивости, узнаваемости собственных признаков, к столь разноплановым художественно-эстетическим контактам» [цит. по: Синило 2002: 3]. К жанру пасторали обращается и В.П. Астафьев в повести «Пастух и пастушка». Следует отметить, что «источником вдохновения» при создании повести «Пастух и пастушка» для В.П. Астафьева послужил роман аббата Прево «Манон Леско», написанный именно в пасторальных традициях. Писатель 31 вспоминает: «Я работал на областном пермском радио корреспондентом по Горнозаводскому направлению и однажды, едучи в город Кизел, центр угольного бассейна, совершенно для себя неожиданно проспал свою остановку и с испугу вышел на каком-то глухом разъезде с пачкой сигарет и книгой “Манон Леско” в кармане». Поскольку поезда ходили редко и следующий ожидался только к вечеру, «забравшись на гору, я целый день читал эту книгу... поведавшую о страдальческой и прекрасной любви кавалера де Грие и ветреной Манон, ветреность которой, впрочем, не была оскорбительна, отталкивающа, а наоборот, даже маняща, то и возникла во мне тоска по человеку чувства, что ли. “Неужели мы разучились любить и страдать так же возвышенно, чисто, “по смерти”, как в те давние годы любили вот эти двое, скорее всего, выдуманные аббатом Прево?” – такой или примерно такой вопрос я задавал себе тогда, а писатель, да еще молодой, задавши себе вопрос, немедленно захочет на него получить ответ. А так как вопрос возник “вечный”, то и ответа на него не было, надо было искать его в жизни людей окружающих и тех, что были с нами и до нас...» [Астафьев 1979: 6]. В комментариях к повести автор пишет, что когда он начал читать книгу аббата Прево, с первых же страниц его подхватила «волна того ответного чувства или ощущения, которое смутно жило во мне, тревожило меня, порой почти угадывалось, и вот нашлось, подступило – я попал в ту редкую книгу, которая была «моей», то есть соответствовала настрою моей души…» [Астафьев 1997: 453]. Н.М. Прокопенко считает, что основными чертами западноевропейской пасторальной традиции в повести «Пастух и пастушка» являются: - мистическая предопределенность встречи, надежда, которая живет в душах Люси и Бориса Костяева; - черты девы Марии – пастушки в образе Люси; ее нездешность; - сентиментально-романтическая стилистика грез героев [Прокопенко 2010: 15]. 32 Однако у В. Астафьева «пастораль» несколько иного свойства. Недаром он качестве подзаголовка к повести он поставил не просто слово «пастораль», а «современная пастораль». У него появилась мысль создать не только новую, не известную ранее повесть о самой страшной и кровавой в истории человечества войне, но и выразить «философию нашего времени, философию подвига, человеческой жизни, любви, смерти», то есть подобно аббату Прево, книга которого «Манон Леско» послужила толчком к написанию «Пастуха н пастушки», создать произведение не только для внутреннего пользования, но и необходимое мировому читателю [Зайцев 2004: 359]. Пастораль как жанр и как концепция жизни в повести «Пастух и пастушка» противопоставляется Астафьевым войне. Он сталкивает сентиментальное мироощущение (пастух н пастушка, пастораль, чувствительность, единственная любовь) с грубым бытом войны. Взятые из арсенала поэтики сентиментализма образы пастуха и пастушки постепенно превращаются в символ. Он заявлен в названии повести («Пастух н пастушка») и вызывает у читателя определенное ожидание. Ответ дается достаточно быстро. Прибыв в освобожденный хутор, взвод Бориса Костяева натыкается на страшную картину – убитых пастуха и пастушку – двух стариков, приехавших в эту деревню с Поволжья в голодный год, которые пасли колхозный скот. Этот эпизод остается в сознании и как символ жестокой войны, н как символ вечной любви. «За давно не топленной, но все же угарно пахнущей баней <…> лежали убитые старик и старуха <…> Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику <…> Угрюмо смотрели военные а старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час <…> Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не могли и решили – так тому и быть» [Астафьев 2009: 26 – 27]. В последний раз образы пастуха и пастушки, убитых на войне, мелькают в угасающем сознании взводного, когда Бориса раненного везут в сани- 33 тарном поезде в тыл и он плачет «сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он уже не помнил, и выходило: похожи они на мать, на отца, на всех людей, которых он знал когдато» [там же, с. 147]. Однако развитие этого «пасторального» символа происходит непосредственно и в тексте самого произведения. Прежде всего, этот символ позволяет идентифицировать главного героя как духовного пастыря. В своих этнографических наблюдениях, касающихся мифологических представлений о деревенских пастухах, С.В. Максимов отмечал: «… если пастух и немощен телесно, то, взамен того, он владеет особой, необъяснимой и таинственной силой, при помощи которой влияет на стадо и спасает его от всяких бед и напастей» [Максимов 1995: 400]. В астафьевском Борисе эту «таинственную силу» ощущают многие. Костяев – это пастух, который пасет своё «стадо» – взвод. Однако «пасторальность» в повести прослеживается и в воспоминаниях героя, который чувствует постоянную связь с однажды услышанной им «сиреневой музыкой», олицетворяющей собой «необъяснимую силу» мира гармонии. С ней Борис соприкоснулся лишь раз, но воспоминаний об этом хватило на всю жизнь. В ту единственную ночь, которая была отпущена влюбленным, в памяти Бориса всплывают не только убитые старик и старуха. Он вспоминает, как он в детстве ездил с матерью в Москву к тетке и ходил в театр, где танцевали под сиреневую музыку доверчивые в своей беззащитности влюбленные пастух и пастушка: «Ещё я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая... Я почему-то услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое – он и она, пастух и пастушка. Они любили друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны» [Астафьев 2009: 96]. Именно мотив «Сиреневой музыки» (любовный мотив) обладает структурообразующей функцией в астафьевской «пасторали». В далеком и зате- 34 рянном украинском селении Борис, рядом с Люсей, понимает призрачность своих надежд, эфемерность «сиреневой музыки», превращающейся в финале повести в «сиреневый дым». Детские впечатления от пасторальной сцены, неожиданно явленная любовь, предсмертные видения – вот те эпизоды, которые имеют в повести «сиреневую» тональность. Она могла родиться из реальных впечатлений автора, связанных с театром или с величественными северными пейзажами. Она могла происходить из представлений автора и героя о «благородных» цветах – в соответствии с ними сиреневый (лиловый) представляется цветом, связанным с цветком лилии. Лилия же в европейской культурной традиции – «один из наиболее неоднозначных символов среди цветов, отождествляется с христианской религиозностью, чистотой, невинностью, но также, в старых традициях, ассоциируется с плодородием и эротической любовью» [Тресиддер 1999: 195]. Кстати, отметим, что родину кавалера Де Грие и Манон Леско, образы которых послужили импульсом к рождению астафьевской пасторали, в старину называли «королевством лилий». Таким образом, сиреневый (лиловый) окрас «современной пасторали» предельно мотивирован европейской культурной традицией. Однако Астафьев останавливается на русском синониме – на сиреневом. Сиреневый – тот же лиловый, но ассоциирующийся с «цветком наших старинных дворянских гнезд», а само название сирени миф связывает с именем нимфы Сиринкс, обитавшей в счастливой, «пасторальной», Аркадии и превратившейся (чтобы избежать притязаний Пана) в обычный болотный тростник, из которого Пан изготовил главный пастуший музыкальный инструмент – «трубку, дудочку». В этом же источнике примечательно не только ассоциирование цвета и музыки, но и то, что «на Востоке» сирень служит эмблемой грустного расставания» [Золотницкий 1991: 281 – 287]. Таким образом, «сиреневая музыка» обусловлена принадлежностью повести к пасторальному жанру, имеет жанровый генезис. Мотив «сиреневой музыки» расширяется воображаемыми встречами ге- 35 роев после разлуки, о которых поочередно грезят Костяев и Люся. Вот как Люся представляет себе несостоявшуюся встречу с Борисом после войны: «Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка. Будет много цветов. Будет много народу. Будут все счастливые...» [Астафьев 2009: 110]. Природность же, погружённость героев в мир цветов, кущ – одна из главных составных «пасторального пространства». Образ-символ пастуха и пастушки, который сопровождает Бориса Костяева, помогает писателю раскрыть чувствительность, ранимость, неординарность главного героя, несовместимость его с жестокой реальностью войны и в то же время способность на необычную, возвышенную любовь. Подстать Костясву и его возлюбленная «пастушка». Люся – женщина но многом загадочная. Мы так и не узнаем, кто она и откуда, но многие приметы свидетельствуют о том, что она не деревенская: она в достаточной степени начитанна и музыкальна, понимает и чувствует людей. В астафьевской повести сюжетная схема «пастораль посреди войны» приобретает ещё и символическое звучание. Костяев гибнет и воскресает дважды: вместе с гармонией окружающей его жизни он гибнет, когда начинается война, но любовь его к Люсе, эта пастораль на фоне войны, гармония в безобразном мире, воскрешает его. Костяев цепляется за жизнь, опираясь на фронтовое братство своих друзей-однополчан, но война, ранение отторгают у него и эту гармонию. Пастораль всегда содержит в себе печальный финал, но «современная пастораль» Астафьева еще более трагична. Умирающий Борис видит «среднерусские деревни с серыми крышами», «скособоченные избы», «травку», «грача», «шкандыбающего» по борозде. «Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле» [Астафьев 2009: 145]. Эта пасторальная реминисценция не только придает композиционную стройность повести, но служит своеобразным «выходом» из художественного произведения в реальный мир с его 36 многовековым, традиционным, устойчивым и одновременно с этим – таким хрупким и зыбким укладом жизни. 2.2. Символика и «грубый реализм» в повести «Пастух и пастушка» Повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка» построена на бинарной оппозиции «война – мир». Композиция повести позволяет рассматривать войну и мир и как определенные художественные абстракции, и как образы, персонифицирующиеся с помощью особых приемов, образы обобщенносимволические. Писатель так определил главную особенность повести: «В «Пастухе и пастушке» я стремился совместить символику и самый что ни на есть грубый реализм» [Астафьев 1980: 189]. Стремление к универсальности выразилось и в насыщении повести знаковыми, символическими образами и деталями. Представление о довоенном мире, о мире вне войны как сложной гармонии развития, характерное для писателя этого времени, и о войне как явлении, нарушающем эту гармонию, лежит в основе произведения. Проблематика «Пастуха и пастушки» стали первопричиной усиления функции символической образности в этой повести. В связи с этим А.Ю. Большакова именует художественный метод Астафьева как «символический реализм» [Большакова 2002: 76]. При изображении войны как события, коверкающего жизнь людей, нарушающего «гармонию развития», Астафьев создает сцены, назначение которых – потрясти читателя отразившейся в них жестокостью, ужасами, кровью войны: «… покатилась на траншею темная масса из людей. С кашлем, криком, визгом хлынула на траншею эта масса, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъярёнными отчаянием гибели волнами всё сущее вокруг» [Астафьев 2009: 11]. Интересно, что этому фрагменту в редакции, вошедшей в Собрание сочинений 1979 – 1981 годов, соответствовала лишь 37 фраза «Началась рукопашная» [Астафьев 1979: 305]. Как видно, писатель постоянно, до последней возможности нагнетал те штрихи и детали, которые представляют собой античеловеческую сущность войны. Далее следует эпизод, присутствующий в обеих редакциях: «Оголодалые, деморализованные окружением и стужею, немцы лезли вперед безумно и слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за этой волной накатила другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим и по немцам, не разбирая, кто где. Да и разобрать уж ничего было нельзя» [Астафьев 2009: 11]. Эта сурово реалистическая сцена, данная резкими штрихами («лезли», «прикончили», «матюки») сочетает в себе стремление к точности, конкретизации с обобщением («масса») и метафоризацией («забурлила», «волна» – о солдатах). В повести не называется ни время, ни место сражения (это также один из способов отхода от реалистической поэтики). Но ясно, что действие происходит на Украине, где окружена и уничтожена громадная группировка противника. Конкретный бой на украинской земле (предположительно Корсунь-Шевченковская операция) доведен до такой степени обобщения, метафоризации, что представляет собой и обобщенный образ всей войны в целом. Вероятно, именно поэтому в повести крупным планом рисуется лишь один бой – он представляет собой яркий образ многих боев и всей войны. Соединение строго реалистических, часто натуралистических и метафорических, символических образов в изображении войны писатель объясняет так: «Чтобы выразить философию нашего времени, философию подвига, человеческой жизни, любви, смерти – мало одних рассуждений на эти темы, необходимо дать знак, символ, образ» [Астафьев 1980: 187]. Трагедийная символика войны, многие «жестко» реалистические сцены произведений В. Астафьева в свое время вызвали упреки в натурализме, в «дегероизации», что в 60-е - первой половине 80-х годов считалось недопустимым в литературе о минувшей войне. Сам писатель так вспоминает 38 об этом времени: «Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и неширокое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе противника» [Астафьев 1985: 166]. Изображение страданий, грязи, крови в произведениях «писателейфронтовиков» не является самоцелью. На наш взгляд, натуралистические детали, соприкасаясь с образами обобщенными, метафорическими, знаковыми, приобретают значительную семантику и особую композиционную функцию. В этом смысле в повести «Пастух и пастушка» интересен образ глумящегося над русскими невольницами «фрица». Омерзительная собака, помогавшая ему во всем, в том числе и в убийствах, затем пожирает труп своего казненного партизанами хозяина. - Поймали его партизаны. - По зловещей и какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил – не без ее участия. - Повесили на сосне. Собака его выла в лесу... Грызла ноги хозяина... До колен съела... – дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там есть чем пропитаться... А вражина безногий висит в темном бору, стучит скелетом, как кощей злобный…» [Астафьев 2009: 101]. В структуре «современной пасторали» и образ, и вся ситуация, вступая в сложные смысловые и функциональные отношения с другими деталями, образами, ситуациями (война, смерть, любовь, «сиреневая музыка», пастушка) приобретают знаково-символический характер, становятся универсальным образом зла, пожирающего всё окружающее, а в конечном итоге и самого себя. Символизация (актуализация в образе символического начала за счет сближения его с образами традиционно символическими) удерживает астафьевскую прозу в рамках реалистического искусства. Композиция повести строится в очень большой степени на контрасте дикости, разрушительной силы войны и жизнеутверждающей, возвышающей силы любви, светлых начал в душе главного героя. 39 Главная сюжетная линия повести «Пастух и пастушка», связанная с лейтенантом и Люсей, имеет реалистически конкретный характер. Находясь же в сцеплении, в связи со всей структурой повести, она приобретает обобщенно-символическое, притчевое звучание – трагедия любви, трагедия человеческой личности при столкновении с войной. Командир взвода, имеет мало общего с персонажами пасторальных произведений. Это смелый и решительный воин, участвующий в одной из страшных войн. Астафьев подчеркивает его благородство, верность понятиям о чести, долге. Благородство Костяева подчеркнуто и его принадлежностью к офицерству. Культурная традиция и русская история всегда связывали офицерство с дворянством, для которого понятия о благородстве и чести не были пустым звуком. Недаром мать Бориса является дальней родственницей декабриста Фонвизина: «Когда-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральши Фонвизиной, Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двенадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением» [Астафьев 2009: 102]. Образ Бориса Костяева – чистый и светлый образ. Он, Борис способен остановить вожделение Мохнакова, позаботиться о раненых бойцах, заметить и остановить мародерство, почувствовать боль другого человека, открыто и искренне полюбить. Он сохраняет в себе все те свойства, которые война, связанная с вольным или вынужденным истреблением человека, не щадит. В судьбе Бориса Костяева присутствует восходящий к житийному жанру мотив безропотного приятия высшей воли, жертвенности. По мысли П. Флоренского, «имя предопределяет личность и намечает идеальные границы ее жизни. Но это не значит, что, именем определенная, личность не свободна в своем имени – в его пределах» (30). Образ главного героя повести (вместе с его именем православного святого Бориса, принявшего мученическую смерть по воле брата, и фамилией Костяев, содержащей в себе неявные созвучия с 40 тем, «что было когда-то им») получает тем самым особое, символическое звучание. Прощание героя Астафьева с юношеской чистотой и любовью переходит в его расставание с жизнью. «Музыки он уже не слышал – перед ним лишь клубился сиреневый дым, а в загустевшей глуби его плыла, качалась, погружалась в небытие женщина со скорбными глазами Богоматери» [Астафьев 2009: 149]. Образ Богоматери, явившийся лишь в последней редакции повести, да и то в составе сравнения, тем не менее, придает и повести, и её персонажам дополнительную христианскую символичность, делает трагизм повести светлым. Но если в случае с героем Астафьев использует как символические, так и реалистические «краски», то образ главной героини возведен только в степень символа. Прежде всего, героиня практически полностью лишена биографии. Биография могла бы стать основой фабулы, но она Астафьеву безразлична, как и в случае с изображением событий войны. Астафьеву важно изобразить явление, феномен. Фабула, по его мысли, лишь отвлечет на себя внимание. Сам писатель настаивает на значительной мистификации, привнесенной в образ Люси: «Я не любил и не люблю копаться в своих черновиках, но помню, что в первых вариантах повести главная героиня, по имени Люся, имела точную биографию, даже мужа имела и любовника, немецкого генерала, – всё имела и была совершенно упрощена, бесплотна, неинтересна и в «таком виде» не могла она привлечь внимания моего героя, Бориса Костяева, увы, он «создан для блаженства», для романтической любви, для красивой тайны» [Астафьев 1997: 453]. Совершенствование повести происходило именно через «судьбу героини»: «чем больше я убирал с неё литературные лохмотья, тем загадочнее и красивее она получалась и довела меня до того, что я и сам влюбился в свою Люсю, а затем и в повесть» [Астафьев 1997: 455]. Астафьев подробнейшим образом (насколько это возможно в повести) характеризует Бориса, но «пас- 41 тушка» остается сущностно иной, нежели «пастух», «загадочной». Поэтому Астафьев оставляет предельно мало из ее «биографии». В основе образа Люси лежат есенинские мотивы, которые восходят прежде всего к главной героине поэмы «Анна Снегина». Героинь Есенина и Астафьева роднит «белая накидка» и даже ситуация: опытная «она» и неискушенный «он», хотя этим в повести есенинские реминисценции не исчерпываются. Главное сходство – эмоционально-интонационное. Расставание с юношеской любовью, перерастающее в трагедийное прощание с жизнью, сближает поэму и повесть. Загадочность и «несказанность», «недосказанность» Анны Снегиной могли в данном случае быть для Астафьева своеобразным эталоном, одним из импульсов к созданию образа Люси. «Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах <…> Если тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. <…> Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение <…> Я слышу тебя...» [Астафьев 2009: 97], - говорит Люся своему возлюбленному. «Музыкальное училище» в этом контексте, конечно же, не способно объяснить свойство Люси слышать музыку Бориса. Оно здесь упомянуто, вместе с «кукольно загнутыми ресницами» Люси, её «безродностью», любовью к Мельникову-Печерскому, знанием стихов Фета, как знак причастности к искусству, как деталь, необходимая не обычной «пасторальной» пастушке, а возлюбленной «благородного кавалера». Пастораль здесь соприкасается с рыцарским романом. О своих страданиях на войне и в оккупации сама Люся говорит очень скупо. Но тем важнее оказывается её рассказ о барственном «фрице» и его собаке, «скользкой, пучеглазой», истязавших девушек: «Что он с ними делал! Что делал! Всё показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола глаз вальяжному фрицу, за парижскую-то любовь... Один только успела. Собака загрызла девушку» [Астафьев 2009: 101]. «Парижская любовь», закончившаяся смертью и насильника и жертвы, превращается в пове- 42 сти в обобщенный образ судьбы женщины на войне, астафьевский универсальный «знак беды», символ унижения и попрания женщины. Финал повести «Пастух и пастушка» содержит в себе мотив продолжения жизни в природе, умирающей и воскресающей заново. Но пантеистический мотив, оказавшись у Астафьева в одном ряду с христианскими идеями и образами, воспринимается здесь как уже малая часть сложной и трагической философии жизни, смерти, войны, природы, человека. «Сиреневая музыка», «сиреневый дым» и цвет оттеняют мысль о красоте молодости и радости мирной жизни, о бессмертии любви, о гармонии в искусстве и природе. Вместе с тем эти образы оказываются контрастными по отношению к войне, смерти и разрушению. В сочетании с другими, в том числе и обобщенносимволическими, образами, «сиреневая музыка» оказывается в повести образом-символом потерянного счастья, своеобразным «знаком» главного персонажа, жаждущего любви, но любовь, а с нею и самое жизнь, теряющего. Говоря о всеобъемлющем характере повести, В. Астафьев писал: «Дополняя, переписывая повесть, я всякий раз удалял бытовую упрощенность, от индивидуально-явных судеб и мыслей уходил всё далее и далее к общечеловеческим» [Астафьев 1991: 454]. Эта своеобразная «установка» на общечеловеческие судьбы присутствует практически во всех элементах структуры повести В. Астафьева. Например, предельное обобщение кроется в отсутствии имени женщины, нашедшей одинокую могилу. Благодаря этому, «она» ассоциируется и с Люсей, и с матерью Бориса Костяева, и с женщиной, которая во все времена скорбела на могиле павшего воина. А через «иконописные глаза» эта фигура сближается и с евангельской традицией. Даже в деталях пейзажа подчеркиваются вневременные черты: «Она опустилась с линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу» [Астафьев 2009: 7]. За союзом «Или» угадывается попытка соединить самые разные времена и судьбы. Добро и зло в астафьевской повести разделены не только и не столько линией фронта. И «вальяжный фриц», и немецкий «рейхскомиссар», и немцы 43 вообще вызывают неприязнь, ненависть героев и автора. Но и здесь намечается достаточно прозрачная градация. Если первый персонифицирует собой зло, которое несут завоеватели вообще, то второй олицетворяет собой преступную власть, а третьи могут вызвать помимо ненависти и другие, более сложные чувства. Особую неприязнь писателя вызывает предательство немецким «рейхско-миссаром» своих солдат: «рейхскомиссар с высшим офицерьем удрал, сволочь! Разорвали кольцо на минуты какие-то и в танках по своим солдатам, подлецы!.. Неслыханно!» [Астафьев 2009: 67]. Русское воинство представляет собой в повести противоречивый образ. Рядом (вероятно, это тоже символическая деталь) с Костяевым всегда находится старшина Мохнаков. И если Борис – «светлый парень», то Мохнаков («мрачное» и «медвежье» у него не только во внешности и характере, но и в фамилии) – его невольный антипод. Война сняла с него все моральные запреты, и потому он позволяет себе мародерствовать, пить, цинично относиться к женщине. Вместе с тем это не отпетый злодей. Он храбрый воин, для него «лучше смерть, чем неволя», нетерпим к доносчикам и способен на совершенное против него зло ответить добром. Его трагедия усиливается тем, что он сам понимает свою обреченность и не хочет «гнить от паршивой болезни морально ущербных морячков и портовых проституток» [Астафьев 2009: 80]. Последняя натуралистическая деталь (болезнь Мохнакова) в окончательной редакции писателем акцентируется. Смерть «истратившегося на войну» делается не только неизбежной и неотвратимой, но и желанной для него самого. Можно сказать, что в повести «Пастух и пастушка» Астафьев из различных образов создает единый образ, становящийся зловещим символом войны: «В кюветах, запорошенных снегом, валялись убитые кони и люди. Кюветы забиты барахлом, мясом и железом. За хутором, в полях и возле дороги - скопища распотрошенных танков, скелеты машин» [Астафьев 2009: 83]. 44 У Астафьева танк, как человек, может быть распотрошенным, а машина – иметь скелет. Погибающий немецкий солдат в повести сравнивается с гибнущим одиноким таежным зверем: «Донеслось хриплое, надтреснутое завывание – так кричат в тайге изнемогающие звери, покинутые своим табуном» [Астафьев 2009: 82]. Но несмотря на всю символику (библейскую, мифологическую и др.), реализма в повести все-таки больше, потому что нельзя говорить о войне вне так называемой «окопной» правды. Поэтому под пером Виктора Астафьева, признанного мастера словесного изображения, оживают картины боя, которые написаны убедительно, зримо, хотя порой «окопная» правда излишне натуралистична: «На поле, в ложках, в воронках, н особенно густо возле изувеченных деревцев лежали убитые, изуродованные немцы. Спадались еще живые, изо рта их шел пар, они хватались за ноги, ползли следом по истолченному снегу, опятнанному комками земли и кровью, взывая о помощи» [Астафьев 1979: 63]. Пафос повести антивоенный. Она густо заселена героями н дает вполне реальное представление о том, какие люди защищали страну. Повесть значительна и как первое крупное произведение писателя о войне, и как прорыв к новому стилю. Повесть «Пастух и пастушка» – произведение экспериментальное, т.к. автор искал в ней и новое содержание, и новые формы. Одной из таких форм является условность, символика. Но в то же время, несмотря на всю привлекательность символических художественного приемов, автор избирает реалистический способ изображения жизни, показывая войну как страшное бедствие, которое болью отозвалось на сердце всего русского народа. И эхом в веках звучат слова Бориса, обращенные к немцам: “Зачем пришли сюда?.. Зачем? Это наша земля! Это наша Родина! Где ваша?”» [Астафьев 1979: 63]. 45 2.3. Развитие религиозных мотивов в раскрытии темы войны в повести «Пастух и пастушка» Тема войны в творчестве В.П. Астафьева тесно связана со становлением его религиозного мировоззрения, так как писатель, стремясь показать противоестественную сущность войны, через художественную структуру своих военных произведений утверждал, что война – это явление, противоречащее Божьим заповедям. Религиозная проблематика военной прозы Астафьева наиболее актуализирована и вследствие проявляющихся в ней экзистенциальных мотивов, выраженных в обращении героев произведений к Богу перед лицом опасности, на грани жизни и смерти, что, очевидно, является отражением собственного опыта писателя. В этом смысле повесть «Пастух и пастушка» не является исключением. Ее поэтика особым образом связана с символичностью религиозных мотивов. Религиозные мотивы становятся очевидными уже в первой части повести, посвященной описанию боя. Война изображается писателем как апокалиптическое событие, поэтому в описываемой автором картине доминирует черный цвет: «Снеговая пороша в свете делалась черной, как порох, и пахла порохом» [Астафьев 2009: 12]; «Снеговая пороша в свете сделалась черной, пахла порохом, секла лица до крови, забивала дыхание» [там же]; «Черная пороша вертелась над головой» [там же, с. 13]. Отметим, что в более ранней редакции (1974 года) доминанта черного цвета усиливается: «Снеговая пороша в свете делалась черной, пахла порохом. Ею секло лицо, забивало горло, и .черная злоба, черная ненависть, черная кровь задушили, залили все вокруг: ночь, снег, землю, время, пространство» [Астафьев 1979: 306]. Очевидно, что такое нагнетание цветовых характеристик было применено В.П. Астафьевым для того, чтобы создать у читателя ощущение конца мира. 46 Очень важным для понимания апокалиптических аллюзий сцены боя является образ горящего немца с ломом, на котором загорелась простыня, заменявшая маскировочный халат. «Огромный человек, шевеля громадной тенью с развевающимся за спиной факелом, двигался, нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропой по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копоть» [Астафьев 2009: 12]. В редакции повести, вошедшей в собрание сочинений 1979 – 1981 годов, этот эпизод имел характерное продолжение: «Казалось, что пророк небесный с карающим копьем низвергался на землю, чтобы наказать за варварство людей, образумить их» [Астафьев 1979: 306]. Тема карающего пророка берет свое начало в Апокалипсисе, в образах ангелов Апокалипсиса, карающих людей за богоотступничество. В наиболее обобщенном смысле огромный человек с развивающимся за спиной факелом может быть сопоставим с четвертым всадником Апокалипсиса: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним» [Откр. 6: 8]. Немец ломом крушит всех: и своих, и чужих. Таким образом, писатель показывает, что этот бой – богоотступничество, так как люди, в нем участвующие, по тем или иным причинам нарушают святую заповедь «Не убий» и за это навлекают на себя кару. В окончательной редакции уподобление горящего немца «пророку небесному» снято. Это было связано не только с идеологическими мотивами. По всей видимости, писатель посчитал, что для повести, выдержанной в манере объективного повествования, этот эпизод выглядит не вполне органично, т.к. не может быть прямо связан с восприятием кого-либо из героев (исключением является Ланцов, но он второстепенный персонаж). Кроме того, автор, по всей видимости, посчитал, что образ немца-завоевателя, карающего народы «за варварство», не может сочетаться с проблематикой повести. Однако, несмотря на то, что в редакции 1989 г. (последней редакции) нет сравнения горящего немца с небесным пророком, мотив кары по-прежнему остается, хотя и сочетается с натуралистическими описаниями: «Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропою по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копоть» [Астафьев 2009: 12]. 47 Еще одним особо значимым в художественной структуре главы «Бой» апокалиптическим образом является образ танка. Очевидно, что этот образ является символом смерти, слепой уничтожающей силы и самой войны. Не случайно перед ним в страхе разбегаются все: «И свои, и чужеземные солдаты попадали влежку, жались друг к другу, заталкивали головы в снег» [там же, с. 14]. В духе Апокалипсиса показана решающая схватка Бориса с танком. О том, что танк является символом Апокалипсиса, свидетельствует и попытка немецкого солдата в безумной ярости расстрелять свой же танк. Не случайно в редакции 1974 г. называет танк «преисподней», что опять же сближает этот образ с Апокалипсисом. Очевидно, что Астафьев глубокими апокалиптическими символами акцентирует всеобщую греховность, богоотступничество людей, участвующих в войне. Но писатель также подчеркивает и то, что русский народ все-таки защищает свою землю. Для русских этот бой – их священный долг, вынужденная необходимость, и они объединены этим долгом. Поэтому особое место в структуре повести занимает тема воинского братства и веры солдат на войне, в раскрытии которой автор также использует религиозные мотивы. Тема братства не раз встречается на страницах повести. «Люди на войне братством живы» [там же, с. 132] – говорит тяжело раненному Пафнутьеву Мохнаков и помогает ему, несмотря на его предательство. Помощь Мохнакова внутренне меняет Пафнутьева, и он тоже проникается чувством воинского братства. Он признает свой грех перед братством и обещает замолить его: «Всю жизнь... молиться всю жизнь... И эту... гадство это... спозаброшу... замолю... грех... молитвой жить...» [там же]. Таким образом, писатель подчеркивает, что перед лицом смерти Пафнутьев обращается к вере, как и многие другие солдаты. Важность веры для солдат на войне особенно подчеркивается Астафьевым. При этом писатель акцентирует необходимость веры для солдат прежде всего в минуту смертельной опасности, хотя вера, по мысли писателя, тесно связана с патриотизмом. Если русские люди воюют за свою землю и обра- 48 щаются к вере как к защите, то немцы приходят на чужую землю, убивают людей, искореняют чужие духовные и материальные ценности. Писатель неоднократно подчеркивает, что деятельность фашистов противоречит Божьим заповедям и для этого вводит в эпизоды, в основе которых лежат религиозные образы, символы, аллюзии. Так, в одном эпизоде писатель, подчеркивая, что фашизм несет только страдания и разрушения и перечисляя все то, что находилось в снегу после боя, упоминает в числе многих вещей иконы с русскими угодниками. Несколько раз фашисты изображаются Астафьевым как нечистая сила: «Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы» [Астафьев 2009: 21]. Тем не менее, подчеркивая, что фашисты совершали дела, противоречащие Божьим заповедям, автор при этом целенаправленно показывает, что на многих из них, как сказано в сцене описания мародерства в последней редакции повести, имелись нательные кресты. Из этого следует, что, совершая дела, противоречащие Божьей воле, немцы не отказывались от веры в Бога. Тема несоответствия деятельности фашистов Божьим заповедям развивается в сцене с убитым немецким генералом. После приказа командующего похоронить генерала со всеми воинскими почестями в последней редакции появляется дополнение: «Кругом сдержанно посмеялись. - Его собакам бы скормить за то, что людей стравил. За то, что бога забыл. – Какой тут бог? - поник командующий, утирая нос рукавицей. - Если здесь не сохранил, потыкал он себя рукавицей в грудь, - нигде больше не сыщешь» [там же, с. 69]. Таким образом, писатель еще раз утверждает, что фашизм, несмотря на то, что немцы не отказались от веры в Бога, являлся богоотступничеством. В повести автор настойчиво пытается найти причины фашизма, заставляя своих героев размышлять и рассуждать на эту тему. Борис часто задает себе вопросы, напрямую связанные с поиском смысла происходящего. Эти вопросы имеют под собой религиозную основу. 49 «Зачем? За что? Какой в этом смысл? И вообще какой смысл во всем этом? В таком вот побоище? Чтоб еще раз доказать превосходство человека над человеком? Мимоходом Борис видел пленных – ничего в них не только сверхчеловеческого, но и человеческого не осталось. <...> Кто, что принуждает их умирать так мучительно? Кому это нужно?» [Астафьев 2009: 68]. Ответа Борис не находит, т.к. по мнению автора, оправдания творящему- ся безумию все равно нет. Авторскую мысль о причине фашизма в четкой и ясной форме излагает крестьянин Карышев, находя ее в том, что немцы забыли цену земле. С идеей Карышева тесно связана мысль Ланцова, в уста которого автор вложил свое видение войны и свое понимание жизни. Следует отметить, что выражает авторскую позицию именно тот герой, который «в детстве на клиросе пел» [там же, с. 38], то есть имел определенное отношение к церковному образованию и воспитанию. Очевидно, что Ланцов отстаивает истины, идущие от Бога, противоположные войне с ее разрушительной силой: «Неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Это война должна быть последней! Последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, одна истина свята на земле – материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, вскармливающий ее» [там же, с. 38 – 39]. Устами Ланцова Астафьев дает новую концепцию героизма, идущую вразрез с советской политикой и с горячим призывом Горького «В жизни всегда есть место подвигу»: «Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поем мы песню! - с криком вознес руки к потолку Ланцов. - Не довольно ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением?» [Астафьев 2009: 39]. Далее Ланцов рассуждает о немцах, вынужденных по приказу командования мерзнуть в снегах России, упоминает открывателей Америки, уничтоживших на пути к подвигам целые народы. Очевидно, что Ланцов, выра- 50 жая авторскую позицию, не принимает пролитие крови во имя великих идей и поэтому утверждает, что не должно быть обстоятельств, который создавали бы необходимость героизма, но эти обстоятельства, по его мнению, создают те, кто считает себя «сильными мира сего», кто взял на себя право Бога повелевать жизнью людей: «дармоеды», «доморощенные боги» — называет их герой. При этом под своими «доморощенными богами с бородкой иудея иль с усами джигита» [там же, с. 40] очень легко узнаются два великих советских вождя. Тем самым, автор устами персонажа отрицает ложный героизм участников великой революции и обличает Сталина, считая его виновником массового кровопролития. Монолог Ланцова был прямым вызовом советской идеологии с ее призывами к подвигам и борьбе. Не случайно он появляется только в последней редакции повести, когда советский режим практически исчерпал себя. Однако в советское время, особенно в период войны, такие мысли опасно было высказывать, и если в первых редакциях о судьбе Ланцова говорилось, что его забрали работать в газету, то в последней редакции появилось существенное добавление: «Ланцова Корнея Аркадьевича будто бы в армейскую газету забрали, но солдаты поговаривали, что совсем его в другое место забрали за чернокнижье, за приверженность к Богу и вредным разговорам. Грешили на Пафнутьева – он, змеина, заложил человека» [там же, с. 137]. Помимо осуждения фашизма автор настойчиво развивает в повести тему сочувствия немецким солдатам. Танк, несущий гибель, давящий все на своем пути, объединяет на какое-то время всех, пытающихся спастись. Не случайно расстреливает свой же танк немецкий солдат, возле танка он и погибает. В последней редакции повести вводится мотив погребального обряда. «Простыня, надетая вместо маскхалата, метнулась раз-другой на ветру и закрыла безумное лицо солдата» [Астафьев 2009: 16]. Писатель, как мы видим, называет немца просто солдатом. Обозначений, показывающих, что немец чужой, фашист, нет. Он тоже простой солдат, страдающий на войне. 51 Тема страдающих немецких солдат развивается и в реплике Мохнакова, исследующего подбитый танк: «Офицерья наглушило! Полная утроба! Ишь как ловко: мужика-солдата вперед, на мясо, господа – под броню» [там же, с. 17]. Не радостной и совсем не героической изображается писателем победа. Радуется ей лишь один Пафнутьев, человек с весьма сомнительной духовной организацией. Другие солдаты испытывают сочувствие к немцам. «Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрыгал, простуженным дискантом выдал “ура”. – Че вы? Охренели?! Победа же! Наголову фашист!.. - кричал он своим товарищам. Бойцы подавленно смотрели в поле, истерзанное, испятнанное, черное, на речку, вскрывшуюся изподо льда от взрывов и крови. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил сам себе: “Не дай бог попасть вот в такое вот...”» [там же, с. 67]. В.Я. Курбатов, анализируя этот момент повести, справедливо отметил: «Очень тут видна русская кровь, наше вековое милосердие: только что сами на краю смерти стояли, сколько побито народу своего, а на мертвого врага смотрят - и будто это уже и не враг, а просто заблудившийся человек» [Курбатов 1983: 57]. В монологе Ланцова также звучит нота сочувствия немецким солдатам: «Вон они, герои великой Германии, отказавшиеся по велению отцов своихкомандиров от капитуляции и от жизни, волками воющие сейчас на морозе, в снегах России» [там же, с. 39]. Таким образом, Ланцов акцентирует внимание на трагедии заблудшего немецкого народа, поверившего ложным идеалам, ведущего войну по велению антигуманного командования. Очень важным в развитии темы сочувствия немецким солдатам является эпизод с застрелившимся немецким генералом. Возле генерала остается его слуга, немец-старик, который скорбит о смерти хозяина. Но если в первых редакциях он только плачет, благодарит русских за помощь в похоронах и, как икону, прижимает оружие хозяина, то в последней редакции, плача, он 52 крутит патефон, потому что это была любимая музыка генерала, и в глубоком горе ругает фюрера: «Да, да, мой фюрер... чтоб ты сдох!» [там же, с. 84]. Смерть хозяина заставляет немца задуматься о безумии, творящемся на войне, и вспомнить о Боге. «Есть ли в мире Господь?» [там же] — спрашивает он, потому что не может совместить творящееся зло с Божьими заповедями. Стремясь подчеркнуть, что немецкие солдаты страдали так же, как и русские, писатель вводит в некоторые эпизоды повести натуралистические элементы, которые особенно очевидны в сцене описания раненых: «И лежали раненые вповалку – и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, плакали, иные курили, ожидая отправки» [там же, с. 90]. Очевидно, что автору крайне важно показать, что русские солдаты понимают чужую боль, причем глубже понимают именно те, кто сам постоянно в бою. Врач оказывает помощь всем, и в этом, по мнению писателя, его высший долг, данный от Бога: «Выше побоища, выше кровопролития надлежало ему оставаться, и, как священнику во время панихиды, “быв среди горя и стенания”, умиротворять людей спокойствием, глубоко спрятанным состраданием» [там же, с. 91]. Не дают безумному от потери близких солдату расстреливать пленных, раненый старший сержант сочувственно дает покурить пожилому немцу: «Как теперь работать-то будешь, голова? - невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и. портянками. – Познобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою? Хюрер? Хюреры, они накормят!» [там же, с. 89]. Очевидно, что данная фраза в полной мере выражает понимание писателем трагедии немецкого народа и подчеркивает милосердие русских. Тяжелое впечатление у читателя вызывает описание мертвого немца, замерзшего возле костерка в надежде согреть себе еду. И снова настойчиво называет писатель убитого солдатом: «Так они вместе и остыли, костерок и солдат» [Астафьев 2009: 91]. 53 Кульминацией темы сочувствия немецким солдатам становится сцена с тяжело раненным немцем, просящим помощи и протягивающим никому не нужные часики. Мохнаков велит растерявшемуся Борису уходить и добивает смертельно раненного немца. Борис, хотя и понимает, что Мохнаков избавляет немца от мук, не может смириться со средством такого избавления. Сочувствие противнику, способность увидеть в нем не врага, но человека страдающего, полностью соответствует христианскому миропониманию, что подтверждается в учениях святых отцов православной церкви. Очень важным для понимания концепции войны Астафьева является образ Мохнакова, один из самых сложных и неоднозначных образов повести. Уже в первых сценах произведения автор изображает Мохнакова как антагониста чистого и светлого Бориса, подчеркивает темноту его души и целенаправленно снижает его образ через сравнения с собакой. Полнее всего образ Мохнакова раскрывается в сцене мародерства. Автор описывает эту сцену самыми темными красками. Если в ранних редакциях повести Мохнаков предстает скорее как герой, уставший от войны, то в последней редакции образ Мохнакова становится более реалистическим и при этом заметно ужесточается. Когда Мохнаков показывает Борису кисет, тот видит, что среди наворованного Мохнаковым есть ладанки и крестики, и это отбрасывает еще большую тень на образ старшины и вызывает ассоциации о связи Мохнакова с нечистым миром зла, где нет ничего недозволенного, потому что нет Бога. Писатель целенаправленно вводит в последнюю редакцию биографию Мохнакова, из которой становится совершенно очевидным, что этот человек не создан для мирной жизни: «Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны для фронтовой жизни. Он никогда не говорил, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять и ничего больше» [Астафьев 2009: 81]. Очевидно, что для Астафьева это неприемлемо. Война для писателя – противоестественное состояние. Пытаясь пол- 54 нее раскрыть перед читателем эту мысль, автор, психологически углубляя образ Мохнакова, усиливает в нем негативные черты. Наиболее снижающим образ Мохнакова мотивом становится мотив болезни: «Богатырь и умирать должен по-богатырски, а не гнить от паршивой болезни морально-ущербных морячков и портовых проституток» [там же, с. 80]. Данной аналогией образ Мохнакова еще более снижается. Становится очевидным, что мародерством старшина занимается с целью добыть деньги на возможность излечения, хотя и не надеется на это. Автор сознательно рисует образ Мохнакова все более темными красками: «Во всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и в крутом медвежьем загривке чудилось что-то сумрачное. В глуби его, что в тайге, которая его породила, угадывалось что-то затаенное и жутковатое, темень там была и буреломник» [там же, с. 80]. В ранних редакциях были расставлены несколько иные акценты. Так, в редакции 1971 года есть фраза «В тайге, в которой он родился». Подчеркнув, что Мохнакова породила тайга, автор словно уподобил его таежным зверям и мрачной таежной природе. Не случайно писателем используется прием сравнения героя с таежным зверем медведем. В ранних редакциях вместо слова «жутковатое» было слово «беспощадное» и не было фразы про «темень» и «буреломник». Слово «жутковатое» вносит несколько иной смысл и затемняет образ Мохнакова. Беспощадным можно и нужно быть в условиях войны, но «жутковатость» – это нечто иное, идущее действительно из глубины души и отражающее ее суть. Таким образом, в последней редакции образ Мохнакова совершенно лишается авторского сочувствия. Во внешне эффектной героической гибели Мохнакова просматривается идея расплаты за опустошенность души и безнравственность. С темным образом Мохнакова тесно связаны сны Бориса, которые играют большую роль в развитии темы войны. Мотив сна является одним из популярных приемов русской литературы. Он призван показать самые глу- 55 бинные стороны личности героя, раскрыть психологические особенности характера. С этой же целью использует мотив и Астафьев. В ранних редакциях описывался только один сон Бориса – с затопленным миром и поездом, идущим по воде. Этот сон есть и в последней редакции: «И снова виделся ему сон, снова длинный, снова нелепый, но этот начинался хорошо, плавно, и, узнавая этот сон-воспоминание, лейтенант охотно ему отдался, смотрел будто кино в школьном клубе: земля, залитая водою, без волн, без трещин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, над нею чистое-чистое небо. И небо и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз, тянет вагоны, целый состав, след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды» [Астафьев 2: 86 – 87]. Но в последней редакции перед этим сном Борис видит полусонполубред, явно навеянный жуткой физической и, особенно, психологической усталостью, обостренной тяжелой встречей с Мохнаковым и убийством раненого немца: «Виделась ему в ломаном, искрошенном бурьяне черная баня, до оконца вросшая в землю» [там же, с. 85]. Все символические детали сна описываются в темных красках и вызывают тревогу. Писатель сгущает темный колорит, и становится очевидным, что баня, да к тому же черная, несет в себе какое-то страшное, жуткое предзнаменование. Образы пламени и черной сажи ассоциируются с миром преисподней, и в таком контексте баня становится апокалиптическим символом. Борис видит идущего к бане человека с веником под мышкой, в котором первоначально узнает себя. Затем Борис видит, что он ошибся: «Человек уже не Борис, другой какой-то человек, клацая зубами, рвет на себе одежду и, подпрыгивая, орет: “Идем в крови и пламени”» [Астафьев 2009: 85]. Эта фраза перенесена в сон Бориса из системы описания Мохнакова: «“Идем в крови и пламени, в пороховом дыму”, совсем уж упившись, не пел, а рычал иногда Мохнаков, какую-то совсем уж 56 дремучую песню времен гражданской войны» [там же, с. 104]. В ранних редакциях нет упоминания этой песенной цитаты, однако в последней редакции писатель делает ее лейтмотивом. В первый раз вспоминается она Борису, когда он видит окровавленных умирающих немцев, цепляющихся за ноги. Во второй раз она приходит ему в голову, когда он видит раненых и лечащего их врача: «Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черепке ухвата, делал козью ножку из легкого табака. Он выкуривал ее над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, рваных обуток, клочков одежды, осколков, пуль, желтых косточек. В корыте смешалась и загустела брусничным киселем кровь раненых людей, своих и чужих. Вся она была красная, вся текла из ран, из человеческих тел с болью. “Идем в крови и пламени, в пороховом дыму”» [там же, с. 97]. Очень остро реагирует на проливающуюся кровь Ланцов, выразитель авторской позиции: «Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шею стоит человек, глазом не моргнет» [там же, с. 94]. Эта реплика производит тяжелое впечатление на Бориса, и во сне, как следствие, он видит буквальное воплощение слов Ланцова: человек, в руках которого часики, и который кричит: «О-о-ох война-а-ааа!», что опять же вызывает прямые ассоциации с Мохнаковым, купается в крови и получает от этого удовольствие. Очевидно, что в символическом плане человек из сна Бориса несет в мир зло, и, купаясь в крови, он не случайно становится чернее: от пролитой крови все больше зла становится в нем самом и в окружающем его мире, и этого не может выдержать чистая душа Бориса. Второй сон Бориса оказывается тесно связанным с первым. Первые строки, описывающие сон, вызывают ассоциацию с библейским рассказом о начале мира: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» [Быт. 1:2]. Но далее становится понятно, что мир уже был создан и покрылся толщей воды. 57 По воде идет паровоз, и это говорит о том, что не весь еще мир ушел под воду, но поезд – последнее, что в нем осталось. В контексте сна Бориса паровоз, идущий по воде, является своеобразной ладьей, а ладья – это символ смерти. Не случайно Борис испытывает «ощущение безнадежности и пустоты» [Астафьев 2009: 87]. На поезд садятся уставшие птицы, которые не могут найти пристанища. Их заносит в вагоны, по которым они мечутся. В ранних редакциях птиц ловил и убивал Мохнаков, в последней редакции появляется человек с веником из первого сна Бориса. Более натуралистично описывается убийство птиц. Если в первых редакциях говорилось только о том, что «Мохнаков гонялся за птицами, свертывал им головы, бросал под нары» [Астафьев 1979: 375], то в последней редакции подчеркиваются мучения птиц: «Птицы предсмертно там бились, хрипло крича: “Хильфе! Хильфе!”» [Астафьев 2009: 136]. Не случайно крик о помощи звучит на немецком языке. Это вызывает воспоминание об убитом Мохнаковым немце, который просил Бориса о помощи. Очевидно, что в данном контексте птицы во сне Бориса являются символами погибающих человеческих душ – как немецких, так русских, волею судьбы потерявших жизненную опору и плывущих к смерти, а человек из сна – это символ зла, несущий смерть и страдание. Страдание, которое он несет, в последней редакции описывается самыми темными красками и достигает своего апогея. В ранних редакциях птицы, «выскальзывая из вагона, беззвучно хлопали крыльями по воде, взбивая тяжелые, свинцовые брызги» [Астафьев 1979: 375]. В последней редакции подчеркивается кровь, которая бьет из ран птиц, и море становится кровью: «Выскальзывая из вагона, они беззвучно хлопали крыльями по воде. Были они все безголовые, игрушечно кружились на одном месте, из черенков шей ключом била кровь, и снова волны крови заплескались вокруг. И паровоз уже шел не по воде, а по густой крови, по которой вразмашку плыл человек, догоняя безголовую утку, он ее хватал, хватал ртом, зубами, но никак не мог ухватить» [Астафьев 2009: 87 – 88]. 58 В ранних редакциях сон Бориса не заканчивался описанием моря крови. Здесь опять буквально воплощается фраза Мохнакова «Идем в крови и пламени». Море крови напрямую связано с Апокалипсисом, в котором две из семи карающих чаш гнева божия делают воды кровью: «Вторый ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того» [Отк. 16: 3, 4, 5,6]. Не случайно возникает упоминание о безголовой утке. Перед смертью в госпитале Борис вспомнит, как «на его глазах однажды веселый сибирский пареван добивал гаечным ключом подраненную утку» [Астафьев 2009: 142]. В его сне страшный человек тоже гоняется за уткой, чем вызывает ассоциацию с сибирским пареваном. В данном контексте становится очевидным, почему в ранних редакциях зло олицетворял собой только Мохнаков, а в последней появляется некий загадочный страшный человек. В символическом плане сна Бориса человек этот – и Мохнаков, спокойно воспринимающий смерть, и пареван, убивающий утку, и всякий, приносящий боль и страдание в мир. Не случайно в самом начале в этом человеке Борис узнает себя. Он также, пусть и вынужденно, проливает кровь на войне, а значит, причастен к общему злу, и это море разливается от его рук тоже. Данная идея, несомненно, имеет глубокий христианский подтекст и связана с православной идеей соборности. Ощущение Борисом вины за участие в войне, в которой он, по сути, совершает правое дело, защищая свою страну от захватчиков, несомненно, исходит из заложенного в менталитете героя на подсознательном уровне чувства соборности, которое является отличительной чертой именно православного миропонимания. Таким образом, включив в описание снов героя натуралистические элементы, писатель через подсознание Бориса, страхи которого во снах принимают свое буквальное воплощение, вновь открывает перед читателем кро- 59 вавую изнанку войны, показывает ее несовместимость с нормальной жизнью и утверждает всеобщую ответственность за участие в злом деле, связанную с христианской идеей соборности. Тема христианского погребения раскрывается в эпизоде похорон пастуха и пастушки. В одной из ранних редакций повести тракторист Хведор Хомич, который говорит о набожности погибших стариков: «Воны богу молились» [Астафьев 1979: 325]. Вспоминает Хведор Хомич, как он сам «в молодости в безбожниках хаживал и стариков этих – пастуха и пастушку – все агитировал иконы ликвидировать. Но они его не послушались» [там же, с. 326]. Из более поздних вариантов эти эпизоды убраны, однако во всех редакциях звучит молитва над погибшими стариками, которую читает Ланцов, «и никто не осудил его за это: покойные-то старики» [Астафьев 1987: 94]. В последней редакции эта молитва не просто упоминается, а приводится полностью: «Боже правый духов, и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивший, и живот миру твоему дарованный, сам, Господи, упокой душу… рабов твоих» [Астафьев 2009: 27 – 28] Писатель подчеркивает, что слова молитвы действуют на всех, даже на ожесточенного Мохнакова. Автор специально вводит эпизод, в котором на похороны заглядывает мимо проходивший славянин, и Мохнаков тут же прогоняет его, чтобы он праздным любопытством не испортил скорбную атмосферу похорон, одухотворенную заупокойной молитвой. Очевидно, что автор целенаправленно вводит религиозные мотивы в описание убитых пастуха и пастушки. В религиозном контексте тема смерти в один день и в один час ассоциируется со смертью святых Петра и Февронии, которые получили такую смерть как награду за святость. Но смерть святых была легкой, смерть стариков трагична. Однако автор подчеркивает, что погибли старики, «обнявшись преданно в смертный час» [Астафьев 2009: 27], и не смогли разнять рук пастуха и пастушки. Это говорит о глубокой преданности стариков друг другу, и одновременная смерть, несмотря на тра- 60 гичность, тоже мыслится как награда за праведность и дает надежду на обретение покоя в ином мире. Любовь Бориса и Люси, которая начинает звучать во второй части, сразу после эпизода про убитых пастуха и пастушку, автор описывает как единение душ, что соответствует христианской традиции. При первом знакомстве Борис замечает необычные глаза героини: «И было в ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, подкопчено лампадками или лучиной деревенской было оно, и проступали отдельные лишь черты лика» [Астафьев 1987: 96] – так описываются Люсины глаза в редакции 1971 года, и это описание подчеркивает связь глаз Люси с иконописными изображениями. В редакции 1974 года эта тема развивается более подробно: «Но из странных, как бы перенесенных с другого, более крупного, лица глаз этих не исчезало выражение вечной печали, какую умели увидеть и остановить на картинах древние художники» [Астафьев 1979: 328]. Упоминание о древних художниках относит читателя в мир древнерусского искусства, проникнутого христианским духом, в мир древнерусской иконописи. Созданные этими художниками образы женщин, переживших страдание, соотносятся прежде всего с образом Богородицы. Тем самым автор подводит нас к главной идее: Люся в своем женском страдании, без которого невозможна жизнь, а тем более война, соотносится с Богородицей, которая выражает вечное страдание женщин всех времен. В последней редакции нет авторского отступления про древних художников, но связь глаз Люси с глазами Богородицы также отчетливо угадывается. Остается метафорическое сравнение лица Люси с иконописным ликом, подкопченным лампадками: «Он все время ловил на себе убегающий взгляд ласковым, дальним скользящим светом осиянных глаз. Будто со старой иконы или с потертого экрана появились, ожили глаза» [Астафьев 2009: 37]. Упоминание старой иконы свидетельствует о сакральной связи Люси с образом Богородицы. Однако если в первых редакциях эта связь только угадывается, и, умирая, Борис представляет Люсю как женщину «с иконописными бездонными глазами» [Астафьев 1987: 187], то в последней редакции, 61 описывая смерть Бориса, автор непосредственно вводит в текст произведения этот образ: «Музыки сиреневой он уже не слышал — перед ним лишь клубился сиреневый дым, а в загустевшей клуби его плыла, качалась, погружалась в небытие женщина со скорбными глазами богоматери» [Астафьев 2009: 149: 412]. Очень важным моментом, предшествующим любви героев, является сцена омовения Бориса, в которой также очевидно наличие религиозных мотивов. В контексте зарождающегося чувства омовение Бориса переходит в высокий сакральный план: это не просто смывание грязи, это духовное очищение перед таинством любви, которое в первый и последний раз суждено познать Борису. «Крещайся, раб божий», - говорит Борис перед омовением [Астафьев 2009: 50]; «Воскрес раб божий», — говорит он после [там же, с. 52]. В контексте этих фраз обычное корыто, в котором Борис моется, становится для него символической купелью, которая смывает с него не только физическую, но и духовную грязь, налипшую от войны. Сам Борис еще очень молод и безгрешен. Но война не могла не наложить тяжелых отпечатков на душу Бориса и не замутнить ее тяжелыми впечатлениями. Возможно, с точки зрения автора, перед таинством любви герою необходимо было пройти такое символическое очищение. Не случайно Люся отмечает, что у Бориса «глаза ровно бы тоже отмылись. Ярче алела натертая ссадина на худой шее. Весь этот парень, без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом, в ситцевом халате, до того был смущен, что не угадывался в нем окопный командир» [там же]. «Отмывшиеся глаза» говорят о воскресшей душе Бориса и в контексте «оживших» глаз Люси при встрече с Борисом свидетельствуют о живительном влиянии героев друг на друга и о зарождающейся между ними любви. Герои, предавшись на какое-то время любви, попадают в почти пасторальную идиллию, забыв о войне. Но пастораль сразу же становится «современной»: рядом с ней смерть и страдания. Борис тут же вспоминает все им пережитое. Воспоминания эти так несовместимы со светлым чувством люб- 62 ви, как вообще несовместимы любовь и война, любовь и смерть; но еще страшнее для Бориса то, что смерть может стать привычкой: «На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь... - слышал я. Беда не в этом <…> Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею... Страшно, когда само слово “смерть” делается обиходным, как слова: есть, пить, спать, любить» [Астафьев 2009: 94]. Несомненно, что в этих словах Борис является выразителем авторской позиции. Стремясь заглушить страшные воспоминания и, в то же время, желая узнать о любимом как можно больше, Люся просит его рассказать о себе. Борис рассказывает о своем маленьком городке, описывает красивую сибирскую природу, вспоминает церкви, которыми заполнен городок: «А церквей! Золотишники-чалдоны ушлые были: пограбят, пограбят, потом каждый на свои средствия – храм! И все грехи искуплены! Простодушные все-таки люди! Ну а теперь в церквях гаражи, пекарни, мастерские. По церквам кусты пошли, галки да стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой – все небо в крестиках!» [там же, с. 102]. Очевидно, что Борис вспоминает то, что ему дорого, то, что противоположно войне. В таком контексте особо значимым выглядит упоминание героем природы и церкви – это две вечные ценности, которые в своем сакральном значении несут в себе гармонию, прямо противоположною разрушительной стихии войны. Из ада войны Борис тянется к духовному. Не имеет значения, что церкви осквернены людьми. Они остались и несут в себе вечное, святое, что есть и в природе. Не случайно стрижи в небе напоминают Борису крестики. На наш взгляд, принципиально значимым для понимания авторской позиции является упоминание героем этих двух ценностей в одном ряду. Таким образом, «храм» природы и православные символы играют для него, по сути, одинаковую роль. В словах Бориса заложена еще одна очень важная для автора идея: он подчеркивает, что не испускались грехи чалдонов строительством храмов, добрыми делами. Тем самым В.П. Астафьев отвергает возможность легкого искупле- 63 ния греха. Так и грехи войны, по концепции автора, невозможно будет легко искупить всем, кто в ней участвовал. Очень значимым эпизодом повести является чтение Борисом письма матери. В символическом плане оно выражает горе всех матерей, вынужденных пережить войну. Важным является мотив молитвы. Знаменательно, что к молитве люди обращаются в момент опасности, и даже неверующий отец Бориса не перечит материнской молитве, в тайне надеясь, что она поможет: «Отец твой изобличил меня. Я на сон шепчу молитву, думала, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему поможет...» [Астафьев 2009: 107]. Провожая Бориса, Люся ведет себя как типичная русская женщина. Русским женщинам очень часто приходилось провожать мужчин на войну. Не случайно в героине такая тяга к прощальной молитве, острое ощущение необходимости ее вопреки всякой идеологии: «Раньше бы хоть помолились, сказала Люся, теребя отвороты его шинели, - но мы же неверующие. Атеисты мы несчастные. Осталось только завыть во весь голос...» [там же, с. 119]. В редакции 1974 года эта тема развивается еще более глубоко: «Завыть бы, как в старину, по-бабьи, во весь голос. Но мы же в школе учились» [Астафьев 1979: 408]. Упоминание Люсей старины говорит о том, что тяга к вере есть где-то в крови у русских людей, она заложена в самом генотипе, и никакая школа не сможет ее истребить. Проявляется это, разумеется, острее всего в трудные минуты. Просьба провожающей солдат Люси о том, чтоб они были живые, и есть молитва пусть и неумелая, но не менее искренняя и так же необходимая, как молитва женщин, которые в старые времена провожали мужчин на войну. Автор подчеркивает, что любовь меняет Бориса. Ему и до этого с трудом удавалось переносить смерть, без которой невозможна война, но любовь, которая противоположна смерти, обостряет это неприятие. Еще будучи с Люсей, в разговоре о смерти и материнском горе Борис утверждает, что теперь он лучше понимает страдание Люси и всех женщин: «Я понимаю. До 64 фронта, даже до вчерашней ночи, можно сказать, не понимал» [Астафьев 2009: 108]. Уходя от Люси, герой замечает церковь, которую почему-то не увидел ранее: «Борис подивился этой церковке, он почему-то прежде ее не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви» [там же, с. 117]. Очевидно, что внезапная любовь переродила Бориса, сумела вернуть в его душу нечто духовное, сакральное, потому и взгляд стал другой, но сшибленный купол церкви символизирует собой то, что все сакральное война разрушает, и тяга Бориса к духовности становится невозможной в условиях войны. В последней редакции повести есть эпизод, которого не было в предыдущих вариантах. Автор описывает привал бойцов на обочине дороги. Подчеркивается красота весеннего пейзажа, но он почти не оказывает влияния на усталых бойцов: «Дремлет воинство, слушает, устало смотрит на мир божий» [там же, с. 125]. Мир движется по кругу, так заведено кем-то свыше. Потому мир и божий. Но война меняет этот круговорот. Земля нуждается во вспахивании, но некому ухаживать за ней: «Ох-хо-хо-оо-о, - вздохнул Карышев, соскребая густо налипшую черную землю с изношенных ботинок - этой бы земле хлеб рожать. - А ее сапогами, гусеницами, колесом, - подхватил его друг и кум Малышев» [там же, с. 125 – 126]. В диалоге героев подчеркивается, что война нарушает Богом заведенный порядок. В контексте разговора Ланцов упоминает учение Христа – «ученье, по которому все люди — братья» [там же, с. 127], однако Борис просит его не говорить об этом на войне, так как человеческое кровопролитие изначально этому учению противоречит. Далее Борис переживает одну за другой смерть товарищей и сам получает роковое ранение. К этому времени душа его переполнена впечатлениями о смерти. Жизнь становится для Бориса мукой, страданием, его ранение легкое, но оно не заживает. Очевидно, что любовь, обострившая в герое неприятие войны и смерти, становится причиной того, что Борис более не может похристиански принимать мир и мириться со злом, в нем происходящим, следствием чего и становится его нежелание жить дальше. 65 Глава о смерти Бориса называется «Успение». В религиозном контексте «успением» называли смерть святых. Святые, праведно прожившие жизнь, легко отходили к Богу. Так же легко и тихо умирает Борис, чья душевная чистота много раз акцентировалась писателем. Аналогию с высоким жанром «жития» подчеркивает старославянизм, использованный автором при описании смерти героя: «Свет зари постепенно сузился в щелочку, потом сысподтиха и заря остыла в остекленевших зеницах» [Астафьев 2009: 149]. Умирает Борис в поезде, что заставляет вспомнить его вещий сон. При описании похорон Бориса автор использует книжное слово «погребение», что придает похоронному действию более высокий смысл. Ссмерть Бориса автор не случайно назвал «успением», очевидно следуя житийной традиции. Но тела святых после «успения» не разлагались. В последней редакции писатель подчеркивает, что труп Бориса был доведен до разложения. Над святыми читали молитву. Тело Бориса бросают в неглубоко вырытую яму, и столбик, который служит памятником, ставят не в ногах, а в голове покойного: «Постоял сторож над могилкой, попробовал перекреститься, да забыл, откуда начинать класть крест, высморкался, вздохнул и поковырял в стрелочную будку» [Астафьев 2009: 152]. В таком контексте становится очевидным, что Бориса некому помянуть, о его могиле никто не знает, и нет благодарности за смерть на войне, за выполнение долга. В сопоставлении с канонами агиографического жанра погребение «современного святого», честно выполнившего свой долг и сумевшего в пекле войны не опорочить душу, выглядит еще более недостойным. Таким образом, писатель подчеркивает, что современность, несущая войну, опровергает не только идиллию пасторали, она искажает духовные, сакральные основы бытия. Через много лет седая женщина, в которой с трудом можно узнать Люсю (хотя в тексте повести не сказано, что это именно она), находит потерянную могилу. Вновь звучит тема единения душ, которые должны соединиться посмертно на небесах, как и следует по христианской вере. 66 «Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас» [Астафьев 2009: 153]. Таким образом, автор утверждает, что любовь — вечная духовная ценность. Она сильнее смерти, а, значит, сильнее разрушительной стихии войны. Война, по мнению В.П. Астафьева, оскверняет Божий мир и противоречит Божьим заповедям. Религиозные мотивы в повести заостряют сходство войны с Апокалипсисом. Чтобы подчеркнуть противоестественность войны, писатель противопоставляет ей такие вечные духовные ценности, как любовь, созидание, труд на земле, дающей жизнь. Жизнь, по концепции В.П. Астафьева, должна быть мирной, несущей созидание, поэтому автором особенно подчеркнута чрезвычайно важная для него тема материнства, выраженная в образе возрождающейся земли, в письмах матери Бориса, в образе Люси, символизирующей собой всех страдающих женщин, в образе Богородицы, с которым писатель символически соотносит образ Люси. 67 Заключение Литературный критик В. Тыцких как-то сказал, что В.Астафьев – это «писатель, который не оглядывался назад и не озирался по сторонам» [Тыцких 2003: 5]. Отзывчивость В.П. Астафьева на все острые и болезненные для общественного сознания второй половины XX века проблемы сделали его творчество актуальным для современников. Творчество В.П. Астафьева представляется явлением универсальным в тематическом и жанровом отношениях и одновременно глубоко цельным и оригинальным по своей нравственно-философской сути. Универсальность творчества Астафьева родственна универсализму всей русской литературы. Это не только свойство тематики и проблематики его произведений. Универсальность прозы Астафьева связана с его представлениями о высокой проповеднической функции литературы, которая реализовалась в создании универсальных по семантике и функции образов и синтетических жанровых форм. В. Астафьев на разных этапах своей творческой эволюции был близок к различным литературным течениям и направлениям. Очевидно, что в разные годы прозаик был созвучен по комплексу идей, по характерным темам самым разным писателям. Однако близость по тематике и жанровой специфике астафьевских произведений другим произведениям русской классической литературы («Звездопада» и «Последнего поклона» - «лирической» прозе, «Оды русскому огороду» и «Царь-рыбы» - «деревенской прозе», повести «Пастух и пастушка» - «военной» прозе) не означали для В. Астафьева «растворения» в подобных явлениях литературного процесса. Так, например, в «военную» прозу В. Астафьев привносит романтическую любовную коллизию и лирическую исповедальность, свойственное для «деревенщиков» противопоставление войне и смерти жизнесозидающих труда на земле и пасторальной любви. 68 Повесть В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» по праву является лучшим произведением военной тематики. Это произведение удивило читателей, прежде всего, его жанровым обозначением – «современная пастораль», что предполагает возрождение пасторальной традиции в контексте литературы о войне последней трети ХХ века. В ходе литературоведческого анализа данного исследования нами были сделаны следующие выводы: 1. Пастораль как жанр и как концепция жизни в повести «Пастух и пастушка» противопоставляется Астафьевым войне. Он сталкивает сентиментальное мироощущение (пастух н пастушка, пастораль, чувствительность, единственная любовь) с грубым бытом войны. На протяжении всей повести действуют символы-образы пастуха и пастушки. Они помогают писателю раскрыть чувствительность, ранимость, неординарность главного героя, несовместимость его с жестокой реальностью войны и в то же время способность на необычную, возвышенную любовь. 2. Повесть «Пастух и пастушки» построена на соединении чисто реалистических картин военного быта и символической образности. В целом, повесть реалистична, потому что нельзя говорить о войне вне так называемой «окопной» правды. Поэтому под пером Виктора Астафьева, признанного мастера словесного изображения, оживают картины боя, которые написаны убедительно, зримо, хотя порой «окопная» правда излишне натуралистична. Реализм повести проявляется в том, что она строится на контрасте разрушительной силы войны и жизнеутверждающей, возвышающей силы любви, светлых начал в душе главного героя. Главная сюжетная линия повести «Пастух и пастушка», связанная с лейтенантом и Люсей, тоже имеет реалистически конкретный характер. Но образы героев повести, персонифицирующиеся с помощью особых приемов, часто получают обобщенно-символический характер. 69 Символистическое начало актуализируется в повести за счет сближения реалистических образов с образами традиционно символическими. 3. В повести «Пастух и пастушка» В.П. Астафьев обращается христианским мотивам, образам и идеям. Уже в редакции 1971 г. присутствуют религиозные мотивы и символы, связанные с утверждением авторской концепции войны, как явления, противоречащего Божьим заповедям. В последней редакции писатель усиливает религиозные мотивы с целью акцентировать художественные идеи, связанные с утверждением христианских истин: противоречие войны Божьим заповедям, сходство войны с Апокалипсисом, неприятие гордыни людей, взявших на себя право повелевать чужими судьбами, утверждение всеобщей вины и ответственности за участие в братоубийстве, что тождественно христианской идее соборности. 70 Список использованной литературы 1. Астафьев В.П. Ария Каварадосси: Рассказ // Прикамье. – 1959. – № 26. – С. 51 – 58. 2. Астафьев В.П. Всему свой час. – М.: Мол. гвардия, 1985. – 254 с. 3. Астафьев В.П. До будущей весны. – Молотов: Молот. кн. изд-во, 1953. – 152 с. 4. Астафьев В.П. Звездопад // Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Т. II. – Красноярск: Офсет, 1997. – С. 181 – 258. 5. Астафьев В.П. Комментарии // Собрание сочинений: В 15 т. Т. 3. Пастух и пастушка. Рассказы. – Красноярск: Офсет, 1997. – С. 453. 6. Астафьев В.П. Нет, алмазы на дороге не валяются. // Астафьев В.П. Посох памяти. – М.: Современник, 1980. – С. 34 – 50. 7. Астафьев, В. П. Пастух и пастушка // Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 1. – М.: 1979. – С. 299 – 438. 8. Астафьев В.П. Пастух и пастушка // Военные страницы: повести и рассказы. 2-е изд. – М.: Мол. гвардия, 1987. – С. 78 – 189. 9. Астафьев В.П. Пастух и пастушка // Астафьев В.П. Последний осколок. Повести и рассказы. – М.: Эксмо, 2009. – С. 7 – 153. 10.Астафьев В.П. Пересекая рубеж. Ответы журналу «Вопросы литературы» (беседу вел критик А. Михайлов) // Собрание сочинений: В 15 т. Т. 12. Публицистика. – Красноярск: ПИК «Офсет», 1998. – С. 205 – 231. 11.Астафьев В.П. Подводя итоги // Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Т. I. – Красноярск: Офсет, 1997. – С. 5 – 64. 12.Астафьев В. П. Посох памяти. – М.: Современник, 1980. – 368 с. 13.Астафьев В.П. Про то, о чем не пишут в книгах // Литературная газета. 1979. – 10 октября. – С. 6. 14.Астафьев В.П. Старая лошадь // Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Т. III. – Красноярск: Офсет, 1997. – С. 143 – 148. 15. Астафьев, В.П. Собр. соч.: В 4 т. – М.: Мол. гвардия, 1979. 71 16.Астафьев В.П. Собр. Соч.: В 6 т. – М.: Молодая гвардия, 1991. 17.Большакова А.Ю. Русская деревенская проза XX века: Код прочтения. – Шумен.: Аксиос, 2002. – 160 с. 18.Бочаров А.Г. Человек и война: Идеи социалистического гуманизма в послевоенной прозе о войне. М., 1973. 19.Бухаркин П. Е. Православная Церковь и русская литература в XVIIIXIX веках: (Проблемы культурного диалога). – СПб.: Изд-во СПетербург. ун-та, 1996. – 172 с. 20.Бухаркин П.Е. Православная Церковь и светская литература в новое время: основные аспекты проблемы // Христианство и русская литература: Сб. ст. / Рос АН. Институт рус. лит. (Пушкин, дом); Сб. 2; Отв. ред. В. А. Котельников. – СПб: Наука, 1996. – С. 32 – 60. 21.Вахитова Т.М. Народ на войне (Взгляд В. Астафьева из середины 90-х. Роман «Прокляты и убиты») // Русская литература. – 1995. – № 3. – С. 121 – 124. 22.Гайдаш О.Н. Отражение православного мироощущения в творчестве В.П. Астафьева // Феномен В. П. Астафьева в общественно-культурной и литературной жизни конца XX века: Сб. мат-лов. I международной научной конференции, посвященной творчеству В.П. Астафьева. Красноярск, 7-9 сентября 2004 г. / Отв. ред. Г. М. Шленская; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2005. – С. 226 – 230. 23.Гончаров П.А. Творчество В.П. Астафьева в контексте русской прозы 1950-1990-х годов: монография. – М.: Высшая школа, 2003. – 386 с. 24.Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII-XX вв. – М.: Издательский Совет Рус. Правосл. Церкви, 2002. – 1056 с. 25.Дунаев М.М. Православные основы русской литературы XIX в.: дис. в форме науч. докл. ... докт. филол. наук. – М., 1999. – 49 с. 26.Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1995. – 288 с. 72 27.Зайцев В.А. История русской литературы второй половины ХХ века. – М.: Высшая школа, 2004. – 455 с. 28.Ковалев Ю. Спустимся на землю // Вопросы литературы. – 1998. – Май – Июнь. – С. 49 – 58. 29.Курбатов В. Я. Миг и вечность. Размышления о творчестве В. Астафьева. – Красноярск, 1983. – 168 с. 30.Леонов Л.М. Собрание сочинений: В 10 т. – М.: Художественная литература, 1983. – Т. 8. – 319 с. 31.Макаров А.Н. Идущим во след. – М., 1969. 32.Максимов С.В. Куль хлеба. Нечистая, неведомая и крестная сила. – Смоленск: Русич, 1995. – 672 с. 33.Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1984. – 797 с. 34.Перевалова С.В. «Особая география памяти» (Образ автора в русской прозе 1970 – 1980-х годов. В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, B.C. Маканин). – Волгоград, 1997. – 312 с. 35.Прокопенко Н.М. Жанр пасторали и его актуализация в рассказах и повестях В.П. Астафьева 1960-1980-х годов: Автореф. … канд. филолог. наук. – Ишим, 2010. – 24 с. 36.Русская литература XX века: В 2-х т. Т. 2. / Под ред. Л.П. Кременцова. – М: Издательский центр «Академия», 2005. – 464 с. 37.Синило Г.В. Библейские корни европейской пасторали // ПАСТОРАЛЬ – ИДИЛЛИЯ – УТОПИЯ: сб. научн. тр. / Отв. ред. Т.В. Саськова. – М.: Альфа, 2002. – С. 11. 38.Соколов А.К. Наука, искусство и социальные реалии минувшего столетия // Отечественная история. – 2002, – № 1. – 39.Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. II. – М., 1987. 40.Тресиддер Дж. Словарь символов. – М.: Фаир - ПРЕСС, 1999. – 448 с. 41.Тыцких В. Непоследний поклон // Литературная Россия. – 2003. – №16. – С.5. 42.Яновский Н. Виктор Астафьев. – М.: Сов. писатель, 1982. – 271 с.