Японизм в русской культуре - Сектор сравнительного изучения
реклама
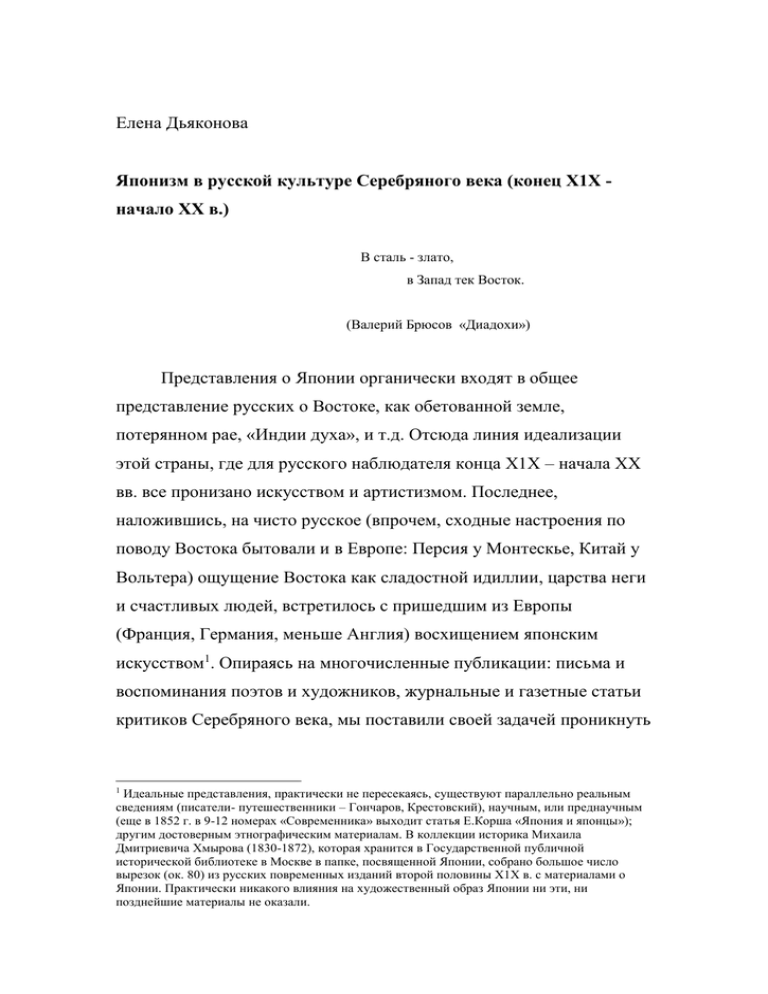
Елена Дьяконова Японизм в русской культуре Серебряного века (конец Х1Х начало ХХ в.) В сталь - злато, в Запад тек Восток. (Валерий Брюсов «Диадохи») Представления о Японии органически входят в общее представление русских о Востоке, как обетованной земле, потерянном рае, «Индии духа», и т.д. Отсюда линия идеализации этой страны, где для русского наблюдателя конца Х1Х – начала ХХ вв. все пронизано искусством и артистизмом. Последнее, наложившись, на чисто русское (впрочем, сходные настроения по поводу Востока бытовали и в Европе: Персия у Монтескье, Китай у Вольтера) ощущение Востока как сладостной идиллии, царства неги и счастливых людей, встретилось с пришедшим из Европы (Франция, Германия, меньше Англия) восхищением японским искусством1. Опираясь на многочисленные публикации: письма и воспоминания поэтов и художников, журнальные и газетные статьи критиков Серебряного века, мы поставили своей задачей проникнуть Идеальные представления, практически не пересекаясь, существуют параллельно реальным сведениям (писатели- путешественники – Гончаров, Крестовский), научным, или преднаучным (еще в 1852 г. в 9-12 номерах «Современника» выходит статья Е.Корша «Япония и японцы»); другим достоверным этнографическим материалам. В коллекции историка Михаила Дмитриевича Хмырова (1830-1872), которая хранится в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве в папке, посвященной Японии, собрано большое число вырезок (ок. 80) из русских повременных изданий второй половины Х1Х в. с материалами о Японии. Практически никакого влияния на художественный образ Японии ни эти, ни позднейшие материалы не оказали. 1 в атмосферу, сделавшей возможным возникновение именно такого образа Японии в России. Параллельно существовало в обществе и модное представление о «желтой опасности», которой принято было ужасаться, не особенно вникая в ее природу. На это поветрие наложила отпечаток и всеобщая тяга к «зловещему», характерная для конца века (подробнее об этом будет ниже). Причем один человек мог разделять и восхищение идеальной страной Японией, ее художниками, и ужас перед угрозой с Востока (это, кстати, типично для бытования «восточного мифа» в Европе и в России)2. Идя по пути европейских собратьев, русские художники вводят в свои картины «визуальные образы» Японии: веера, куклы, гравюры, фарфор, кимоно (подчас не различая японские и китайские вещи – мода на Японию все превращала в японизм). Приведем в пример картину Б. Кустодиева «Японская кукла» (рис.1). Поэтому попытки указать более глубинные формы заимствования сводились, как правило, к простому перечню всевозможных видов родства, без всяких – кроме чисто зрительных – доказательств такового. Может быть, в наиболее общем виде направления заимствований в изобразительном искусстве, возможно, продиктованных влиянием японской гравюры, сводятся к: 1) плоской манере письма; 2) непринужденной ритмической игре линий; 3) особому орнаменту из природных мотивов; 4) цветовым характеристикам (об этом писал в Например, выдержка из письма В.Брюсова к П.П.Перцову от 24 марта 1904 г. «Печать и революция», 1926, N 7, с.42: «Ах, война! Наше бедствие выводит меня из себя. Давно пора бомбардировать Токио... Я люблю японское искусство. Я с детства мечтаю увидеть эти причудливые японские храмы, музеи с вещами Киенаги, Оутомара, Ейси, Тоекуни, Хиросими, Нокусай и всех, всех их, так странно звучащих для арийского уха... Но пусть русские ядра дробят эти храмы, эти музеи и самих художников, если они там еще существуют. Пусть вся Япония обратиться в мертвую Элладу, в руины лучшего и великого прошлого, - я за варваров, я за гуннов, я за русских! Россия должна владычествовать на Дальнем Востоке, Великий Океан – наше озеро, и ради этого долга «ничто» всей Японии, будь их десяток!...» (Написание японских фамилий а совести Валерия Брюсова. 2 1902 г., например, критик Адольф Брюнинг в статье «Влияние Китая и Японии на европейское искусство»3). Впервые термин «японизм» употребил в 1872 г.французский художественный критик Ф.Бюрти, когда европейская публика заговорила о воздействии японского искусства на современную им культуру Европы. Указанные направления японского влияния воздействовали на русских художников и писателей почти исключительно опосредованно – через Европу, и не всегда распознавались как именно японские. Так, в области промграфики, дизайна интерьеров и книжного оформления можно говорить о воздействии О. Бердслея и других модных европейских графиков и – только через них – японских художнико. Среди художников- «посредников» ТулузЛотрек (рисунок, плакат, афиша), Моне (живописные серии, запечатлевшие один и тот же объект в разных ракурсах и состояниях), Дега (позы танцовщиц). Об этом писал, в частности, японский искусствовед Кобаяси Тайтиро4 и S.Wihmann5 Важным эпизодом истории знакомства России и Японии, а заодно и непосредственного – не через Европу – влияния японского на русскую культуру были выставки японских художников, организованные на рубеже Х1Х-ХХ вв. Сергеем Николаевичем Китаевым. Это были первые попытки представить русской публике японское искусство. Именно с них начался настоящий «японский выставочный бум»: зима 1901-1902 гг. – выставка японских гравюр из собрания князя С.А.Щербатова и В.В. фон Мекк; 1905 г.— выставка гравюр Хасэгава; 1906 г. – выставка китайских и японских Адольф Брюнинг. «Влияние Китая и Японии на европейское искусство». – Вестник воспитания, 1902, N9. С.170. 4 Кобаяси Тайтиро. Хокусай то Дега. Осака, 1947. 5 Wihmann S. Japonisme. Paris, 1982, р. 26-30. 3 произведений искусства и промышленности, предметов культа и обихода из коллекции Н.Р. Калабушкина. Выставки С.Н. Китаева были показаны сначала в Санкт Петербурге, в Академии художеств (1-5 дек. 1896 г.), затем в Москве, в Историческом музее 03-23 февраля 1897 г.). Третья и последняя выставка состоялась в 1905 г. в Санкт Петербурге. В периодике появился калейдоскоп противоречивых и сменяющихся мнений. Особенно газеты помогли формированию мнения публики. Об организаторе выставок, С.Н.Китаеве не знал почти никто. В 1995 г. из статьи хранителя японского искусства В.Г. Вороновой6 стало ясно, что специалисты наконец-то заинтересовались его наследием. Родился Китаев в Рязани в 1864 г. окончил в Санкт-Петербурге высшее морское училище. С лета 1885 г. почти непрерывно находился в заграничных плаваниях. Вскоре после возвращения он пишет И.В.Цветаеву, создателю Музея изобразительных искусств в Москве, а также президенту Академии художеств, что проведя в Японии три с половиной года, он собрал до 250 японских картин, несколько сотен этюдов, эскизов и несколько тысяч цветных гравюр. В числе художников представители всех школ японской живописи, почему выставка их произведений может дать понятие об японском художестве. Постоянно обсуждался с арабистом С.Ф.Ольденбургом, японистом-искусствоведом С.Г. Елисеевым и членами закупочной комиссии вопрос о покупке коллекции. Вот что пишет он вскоре после возвращения И.В. Цветаеву, создателю Музея изобразительных искусств в Москве, а также президенту Академии художеств: «Проведя в Японии три с половиной года, я собрал до В.Г.Воронова. Сергей Николаевич Китаев и его японская коллекция. – В сб.:Частное коллекционирование в России: материалы научной конференции «Випперовские чтения» 1994 г. Вып. 27. С.160-165. Есть и более новая работа на японском языке: Исигаки Кацу. Серугей Китаефу то дайни-нщ фурусато Нихон. (Сергей Китаев и его вторая родина Япония). – В сб. Росия то Нихон (Россия и Япония). Токио, 2001. Т.4, сс.105-121. 6 250 японских картин, несколько сотен этюдов, эскизов и несколько тысяч цветных гравюр. В числе художников представители всех шкло японской живописи, почему выставка их произведений может дать понятие об японском художестве. Желая познакомить русское общество со своеобразным японским искусством, позволяю себе просить на обычных условиях Тициановскую залу японской живописи (и часть круглой галереи) для помещения щитов с наиболее интересными цветными гравюрами и раскрашенными фотографиями; этих последних у меня 100 штук, расположенных последовательно в известной системе. Чтобы охарактеризовать задачи и краткую историю тысячелетней японской живописи, я хочу прочесть три публичные лекции»7 Выставки Китаева вызвали неподдельный интерес, и по отзывам в прессе можно составить представление о его коллекции. В нее входили живописные свитки, рисунки и иллюстрации, эскизы и этюды (ситаэ), гравюры, свитки (какэмоно), альбомы, сборники, цветные ксилографии, «парчевые картины» (нисикиэ), а также фотографии и акварели на японские темы, выполненные самим Китаевым. Санкт-Петербургские и московские издания отозвались на выставки достаточно пространными материалами, публикация которых в некоторых газетах носила характер чуть ли не постоянной рубрики. Так Н.А.Александров и некто «г-н Ф.В.» помещали на страницах ведущих изданий – «Биржевых ведомостей», «Нового времени» за 1896 г. статьи посвященные первой японской художественной выставке. Об этом же писал «Московский листок», «Сын отечества», «Московские ведомости», «Русские ведомости». 7 Цит. по: «Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России в начале 20 века». М., 1970, с. 232. Эти публикации – первый опыт осмысления иной культуры, иных подходов к рисунку, цвету и т.д. В публикациях, как правило, присутствует «история вопроса»: рассказывается об отдельных школах живописи, например, о школе «японского Дорэ» - Хокусая, а также Сёдзо Кё:сай. Об этом же писал «Московский листок», «Сын отечества», «Московские ведомости», «Русские ведомости». Эти публикации – первый опыт осмысления иной культуры, иных подходов к рисунку, цвету и т.д. В публикациях, как правило, присутствует «история вопроса»: рассказывается об отдельных школах живописи от школы тосо (ХШ в.) до школы «японского Дорэ» - Хокусая, а также Седзо Ке:сай (ХУШ-Х1Х вв.). В «Ниве» N5 за 1897 г. можно ознакомится с описанием символики японских картин с выставки Китаева. “Новое время” отмечает бесконечное чередование , компановку сюжетов. Весь секрет газета определяет как возможность комбинаций и сочетаний намеков и полунамеков японских картин с выставки Китаевапри ограниченном наборе сюжетов и тем японских картин с выставки Китаева7.. Не без проницательности журналист отмечает разность двух типов мировидения: с одной стороны, - техника “рационального глаза”, “рациональной руки” и столь же рационализированное декартовское мышление под девизом “Cogito ergo sum», с другой – техника намеков, облеченный в фантазийность, посредством отказа воплощать натуру и «посредством... выражения движения, схваченного в его непосредственной жизненности»8. «Биржевые ведомости» касаются и неудачной попытки европеизировать японскую живопись, устроив в Токио школу искусств с приглашением итальянцев («Желательно 7 8 37459 японских картин с выставки Китаева. Новое время. Спб., N 7459, 1 декабря 1896 г. Там же, N 7460, 2 декабря 1896 г.. было бы видеть, как японцы овладевают европейской техникой и что они внесут в нее своего»9). Другой журналист писал: «Если японскому художнику всякое обевропеивание угрожает тяжеловесностью и утратой его проворства, составляющего его оригинальность, то и при обяпонивании европейской живописи, трактующей свои сюжеты при помощи карандаша и масляных красок, которые ставят ей совершенно иные эстетические задачи, при обяпонивании европейский художник рискует сделаться поверхностным.»10. Постигая японскую манеру письма, европейцу оставалось еще раз задуматься в его собственном творческом восприятии реальности об утрате им чувства декоративности, колорита, красоты форм, виртуозности исполнения. Ему в который раз приходилось задумываться о необходимости возвышения над грубой материальностью и выхода из “кризиса протокольного мироощущения”11. Помянутый Н.Александров в «Биржевых ведомостях» озаглавил свою статью «Гениальные дети (Японская художественная выставка)»12, а текст пестрит выражениями типа: «замечательно женственный вкус», «нежные легкие черты», «мягкий абрис», «сильная впечатлительность», «экспрессия, тонкая наблюдательность», выразительность движений и их типичность», «незавершенность рисунка» – все, по его мнению, должно свидетельствовать о «детской гениальности». Кроме общеевропейской тяги того времени ко всему естественному, 9 «Биржев. ведомости», СПб., N 346, 15 декабря 1896 г. «Новое время», 2 дек. 1896, N 7460. Московский листок, М., N 34, 3 фев. 1897 г. 12 Н.Александров. Гениальные дети (Японская художественная выставка). «Биржевые ведомости» (15 (17) декабря 1896 г., N 346. 10 11 природному, «не испорченному цивилизацией» (Гоген на Таити) в этом был и отзвук столь популярной в те годы в художественной среде теософии, по учению каковой, всякая художественная интуиция свойственна «расам будущего», отдельные представители которых засылаются в среду «старой расы» и выделяются именно «детской гениальностью». «Нас влечет к молодым, потому что мы от старости впадаем в детство, - » писал Андрей Белый в «Арабесках»13. Любопытно, что тут же Белый, спустя всего год, в 1908 г. начинает отзыв на книгу Нины Петровской «Sanctus amore» такими словами: «разве так бывает... Это красивый японский рисунок, а не городская весенняя ночь, - восклицает героиня одного из рассказов “Sanctus amore”. «Разве так бывает?» восклицает , прочтя книжечку Нины Петровской - «это японский рисунок, а не святая любовь»14 Т.е. высокое, войдя в обиход, опошляется, становится темой пародии. А в своем прославленном романе «Петербурге» Белый уже говорит исключительно о «желтой опасности». Еще следует отметить общий «пассеизм» (т.е. любовь к тому, что прошло, к старине) эпохи – художники объединения «Мир искусства» (мирискусники) с их приверженностью к ХУ11 – ХУШ вв., общий интерес к средневековью, как воплощенной мечте о синтезе искусства и ремесла, как в средневековых цехах – (вспомним Талашкино, Абрамцево – в России). Проницательный Андрей Белый писал: «... едва для Гонкуров запела японская живопись, как Эдурад Мане воскресил ее в своем творчестве; и появились затем труды Гондза, Ревона, Томкинсона и др., посвященные японцам, а Обри Бердслей в японцах воссоздал наш 13 14 Андрей Белый. Арабески. М., 1911.С.62 Там же, с 347. век, чтобы потом сблизить его с Ватто»15. И далее прозрачная аналогия тяги к японцам и французскому художнику УШ в. Ватто: «... тональностью гаммы оказалась волшебная страна, растворенная в лазури; страна, где небо и земля – одно, и пока сознавалась эта страна как мечта, где в будущем воскресает прошлое, а в прошлом живет будущее, но где нет настоящего, символическая картина Ватто «Embarquement pour Cythere» («Отплытие на остров Цитеру» сравните с названием первого сборника Герогия Иванова) (кстати известно, что Ватто были известны произведения китайского искусства по коллекциям короля Людовика Х1У в Версале – Е.Д.) – стала девизом творчества, и ХУ11 век в утопиях ожил опять. Этот неосознанный еще трепет есть сознание окончательной реальности прадедовской утопии о стране мечты»16. В России уже в 1903 г. появилась первая работа о японских гравюрах: Игорь Грабарь «Японская цветная гравюра на дереве». Его друг М.В. Добужинский писал: «...у Грабаря я познакомился с японскими гравюрами, их у него была большая и очень хорошая коллекция, и японское искусство тогда впервые меня «укололо»17. И еще «Грабарю я также обязан первым знакомством с японским искусством – еще в Мюнхене я видел у него гравюры Хокусая, Хиросигэ и Утамаро. В 1902 г. в Петербурге появился маленький и веселый японец Хасэгава, немного говоривший по-русски, который посещал многих художников и приносил превосходные японские гравюры, и их у него охотно раскупали, тем более что и цены были невысокие. Это было за три года до японской войны, и многие потом, вспоминая Хасэгаву, полагали, что он был соглядатай и Там же, с.52. Там же, с.52. 17 Игорь Грабарь. Японская цветная гравюра на дереве. М., 1903. 15 16 какой-нибудь офицер японского генерального штаба, может быть, тоже генерал! Я сам, хотя и не мог много тратить, купил несколько гравюр и книжку «Манга» Хокусая. Особенно поражал меня Хиросигэ своей неожиданной композицией и декоративностью своих пейзажей. Его выбор угла зрения и «отрезка натуры» был огромным для меня открытием»18. И признается: «Я любил выбрать свою точку зрения, чтобы композиция была острой, небанальной, и тут передо мной был все время пример Хиросигэ»19. Прославленный художник объединения художников «Мир искусства» Александр Бенуа писал в книге «Мои воспоминания» «...их [японцев] чудесное искусство, вся их прелестная культура, которая мне и моим друзьям так полюбилась за последние годы. Полюбилась она настолько, что многие из нас обзавелись коллекцией японских эстампов, а Хокусай, Хиросигэ, Кунноси, Утамаро стали нашими любимцами.”20. Их общий приятель художник и коллекционер князь Сергей Щербатов (1875-1962), тоже учившийся в Мюнхене, говорил: «Культ китайского и японского искусства, которые благодаря братьям Гонкур, охватил Париж и весь Запад, в то время еще не успел проникнуть в Россию... Во время моего пребывания в Мюнхене я с Грабарем очень увлекся собиранием японских гравюр по дереву... Какие это были милые времена, и сколько было юношеского увлечения и чистой радости, когда удавалось приобрести чудесного Утамаро, Хиросигэ, Хокусай и др. Что это были за мастера, какая утонченность композиции, какой вкус! Целые часы я проводил в моей любимой лавочке, где симпатичный М.В. Добужинский. Воспоминания. М., 1987. С.164. 18 Там же, с. 192. А.Бенуа. Мои воспоминания. Т.П, М., 1990. С.369. 19 20 японец вынимал из папок «для любителей» все новые и новые скрытые у него чудеса. Вспоминается особый экзотический запах этой сказочной лавочки, длинные черные усы старого японца и его таинственный голос, когда он полушепотом на ухо объявлял: «Для вас я имею что-то совсем особенное», - и он вынимал из своей сокровищницы какой-нибудь особенно изысканный лист. Публике показывались более простые и вульгарные оттиски.» Щербатов продолжал покупать гравюры в Париже и Берлине: «Об одном из них, портрет женщины Утамаро на фоне старого серебра, необычайной утонченности, я не могу вспоминать без щемящего чувства.»21 Тяга к странствиям была в крови русских деятелей Серебряного века. Общеизвестны странствия Николая Гумилева в Африку, Константина Бальмонта в Азию, мысленные путешествия Валерия Брюсова, когда он создавая величественное здание “Снов человечества”, желал объять все времена и все народы. “Не женский взгляд меня манит / Географическая карта,” - писал Гумилев. Максимилиан Волошин (1877 - 1934) известен как поэтсимволист, оказавшийся шире символизма, проницательный критик, художник, создатель несравненных акварелей, оригинальный мыслитель. Изучал историю цивилизиций Востока и Запада, Египет, Индию, Японию, европейскую культуру от средневековья и до парнассцев; оккультизм, теософию, буддизм, Библию, Коран, книги Кабаллы, индийскую мифологию, увлекался учением Рудольфа Штейнера - антропософией. 21 Там же, с. В юности в 1900 г. был сослан в Ташкент, поднимался на Памир, бывал на границе с Китаем, Монголией и переходил ее. Мудрой судьбой закинутый в сердце Азии я ли не испытал В двадцать три года всю гордость изгнанья В рыжих песках туркестанских пустынь. Я проходил по тропам Тамерлана, Отягощенный добычей веков, В жизнь унося миллионы сокровищ В памяти, сердце, ушах и глазах. Волошин путешествовал по северу Африки, обошел, по его словам, «все пляжи Средиземноморья», побывал в Каире, в Александрии, Константинополе, четыре раза пересек Европу по разным маршрутам, видел Испанию, Италию, Швейцарию, Андорру. Взглядом я мерил с престола Памира Поприща Западной тесной земли... Такие странствия означали для поэтов и художников Серебряного века них не просто туризм в пошлом значении этого слова, а поиски новых впечатления и представлений и в конце концов – поиски необходимого им нового поэтического языка. О путешествиях Максимилиана Волошин писал И.С.Смирнов в статье “Все видеть, все понять…” (Запад и Восток Максимилиана Волошина)”: “Восток – несбывшаяся мечта Волошина. Ближе всего к ее осуществлению он стоял в самом начале своего творческого пути, когда некоторое время прожил в Туркестане. Не раз потом он возвращался в стихах и письмах к этой жизни у “гималайских ступеней”, не раз замышлял повторить этот путь, продлив его до Китая, Японии, но судьба судила иначе. Не побывав на Востоке, он жаждал приобщиться восточной мудрости”22. Отсюда и увлечение Волошина творчеством французского писателя Поля Клоделя, знатока Китая, создавшего несколько “китайских” пьес; известна примечательная статья Волошина “Клодель в Китае”. В блестящей статье о Сарьяне Волошин много говорит об отношении европейского искусства к Востоку, выступает против вы холащивания этой связи до уровня “пряной экзотики”, надуманного “ориентализма” и утверждает, что “хотя искусство Сарьяна и отражает Восток, однако он не ориенталист”, “в его творчестве нет любопытствующего взгляда путешественника”23. Очевидно, что он точно осознавал хрупкую грань между “ориентальным” духовным туризмом и попыткой усвоить, растворить в себе чуждый восточный материал. «В Париж я еду не для того, чтобы поступить на какой-то факультет, слушать того-то и то-то – это все подробности, это все между прочим. Я еду, чтобы познать всю культуру в ее первоисточнике и затем, отбросив все «европейское» и оставив только человеческое, идти учится к другим цивилизациям, «искать истины» в Индию и Китай. Да и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком, с мешком за спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности… а после того в Россию окончательно и навсегда.»24 И.С.Смирнов. «Все видеть, все понять…» (Запад и Восток Максимилиана Волошина). В: Восток – Запад. М., 1985, с. 177. 23 М.А.Волошин. М.С.Сарьян. – В кн.: Лики творчества Л., 1988, с.302. 24 М.А.Волошин. О самом себе. – В кн.: Максимилиан Волошин – художник. М., 1976, с.46 22 Средняя Азия, Ташкент, Самарканд, этот «среднеазиатский Рим», Индия, Китай, Япония – это вехи сбывшихся и несбывшихся странствий Волошина на Восток. . Я возвращался, чтоб взять и усвоить, Все перечувствовать, все пережить, Чтоб осязать полноводное устье С чистым истоком Азийских высот… Я Вечный жид. Мне люди – братья. Мне близки небо и земля. Все видеть, все понять, все знать, все пережить, Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, Пройти по всей земле горящими ступнями, Все воспринять – и снова воплотить… Мы в тюрьме изведанных пространств… Старый мир давно стал духу тесен. Замысел окольного, через Европу постижения Востока был не чужд многим деятелям культуры Серебряного века, это был самый естественный путь; Япония и Китай пришли в Россию с Запада, через Францию, Англию, Германию. Париж был для Волошина местом, где соединялись все пути, где светились драгоценным светом все цивилизации. он ценил этот необыкновенный перкресток культур именно за то, что он придавал взгляду художника необыкновенную глубину и стереоскопичность. Для нас Париж был ряд предверий В просторы всех веков и стран, Легенд, историй и поверий… Интересовался религиями, записался на отделение истории религий в Сорбонне; каждодневные занятия в Национальной библиотеке, систематически, изо дня в день, лекции по искусству в Луврской школе музееведения, академию живописи Коларосси. В период увлечения буддизмом, Волошин писал: «Я решил оставить пока Париж и осенью поеду сперва на Байкал, где у меня будут письма в некоторые буддийские монастыри, а потом в Японию – учится рисовать. Я еду искать внеевропейской точки опоры, чтобы иметь право и возможность судить Европу»25. Этими строками Волошин обязан знакомству в Париже с хамболамой Агванам Доржиевым, один из семи управителей Тибета. Это был забайкальский бурят, окончивший буддийскую философскую школу в Тибете, путешествовал по Китаю и Индии, побывал в Петербурге, был доверенным лицом далай-ламы. В одном из писем Волошин писал: «От него я, например, узнал, что в буддизме всякая пропаганда идеи считается преступлением, как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством…». Известно, что Волошин читал популярную в те годы книгу Эдвина Арнольда «Свет Азии», в которой довольно приблизительно излагалось буддийское учение. Там, в гравюрном кабинете Национальной библиотеки, музее Гимэ и других музеях Парижа Волошин ищет и находит все то, что будет составлять его духовный пейзаж. Хмель городов, динамит библиотек Книг и музеев отстоенный яд… В Париже представлялось много других возможностей кроме музейных и библиотечных, там открыты были уже упоминавшиеся выше магазины Бинга, мелкие антикварные лавочки, в которых продавались заморские диковины – японские вещи (веера, кимоно, зонтики, украшения и японские гравюры). В Париже Волошин собрал небольшую коллекцию японских гравюр, правда, второстепенных художников. Эти гравюры украшали, по сообщениям очевидцев и по собственным свидетельствам Волошина, его мастерскую в Париже, а сейчас находятся в Доме поэта в Коктебеле. Покупка японских гравюр (нисикиэ – парчевых гравюр Кунисада, Куниёси, их называли “парчевыми” за богатство отделки) было в Париже делом нехитрым, они стоили недорого и продавались в антикварных лавках повсюду, в известных парижских магазинах Бинга, где торговали заморскими – китайскими и японскими – редкостями. Японские гравюры Волошин развесил в своем коктебельском доме рядом с головой египетской царицы Таиах, там же по полкам среди книг по стенах разложены и развешаны были фрагменты античной керамики, найденной Волошиным в Крыму, раковины из Индийского океана, обломок 25 М.Волошин. Там же, с.42. корабля, кратины и графика Остроумовой-Лебудевой, Кругликовой, Ал.Бенуа, Петрова-Водкина, собственные работы художника. Вот описание парижской мастерской Волошина, которая перекликается с его коктебельским домом: На стенах японские эстампы, На шкафу химеры с Notre Dame, барельефы, ветви эвкалипта, Полки книг, бумаги на столах, И над ними тайну-тайн Египта – Бледный лик царевны Таиах. Дом поэта в Коктебеле – единственный из сохранившихся домов эпохи Серебряного века – имел для Волошина огромное значение и рождал далековатые ассоциации: коктебельскую бухту он сравнивал, например, с раковиной из Индийского океана. Он всегда вспоминал Коктебель и считал, что без Киммерии (таково старое греческое название восточного Крыма), никогда не стал бы художником. Мне, Париж, желанна и знакома Власть забвенья, хмель твоей отравы! Ах! В душе – пустыня Меганома, Зной, и камни, и сухие травы… В течение двадцати лет Волошин ежедневно писал акварели, часто сопровождая их поэтическими одностишиями, двустишиями, трехстишиями, четверостишиями. Он смотрел, по собственному признанию, “на живопись как на подготовку к художественной критике и как на выработку точности эпитетов в стихах”26. И в другом месте говорил, что стихи о природе утекли в его акварели и живут в них, как морской прибой и приливами и отливами. Волошин в эссе «О себе самом» писал: «В акварели не должно быть лишнего прикосновения... Недаром, когда японский живописец собирается написать классическую или музейную вещь, за его спиной ассистирует друг с часами в руках, который отсчитывает <...> количество времени, необходимое для данного творческого пробега. Это хорошо описано в «Дневнике» Гонкуров». Понимать это надо так: вся черновая техническая работа уже проделана раньше, художнику, уже подготовленному, надо исполнить отчетливо и легко свободный танец руки и кисти по полотну. В этой свободе и ритмичности жеста и лежат смсыл и пленительность японской живописи, ускользающие от нас, - кропотливых и академических европейцев. Главной темой моих акварелей является изображение воздуха, света, воды, расположение их по резонированным и резонирующим планам»27. Для нас ценно собственное признание художника в том, что создавая каждый день по 2-3 акварели, ведя своеобразный лирический дневник состояния природы и духа, Волошин опирался на переосмысленный опыт японских художников. Известный художник В.С.Кеменов пишет: “Иногда упрекают волошинские акварели за сходство с японскими цветными гравюрами. Но тут нет никакой стилизации. У японской гравюры учились Уистлер, Мане, Остроумова-Лебедева и ряд других превосходных мастеров. А если говорить о крымских пейзажах 26 М.Волошин. Автобиография. М., 1911, с. 166. 27 М.Волошин. О самом себе, с. 46. Волошина, то тем более надо учитывать, что это сходство обусловлено и самим характером ландшафта и волошинским взглядом на искусство, подсказавшими художнику определенные средства выражения. Эти средства родственны тем, которые японские живописцы нашли для ландшафтов своей страны… Как ни своеобразен Коктебель, если вам придется побывать в Японии – стоит лишь сесть в поезд, идущий из Осака в Токио, как часа через три езды, возле Гамагари, вы увидете морской залив, окаймленный панорамой волнистых холмов и невысоких гор, поразительно напоминающих Коктебель”28. О предмете акварелей Волошина – Коктебеле – написано так много, что не стоит повторять, скажем лишь, что только во время путешествия по Испании, ему открылась красота восточного Крыма и Коктебеля. Волошин писал: «Коктебель не сразу вошел в мою душу: я постепенно соознал его как истинную родину моего духа». И.С.Смирнов отмечал в своей статье о Волошине, что «Коктебель, легендарная Киммерия (т.е. восточный Крым в отличие от Тавриды – Крыма западного), «личный космос» Волошина… представлялся ему плавильным котлом, тиглем, ареной «борьбы племен», был для поэта если не Востоком в полном смысле слова, то и не Западом – скорее рубежом, местом встерчи, битвы восточных и западных народов, местом слияния их культур, может быть. даже прообразом культуры общечеловеческой»29. Крым – исконная обитель вдохновения русских романтиков, именно там произошел перелом во все утончавшихся художественных вкусах Волошина. Сам поэт писал об этом так: В.С.Кеменов. Вступительная статья. – В кн.: Пейзажи Максимилиана Волошина. М., 1978, с.11. 28 С тех пор, как отроком у молчаливых Торжественно-пустынных берегов Очнулся я – душа моя разъялась, И мысль росла, лепилась и ваялась По складкам гор, по выгибам холмов… Там Волошин продолжает заниматься японским языком, готовится к поездке в Японию, но этому путешествию не дано будет совершиться. Тяга к Японии переплетается с тоской по Парижу, он пречитывает дневники Гонкуров, которые открыли свою французскую Японию. Увлекался Реми де Гурмоном, Полем Клоделем, французскими писателями ценившими и понимавшими Восток, чье творчество изобилует восточными мотивами. Идея “учиться у японцев” проходит через многие его записи и заметки о собственном творчестве. У японцев Волошин, по собственному признанию учился “экономии” изобразительных средств, умению легко говорить о сложном, “скрывать от зрителей капельки пота”. Именно в этом он видел “пленительность японской живописи”, ускользающей от нас, “кропотливых и академических европейцев”. Р.И.Попова, исследовательница творчества Волошина пишет, например, что “Волошину особенно импонировало искусство Хокусая и Утамаро, философские и лирические раздумья японских художников о жизни земли, о вечности природы. ее многообразии. Его поразили стихотворные миниатюры, которыми японцы подписывали свои пейзажи…”30 Однако влияние живописнографических принципов японцев не было подавляющим для его 29 И.С.Смирнов, с. 179 собственного творчества . “Это был своего рода урок самоограничения, извлеченный Волошиным из знакомства с японской гравюрой, самоограничения, которое по представлениями старых японских мастеров, одно ведет к совершенству в искусстве. Их достижения нужны были Волошину, чтобы решить в искусстве свою тему – киммерийский пейзаж”31. О самоограничении Волошин писал в статье “О самом себе”: “Вообще в художественной самодисциплине полезно всякое самоограничение: недостаток краски, плохое качество бумаги, какой-либо дефект материала, который заставляет живописца искать новых обходных путей и сохранить в живописи то, без чего нельзя обойтись”32. Александ Бенуа видел в акварелях Волошина следы влияния Пуссена и Тернера, другие критики – Сурикова, Бенуа, Остроумовой-Лебедевой и конечно все они находили, что он близок японским мастерам Хокусаю, Хиросигэ, Утамаро. Вот примеры стихотворных подписей Волошина к своим акварелям, точнее, подписи нанесены на самую ткань акварели (случай уникальный в новой европейской живописи, безусловно сам прием заимствован у Дальнего Востока – китайские шихуа – “стихи к картинам” или в Японии такое соединение графики и поэзии называлось хайга – трехстишия хайку, вплетенные в картины, надписи были и на японских гравюрах укиё-э). Четверостишия, трехстишия и двустишия Волошина имеют немало общего с японской поэзией, с которой он знакомился по «русским» пятистишиям и трехстишиям Валерия Брюсова, Андрея Белого, Р.И.Попова.Жизнь и творчество М.А.Волошина. – В кн.: Максимилиан Волошин – художник. М., 1976, сс.27-28. 31 Там же, с.28. 32 М.Волошин. О самом себе, с.45-46. 30 Константина Бальмонта. В трехстишии есть намек на Японию – «с японской лягут простотой». * Каменья зноем дня во мраке горячи. Луга полынные нагорий тускло-серы... И низко над холмом дрожащий серп Венеры, Как пламя воздухом колеблемой свечи. * Сквозь зелень сизую растерзанных кустов Стальной клинок воды в оправе гор сожженных. Сквозь серебристые туманы Лилово-дымчатые планы С японской лягут простотой. * Старинным золотом и желчью напитал Вечерний свет холмы, зардели красны, буры Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры, В огне кустарники и воды, как металл. Здесь душно в тесноте, а там – простор, свобода, Там дышит тяжело усталый океан И веет запахом гниющих трав и йода. Сам Волошин писал о своих акварелях, что «ни один пейзаж… не написан с натуры, а представляют собой музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа, нет ни одного «вида», который бы совпадал с действительностью, но все они имеют темой Киммерию»33. Свой “головокружительный бег”, по его собственным словам, по странам, народам и эпохам, “через бурелом человеческой мысли” он начал с изучения в Париже европейской цивилизации. Эти блуждания отразились в книге стихов “Годы странствий”. Россия Серебряного века была напоена восточными мотивами. Многое открыли для себя русские на выставках в конце Х1Х – начале ХХ вв., организованных известным собирателем японского искусства Китаевым, коллекционером Солдатенковым и другими. В России шло тем временем серьзеное обсуждение недавно открытого публикой японского искусства, писатели, художники, журналисты, коллекционеры приветствовали появление соверешнно нового взгляда на природу и человека. Чтобы обрисовать контекст, в котором складывалось творчество Волошина-художника, в частности, возникло его увлечение японскими мастерами приведем некоторые отклики на различные выставки японского искусства в конце Х1Х – начала ХХ вв., а также суждения известных художников, круга близкого Волошину. Например, в популярнейшем журнале «Нива» N5 за 1897 г. можно ознакомиться с описанием символики японских картин с выставки С.Китаева. “Новое время” отмечает бесконечное чередование, 33 Там же, с.45. компановку сюжетов. Весь секрет газета определяет как возможность комбинаций и сочетаний намеков и полунамеков японских картин с выставки Китаева при ограниченном наборе сюжетов и тем японских картин с выставки Китаева ( см. 37459 японских картин с выставки Китаева от 1 дек. 1896 г.). Не без проницательности журналист отмечает разность двух типов мировидения: с одной стороны, - техника “рационального глаза”, “рациональной руки” и столь же рационализированное декартовское мышление под девизом “Cogito ergo sum», с другой – техника намеков, облеченный в фантазийность, посредством отказа воплощать натуру и «посредством... выражения движения, схваченного в его непосредственной жизненности»34. «Биржевые ведомости» касаются и неудачной попытки европеизировать японскую живопись, устроив в Токио школу искусств с приглашением итальянцев. «Желательно было бы видеть, как японцы овладевают европейской техникой и что они внесут в нее своего» 35. Другой журналист писал: «Если японскому художнику всякое обевропеивание угрожает тяжеловесностью и утратой его проворства, составляющего его оригинальность, то и при обяпонивании европейской живописи, трактующей свои сюжеты при помощи карандаша и масляных красок, которые ставят ей совершенно иные эстетические задачи, при обяпонивании европейский художник рискует сделаться поверхностным.»36. Постигая японскую манеру письма, европейцу оставалось еще раз задуматься в его собственном творческом восприятии реальности об утрате им чувства декоративности, колорита, красоты форм, 34 35 «Биржевые ведомости», N 7460 от 2 дек. 1896 «Биржевые ведомости», N 346 от 15 декабря 1896 г.. г. виртуозности исполнения. Ему в который раз приходилось задумываться о необходимости возвышения над грубой материальностью и выхода из “кризиса протокольного мироощущения”37 Одним из самых ревностных поклонников классической японской гравюры среди русских художников тех лет была А.П. Остроумова-Лебедева, одна из первых в России начавшая работать в технике цветной гравюры. Ее черно-белые и цветные виды СанктПетербурга несомненно вошли в число самых прославленных изображений этого города. Позднее в своей автобиографии она специально отмечала то большое впечатление, которое произвела на нее выставка японского искусства 1896 г.: «Раньше я не знала японского искусства. Много часов я просиживала на выставке, очарованная небывалой прелестью форм и красок. Произведения были развешаны на щитах, без стекол, в громадном количестве, почти до самого пола... Меня поражал острый реализм и рядом стиль и упрощение, мир фантастичности и мистики. Их способность запечетлевать на бумаге мимолетные, мгновенные явления окружающей природы»38. Сама художница признавалась, что понастоящему она усвоила уроки японского искусства позже, находясь в Париже, в мастерской английского художника Уистлера, испытавшего серьезное влияние японцев и прославивших их в Европе. Известные графические виды Петербурга ОстроумовойЛебедевой, ее черно-белые «зимние» пейзажи, гравюры во многом по ее собственному признанию, написаны под впечатлением японских гравюр укиё-э, особенно Хиросигэ, Утамаро. Приведем ее 36 37 «Новое время», 2 дек. 1896, N 7460 Московский листок, N 34 от 3 фев. 1897 г. гравюру «Зимка», а рядом «Снежный пейзаж» Утамаро (рис.3, рис.4). Вспомним, например, ее «Подражание Хиросигэ» (1903 г.) (рис. 5), пейзажную гравюру, где ощущается переосмысленный опыт японского художника. Вслед за Остроумовой-Лебедевой одним из первых стал работать в технике цветной гравюры Вадим Фалилеев (1879-1950), родившейся в Петербурге и окончивший свои дни в Италии. В России гравюра на дереве впервые заявила о себе как о самостоятельном виде станкового искусства в Х1Х-ХХ вв. Фалилеев увлекся гравюрой в 1905 г., изучал в Эрмитаже итальянские и японские гравюры, писал, что «...только японские гравюры научили меня многоцветности»39. Изучал и кабинеты гравюр в Берлине, Мюнхене, Вене, в Париже – отдел эстампов Национальной библиотеки. Фалилеев также испытал влияние «Мира искусств», ему присуща острая графичность, орнаментальность, изощренность. Писал об «открывшихся ему графических чудесах Востока». Его прославили динамичные страстные листы, посвященные реке Волге «Ветер», «Гроза» 1905 г., «Плот во время дождя» 1909 г., «Разлив Волги», 1916 г., итальянские сюжеты «Волна. Капри», 1911 г. (рис. 6). Во всех этих и других гравюрах Фалилеева просматривается влияние японских художников, композиция, цветовые заливки, четкая выразительность, скупость приемов. В представленном здесь листе «Возвращение на Щексну» (рис. 7) очевидно воздействие японской гравюры, особенно Хиросигэ, оно проявляется в контрастном сопоставлении оранжево-красных парусов и синезеленой воды. Простыми, скупыми средствами передано ощущение спокойствия и тишины, поражает внутреннее сродство этого 38 39 А.П.Осероумова-Лебедева. Автобиографические записки. Т П 1900-1916, Л.,М., 1945.С.38,39. В.Д.Фалилеев. Офорт и гравюра резцом. М., Л., 1925. произведения искусства с японской гравюрой; способ видения, цветопередачи поистине японский. Примечателен и единственный японский мотив в творчестве выдающегося художника Павла Кузнецова, увлекавшегося восточными, в частности бухарскими и туркестанскими сюжетами, но никогда прежде – дальневосточными. «Натюрморт с японской гравюрой» (рис. 7) выполнен на рубеже 1912-1913 гг в пору полного расцвета художника, он из числа его «одиноких» картин, не вошедших в циклы. Чтобы понять загадку японского мотива у Кузнецова, следует знать и понимать культурный контекст, в котором был создан натюрморт, пишет один из исследователей его творчества40. Кузнецов, начинавший как символист и впитавший в себя поэтику и символику цветов, разработанных символистами, в частности Андреем Белым, сочетавший цветовой строй поэзии симолистов с традиционным колоритом керамики и архитектурного декора Средней Азии, творил в атмосфере увлечения художников и поэтов японским искусством. «Натюрморт с японской гравюрой» – это открытие и интерпретация Кузнецовым японского искусства и Японии. Выбор именно гравюры Утамаро (рис. 8) для цитаты – на случайность и не прихоть, а типичное явление времени, уловлен пафос эпохи – открытие новых художественных ценностей, бывших для всех экзотикой. Художник не подделывается под Утамаро, а старается дать живописное истолкование графического произведения. Путь Павла Кузнецова от символизма к Востоку – свой вариант живописного символизма. «Натюрморт» - пример толкования художником ХХ в., пишет например критик А.А.Русакова, задолго до него созданного образа, когда одна Е.Львова. «Натюрморт с японской гравюрой» Павла Кузнецова. – Вопросы искусствознания. 2-3, 1993. С.87-95. 40 культура стремится истолковать другую»; вместе с тем это, как пишет другой исследователь, «гармоничное духовное соответвствие двух разных художественных систем» и задается вопросом, изображает ли Кузнецов одну гравюру или все японское искусство в целом41. Это живописное полотно выполнено в двух цветах – желтом и голубом, т.е. «в золоте и лазури» - любимом двуцветии символистов, проходящем через все символистские поиски А.Белого, А.Блока, В.Брюсова (хотя последний более графичен, чем живописен). Истоки этого двуцветия – в поэзии романтиков, символистов, объединившихся в журнале «Золотое руно»; название первой выставки символистов «Голубая роза»; о «золотых молниях романтизма» упоминал Николай Гумилев. Известный искусствовед Н.С.Николаева сравнивает «Натюрморт» Кузнецова с одноименным эстампом Гогена, изображающим голову актера театра Кабуки, который художник мог увидеть в Париже на выставке 1906 г.42 В этом же контексте увлечения японской гравюрой, увлечения, пришедшего из Европы, для живописцев – из Парижа, для графиков – из Мюнхена, находится творчество живописца В. БорисоваМусатова, которого, как когда-то Боннара во Франции, коллеги называли «японцем». В Париже художник, как и все в то время был погружен в атмосферу увлечения японцами, где «в конце 1860-х годов неожиданная находка томика рисунков «Манга» Хокусая обернулась серьезными метаморфозами всей европейской живописи, а через нее – отчасти русской»43. Н.С.Николаева пишет, что Борисов-Мусатов заимствовал не столько технику, сколько А.А.Русакова. Павел Кузнецовю Л., 1977.С.159. Н.С.Николаева. Япония и Европа. Диалог в искусстве. М., 1996. С.370. 43 Н.С.Николаева. Дальневосточные художественные идеи в контексте русской культурыю – Вщпросы искусствознания, 2-3, 1993. С.85. 41 42 композиционные ритмы Харунобу и Утамаро, его многофигурные композиции в «Изумрудном ожерельи», «Весеннем вечере» - это ритмическая проекция японских гравюр. Неожиданна японская тема у авангардного фотографа 19101920-х гг., близкого к Владимиру Маяковскому и футуристам Александра Родченко, чье ритмические фотокомпозиции, особенно иллюстрирующие произведения Маяковского, в свое время оказали серьезное воздействие на современное им мировидение. Обращение к японской теме в графическом листе «Дама в кимоно» (1915 г.) (рис. 9), где ощущается влияние венского Сецессиона, в частности творчества Густава Климта, в манере резко отличающейся от сдержанно-гротескного стиля его фотоколлажей, еще раз подтверждает факт всеобщего интереса художников и публики этой эпохи экзотической темой. Один из представителей объединения «Мир искусства» Георгий (Егор) Нарбут, принадлежавший к младшему поколению «мирискусников», работал в Петербурге, а родился на Украине, был знатоком ее художественной старины. Критика 1910-х годов склонна была объяснять своеобразие Нарбута его украинским происхождением, «украинской стихией наполнены все его произведения». Он не получил систематического художественного образования, был художником-самородком, принадлежал к старинному украинскому роду, совершенно захиревшему. Брат Георгия Нарбута – Владимир стал крупным петербургским поэтом, которого, например, очень ценила Анна Ахматова. Издания с рисунками Нарбута сейчас представляют собой библиографическую редкость, и хорошо известны библиофилам. Учитель Нарбута прославленный художник Иван Билибин писал о нем: «Нарбут огромнейших, прямо необъятных размеров талант... Я считаю его самым большим, самым выдающимся из русских графиков»44. С детства Нарбута поражала древнерусская книга, например, Остромирово Евангелие, шрифты которого он копировал, он любил русские сказки, рассматривал часами цветы и травы, бабочек и кузнечиков. Для юного художника из провинциального города откровением стали графика на страницах журнала «Мир искусства», в частности произведения Билибина, билибинские книжки сказок 1899 года, отличавшиеся изумительной чистотой рисунка, живописными эффектами, возникавших из наблюденных в природе цвето-тоновых отношений. Техника Билибина казалась Нарбуту пределом совершенства, а мир его образов, в котором поганки, мухоморы, болотные кувшинки, васильки, ромашки, травы, выписанные с ботанической точностью, сплетались в единый узор со стилизацией в духе народных вышивок, был ему очень близок. Тогда еще не осознано было Нарбутом своеобразное восприятие Билибиным мира японской гравюры, «Манга» Хокусая, «Манга» Хиросигэ. А Билибин в те годы настолько был увлечен японским искусством, что, например, его ученица Художница Р.Р. О’КоннельМихайловская, ученица школы императорского Общества поощрения художеств, где преподавали мирискусники, у Билибина в классе композиции и графики, писала: «Часто И.Я. приносил в школу по искусству гравюры или эстампы. Показывал нам японские гравюры Хиросиге, Утамаро и Хокусаи. Среди них виды Фудзи-ямы Хокусаи, по 36 и 100 гравюр в серии, так что эта гора-вулкан стала нам столь же знакома, как Аю-Даг или Ай-Петри в Крыму.»45 Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. Л., 1985. С. 31. 44 Цит. по книге: Голынец Г.В., Голынец С.В. Иван Яковлевич Билибин. М., 1972. С.68. 45 Завороженность Билибина Хокусаем отразилось в его иллюстрациях к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина (1905 г.) (рис. 10), здесь мы видим переосмысленную «Большую волну в Канагава» Хокусая (рис.11) или его же волну из «Фугаку хаккю» (1835 г.), «перепетую» на русский лад к пушкинским стихотворным строчкам: «Туча по небу идет, бочка по морю плывет...». «Волной» Хокусая увлекались и другие русские художники и архитекторы использовали, «цитируя» и переосмысляя этот графический образ, в своих произведениях. Билибин еще не раз возвращался к теме волны: например, в 1932 г. в картине «Синдбад-мореход». Множество вариаций на тему «Волна» (рис.12), переосмысленной в японском духе принадлежит графику Вадиму Фалилееву, один из таких примеров приведен на рис. Именно под влиянием Билибина, по свидетельству Добужинского, Нарбут стал изучать первоисточники, и конечно Билибин внушил ему серьезный интерес к Дюреру и японским мастерам деревянной гравюры. Билибин поселил Нарбута у себя дома и много помогал ему советами, дал ему рекомендательное письмо к Н.К.Рериху, возглавлявшего тогда школу Общества поощрения художеств, также поклонника и знатока русской старины.Сблизился Нарбут и с художником М.В.Добужинским, знатоком и собирателем японской гравюры. Подражая поначалу Билибину, Нарбут позже отходит от стиля своего учителя, даже следуя, как и Билибин, русскому лубку, вместе с тем он находится под влиянием и других образцов – например, рафинированной графической манеры английского художника О.Бердслея. Нарбут ассимилирует в своем творчестве новые формы тем легче и стремительней, чем ближе они к впечатлениям его детства. Так, японская гравюра, с которой он познакомился благодаря выставкам С.Китаева, в коллекциях друзей – Билибина, Добужинского, Грабаря и во время своего пребывания на учебе в Мюнхене, понятна ему благодаря раннему пристастию к «графическим созданиям природы» (слова Г.Нарбута) – травам, цветам, бабочкам, т.е. ближнему кругу природы. Критики называют самой «японской» и вместе с тем наиболее тесно связанной с впечатлениями детства книгой сказки «Теремок» и «Мизгирь». На обложке страшноватое изображение черепа – его в украиниских селах использовали как оберег и вешали над крышей хозяйственных постоек – в окружении хвощей и бабочек, пчел и щмелей, изображенных с энтомологической точностью, настраивало на философский лад, задавало «зловещий мотив», столь свойственный искусству рубежа веков. Графическую прелесть черепа, паутины, оригинальный способ организации композиции, дополняли свойственные японской гравюре цветовые заливки, плоскостное изображение. Композиция великолепна, почти симметрична, но искусно оживлена искусно вкрапленной ассиметрией. Цветовое решение обложки совершенно в духе гравюры. Точка зрения зрителя совпадает со взглядом комара на природный мир – снизу вверх и одновременно напоминает мир хайку, в котором вещи теряют свои пропорции, как бы приближаясь к зрителю и увеличиваясь в размерах. Критики писали, что «сказки, выбранные Нарбутом, направили полет его фантазии в окрестности родного хутора, где он открыл свою Японию, подобно англичанам, узревшим ее на берегах Темзы»46. 46 Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. Л., 1985. С. 32. Открыв книжечку, мы видим на левой странице разворота зимний «японский» пейзаж, а под ним изображение огромного комара; один из критиков писал, что «этот пейзаж можно рассматривать как графическое посвящение японским художникам»47. «Зловещий мотив» звучит в иллюстрации с черным медведем с секирой, напоминающим изображения лягушек в знаменитых «добуцу гига» эпохи Хэйан; «японское» небо и «японский» дождь явно позаимствованы с гравюр Хиросигэ и Хокусая (рис. 13). В этой же книге на одном листе - черно-белый зимний пейзаж, навеянный японской гравюрой, и изображение комара, словно сошедшее со страниц «Манга» Хокусая (у последнего таким образом изображены крабы) (рис. 14, рис.15). Такое же «японское» небо и «японский» дождь можно видеть на иллюстрации к другой книжке Нарбута «Игрушки" (1911 г.) (рис.16): по зеленому лугу идет барыня с зонтиком и собачкой, сделанная в манере вятской игрушки, вдали пряничные домики, церковь, а из туч на небе хлещет дождик, мотив которого задан строчкой из песенки «Ой ты, дождик, дождик». Здесь произошло удивительно гармоничное соединение, казалось бы, противоположных стилевых приемов: совершенно русской вятской лубочной картинки и японской гравюры. В 1909 г. книга для издательства известного Н.И.Кнебеля, который сам увлекался Востоком, была почти закончена, когда Нарбут отправился в Мюнхен, крупный художественный центр того времени, там до него учились Билибин, Грабарь, Добужинский. В Париже бывали русские живописцы, графики предпочитали Мюнхен. Там Нарбут много копировал графические листы Альбрехта Дюрера. 47 Там же, С. 31. Сказочная графика Нарбута питалась из разных источников: русского и украинского народного лубка, немецкой гравюры, в частности Дюрера, японской гравюры, особенно Хокусая и Хиросигэ (от гравюры, например, у Нарбута неумолимая четкость словно резцом проведенных линий). Нельзя не заметить и воздействия художников Сецессиона, (О. Бердслея), влияла также и общая атмосфера «Мира искусств», главным образом, Билибин. Японская линия заимствования органичным образом вплетена в оформление русских сказок, совершенно не противореча общему стилю, а только подкрепляя его. Все перечисленные выше составляющие существуют не раздельно, а удивительным образом переплавлены в единое неразрывное целое. Библиография (1) Адольф Брюнинг. «Влияние Китая и Японии на европейское искусство». – «Вестник воспитания», 1902, N9, с. 170. (2) (3) Wihmann S. Japonisme. Paris, 1982, 26-30.48 (4) В.Г.Воронова. Сергей Николаевич Китаев и его японская коллекция. – В сб.:Частное коллекционирование в России: материалы научной конференции «Випперовские чтения». 1994 г. Вып. 27, с.160-165. (5) Н.Александров. Гениальные дети (Японская художественная выставка). «Биржевые ведомости» (15 (17) декабря 1896 г., N 346. (6) Андрей Белый. Арабески. М., 1911.С.62. (7) Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С.52. (8) Игорь Грабарь. Японская цветная гравюра на дереве. М., 1903. (9) М.В. Добужинский. Воспоминания. М., 1987. С.164. (10) Там же, с. 192. (11) Там же, с. 190. (12) А.Бенуа. Мои воспоминания. Т.П, с.369. М., 1990. (13) С.А. Щербатов. Художник в ушедшей России. Нью-Йорк., 1955, с. 66. 48 М.В. Добужинский. Воспоминания. М., 1987. С.164. (14) Цит. по книге: Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. Л., 1985, с. 8. (15) Цит. по книге: Голынец Г.В., Голынец С.В. Иван Яковлевич Билибин. М., 1972, с.68. (16) Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. Л., 1985, с. 31 Список иллюстраций 1. Борис Кустодиев. Японская кукла. (1908 г.). Масло, холст. 2. М.Волошин. «Сквозь серебристые туманы…» (1919 г.). Акварель. 3. А.П.Остроумова-Лебедева. Зимка. 1900. Гравюра. 4. Утамаро. Пейзаж в окрестностях Эдо (из альбома «Книга гравюр Игры Адзума») (1790 г.). Гравюра. 5. А.П.Остроумова-Лебедева. Подражание Хиросигэ (1903 г.). Гравюра. 6. В.Фалилеев. Возвращение на Шексну (1909 г.). Гравюра на линолиуме. 7. П.Кузнецов. Натюрморт с японской гравюрой. (1912 г.). Бумага на картоне, гуашь. 8. Утамаро. Портрет красавицы. (1790 г.). Гравюра. 9. А.Родченко. Дама в кимоно. (19130. Перо, тушь. 10. И.Билибин. «Бочка по морю плывет…» (1905 г.). иллюстрация к сказке А.С.Пушкина. 11. Кацусика Хокусай. Гора Фудзи среди волн. (1835 г.). Гравюрный лист. 12. В.Фалилеев. Дожди. Волна. (1909 г.). Гравюра сухой иглой. 13. Георгий Нарбут. Иллюстрация к книге сказок «Теремок», «Мизгирь» (Медведь) (1910 г.). 14. Георгий Нарбут. Иллюстрация к книге сказок «Теремок», «Мизгирь» (Комар и зимний пейзаж) (1910 г.). 15. Морихару. Тетрадь «Крабы и насекомые». Гравюрный лист. 16. Георгий Нарбут. Иллюстрация к книге «Игрушки» (1911 г. 17. Лягушачья бухта. 1924. Б., акв., 24х28,5 18. По дороге в голубые горы. 1925. Б., акв., 22,4х31,4 19. Красные холмы. 1925. Б., акв., 23х32,5 20. Пепельный свет. 1925. Б., акв., 25х34. 21. Ртутный отблеск и сияние оссиановских ночей. 1928. Б., акв., 27х33.