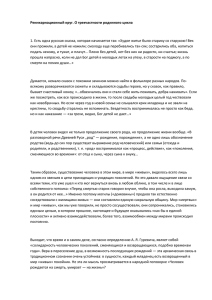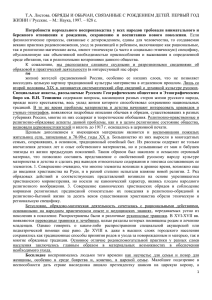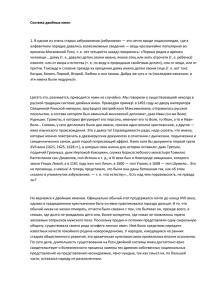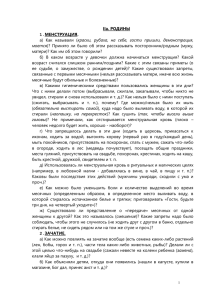Вербальная и другие формы магии
реклама

Вербальная и другие формы магии 1. Продолжим наш разговор о родинах. Основной задачей повитухи, как оно представлялось в народной среде, было оказание помощи в родах, а также на протяжении первых после родов наиболее опасных дней (где-то три дня, в других местах — семь и даже девять) — купание роженицы и ребенка. Откуда, собственно, и распространенное во многих источниках указание на то, что повитуха «должна уйти только после и приговаривала при этом: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как эти камешки спят и молчат, никогда не кричат, не ревят и ничего они не знают — ни уроков, ни призору, ни озеву, ни оговору, никакой скорби, так бы и у меня, рабе божией, младенец спал бы и молчал, никогда не кричал, не ревел и ничего бы не знал: ни уроков, ни призору, ни озеву, ни оговору и никакой скорби. Будьте слова мои плотно-наплотно, крепконакрепко; к словам моим ключ, и замок, и булатна печать“. И затем мыла этой водой ребенка…» (цит. по П. С. Ефименко, Архангельская губ.). Считалось, что обмывание в такой воде обеспечит младенцу на первое время и защиту, и покой. Пуповину повитуха перерезала или даже перерубала, в зависимости от пола ребенка, на топоре (если мальчик) или на прялке или веретене (если девочка), чтобы дети были искусными в ремесле. Перевязывали пуповину чаще всего волокнами льна, а то и конопли, скрученными в нить. Срез смазывался свежим коровьим или растительным маслом. Когда роды были, как сейчас говорят, скорыми (т. е. внезапными) и женщина рожала в одиночестве, она зубами перекусывала пуповину и перевязывала ее волосами, выдернутыми из собственных кос, а иногда добавляла к ним выдернутую из подола рубашки льняную нитку. Отрезанный кусок пуповины, случалось, завязывали узелком, засушивали и могли хранить в укромном месте (в сундуке или за божницей). Верили, что если дать развязать этот узелок подросшей дочери, она станет настоящей пряхой. А если дать съесть такой узелок бездетной женщине (хоть родственнице, хоть совсем чужой), она непременно исцелится от бесплодия. Но чаще, как того требовал обычай, пуповину, да и послед (плаценту) закапывали в землю, в большинстве случаев в углу дома (где-нибудь под закладным бревном) или в любом другом чистом и укромном месте, но могли и под порогом дома. Предварительно плаценту обязательно обмывали и заворачивали в чистую холстину, а затем вкладывали в кусок бересты или в старый лапоть. Туда же вкладывали кусок хлеба, жменю зерна и яйцо — чтобы ребенок вырос счастливым и богатым. В принципе обряды захоронения последа демонстрируют такую важнейшую функцию родильных обрядов, как обмен ценностями с «иным» миром, откуда, собственно, и был получен ребенок. Ведь земля, по архаическим представлениям, — сфера природная и, следовательно, не являющаяся чем-то окультуренным, но, кроме того, это порождающее лоно. И захоранивание плаценты — это возврат земле («иному» миру) эквивалентного дара взамен полученного. Обряды с последом подтверждают, что на Руси, как и у многих других этносов, существовало представление о плаценте как о двойнике новорожденного. Косвенно на это указывали и такие моменты, как: — ритуальные действия, которые совершала повитуха над плацентой, — это, по сути дела, дублирование действий, совершаемых ею над ребенком; — непременное требование сохранить послед в целостности, так как от этого напрямую зависело здоровье родившегося ребенка; — наконец, послед чаще всего зарывался именно в землю, и в любом случае постоянно использовался единственный термин этого ритуального действия — «хоронить» послед. Кроме того, достаточно четко усматривалась зависимость между правильным обращением с последом и здоровьем роженицы: считалось, коли не зарыть, так роженица станет болеть, причем могло доходить до серьезной опасности для ее жизни. Поэтому нередко, зарывая, приговаривали: «От земли взято, земле и доставайся, а раба Божия (имя роженицы) на земле оставайся». Связь последа и новорожденного в определенном смысле проецировалась на будущее ребенка — на весь детский период его жизни. Если послед зарывали где-нибудь в саду, на том месте могли вскоре посеять овес или ячмень. И как только стебли поднимались сантиметров на пять, их срезали, сушили, измельчали и использовали как универсальное средство от большинства детских болезней (подчеркнем, что эта «панацея» была действенна, прежде всего, для ребенка, на «чьей» плаценте взросло «лекарство»). По последу также «видели» будущих детей — по его форме определяли, к примеру, пол: округлая форма символизировала женское начало, продолговатая — мужское. Но смотрели не только на форму, но и на наличие «завязей» (узелков) на плаценте. По количеству узелков определяли, сколько еще детей будет у родившей женщины (это же знание использовали и в отношении животных, например, в отношении отелившейся коровы). Ну, а «чистый» послед без узелков означал, что детей больше не будет. С помощью зарытой плаценты можно было и повлиять на последующее потомство. Так, например, во Владимирской губернии, если хотели, чтобы в будущем рождались только мальчики, плаценту закапывали, завернув в спинку мужской рубашки. Итак, и захоронение последа, и обеспечение его целостности, и все те ритуальные действия, которые могли проделываться с ним, обеспечивали не только будущее здоровье ребенка и матери, но и появление новых детей. А значит, в сущности, можно говорить о том, что через послед осуществлялась связь живых с миром предков. Потому что земля в этих обрядах выступает в роли производящего начала будущих поколений. Старые лапти, если иметь в виду архаические функции старой обуви, предназначались для перехода в загробный мир (т. е. послед отправлялся в такой «упаковке» <равно и средстве передвижения> в мир мертвых). Кроме того, старые лапти ассоциировались также с плодородием. Таким образом, старый лапоть с захоранивавшимся вместе с ним последом можно рассматривать как жертву земле взамен полученной от нее ценности — родившегося ребенка. 2. Если ребенок рождался «в рубашке» (иногда говорили «в сорочке»), т. е. в амнионе, не прорвавшемся околоплодном пузыре, — это считалось знаком счастливой судьбы. Амнион промывали, высушивали, зашивали в тряпочку и хранили на божнице или носили эту «ладанку» как сильный оберег на шее вместе с нательным крестом, не снимая. У А. В. Балова в «Очерках Пошехонья» можно прочитать следующее: «К числу амулетов принадлежит… сорочка, в которой родится иногда младенец. Если сорочку эту носить на шее, то будет счастье и удача в течение всей жизни». Верили, что «рубашка» спасает своего хозяина от всяческих несчастий и бед, помогает добиться правды в суде, спасает от потопления на море, а женщин излечивает от бесплодия и сохраняет от гибели при трудных родах. Существует немало рассказов о том, как при пожаре в первую очередь бросались спасать не нажитое добро, не накопленные сбережения и даже не иконы, а именно «рубашечку». Раз уж зашел разговор о рубашках, стоит упомянуть об одном стойком старинном обычае. Имеется в виду обычай заворачивать новорожденного во что-нибудь из родительской одежды. Он известен практически всем европейским народам. Особенно интересным и важным здесь является мотивация самого обычая, связанная с интерпретацией функции традиционной оппозиции мужской/женский. Англичане, например, считали, что мальчика следует непременно заворачивать в принадлежащее матери, а девочку — в принадлежащее отцу. Общепринятой мотивацией этого действия является представление, что в будущем оно принесет успех человеку у противоположного пола. Так, в Редфордовской энциклопедии суеверий в связи со сказанным упоминается старинный вариант этого обычая, бытовавший в графстве Кент. Там повитухи к родам обязательно приготавливали две рубашки: для мальчика и для девочки. Если рождалась девочка, ее клали на рубашку для мальчика, если рождался мальчик — на рубашку для девочки. Это должно было положительно повлиять на судьбу новорожденных: мальчик, когда вырастет, станет очаровывать всех женщин, а у девочки будет множество поклонников, и она сможет выбрать себе хорошего мужа. Там же приводится очень интересный, на наш взгляд, комментарий повитухи: «Если я этого не сделаю, мне нельзя будет взглянуть в лицо ребенку, пока он не вырастет. Зачем же ему страдать, если я могу принести ему счастье?» Разумеется, указанный мотив нельзя признать исходным, обычай явно претерпел изменения, так как, на самом деле, в его основе лежит адаптирующее действие, призванное ввести пришедшего из «иного» мира в статус «своего». На Русском Севере именно так и объясняли: «…родится, и тут же ребенка заворачивали в мужскую рубаху, которая нестиранная, поношенная, чтоб отец лучше любил». Заметим также, что в русской традиции, в отличие от приведенной английской, соблюдалось более древнее членение на мужской/женский: мальчика (как принадлежащего к мужской половине рода) заворачивали в старую рубаху отца, а девочку соответственно — в подол материнской рубахи. Поношенность и пробитость рубахи родительским потом еще более усиливает ее маркировку как атрибута «своего» (и в смысле родовом, и в смысле «живом» — мертвые, как известно, не потеют). Поэтому этот обычай, кроме адаптирующего значения, имел также и сильное апотропеическое (защищающее) значение. Считалось также, что такое пеленание способствует хорошему, правильному развитию младенца — лучше будет расти. Можно добавить, что вместо отцовской рубахи иногда использовались отцовские порты: в них заворачивали ребенка, чтобы был спокойным и рассудительным. 3. Повитуха не только принимала ребенка и проверяла, живой ли, не только обмывала его, но, если считала нужным, она могла исправить ребенку форму головы (гладила руками голову новорожденного, придавая желательную форму). Одним словом, считалось, что именно от повитухи зависит, сделать человека круглолицым или длиннолицым, или вообще уродом. То же она проделывала и с носом маленького, поглаживая и сжимая его ноздри, чтобы не были слишком широкими или плоскими. Она же расправляла и потягивала ручки и ножки младенца, чтобы были прямыми и ровными… «Господи, благослови! Ручьки, ростите, толстейте, ядренейте; ножки, ходите, свое тело носите; язык, говори, свою голову корми. Бабушка Соломонеюшка парила и правила, у Бога милости просила: Не будь седун, будь ходун…» (заговор при паренье младенца). По вполне понятным причинам в народе держалось мнение, что все претензии по поводу физических недостатков или неудавшейся внешности следует относить на счет повитухи — «таким бабушка направила» (если, конечно, за родителями не числилось никакого нарушения запретов, действовавших на момент зачатия или в период беременности). 4. Управившись с ребенком, запеленав его и уложив в колыбель, повитуха хлопотала вокруг роженицы: парила ее в бане, правила живот, заботилась о том, чтобы появилось и прибывало молоко. Одной из главных забот повитухи было восстановление целостности роженицы, приведение в норму ее опустевшего тела — бабка должна «поставить на место» все растревоженные органы, собрать, если можно так сказать, тело роженицы заново. Особое внимание уделялось матке, тому самому органу, который более всего принимал участие в формировании и вызревании плода. Его называли в заговорах «золотник» и относились к нему с крайним почтением — заговаривая, не скупились на лесть: «Золотничэк, божый чэловечэк Якимничок, Я тебя прошу, умовляю, уговораю, Штоб ты в чароца не выезжал, Под боки не подхожал и не подворочал, На спине не подподал, Еду не остужал, Красы не отирал, И жылами не шумовал, На своем месте стоял, Где тебя мати народила, На золотом кресле посадила. Под пупком, под золотым клубком. Дай, Боже, на помочь, На лета, на веки, На здоровье, на помочь, Штоб поправлялись» (из записей Г. И. Кабаковой, Полесье). Для быстрого восстановления, чтобы тело поскорее окрепло и чтобы «краски» вернулись, а также чтобы молока было довольно, повитухой приготавливался для роженицы специальный напиток: основой служило вино, в которое добавлялись различные целебные травы (целый набор) и приправы. Кроме того, второй, не менее важной заботой повитухи была забота о защите роженицы от нечистой силы. На три-четыре дня (а в некоторых местах период особой «нечистоты» растягивался до семи и даже до девяти дней) она фактически один на один оставалась с родившей женщиной и ее младенцем в нежилом помещении, которое, как уже говорилось, представлялась местом опасным, ритуально нечистым (особенно если речь шла о бане — ее просто называли «поганой хороминой») и «открытым», так как в известном смысле это — «перекресток» двух миров. Чтобы защитить в таком месте роженицу от духов болезней, от попыток нечисти испортить ей тело или забрать душу, под изголовье ее постели клали нож, наговоренные травы и три слепленных вместе восковых свечи. С той же целью ставили у каменки ухват рожками вверх. Если роженице надо было выйти, она опиралась на него, как на посох. А повитуха в это время, как писал, характеризуя ее роль Д. К. Зеленин, «…не только поможет бабе родить, но и поднимет ее с постели, если это потребуется, и поправит ее, и попарит и ее, и ребенка, приготовит даже за нее обед, подоит корову и т. д. В тех случаях, когда в крестьянской семье только одна взрослая баба, бабушка повитуха играет вместе с тем и роль хозяйки, то есть исполняет все необходимые по дому работы до тех пор, пока роженица не будет в состоянии работать сама». Выполнять работу по хозяйству, готовить обед и доить корову — это, на самом деле, стало возможным лишь с потерей четкости (с размытостью) представлений о том, что повитуха в период родин выполняет посредническую, связующую миры миссию, является медиатором. А статус и функциональные особенности медиатора чреваты тем, что его неизбежно и в полной мере отмечает все та же ритуальная нечистота. В прежние времена на это явно указывал, к примеру, тот факт, что повитуха до тех пор, пока не пройдет обряд очищения, не могла отправиться помогать другой роженице, даже если территориально та находилась в двух шагах от нее. Удерживало бабку не расстояние, и не отсутствие желания помочь, а именно собственная ритуальная нечистота. 5. Только после того, как роды заканчивались, об этом сообщали родственникам и соседям, вывешивая у дверей избы или около бани на шесте рубаху роженицы. Это был знак соседкам, причем соседкам, имеющим детей, что «в их полку прибыло» и они могут наведаться к роженице. Этот обряд назывался «наведы», и в принципе подобный обряд был хорошо знаком многим народам Центральной и Восточной Европы. Подчеркнем еще раз, что «наведывались» только замужние женщины, имеющие детей, и обязательно со съедобными гостинцами. Однако чуть ли не каждый «гостинец» легко определялся как блюдо ритуальное: каша, блины, пироги. Все это предназначалось роженице «на зубок» — для возбуждения аппетита. Ее детям, если таковые были, еще можно было полакомиться принесенными гостинцами, но мужу притрагиваться к этой еде строго запрещалось. 6. В связи с этим запретом хотелось бы сказать и про другой пищевой запрет, если и имеющий с упомянутым общие корни, то уходящие очень глубоко. Еще и сегодня что повитухи, что сами рожавшие женщины нередко говорят про роды: «Крута гора, да забывчива, и лиха беда, да сбывчива», «Горьки родины, да забывчивы». Мотив скорого забывания родовых мук (прохождения дороги между мирами), по мнению Т. Ю. Власкиной, восходит к очень древним представлениям о необходимости закрывания информации о прохождении сакрального пространства и времени «перехода». Во всяком случае, об этом свидетельствуют устойчивые представления о «кормлении» или «поении» душ умерших особой пищей или питьем, которые воспринимаются как дающие «забвение» (ср., например, с неизбежным питьем воды из реки забвения у древних греков). Так вот, в русской традиции мотив забывания пройденного пути сохранился лишь в вербальном оформлении, но, например, у южных славян существует и его ритуальное оформление: сразу после рождения ребенка было принято выпекать хлеб для Богородицы, которая являлась признанной патронессой роженицы. «Дождавшись каравая, Св. Богородица покидает роженицу, ударив ее по шее ладонью, произносит: „Забудь!“, чтобы она забыла родовые муки, и отправляется помогать другим женщинам. Этот хлеб роженица не имела права есть». 7. Обряды, символизирующие прием ребенка в семью и общину, начинались крестинами. В отличие от других христианских церквей, где существует конфирмация, вытеснившая архаические формы инициации, православная церковь знает только крещение. Поэтому у русских церковные крестины совмещают в себе очистительные обряды, принятие новорожденного в семью и общину и имянаречение. Бытовая традиция восточных славян не сохранила внецерковный обряд наречения. Но до недавнего прошлого просуществовал интересный обычай давать ребенку второе имя, помимо официального, например: Ждан (от «<долго>жданный»), Первуша (от «первый»), Третьяк (от «третий») и т. д. В таких случаях официальным именем старались не пользоваться. Обычай двойных имен был широко распространен до XVII века: первое имя давалось по Святцам, второе было языческим. В качестве примера можно привести знаменитое Остромирово евангелие ХI века, которое получило свое название по имени заказчика, в крещении Иосифа, а в миру — Остромира. Имя по Святцам выбирали в пределах восьми дней до и после рождения. Предпочитали, чтобы соответствующий святой был постарше (т. е. по календарю его день шел раньше, чем день рождения ребенка). Считалось, что тогда ангел-хранитель будет сильнее. Имя имело огромное значение как знак принадлежности к человеческому обществу, влияющий на судьбу его носителя. Когда-то главная роль в выборе имени принадлежала повитухе, а в дальнейшем она перешла к крестному отцу и крестной матери (куму и куме).