Что позволяет идентифицировать театральные постановки как современные? Эксперты и зрители... ответ на этот вопрос, давая свою оценку «Спектаклю №7» «Театра...
advertisement
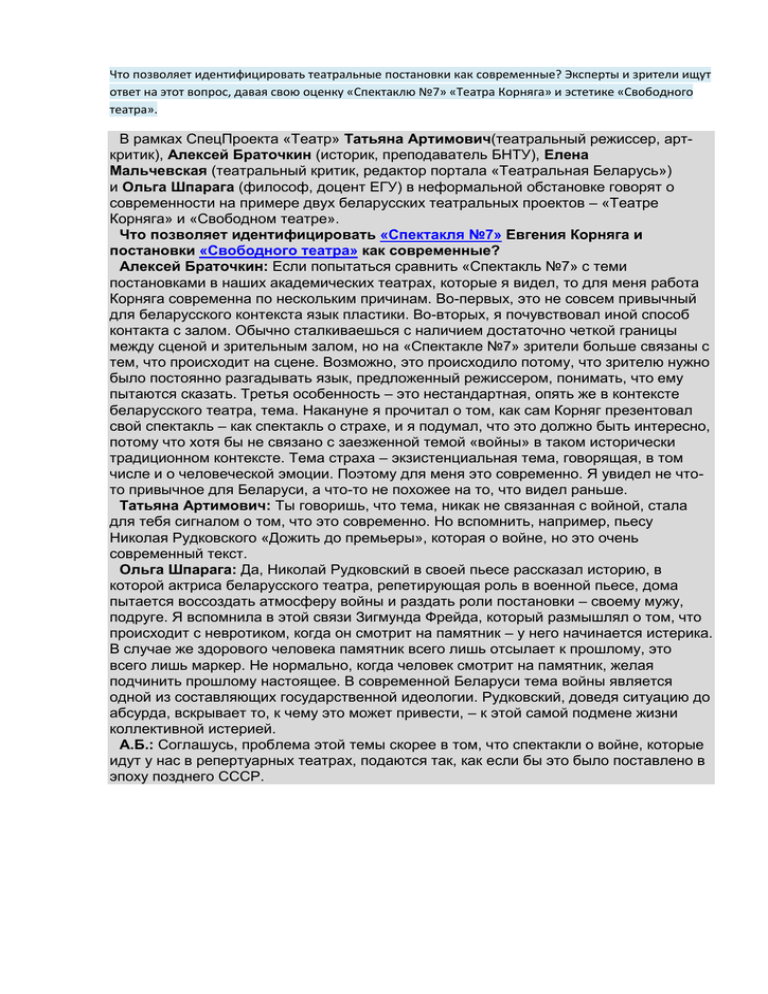
Что позволяет идентифицировать театральные постановки как современные? Эксперты и зрители ищут ответ на этот вопрос, давая свою оценку «Спектаклю №7» «Театра Корняга» и эстетике «Свободного театра». В рамках СпецПроекта «Театр» Татьяна Артимович(театральный режиссер, арткритик), Алексей Браточкин (историк, преподаватель БНТУ), Елена Мальчевская (театральный критик, редактор портала «Театральная Беларусь») и Ольга Шпарага (философ, доцент ЕГУ) в неформальной обстановке говорят о современности на примере двух беларусских театральных проектов – «Театре Корняга» и «Свободном театре». Что позволяет идентифицировать «Спектакля №7» Евгения Корняга и постановки «Свободного театра» как современные? Алексей Браточкин: Еcли попытаться сравнить «Спектакль №7» с теми постановками в наших академических театрах, которые я видел, то для меня работа Корняга современна по нескольким причинам. Во-первых, это не совсем привычный для беларусского контекста язык пластики. Во-вторых, я почувствовал иной способ контакта с залом. Обычно сталкиваешься с наличием достаточно четкой границы между сценой и зрительным залом, но на «Спектакле №7» зрители больше связаны с тем, что происходит на сцене. Возможно, это происходило потому, что зрителю нужно было постоянно разгадывать язык, предложенный режиссером, понимать, что ему пытаются сказать. Третья особенность – это нестандартная, опять же в контексте беларусского театра, тема. Накануне я прочитал о том, как сам Корняг презентовал свой спектакль – как спектакль о страхе, и я подумал, что это должно быть интересно, потому что хотя бы не связано с заезженной темой «войны» в таком исторически традиционном контексте. Тема страха – экзистенциальная тема, говорящая, в том числе и о человеческой эмоции. Поэтому для меня это современно. Я увидел не чтото привычное для Беларуси, а что-то не похожее на то, что видел раньше. Татьяна Артимович: Ты говоришь, что тема, никак не связанная с войной, стала для тебя сигналом о том, что это современно. Но вспомнить, например, пьесу Николая Рудковского «Дожить до премьеры», которая о войне, но это очень современный текст. Ольга Шпарага: Да, Николай Рудковский в своей пьесе рассказал историю, в которой актриса беларусского театра, репетирующая роль в военной пьесе, дома пытается воссоздать атмосферу войны и раздать роли постановки – своему мужу, подруге. Я вспомнила в этой связи Зигмунда Фрейда, который размышлял о том, что происходит с невротиком, когда он смотрит на памятник – у него начинается истерика. В случае же здорового человека памятник всего лишь отсылает к прошлому, это всего лишь маркер. Не нормально, когда человек смотрит на памятник, желая подчинить прошлому настоящее. В современной Беларуси тема войны является одной из составляющих государственной идеологии. Рудковский, доведя ситуацию до абсурда, вскрывает то, к чему это может привести, – к этой самой подмене жизни коллективной истерией. А.Б.: Соглашусь, проблема этой темы скорее в том, что спектакли о войне, которые идут у нас в репертуарных театрах, подаются так, как если бы это было поставлено в эпоху позднего СССР. Свободный театр О.Ш: Если говорить о современности в театре, то у меня интерес к современному театру пробудился в 1990-е годы, когда я попала в Германию и увидела постановки, совершенно не похожие на то, что было у нас. Я запомнила ощущение от тех постановок, как будто ты из одной комнаты квартиры, в которой живешь, заходишь в другую комнату, где живут другие люди, обсуждают свои проблемы, занимаются какими-то делами. Они могут работать, бездельничать или спорить – важно, что у них другая жизнь. Я помню, как начинала идентифицировать свои переживания с тем, что видела, и вдруг замечала что-то новое в повседневной жизни, на что раньше не обращала внимания. Но главное – я видела своих современников. После этого классический театр мне перестал быть интересным, да, там тоже поднимаются важные проблемы, но его герои живут в другом времени, в другой обстановке, и это нужно постоянно принимать во внимание. А современный театр, на мой взгляд, расширяет горизонт восприятия своей собственной актуальной жизни. Если говорить о современном беларусском театре, конкретно о «Спектакле №7», для меня это пока только эксперимент, претензия на то, чтобы быть современным театром. Скорее это поиск своего языка, формы, темы. Очевидно, что он работает с экзистенциальными темами, но по моим ощущениям пока нет органичной связи между формой, темой и беларусскими актуалиями. Елена Мальчевская: Согласна. Для меня «Спектакль №7» современен из-за формы, из-за того, как решен материал, я имею в виду пластику и сценографию. Что касается содержания... В предисловии к сборнику «ШАГ-4», который недавно презентовал Институт имени Гете в Минске, Роман Должанский написал, что немецкоязычные драматурги снимают электрокардиограмму общества. Так вот, я не считаю «Спектакль №7» электрокардиограммой. Постановка Корняга напоминает сердце, нарисованное детской рукой, это скорее сказка о страхе, в которой всё понарошку. Я не понимаю цели, которую ставил перед собой режиссер: исследовать страх, посмеяться над страхом, заставить зрителя пережить страх? Но ни того, ни другого, ни третьего не происходит в конечном итоге. Если не говорить метафорами, а попробовать сформулировать критерий – «почему что-то современно или несовременно» – то, мне кажется, он будет звучать так: это современно, потому что происходит и со мной. Вот спектакль Евгения Корняга «Нетанцы»насилии современен, потому что то, что происходит в сцене ужина Мужчины и Женщины или когда один человек кричит другому «Пой!», происходит и со мной. А бояться так, как в «Спектакле №7», на самом деле нельзя, и людей, которые так боятся, нет. Не только в нашей стране. Их просто нет. А.Б.: Я сейчас вспомнил о таком явлении, как эзопов язык в советском театре, в котором острые темы звучали через иносказания, намеки, которые считывала публика. В какой-то степени «Спектакль №7» – это иносказание, порожденное уже не советской эпохой, но тем, что происходит в современной Беларуси. Там прозвучали какие-то вещи, о которых в государственных СМИ не говорят. Но слишком, мне кажется, много полунамеков, не хватает прямых аналогий, прямого высказывания. Это такие подступы к тому, как действительно можно было бы говорить. Другой вопрос заключается в том, а каким могло бы быть такое прямое высказывание? Если говорить прямо о том, что хочешь сказать, то как сделать так, чтобы не исчерпать возможности языка и терпение зрителей уже через пять минут? Еще одна проблема – не хотим ли мы получить от театра то, что он, возможно, вовсе не хочет нам давать: прямой рассказ о действительности? Т.А.: Возможно то, что обозначила Елена (что было нестрашно), это как раз проблема эзопова языка: мне дается некий намек, я его считываю, но со мной ничего не происходит. Когда берут за основу какую-то пограничную, экзистенциальную тему, то ожидаешь, что тебе как минимум расскажут о том, что ты чувствуешь где-то глубоко внутри, или вдруг откроют нечто, в чем боишься себе признаться. Возможно, это было мое личное ожидание, но в «Спектакле №7» в результате я увидела набор клише о страхе. Это правда, но это слишком про страх вообще. О.Ш.: И всё же многие примеры ситуаций страха, которые разыгрываются на сцене, достаточно убедительны. Я вспоминаю эпизод, когда герой летит на самолете в другую страну. Всё, что он переживает, мне тоже знакомо. Скорее, мне кажется, возвращаясь к теме эзопова языка, в постановке не хватает новых художественных приемов, более изобретательного языка, эстетики, которая бы стала альтернативой эзопову языку. Потому что, наверное, советский эзопов язык сегодня уже не работает. Наверное, нам хочется как-то по-другому взглянуть на действительность, если не критически, то хотя бы с другой точки зрения, которая, возможно, станет вызовом для зрителя, стимулом к тому, чтобы он начал разбираться, думать об этом, а не просто расшифровал послание. Это уже отработанный прием. Нужен какой-то свой взгляд. Да, возможно у художника всего 20 слов, но он с ними может играть практически до бесконечности. Хочется увидеть оригинальный словарь художника. Еще не хватает очень конкретного мессиджа – зачем, почему? Корняг использует новую форму, но, на мой взгляд, он не видит своих героев как конкретных людей, рассказывает, действительно, какую-то сочиненную историю. А.Б.: После спектакля я встретил своего бывшего студента, который сразу мне всё объяснил: этот спектакль о тоталитаризме. То есть намеки режиссера сразу были идентифицированы, но это не изменило представления зрителя о заявленной теме. Да, было узнавание, но не было чего-то иного. Суть в том, чтобы не только опознать явление, но и что-то с этим сделать, хотя бы увидеть нечто новое в собственном понимании. Возможно, режиссер использует уже наработанные им формы, в которых он уверен и которые, как он думает, точно подействуют на зрителя. О.Ш.: А может, не совсем удалось наложение новой пластики на тему современной Беларуси? У меня на спектакле возникло ощущение, что режиссер слишком примитивно понимает Беларусь: сами ситуации страха достаточно универсальны, но ведь их переживание у людей более сложное, более индивидуализированное. Например, как разные люди – отец, мать, журналист, менеджер, рабочий – поразному переживают свою каждодневную жизнь в Беларуси. Ведь в каждом случае это своя индивидуальная история, и мне как зрителю было бы интересно ее увидеть без обобщений. Возможно, потому что нам еще рано переходить к обобщениям. Современный театр, в принципе, не спешит с обобщениями, а пытается показать множество, столкновение, наложение индивидуальных историй. Для меня современный театр – это то, что погружает в контекст жизни, он рассказывает тебе то, что тебе кажется очевидным, но что таковым не является. «Спектакль №7» Е.М.: Я не вижу в спектакле «географической привязки», не вижу, что это именно про Беларусь. То, что герой читает книгу Быкова, – это не аргумент. Это просто известное имя, за уши притянутое к сюжету. У режиссера Алексея Лелявского есть кукольный спектакль «Адвечная песня» (кстати, Корняг учился у него на курсе). Там тоже гротеск, фарс. Но это спектакль про беларусов. Когда в конце на сцене показывают смену времен «адвечны калаўрот часу», перебрасывая хозяйственную клеенку с соответствующими картинками, которой сегодня накрыт каждый стол в деревенской хате, я понимаю, для чего это сделано. Я узнаю, я считываю код Лелявского: вот теперь наша деревня, вот такая она. И это действительно беларусская деревня и никакая другая. А когда я вижу на сцене героя, который читает книгу Василя Быкова, то я не могу считать код и понять, зачем режиссер вводит эту мизансцену. А.Б.: Мне кажется, это очень наша, беларусская проблема. Мы всегда видели раньше на сцене действующего коллективного субъекта, некий социальный типаж, показанный при помощи максимального обобщения. Но мы редко видели конкретного человека. В этом смысле, мне кажется, «Спектакль №7» дает традиционный образ «коллективного» страха. Как моментальная фотография, без подробного и тщательного исследования. Возможно, слабые стороны спектакля связаны еще и с тем, что в Беларуси есть какие-то неисследованные вещи, их довольно много. И часто тот, кто начинает делать что-то новое на этом поле, пытается охватить сразу всё – найти и другой язык, и другие формы работы со зрителем. А это часто трудно сделать. Т.А.: Вот мы говорим о попытке другого для беларусского театра языка, но ведь театр «Инжест» работает с этой формой уже более 20 лет. К творчеству Иноземцева по-разному можно относиться, но его спектакли всегда убедительны. Каждый раз он рассказывает именно свою историю, используя личные коды. Может быть, этого не хватает в спектакле Корняга? Автор рассказывает свое представление о чем-то, не пропуская через себя? О.Ш.: «Свободный театр» в этом смысле для меня более индивидуализированный. Хотя, например, что касается постановки «Быть Гарольдом Пинтером», когда зачитывались документальные письма в финале, то для меня вдруг та эстетическая форма, которая создавалась на протяжении спектакля, оказалась разрушенной. Т.А.: В первый раз меня этот момент тоже резанул, потому что зрительского опыта подобных практик у нас практически нет. Но если в «Пинтере» попытка создания эстетической формы очевидна, а потом она разрушается, то ведь есть спектакли у «Свободного театра», которые в принципе построены на постоянном разрушении чистой художественностью (искусственностью). В Беларуси, на мой взгляд, очень сильно распространен стереотип о театре как об искусстве, которое обязательно работает с художественной формой в чистом виде. То есть вот жизнь, а вот нечто высокое, и эти два пространства не должны соприкасаться/смешиваться. Жизнь обязательно должна быть представлена в некой иной форме. Но если сегодня мы говорим об актуальном искусстве, то видим, что повседневность, осмысленная и отобранная, но в своей чистой форме, просто переносится в выставочное пространство и в этот момент становится искусством. Но исходный «материал» не обрабатывается. Мне кажется, СТ сознательно использует именно такой прием – постоянного разрушения, размывания границы. Это нормальная театральная практика в контексте современного мирового театра. О.Ш.: В этом смысле мне действительно не понятны заявления о СТ как о политическом (в смысле, конъюнктурном) проекте, потому что для меня это прежде всего театральный проект, который решает поставленные перед собою эстетические и одновременно социальные задачи. С самых первых постановок, которые я видела, я сразу вошла в контакт с их языком. Если бы это делалось под заказ, такого эффекта – нащупывания темы, исследования проблемы – не получилось бы. На мой взгляд, это тот театр, который создает театральное событие. Конечно, у театра есть разные постановки, более и менее удачные, но это естественно. Мне кажется, если бы не было такого нетворческого ажиотажа вокруг СТ, для них было бы лучше. Интересно, с чем он связан? Только с политической ситуацией в Беларуси (большинство критиков театра откровенно признаются, что его постановок не видели…) или с тем, что наш зритель не готов к такого рода экспериментам? Т.А.: Наш зритель просто счастлив, когда видит другой театр! Мне кажется, проблема в другом. Недавно в Минске состоялась встреча с польским драматургом, одним из руководителей краковского театра «Новая Лазня». Он рассказывал о том, чем они занимаются. Например, говоря о формате и задачах своего театра, сказал, что они создавали «Новую Лазню» как театр для всех. Потому что да, сегодня польскими театральными брендами являются Люпа, Варликовский, Яжина, но, несмотря на безусловный талант и экспериментальность постановок мастеров, это театр всё-таки для специальной публики, театр со своим специфическим языком. «Новая Лазня» скорее близка к формату «Театра.doc» в Москве. В какой-то момент я подумала, что у нас этим занимается СТ – отказываясь от театрального эстетства и напрямую обращаясь к зрителю. Актерами «Новой Лазни» являются в том числе и любители. Это, на мой взгляд, хороший пример социально ориентированного театра. «Спектакль №7» Во время встречи один наш профессиональный критик спросил гостя, мол, то, что вы сейчас нам рассказываете, это о любительском театре, а нам интересен профессионализм. На что поляк ответил, что не понимает, о чем его спрашивают. И тут я ясно увидела пропасть между нашим театральным пространством и тем, что происходит в современном мировом театре: там такие вопросы – профессионально или нет; если социальный или политический театр, значит любительский – в принципе не обсуждаются. Театров много, и каждый работает по своей программе, решает свои задачи своими средствами. Существуют театры, претендующие на «произведение», как, например, театр Люпы или Яжины. А есть театры, которые, говоря словами поляка, работают как СМИ. СТ, возможно, также не претендует на «произведение», хотя, безусловно, у них есть профессиональная амбиция. Награда Эдинбургского фестиваля этому подтверждение. Да, СТ скорее работает как СМИ, и вполне возможно, что часть их постановок в скором времени утратит свою актуальность, забудется, но в данный момент это не важно. А.Б.: Мне кажется, это связано с очень распространенной у нас в стране нелюбовью к плюральности. Т.А.: Причем эти упреки в непрофессиональности, нехудожественности возникают именно на каких-то читках, вокруг новых текстов, как раз там, где начинается напрямую работа с повседневностью, с «документом». О.Ш.: Может, это – притязание на профессиональность и художественность как самоцель – как раз то, от чего беларусский театр и, в принципе, беларусское искусство должны отказаться? Т.А.: Думаю, что в том понимании, в котором эти категории существуют и интерпретируются у нас сейчас, да. Возможно, это и мешает, особенно молодым авторам: они вместо того, чтобы задаваться вопросом об актуальности того, что делаешь, проводить параллели, просто, в конце концов, говорить, боятся быть непрофессиональными и нехудожественными. Причем из тех, кто считает себя профессионалами, мало кто может ответить, что это такое. Попробую подвести итог нашему разговору. Получается, пока для Беларуси является современным всё то, что отличается от спектаклей репертуарных театров. При этом мы понимаем, что в контексте мирового театрального процесса эти попытки и не новаторство, и не эксперимент. Но дефицит практик подобного рода, любой хотя бы полунамек на беларусскую действительность, на наши актуалии делает такие спектакли моментально востребованными беларусской публикой. О.Ш.: Я бы еще добавила, что востребованность не должна подменять поиска формы и языка, которые необходимо изобретать именно «тут и сейчас», потому что наработанные механизмы, например, эзопов язык, больше не работают.