Г. Ейвин. Творчество Шофмана
advertisement
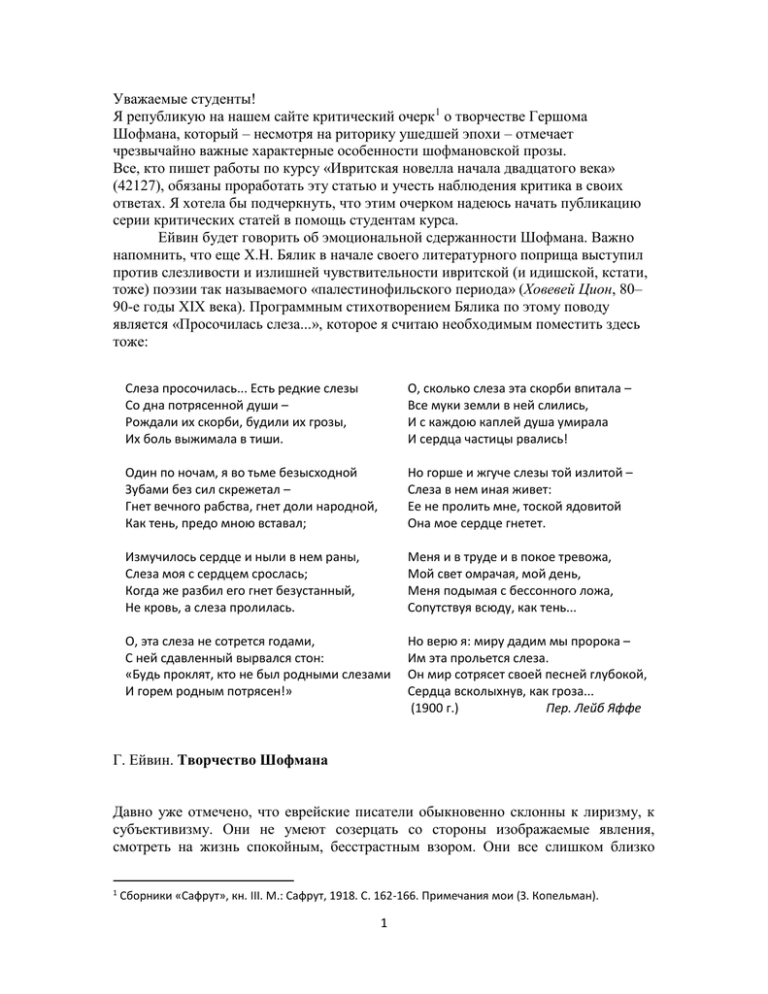
Уважаемые студенты! Я републикую на нашем сайте критический очерк1 о творчестве Гершома Шофмана, который – несмотря на риторику ушедшей эпохи – отмечает чрезвычайно важные характерные особенности шофмановской прозы. Все, кто пишет работы по курсу «Ивритская новелла начала двадцатого века» (42127), обязаны проработать эту статью и учесть наблюдения критика в своих ответах. Я хотела бы подчеркнуть, что этим очерком надеюсь начать публикацию серии критических статей в помощь студентам курса. Ейвин будет говорить об эмоциональной сдержанности Шофмана. Важно напомнить, что еще Х.Н. Бялик в начале своего литературного поприща выступил против слезливости и излишней чувствительности ивритской (и идишской, кстати, тоже) поэзии так называемого «палестинофильского периода» (Ховевей Цион, 80– 90-е годы XIX века). Программным стихотворением Бялика по этому поводу является «Просочилась слеза...», которое я считаю необходимым поместить здесь тоже: Слеза просочилась... Есть редкие слезы Со дна потрясенной души – Рождали их скорби, будили их грозы, Их боль выжимала в тиши. О, сколько слеза эта скорби впитала – Все муки земли в ней слились, И с каждою каплей душа умирала И сердца частицы рвались! Один по ночам, я во тьме безысходной Зубами без сил скрежетал – Гнет вечного рабства, гнет доли народной, Как тень, предо мною вставал; Но горше и жгуче слезы той излитой – Слеза в нем иная живет: Ее не пролить мне, тоской ядовитой Она мое сердце гнетет. Измучилось сердце и ныли в нем раны, Слеза моя с сердцем срослась; Когда же разбил его гнет безустанный, Не кровь, а слеза пролилась. Меня и в труде и в покое тревожа, Мой свет омрачая, мой день, Меня подымая с бессонного ложа, Сопутствуя всюду, как тень... О, эта слеза не сотрется годами, С ней сдавленный вырвался стон: «Будь проклят, кто не был родными слезами И горем родным потрясен!» Но верю я: миру дадим мы пророка – Им эта прольется слеза. Он мир сотрясет своей песней глубокой, Сердца всколыхнув, как гроза... (1900 г.) Пер. Лейб Яффе Г. Ейвин. Творчество Шофмана Давно уже отмечено, что еврейские писатели обыкновенно склонны к лиризму, к субъективизму. Они не умеют созерцать со стороны изображаемые явления, смотреть на жизнь спокойным, бесстрастным взором. Они все слишком близко 1 Сборники «Сафрут», кн. III. М.: Сафрут, 1918. С. 162-166. Примечания мои (З. Копельман). 1 принимают к сердцу – они вечно волнуются и мятутся. Начиная от Гейне и кончая Бяликом и новейшими поэтами – мы находим всюду это преобладание личного, субъективного элемента над мировым, космическим. Корни этого явления можно, пожалуй, проследить еще гораздо глубже – ведь тот же субъективизм находим мы в Псалмах и Пророках. В чем причина этого? В особом ли складе еврейской национальной души, для которой на первом плане стоят не внешние объекты, а внетренние переживания? В особой «нервности» души, которая не в состоянии обрести художественное спокойствие и вечно волнуется и томится? В особых ли условиях жизни – оторванности от природы, скудости внешних впечатлений и интенсивных душевных переживаниях? Каковы бы ни были причины этого явления – мы имеем перед собой неоспоримый факт: еврейские художники по преимуществу субъективны. В этом отношении как будто резко выделяется в молодой еврейской литературе по манере письма и характеру творчества – Шофман. Недаром его произведения кажутся совершенно особым, замкнутым миром. В отличие от Бренера и Гнесина, от Номберга и Бердичевского, у него нет лирических излияний, трепета и рефлексий. Описывая самые ужасные страдания, он, повидимому, остается спокоен. Он пишет – так, по крайней мере, кажется на первый взгляд – «sine ira et studeo»2. Каким-то ледяным холодом веет от его произведений. Пожалуй, именно вследствие этого Шофман вряд ли может стать особенно популярным среди читателей, ищущих теплоты и задушевности. Его произведения – лунный свет, мягкий, ровный, немного призрачный – но не греющий. Шофман – спокоен и бесстрастен. Шофман, в отличие от большинства современных еврейских писателей, объективен. Таково первое впечатление. Но знакомясь с произведениями Шофмана, мы видим, что его спокойствие и объективность не такого рода, какими они бывают у цельных, истиннообъективных художников, обретших внутренний мир в чувстве мировой гармонии. У него мы совершенно не находим широких, ярких картин, ничего общего, всеобъемлющего. Для него характерна любовь к деталям, обилие подробностей, тщательное и четкое изображение мелочей жизни. Когда он рисует природу, он нагромождает много деталей – ему дорого каждое пятнышко снега, каждая травка; он – аналитик по преимуществу. На его палитре нет ярких красок – он любит все серое и будничное. При всей его любви к природе, не она играет главную роль в его произведениях. На первом плане у него выступает не красочная жизнь вещей, а внутренний душевный мир героев. У него мы находим тонкий психологический анализ, разбор мельчайших движений души, ее терзаний и волнений. Лучше яызка звезд и волн знает он один язык – язык человеческих страданий. Нетрудно убедиться, что описывая душевный мир героев, он в сущености раскрывает свой собственный внетренний мир – большинство его героев-интеллигентов довольно похожи друг на друга. Таким образом, Шофман глубоко субъективен в своем творчестве, не меньше, чем Гнесин и Номберг. И, соответственно этому, его рассказы никогда не производят на нас успокаивающего впечатления, какое производят творения объективных художников. Они нас волнуют, мучают, оставляют в душе какой-то тяжелый осадок. Здесь нет гармонии – здесь все хаос, терзание и смятение. Объективизм 2 Без гнева и пристрастия (латынь) – слова римского историка Тацита во введении к его «Анналам». 2 Шофмана лишь кажущийся, мнимый. Шофман вовсе не составляет счастливого исключения среди еврейсих писателей. Он гораздо ближе к семье молодых еврейских беллетристов, чем это кажется на первый взгляд. Но у него есть особое свойство. Он умеет скрадывать свои личные чувства, обуздывать их силой творческой воли. У него – дар самообладания. Вот, например, маленький очерк его «Ахрей ха-рааш» )«»אחרי הרעש, «После погрома»(. Гибнут дети его народа, а все кругом – и природа, и люди – равнодушны. И сам автор кажется равнодушным. Но если вчитаться в этот рассказ, то чувствуется сдавленный крик протеста: вот-вот вырвется стон, леденящий душу, и все кругом встрепенется – и земля, и небо... Но стон застыл, и все сохраняет спокойствие. Но это – не величавое спокойствие. Это иное, тупое спокойствие над открытой могилой близкого человека, когда на лице застыла маска ужаса, и нет сил рыдать. Это – «сдержанный плач, который доходит до глубин небес, скрытая слеза, / которая жжет до глубин преисподней» (Бялик.3) У Шофмана чувствуется это напряжение мускулов лица, сдерживающих нечеловеческий крик, это усилие воли. И в этом – крупная заслуга художника. Шофман преодолел самого себя – преодолел свой «крик души», победил свое личное, узкое. Он принес в жертву свой протест, бурю душевную, которую подавил в себе. Это – самоотречение, если можно так выразиться, аскетизм души. Недаром он так лаконичен, надаром он отрекся от всякой лишней фразы. Он умеет обуздать и «сократить» себя. Но это не победа над терзаниями и муками жизни, не победа в гармонии и синтезе. Он не победил противоречий и ужасов жизни – все они живы в его творчестве. Он одержал лишь внутреннюю победу, поборол себя – он сковал душу суровой холодной оболочкой, и только изредка сквозь эту оболочку прорываются, как вспышки лавы, кипучие слова о молодости и любви, в которых вы чувствуете подлинный трепет его души. Шофман не знает гармонии жизни – у него все раздроблено и нестройно. И тот самый внутренний мир, который является источником оптимизма и жизнерадостности для объективного художника – в творчестве Шофмана является источником безысходности, безнадежности. Мощь внешнего мира, природы, шум жизни его не восхищает, а пугает и отталкивает. Вся природа представляется ему в виде чуждой человеку силы, давящей и уничтожающей личность. Для его героев внешний мир – чуждая и враждебная стихия. Почти все они объяты безотчетным страхом жизни. Шофман не видит общности жизни, «духа Божьего, витающего над водами»4. Но он вникает во все частности ее, разбирается в мелочах ее механизма, в ее винтиках и пружинах, оставляя ее в разобранном виде. Подобно герою рассказа «Стена», он чувствует, что нужно «видеть все», и он торопливо ловит все детали, точно боясь что-нибудь проглядеть. И он любит, конечно, эти детали жизни; но в то же время у него замечается какая-то боязнь крупного, объемлющего. Он ищет убежища именно в мелочах, они не так страшны. И общий фон его 3 Ейвин имеет в виду стихотворение Бялика, призывающее экономить эмоции, особенно слезы, и превращать энергию эмоций в энергию художественного слова. 4 Берешит / Бытие, 1:1. 3 картины – мрачный призрак, «ужас жизни», а рядом с ней – двойник ее, страх смерти. Смерть является частой гостьей в его произведениях. Приходит она неожиданно бессмысленно. Неожиданно уносит Ганю, внезапно приходит к дедушке («»הסבא והנכד, «Дедушка и внук»). Смерть распутывает запутавшийся клубок отношений. Все в жизни – бессмысленно, все – противоречия и хаос. Среди всей этой бессмыслицы, пожалуй, смерть – самое разумное. Кажется, будто Шофман приветствует смерть, преклоняется перед нею. Она уравнивает всех в несчастье, она уничтожает все условности жизни. Здесь замечаем мы «жестокую» черточку в его даровании: он как будто злорадствует, когда все несчастны, когда смерть губит всех... Идея о равенстве всех в несчастье5, как явлении положительном, желанном – она, может быть, плод больного, жестокого ума. Но она глубоко укоренилась во многих человеческих сердцах... Может быть, именно потому Шофману так легко было скрыть свою любось и ненависть и достичь спокойствия и объективизма, что его творчеству присущь элемент жестокости. Как все «жестокие» таланты, и Шофман обнаруживает особый интерес к проблеме ужаса и зла. Он ближе к преисподней, чем к небесам; сатану он чувствует больше, чем Бога. Но его сатана – это не демон, а мелкий бес, и зло, которое он творит – мелкое и гаденькое.6 Герои Шофмана – это слабые, безвольные души беспочвенных интеллигентов. Шофман умеет изображать падение мелкой души, медленно засасываемой тиной жизни.7 Но герои его не только способны на подлость – они занют и любовь. Шофмон довольно тонко рисует любовь, он мастер несколькими штрихами набросать любовные конфликты и драмы. Его женщина – существо таинственное, манящее, тонудее и губящее в муках любви. В его женщине тоже есть нечто бесовское. В отношении Шофмана к женщине также проявляется его тяготение к бесовскому началу в жизни, к началу зла и ужаса. Как и многих других «демонических» художников (мы уже говорили, что его демонизм не крупного калибра), его творчество отмечено печатью двойственности. Эта двойственность воплощается у него в частом противопоставлении двух героев, являющихся носителями противоположных начал. По такой схеме построено у него много рассказов. Таковы Саул и Рувим («В чужом доме»), Обскуров и Шмид («Любовь»), Шур и Агман («Прогулка»). Один из них – воплощение ужаса жизни, замкнутый, одинокий, с полным отравы сердцем. Другой – жизнерадостный, «реальный», деятельный, уравновешенный. Это – две стороны одной монеты, два лика самого художника, который в одно и то же время 5 См. рассказ «Штукатур»: мы не знаем, отчего повесился жилец, но тут же возникает по авторской ассоциации вереница «несчастных ситуаций»: «Часты и тяжки несчастья в домах, во всех домах, где живут люди. Семейные неурядицы, раздоры, разлуки, нужда и болезни, родительские огорчения. Дифтерия. <…> Заботы без числа, отчаянные, безвыходные обстоятельства, самоубийства». 6 Не забудем, что этот критический очерк писался задолго до Гитлера и рассказа «Vater!», где бес по масштабам вполне тянет на владыку Ада. 7 Мужские персонажи рассказа «В осаде и в неволе», Регина в рассказе «Смерть шарманки». 4 и боится жизни, и любит ее. Это – облик художника и его дополнение, то, чем он хотел бы быть. Поскольку Шофман изображает внутренний мир героя – он довольно однообразен. Но он разнообразен, поскольку он любит заглядывать в самые различные закоулки жизни. Жизнь эмигрантов в Галиции, муштровка русской казармы, жизнь публичного дома – все представляет для него одинаковый интерес. В серых уголках жизни он почти не ищет красоты. Он очень правдив, он слишком правдив, чтобы идеализировать. Он иногда слишком много фотографирует. У Шофмана есть особая черта – среди массы условностей и будней жизни он видит ее «скрытый лик», ту неуловимую суть ее, которая открывается в зияющей глубине, как бы прорывается в житейской сцене.8 Среди мелочей жизни он замечает пустоты и провалы. Шофману присущ дар «иронии»9 – не в смысле чувства смешного. Он никогда не смеется, его печальная муза ен знает улыбки. Но у него есть глубокое презрение к условностям жизни, ко всяким кумирам и сильным мира сего. И может быть именно из-за этой правдивости он такой «пуританин с слоге», он избегает лирических исповедей, он старается быть холодным и бесстрастным. Шофман никогда не рисует сытых и довольных и победителей жизни. Он всегда в стане слабых и нищих духом, он – певец обездоленных и униженных. Но он не взывает к нашему состраданию, не просит нашей любви – он от нас ничего не требует. Он слишком горд для этого, и его творчество, в сущности, есть вызов – вызов всем условностям жизни и всем иллюзиями мировой гармонии – во имя беспощадной и обнаженной до костей правды жизни со всеми ее ужасами и несправедливостью. И он, как и близкий ему по духу Бреннер, занят прежде всего стремлением к чистому искусству – к прокладыванию новых путей в нашей литературе. 8 Тут мы подходим к специфике композиции: Шофман детально рисует – «фотографирует» – сцену, а читателю надо самому делать выводы о морали и психологии, а также о мотивах, движущих поступками героев и, как следствие, сюжетом. 9 Я бы скорее назвала это «сарказмом»: «Зовите штукатура, страдающие! <...> И обретете утешение и покой!» 5