Минералова И
advertisement
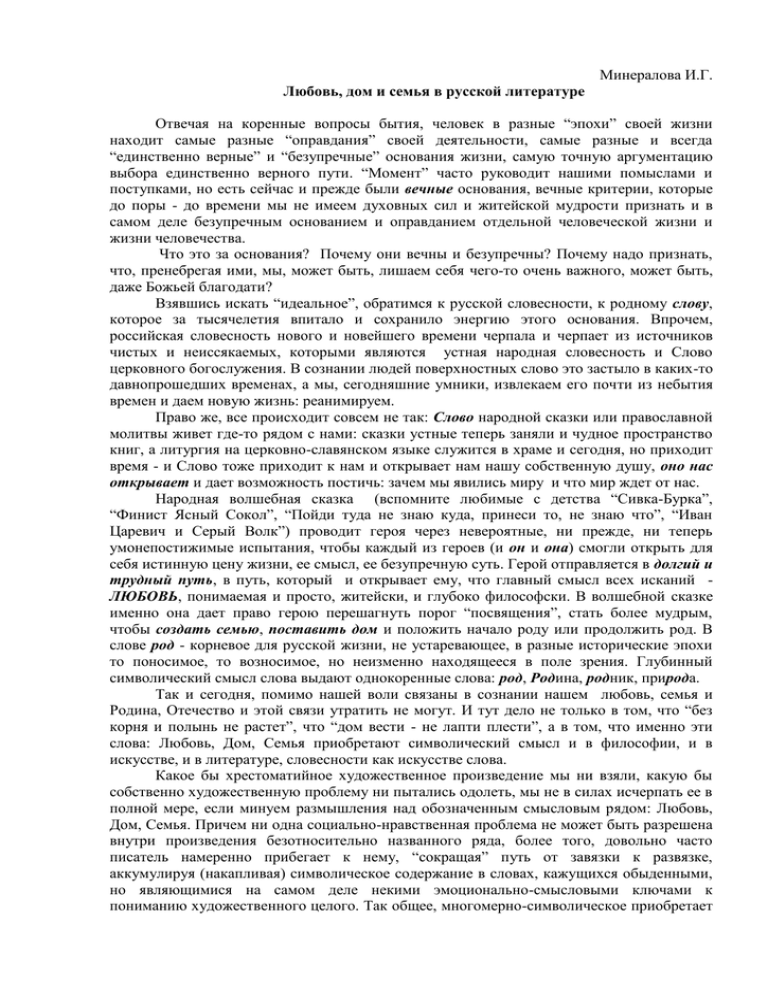
Минералова И.Г. Любовь, дом и семья в русской литературе Отвечая на коренные вопросы бытия, человек в разные “эпохи” своей жизни находит самые разные “оправдания” своей деятельности, самые разные и всегда “единственно верные” и “безупречные” основания жизни, самую точную аргументацию выбора единственно верного пути. “Момент” часто руководит нашими помыслами и поступками, но есть сейчас и прежде были вечные основания, вечные критерии, которые до поры - до времени мы не имеем духовных сил и житейской мудрости признать и в самом деле безупречным основанием и оправданием отдельной человеческой жизни и жизни человечества. Что это за основания? Почему они вечны и безупречны? Почему надо признать, что, пренебрегая ими, мы, может быть, лишаем себя чего-то очень важного, может быть, даже Божьей благодати? Взявшись искать “идеальное”, обратимся к русской словесности, к родному слову, которое за тысячелетия впитало и сохранило энергию этого основания. Впрочем, российская словесность нового и новейшего времени черпала и черпает из источников чистых и неиссякаемых, которыми являются устная народная словесность и Слово церковного богослужения. В сознании людей поверхностных слово это застыло в каких-то давнопрошедших временах, а мы, сегодняшние умники, извлекаем его почти из небытия времен и даем новую жизнь: реанимируем. Право же, все происходит совсем не так: Слово народной сказки или православной молитвы живет где-то рядом с нами: сказки устные теперь заняли и чудное пространство книг, а литургия на церковно-славянском языке служится в храме и сегодня, но приходит время - и Слово тоже приходит к нам и открывает нам нашу собственную душу, оно нас открывает и дает возможность постичь: зачем мы явились миру и что мир ждет от нас. Народная волшебная сказка (вспомните любимые с детства “Сивка-Бурка”, “Финист Ясный Сокол”, “Пойди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что”, “Иван Царевич и Серый Волк”) проводит героя через невероятные, ни прежде, ни теперь умонепостижимые испытания, чтобы каждый из героев (и он и она) смогли открыть для себя истинную цену жизни, ее смысл, ее безупречную суть. Герой отправляется в долгий и трудный путь, в путь, который и открывает ему, что главный смысл всех исканий ЛЮБОВЬ, понимаемая и просто, житейски, и глубоко философски. В волшебной сказке именно она дает право герою перешагнуть порог “посвящения”, стать более мудрым, чтобы создать семью, поставить дом и положить начало роду или продолжить род. В слове род - корневое для русской жизни, не устаревающее, в разные исторические эпохи то поносимое, то возносимое, но неизменно находящееся в поле зрения. Глубинный символический смысл слова выдают однокоренные слова: род, Родина, родник, природа. Так и сегодня, помимо нашей воли связаны в сознании нашем любовь, семья и Родина, Отечество и этой связи утратить не могут. И тут дело не только в том, что “без корня и полынь не растет”, что “дом вести - не лапти плести”, а в том, что именно эти слова: Любовь, Дом, Семья приобретают символический смысл и в философии, и в искусстве, и в литературе, словесности как искусстве слова. Какое бы хрестоматийное художественное произведение мы ни взяли, какую бы собственно художественную проблему ни пытались одолеть, мы не в силах исчерпать ее в полной мере, если минуем размышления над обозначенным смысловым рядом: Любовь, Дом, Семья. Причем ни одна социально-нравственная проблема не может быть разрешена внутри произведения безотносительно названного ряда, более того, довольно часто писатель намеренно прибегает к нему, “сокращая” путь от завязки к развязке, аккумулируя (накапливая) символическое содержание в словах, кажущихся обыденными, но являющимися на самом деле некими эмоционально-смысловыми ключами к пониманию художественного целого. Так общее, многомерно-символическое приобретает в каждом конкретном произведении свои неповторимые черты, исключительно данному роману или данному драматическому произведению или лирическому стихотворению присущие. Так, например, одно из первых программных школьных произведений русской литературы, комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума” рассматривается как произведение обличающее отвратительный консерватизм московского дворянства и сопутствующие ему социально-нравственные недуги и сочувствующее отважной прогрессивности молодости, за которой, несомненно, грядущее. В конечном счете это так, но лишь при учете некоторых весьма важных моментов, попадающих в поле зрения читателя не всегда. Начнем с того, что почти “сказочно долго” («Ах, тот скажи любви конец/ Кто на три года вдаль уедет») для влюбленного скитавшийся герой возвращается в дом, где он надеется найти то, что некогда оставил. Развитие действия пьесы практически диаметрально противоположно развитию “сказочных” событий. Чацкий является и настойчиво напоминает о себе до неприличия рано, кажется, именно он нарушает устоявшиеся законы приличия и нравственности. Однако если учесть, что он воспитан в этом доме, что он возвращается почти к себе домой, то раннее возвращение, может быть, и простительно. Но, как видим, его “оплошность” порождает нешуточный гнев юной Софьи: ведь истинным разрушителем дома, его быта и нравственного уклада оказывается именно она. Ее влюбленность в лицедея, в человека «не ее круга» грозит катастрофой всему устоявшемуся московскому дворянскому миру. Впрочем, как обнаруживает это Чацкий, дом давно прогнил, а Софья силою своего изворотливого ума может слегка “украсить фасад”, продлив его полумертвенное существование. Дом, несомненно, рухнет, потому что не может устоять дом, из которого ушла любовь, где селятся страстишки. Первоначальное название “Горе уму” А.С. Грибоедов заменяет на “Горе от ума” и вполне резонно: Софья в переводе на русский означает мудрость, ум, а Александр (так зовут Чацкого) - защитник, так что горе не Софье, а Чацкому от Софьи, обьявившей его сумасшедшим. Но хотя это значение и доминирующее, есть и другое: “ум с сердцем не в ладу”. Умный, наблюдательный, проницательный Чацкий с его язвительным, ироничным словом, как он может казаться “впору” этому дому, этому семейству, бессердечной и эгоистичной Софье? Все остальные мотивы и темы комедии соположены этому основному конфликту двух прежде влюбленных, ныне же чужих, даже враждебных друг другу молодых людей. Тут вот и оказывается, что на самом деле чудак Чацкий воюет не с отживающими устоями и безнравственностью стариков, ему противопоставлена безнравственность нового времени, более тонкая и изящная, чем салдофонство, шутовство, клоунада стариков. Комедия эта, согласитесь, безнадежно устарела бы, если бы высмеивала крепостников, чиновников царской России, дворянство вообще, ибо сами реалии эти давно канули в лету. Однако с 1824 года, когда она читалась в списках, прошло более чем полтора столетия, а мы читаем и смотрим эту комедию, понимая, что самая суть ее отнюдь не устарела, а суть ее — Любовь, Дом, Родина. И.А. Гончаров в критическом этюде «Мильон терзаний», увидевшем свет в 1871 г. резонно заключал: ««Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо чрез гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и все живет своею нетленною жизнью, переживет еще много эпох и все не утратит своей жизненности» (курсив мой. - И.М.) Для И.А. Гончарова все или почти все ясно в комедии. В ХХ веке, когда эта ясность должна была бы восторжествовать окончательно, А. Блок в поэме «Возмездие» указывает как раз на совершенно обратное: Ты, может быть, совсем забыл, Что жил чиновник Грибоедов, Что службы долг не помешал Ему увидеть в сне тревожном Бред Чацкого о невозможном, И Фамусова пышный бал, И Лизы пухленькие губки... И — завершенье всех чудес — Ты, Софья... Вестница Небес Или бесенок мелкий в юбке?.. ............ Читали вы «Мильон терзаний», Смотрели «Горе от ума»... В умах — все сон полусознаний, В сердцах — все та же полутьма... А. Блок с присущим началу века неоромантизмом указывает и на двойственность, неоднозначность и неординарность изображаемых Грибоедовым натур и, между прочим, на обидную поверхностность в прочтении бессмертной комедии. А. Блок мыслит категориями своего времени, и судит героев с позиций своей мятежной эпохи. Л.М. Леонов уже с позиций иного ХХ века напишет: «Грибоедов любил русское...(курсив мой. - И.М.) Живи он еще сотню лет, он написал бы редакцию «Горя», улучшенную в отношении Софьи, в которую было несправедливо брошено столько камней, включая пушкинский, — Софью, ровесницу Татьяны Лариной, Наташи Ростовой, «русских женщин» Некрасова» Это леоновское определение «любил русское» заставляет не скорректировать наши характеристики относительно Софьи, которую Грибоедов написал так, как написал, хорошо, что лучше, например, чем Л. Толстой Элен Курагину, но ведь с языка отца срывается: Дочь! Софья Павловна! срамница! Бестыдница! где! с кем! Ни дать, ни взять, она, Как мать ее, покойница жена. Бывало я с дражайшей половиной Чуть врознь: — уж где-нибудь с мужчиной! Стоит обратить внимание на фигуру практически всегда остающуюся в тени, фигуру Фамусова - отца. Ведь в размышлениях о нем большинство критиков судит не столько его, сколько его круг, в котором отражена Москва вообще, Отечество вообще: фамусовское общество. Однако дело не только и не столько в круге, сколько в фигуре самого Фамусова, многое объясняющей и в детях: ведь и Софья — родная дочь, и Чацкий — приемный сын. Критики и в прошлом, и сегодня, находясь в невольном споре с той или иной позицией, склонны полемически заострять для них, критиков, главное в персонажах, но не главное на самом деле. Не случайно комедию Грибоедова называют первой реалистической комедией: герои ее не схематичны, не рупоры авторских идей только, они гениально изображены живыми со всеми, присущими живым хорошими и дурными свойствами. Ворчун Фамусов, повторимся, отец семейства. «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» — сокрушается он, и есть отчего. Он, как «родоначальник», вынужден заботиться о роде, о семье, о кровном дитяти, ибо в этом его собственная будущность, потому он так хлопочет о сохранении устоявшегося порядка. Это живой персонаж, в котором одни увидят то, что выписано комически, другие задумаются над тем, что сквозит между строк в его характеристике: добродушие, граничащее с благодушием, оборотной стороной которого всегда является попустительство. Его любовь к дочери слепа: он не ведает, что творится под крышей его дома, он не может разглядеть в Молчалине существо своекорыстное и низкое, но, по всей видимости, своевольный Чацкий становится таковым и в результате «воспитания» самого Фамусова, в котором сочувствие к сироте, сыну друга приводит к финалу, который и застаем мы. Впрочем, может быть, прав Фамусов, указывая на причину всех бед: Ужасный век! Не знаешь, как начать! Все умудрились не по летам. А пуще дочери, да сами добряки. Дались нам эти языки! Берем же побродяг, и в дом и по билетам, Чтоб наших дочерей всему учить, всему — И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам! Как будто в жены их готовим скоморохам. Ты, посетитель, что? ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в мое семейство, Чин дал асессора и взял в секретари; В Москву переведен через мое содейство; И будь не я, коптел бы ты в Твери. Может быть, в этом монологе обескураженного неожиданно ранней встречей с Софьей и Молчалиным выравается недоумение опять же отца семейства, который не только Чацкого воспитывал, но и «пригрел» «безродного». Действительно, Фамусова губит его «широкая натура», в которой главное — доброта во всех ее (даже диаметрально противоположных) проявлениях, более того, характерная русская неразборчивость в том, кому стоит делать добро, а кому лучше бы для его нравственности «коптеть где -нибудь в Твери», но русская история такова, какой мы ее застаем, и русский хлебосольный и открытый характер тоже и доныне таков: примеры, тем более литературные, ничему нас, к сожалению, не учат, а на риторический вопрос Фамусова «Моя судьба еще ли не плачевна?» отвечает весьма уклончиво. С другой стороны, Чацкий, вернувшийся домой (три года — срок немалый для молодости), не находит ни единого теплого слова для своих близких, ради которых, как он сам признается, «сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,/ Верст больше семисот пронесся...» Он не их любит, а лелеет свою собственную любовь, эгоистично надеясь на «награду». В Чацком нет и тени душевного тепла, Софья упрекает Чацкого: Случалось ли, чтоб вы, смеясь? или в печали? Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть... А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить, Угодно ль на себя примерить?.. Без этого душевного тепла не может мыслится, и уж тем более строиться дом, семья. От избытка этого добродушия в Фамусове рушится дом, от его недостатка в Чацком — он не может быть ни восстановлен, ни построен заново. Спустя более столетия с написания знаменитой комедии Грибоведова А. Ф. Лосев пишет работу “Жизнь”. Величайший философ ХХ века говорит, обобщая путь русской философской мысли, что “Для кого познаваемое - не родное, тот плохо познает или совсем не познает”. Добавим, что для нас эта мысль является актуальной потому, что искусство, литература есть художественное познание мира. А.С. Грибоедов комедией, написанной на излете первой четверти ХIХ века, заставляет нас размышлять о насущном сегодня, в начале ХХI века. А.Ф. Лосев делает важные для нас выводы, которые по большому счету диктовала и русская история, и русская философия, и русская литература: “Наша философия должна быть философией Родины и Жертвы «...» Нет осмысления и для каждой отдельной жизни, если она не водружена на лоне общего, если она не уходит корнями в это родное для нее общее, если она не любит этого общего, т.е. если она не жертвует себя для этого общего, не отрекается от себя ради вожделенной и сокровенной для всякого чужого взора Родины” (выделено нами - И.М.). Так, почти помимо своей воли Чацкий «напрашивается» на роль жертвы. Парадоксы свойственны русской жизни и русской литературе, так что парадоксальная личность Чацкого никого не удивляет: «Он вечный обличитель лжи, запрятавшийся в пословицу:«один в поле не воин». Нет, он воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и всегда жертва». И.А. Гончаров указывает на масштабность конфликта, начинающегося в «Горе от ума» с конфликта внутрисемейного и вырастающего до конфликта социально-нравственного. Комедия как жанр, апеллируя к вечным для русской культуры ценностям (Дом, Любовь, Семья), указала на миг в истории Родины на пороге обновления, миг, чреватый разрушением прошлого, чтимого, в известной части своей обветшавшего, так что разрушительное и одновременно обновляющее, как это ни странно, свойственно Софье и Чацкому вместе. Только в их сопоставлении и противопоставлении и можно понять внутреннюю суть происходящего. Русская литература крайне редко впадала в грех самолюбования, она практически всегда была жизнестроительной, то есть, писателя не просто “занимала”, “интересовала” жизнь соотечественников, зачастую он писал исключительно для того, чтобы его читатель смог открыть для себя мир Красоты и Любви, смог построить свой дом и мир вокруг по законам красоты, любви и добра. Именно потому герой русской литературы, русской прозы, русской драмы и “герой”, и “жертва”. Не кажется ли странным, что читая роман в стихах, который А.С. Пушкин назвал “Евгений Онегин”, мы почему-то больше, чем над судьбой Онегина, размышлчем над судьбой Татьяны Лариной? Иннокентий Анненский, подводя некоторые итоги русской литературы к началу ХХ века, пишет в статье “Символы красоты у русских писателей”: “Всякий раз, когда я принимаюсь читать Пушкина, мне кажется, будто этот поэт мыслил о женской красоте лишь эстетически. Гений чистой красоты положительно слепит меня своим нестерпимым блеском” (Анненский Иннокентий. Избранное. М., 1987. С.338). Можно было бы добавить, что при всем многообразии образов, воплотивших в разной степени в себе Красоту, у Пушкина есть, может быть один-единственный женский образ, обнимающий всю полноту значений слова Красота: в нем есть наслаждение созерцанием ее, есть восхищение духовным ее светом, есть сострадание ее жертвенности. Этот образ — Татьяна Ларина. Марина Цветаева в книге “Мой Пушкин”, вспоминая о своих почти младенческих воспоминаниях об “Евгении Онегине”, говорит: “Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (курсив мой - И.М.) «...» в них обоих вместе, в любовь.«...» В любовь” (Цветаева Марина. Мой Пушкин. М., 1981. С.51). Анализ сюжетно- композиционного строя романа М. И. Цветаева дает с предельной лаконичностью: “Моя первая любовная сцена (“Евгений Онегин” - И.М.) была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила она, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес - она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула, и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно”. (Указ. соч. С.51). И еще более категорично: “С младенчества посейчас весь “Евгений Онегин” для меня сводится к трем сценам: той свечи — той скамьи — того паркета” (Указ. соч. С.53). Кажется, сказанное М.И.Цветаевой нуждается лишь в подтверждении словом романа и не представляет ни малейшей трудности даже школьнику... И все-таки: “той свечи” — дом, “той скамьи” — сад с его и реалистическим, и символическим наполнением, “того паркета” — иного мира, не камерного, уже “не-дома” где человек “на виду”, “одинок”, “не защищен”. Да, Татьяна не только от мира сего, скорее даже не от мира сего, не принадлежит ему так, как принадлежит ему ее сестра Ольга. Она, как это ни странно, в трех мирах одновременно. Пушкин показывает одну-единственную семью - семью Лариных, но в семье этой выросли две дочери - антиподы во всем, по большому счету, одна земная - Ольга, другая не от мира сего, и потому, кажется, ни в чем судить мы ее не вправе. Если же обратиться к собственно сожетной основе произведения, то станет совершенно очевидным: роман начинается с описания внутрисемейных отношений: «Мой дядя самых честных правил...», «Долгами жил его отец /...и промотался наконец». Как напоминает герой Пушкина своего предшественника Чацкого в петербургском «изводе»: холоден, эрудирован, ироничен... В воспитании Онегина нет той простоты и душевного тепла, в которых и формируется представлении о любви, в которых и пробуждается и развивается любовь. Не открыв ее для себя в юношестве, Онегин в скитаниях и жизненных испытаниях приобретает то, что Татьяне дано отроду... Впрочем, давая портрет своего героя, Пушкин указывает как раз на то, что занимало его больше всего: Но в чем он истинный был гений, Что знал он тверже всех наук, Что было для него измлада И труд, и мука, и отрада, Что занимало целый день Его тоскующую лень, — Была наука страсти нежной, Которую воспел Назон, За что скитальцем кончил он Свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей, Вдали Италии своей. Не случайно автор не говорит просто «любовь», а прибегает к не без иронии поданной метафоре. «Наука страсти нежной» не «любовь» Татьяны Лариной, это нечто из разряда светских забав, игр, приключений, актерства и лицедейства, «наука», преподанная ему изысканным воспитанием и образованием, в которых, мы видим, нет и тени того душевного семейного благорасположения, из которого самым естественным образом впитывается желание «уз»: Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным, Внимательным иль равнодушным! Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив В сердечных письмах как небрежен! Одним дыша, одно любя, Как он умел забыть себя! Как взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, а порой Блистал послушною слезой! Но даже целой онегинской строфы не хватает автору, чтобы развернуть метафору «наука страсти нежной», следующая не менее красноречива: Как он умел казаться новым, Шутя невинность изумлять, Пугать отчаяньем готовым, Приятной лестью забавлять, Ловить минуту умиленья, Невинных лет предубежденья Умом и страстью поражать, Невольной ласки ожидать, Молить и требовать признанья, Подслушать сердца первый звук, Преследовать любовь, и вдруг Добиться тайного свиданья... И после ей наедине Давать уроки в тишине! Впрочем за этой последует еще одна строфа, завершающая повествование о «таланте любви» Евгения Онегина, но мы намеренно выделяем последние четыре строки ХI строфы первой главы, потому что они указывают на то, что и в истории с Татьяной он использует один из излюбленных своих «приемов», разница лишь в том, что прежде он встречал тоже «актрис», но нынче он встретил настоящее чувство, но не узнал этого настоящего. В стихотворном романе А.С. Пушкина красота и любовь выступают как составляющие портрета героя. Но и Дом может быть и просто характеристикой внешних обстоятельств жизни героя, и характеристикой его внутреннего мира, и обстоятельствами, опосредованно живописующими героя во всей полноте его материальной и духовной жизни. Одним словом, данное в произведении описание дома — не просто интерьер, это также пролонгированный портрет: душа — Дом — Мир — Мирозданье — и снова Душа. Это своеобразная система зеркал. Так не случайно мы прежде, чем попасть в дом Лариных, оказываемся в усадьбе, где поселился Евгений Онегин. Описанием деревни, в которой отражается, как в капле воды, образ России, открывается вторая глава поэмы: Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок; Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, Горой от ветров огражденный, Стоял над речкою. Вдали Пред ним пестрели и цвели Луга и нивы золотые, Мельками селы; здесь и там Стада бродили по лугам, И сени расширял густые Огромный, запущенный сад, Приют задумчивых дриад. Можно было бы сказать, что Пушкин вводит читателя в обстоятельства жизни героя едва ли не так, как впоследствии Гоголь станет приводить своего «путешественника» в усадьбы помещиков, с той лишь принципиальной разницей, что задача Пушкина и Гоголя будет разной. Гоголь демонстрирует «вариации ада», Пушкин живорисует едва ли не идеальное место для отдохновения души своего героя, одновременно показывая, что в аналогичных обстоятельствах окажется другой молодой человек, Владимир Ленский, с юношеским опытом иного свойства: Он верил, что душа родная Соединиться с ним должна, Что безотрадно изнывая, Его вседневно ждет она; Он верил, что друзья готовы За честь его приять оковы И что не дрогнет их рука Разбить сосуд клеветника; Что есть избранные судьбами, Людей священные друзья; Что их бессмертная семья Неотразимыми лучами Когда-нибудь нас озарит И мир блаженством одарит. И еще одна характеристика указывает на принципиальное несходство героев. Вот что такое любовь для Ленского: Ах, он любил, как в наши лета Уже не любят; как одна Безумная душа поэта Еще любить осуждена... Портреты молодых людей выписыватся по принципу антитезы, и это тоже важно для понимания замысла автора романа в стихах. Перед нами по существу портрет «прозаика» и «поэта» не только по складу натуры, но и по мировидению, по отношению к категориям, жизнеобразующим, какими являются любовь, дом, семья. Однако через эти два диаметрально противоположных образа метонимически дается и весь диапазон представлений героев о ценном и бесценном в мире и человеке. Именно Владимир Ленский «связует» почти несвязуемое: нелюдимого Онегина и семейство Лариных: Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины; У них на масленице жирной Водились русские блины; Два раза в год они говели; Любили круглые качели, Подблюдны песни, хоровод; В день Троицын, когда народ, Зевая слушает молебен, Умильно на пучок зари Они роняли слезки три; Им квас как воздух был потребен, И за столом у них гостям Носили блюды по чинам. В одной строфе Пушкин передает образ жизни семейства, его уклад с прозой и поэзией этой самой жизни. А.Н. Веселовский говорит: “Эпитет есть стиль в сокращенном издании”. Следуя за афористической мыслью ученого, можно заключить, что духовно-нравственный словесный портрет героя “дышит”: он отражен в портрете, но в неменьшей мере он не просто отражен, но приумножен совокупностью обстоятельств, доминирующими из которых будут дом и семья. Любовь есть узы, связь многомерная (ведь слово религия в переводе на русский — тоже связь, но на сей раз с надмирным, божественным), так что и портреты Онегина и Ленского «в интерьере», и свернутая в одну строфу целая жизнь супругов Лариных — стиль романа в его сокращенном издании. Кроме того, по своему стиль романа отражается в слоге произведения, во включенных в него жанрах обыденного общения, как, например, “Письмо Татьяны к Онегину”, монолог Онегина, но может быть воплощено в семантике самой композиции произведения, более того, в семантике стиховой конструкции. Крайне редко читатель стихотворного романа обращает внимание на собственно стиховое в нем. Непосвященному всегда кажется, что стихами написано для того, чтобы это выглядело “складно”. Но роман Пушкина написан не просто стихами, а такой стиховой формой, которая впоследствии стала называться онегинской строфой. Владимир Турбин напоминает интереснейшие обстоятельства культурной жизни России, Москвы, близкого круга знакомых Пушкина, сопутствовавшие написанию романа и говорит об этом с тем, чтобы постичь макрокосм пушкинского романа. Дело не только в том, что именно тогда, когда Пушкин наконец «подбирает стиховой ключ» к прозаическому сюжету романа, относятся события, связанные с обсуждением проекта храма в честь победы России в Отечественной войне 1812 года, задуманного и исполненного Витбергом. 12 октября 1817 года был заложен храм Христа Спасителя на Воробьевых горах, осуществиться которому не было суждено, но проект которого широко обсуждался, в подготовке его строительства принимала участие вся Россия. (См. об этом подробнее факты, приводимые ученым в его книге: Турбин Владимир. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. М., 1978. С.180-190). Витберг мечтал, “ чтобы каждый камень его (храма - И.М.) и все они вместе были говорящими идеями... Чтобы это была не груда камней, искусным образом расположенная, не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский”. А.И. Герцен передает смысл витбергова храма следующим образом: “Храм Витберга, как главный догмат христианства, тройственен и неразделен. Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе... На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма, — храма распростертых рук, жизни, страдания, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц... Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности, выражавшейся кольцеобразным его планом”. Итожа это описание, В. Турбин пишет: “Три яруса, этажа: низ — тело, гроб; середина — крест; и верх — увенчанная куполом ротонда, кольцо, шар. Целое — памятник божественному в человеческом и человеческому в божественном” (Турбин Владимир. Указ. соч. С.184—185). Как разительно напоминает эта конструкция один пушкинский рисунок, в конечном итоге передающий конструкцию онегинской 14-строчной строфы, где первые 4 имеют перекрестную рифму (крест), следующие 4 — смежную (параллелограмм), следующие 4 — кольцевую или опоясывающую (кольцо), а последние 2 строки — смежную. Конструкция онегинской строфы, пронизанная семантикой слога, поэтического синтаксиса, “помноженная” на конфликты, явленные в произведении, выраженные и сюжетом, и сопряжением описаний, создает тот самый мир (дом и храм) стихотворного романа, на принципиальное отличие которого от романа прозаического указывал сам А.С. Пушкин. Как видим, простота и “прозрачность” стихотворного романа иллюзорна, ибо даже “конструкция”, “постройка” романа в целом зиждется не просто на онегинской строфе “вообще”, на соответствующем наборе ямбических строк с удобной для изложения материала соответствующей рифмовкой: онегинская строфа сама уже по себе оказывается вместилищем всех тех “идей”, без которых наше представление о современниках Пушкина будет однобоким и примитивным. Впрочем, символическое значение «гроба», «креста», «кольца», отражено и в судьбе каждого из героев, и в судьбе их любви, и в их представлении о доме, и о смысле жизни, и об их месте в мирозданье. Без сомнения, все сказанное нами отражено в любовном сюжете романа, в сюжетных линиях Онегина и Татьяны, где прозаическое, обыденное соположено возвышенному, кажущемуся судьбоносным, где одиночество одного и замужество другой в итоге — одновременно и нечто предопределенное свыше, и крестная мука обоих. Но прежде чем это случится, автор даст возможность Онегину написать картину будущей семейной безрадостной жизни: Что может быть на свете хуже Семьи, где бедная жена Грустит о недостойном муже, И днем и вечером одна; Где скучный муж, ей цену зная (Судьбу, однако ж, проклиная), Всегда нахмурен, молчалив, Сердит и холодно-ревнив! Таков я. И того ль искали Вы чистой, пламенной душой, Когда с такою простотой, С таким умом ко мне писали? Ужели жребий нам такой Назначен строгою судьбой? Пушкин в своем стихотворном романе объясняет и свое отношение к «любви красавиц нежных», к тому, что называется «родня», не без юмора заключая, что есть лишь одно лицо, достойное любви:«Любите самого себя...» Однако это в шутку. А всерьез «крепка, как смерть, любовь, жестока, как смерть, ревность»: Недвижим он лежал, и странен Был томный мир его чела. Под грудь он был навылет ранен; Дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновенье В сем сердце билось вдохновенье, Вражда, надежда и любовь, Играла жизнь, кипела кровь, — Теперь, как в доме опустелом, Все в нем и тихо, и темно; Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окны мелом Забелены. Хозяйки нет. А где, Бог весть. Пропал и след. В одном только этом описании гибели Ленского сопрягаются представления о мире, о доме, о человеке, но с другой стороны, сам человек вдруг осознается как вместилище любви, как дом и храм, как целый мир. Точно так же сталкивает автор два, кажется, диаметрально противоположных представления о любви: Онегина и Татьяны. И в этих противопоставленных и даже разведенных на полюса представлениях о сути любви отражается вся иерархия ценностей, отраженная семантикой онегинской строфы также. Для Татьяны ее любовь — дар Божий: Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой; Я знаю, ты мне послан богом, До гроба ты хранитель мой... Этому своему чувству она не изменит: в верности и жертвенности притягательность образа Татьяны, а еще в естественности и цельности натуры: ... И я любила вас... ... Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век ему верна. Желание постичь прежде всего социально-нравственный план повествования, зачастую лишают нас той глубины суждений, которой трудно избежать, говоря о сокровенном, о том, что сильнее всего притягивает человека. В литературе бывает и так, что именно через любовь или ее отсутствие, через “узы” или “распрю”, разрыв писатель говорит нам не только о герое, но о целом поколении, об эпохе. Татьяна Ларина откроет свою мечту Онегину: .... Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этот блеск, и шум, и чад За полку книг, за дикий сад, З а наше бедное жилище, За те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, Да за смиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянею моей... В этой самой мечте невольно слились мечта об искренней безмятежной любви, молодости, о доме, о тех самых узах, которые неразрывно связывают не только живых, но и живущих и уже ушедших... Так эта мечта, воплощенная в содержании романа, усилена символикой онегинской строфы. Диалектика жизни и искусства такова, что каждый феномен дан нам и в сопоставлении, и в противопоставлении, некой антиномичности. Так и отсутствие образа любви, красоты, дома не просто констатирует их отсутствие, но говорит о причинах отсутствия или замещения. Любопытен в этом отношении роман “Герой нашего времени” М.Ю. Лермонтова. Автор, в общем-то щедрый на характеристики, намеренно ни слова не говорит о его детстве, о его семье. Лермонтовский герой почти болезненно стремиться к “узам”: дружбе, любви. Но этим стремлением движет либо любопытство, либо скука, либо иные состояния, которые имеют способность “насыщаться” почти мгновенно. Сердце его холодно, душа его скрыта от постороннего взгляда, впрочем, таковы условия жанра: романтическое — доминанта в организации содержания, а потому ждать каких-то реалистических мотивировок поступков героя нет ни малейших оснований, даже там, где они есть, вряд ли способны удовлетворить. Печорин — “охотник”, “ловец красоты”, на нем — печать разочарования и безмерного одиночества, именно сиротства безмерного, не с одними людьми только; он, кажется, лишен дома, семьи, уз вообще не только среди людей, но и в мирозданье. Вот что говорит Печорин, почти исповедуясь перед Максим Максимычем: «... Вскоре перевели меня на Кавказ; это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой... мне все мало: к печали я также легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать...(читай: скитаться, странствовать — И.М.)». Не только Максима Максимыча поражают слова двадцатипятилетнего человека. Вспоминая Бэлу, Максим Максимыч разоткровенничается: «Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня полюбила. надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашелкого баловать». В Максиме Максимыче вообще очень сильно это чувство родства, он отечески «прикипает душою» и к Бэле, и к Печорину. Журнал Печорина дает новый взгляд на нашу проблему. Предисловие может обескуражить неискушенного читателя: «...недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки...» Если Печорин живой человек, человек несчастный по-своему, то разве не сострадание, сочувствие в его участи может вызвать это известие? Конечно, если публикатор тоже не циничный человек. Или облик Печорина доказывает, что он не просто человек. Обратите внимание: Печорин ищет дом в Тамани и не может найти. Уже устав от поисков, он восклицает: «Веди меня куда -нибудь, разбойник! Хоть к черту, только к месту!» «Есть еще одна фатера,— отвечал десятник, почесывая затылок, — только вашему благородию не понравится; там нечисто!» «Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой .... Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер» Печорин называет встреченную в доме девушку ундина. Но ундина - русалка — хозяйская дочка, «чертовка». “Нечистый” уклад жизни безродного слепого, глухой старухи, ее дочки, татарина Янко, уклад, в котором дано влачить существование убогим; в нем нет милосердия, но бесовство до поры уживается с взаимопомощью. Неужели суждено здесь, в нечитстом месте герою наконец-то обрести любовь: «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — это значит, что я тебя люблю...» «Ундина» пытается прельстить и убить человека, посягающего на мирный уклад ее жизни. Ведь приходит Печорин и разрушает «нечистый» дом, не случайно автор выделяет курсивом оксюморонную (парадоксальную) характеристику этого сообщества: «честные контрабандисты». Он в сущности не делает ничего предосудительного, совсем напротив, но читательское сочувствие, конечно, на стороне несчастных старухи и слепого, так что невольно досадуешь на то, что Печорин и на сей раз оказывается разрушителем чьей-то жизни. Он указывает на лукавство, хитрость, другие пороки героев, но все его, кажется, благие (благие ли) или из любопытства одного совершенные поступки не приносят удовлетворения ни ему, ни кому-то другому. Любовь оказывается обманом, а дом рухнет, домочадцы обречены кто на скитальчество, кто на медленную смерть. Свой собственный уклад жизни имеет и «водяное общество». Он по-своему отражается в «нечистом доме» из повести Тамань. Однако там, в «Тамани», все честнее, да и сам Печорин честнее, чем в повести «Княжна Мери». Автор и называет повесть «Тамань», указывая на «обстоятельства», на «нечистое место». В «Княжне Мери» в центре невольно оказывается образ юной княжны, котороя, может быть, является исключением из общества, которое живет по своим «театральным», условным законам. По мнению Печорина, «завязка» комедии состоялась. Все герои этой комедии уже знают свои роли, не знает ее княжна Мери. Ради собственной любви затевает Печорин игру с Мери. Впрочем, чтобы «развеять скуку», он разыграл бы задуманную им комедию, не встреть он Веру. Но Вера — его настоящая любовь. Что такое настоящая любовь, по мнению автора и героев романа Лермонтова? «Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...» «Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда... » «Она (Вера) вверилась мне снова с прежней беспечностью, — и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть» Дневник дает возможность раскрыть намерения героя вполне откровенно: «Весело! Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, — теперь я хочу быть только любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!» Однако не только для того, чтоб разыграть комедию, Печорин оказывается рядом с Мери: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути...» Эта дневниковая запись Печорина от 3 июня, прочитанная целиком, представляет собой философско-психологический портрет героя, но она еще раз подчеркивает систему координат, в которой судит себя и мир герой. Не описывая подробности того, каким образом характер его, его душа сделались такими, какими мы их видим, Печорин все-таки приоткрывает завесу тайны его парадоксальной натуры: «Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились... Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен... Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли». Однако его пространный монолог — не больше-не меньше — ловушка для княжны, что в нем правда, что поза — трудно разобрать, он скорее вводит в заблуждение на свой счет, чем пытается «раскрыть свою душу». Единственный человек вполне понимает Печорина — это Вера, потому и понимает, что любит. Печорин приводит все ее последнее письмо к нему: «... ты можешь быть уверен, что я больше никогда не буду любить другого...в твоем голосе, что бы ты не говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым...» Комедия окончена. Печорин сыграл в пьесе. Правда, о ее конце, как и о начале объявляет сам Печорин после выстрела в Грушницкого:«Finita la comedia!» И дневник Печорина, и рассказ о нем Максима Максимыча напоминают нам о другом герое М.Ю. Лермонтова — о Демоне, впрочем Печорина, как и Демона, нельзя понять вне их «выражения» в Любви: к Бэле, к княжне Мэри, к Вере. Может быть, автор намеренно прибегает к образу восточной красоты и любви, где максимализм довлеет во всем, к образу “европейской” юной красавицы. И только Вера для Печорина не просто обычное для него увлечение, но почти наверняка его последняя привязанность к миру: вспомните его тщетную попытку догнать Веру и детское отчаяние, когда он понимает невозможность этого. Точнее назвать героиню М.Ю. Лермонтов и не мог: только вера в своем самом прямом значении дает истинное представлении о Любви и Доме. Все сказанное выше подтверждается содержанием самого романа. Гоголь, назвав свою поэму “Мертвые души” тоже, кажется, оттолкнулся от обязательных составляющих нормальной человеческой жизни, но уйти от них вовсе не смог. Не случайно его герой, получивший соответствующее домашнее воспитание, а потом и образование, становится по существу мошенником, расширяются масштабы его мошенничества, однако суть остается неизменной. Автор отправил своего героя в “престранное” путешествие, предоставив читателю возможность пройти почти “картинной галереей” “домов”, которые покинула любовь. Они еще стоят, в них еще живут и даже мечтают, почти грезят, как Манилов, например. «Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на на которой он стоял, была одета подстриженным дерном...» «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он (Манилов) о том, как хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход, или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян...» «В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольскою шелковою материей, которая верно стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла втояли обтянуты простой рогожею; впрочем, хозяин в продолжении нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: не садитесь на эти кресла, они еще не готовы. В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы:”душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». «Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг другом». Кажется, все в этом доме живет безжизненными фантазиями его обитателей. Разлад “грезы” и реальности налицо и передан он автором не без тонкой иронии. Впрочем, лишь представление об остальных поможет оценить по-настоящему и символическое значение каждого из домов в представленной Гоголем галерее. Вслед за Маниловым Чичиков из-за непогоды отклоняется от намеченного визита к Собакевичу и волею судьбы в кромешной тьме упирается в забор, за которым, как окажется впоследствии, проживает Настасья Петровна Коробочка, дом которой и его окрестности лишь наутро герой сможет рассмотреть:«Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не все были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче». «Окно глядело едва ли не в курятник... Этот небольшой дворик или курятник переграждал досчатый забор, за которым тянулись просторные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем...» Уклад жизни Коробочки передает и ее характер: забота о том, чтобы всего было много, но не о красоте, упорядоченности, гармоничности... Дом Ноздрева, как и дом Коробочки, мы застаем внезапно: «В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню... Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл... ... и повел их к маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором... потом пошли оматривать водяную мельницу... осмотрели и кузницу» Ноздрев показывает свой дом и двор как товар, который подлежит продаже. Дом Собакевича, его усадьба: «...два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее были у ней (у деревни - И.М.) справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или лучше сказать с дикими стенами, дом вроде тех, которые у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства... Помещик, казалось, хлопотал много о прочности...» « Хозяин,будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые...» «Чичиков еще раз окинул комнату и все, что в ней было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховой бюро на пренелепых четырех ногах: совершенный медведь. Стол, креслы, стулья, все было самого тяжелого и беспокойного свойства, словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: и я тоже Собакевич!» «”А вот еще варенье!” сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком: “редька вареная в меду!”» Это последнее угощение как нельзя лучше характеризует смысл уклада жизни, всего дома Собакевича. И наконец Чичиков у Плюшкина: «Частями стал выказываться господский дом...каким-то странным инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно... Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками.» Скорее склеп, чем дом. «Он (Чичиков - И.М.) вступил в темные, широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери...» Не трудно понять, как образ хозяина отражается в образе своего дома, но усадьба, дворянское гнездо включает не только дом, но все земли, его окружающие. Так что совершенно по-особенному Н.В. Гоголь описывает САД у дома Плюшкина: «Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении» «Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места: в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин» м.б.113 А ведь прежде здесь было совсем не так:«Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые, каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад». “Воспоминание” о былом сада и Дома указывает на то, что сейчас этот сад - кладбищенский, этот дом склеп. Вообще “галерея” усадеб не дышит будущим, она в прошлом, ибо грядущее надо заслужить, выстрадать, заработать. Семейные узы и узы вообще в доме Манилова заменены “этикетом”, который, кажется, глубоко не связывает никого и никогда, образ жизни дворянина, который оказывается последним в разворачивающейся галерее, как раз в полной мере свидетельствует об одичании человеческом, если его земная жизнь лишена Любви. Так любовь - душа дома, его свет; душа эта немеет, даже мертвеет, если уходит или умирает любовь. Впрочем, любовь принимает облик «любящих». Там, где нет любви, поселяется зло во всем его разнообразии, оно подчиняет человека настолько, что человек теряет свой человеческий облик. Так что у названия произведения есть и еще один символический смысл, важный в раскрытии содержания поэмы. По замыслу Н.В. Гоголя, читаемая нами часть трилогии, представляет собой ад. Памятуя об этом, следует сказать, что то, что литературоведы называют лирическими отступлениями, на самом деле в семантике этой первой части представляют собой некое откровение, некий духовный прорыв из ада, некоторое осмысление своего греха и раскаяния в нем, так что и финал пути героя не представляется лирической вставкой, он имеет тот мистериальный смысл, по которому герой, чтобы обрести бессмертную душу, спускается в ад (так, между прочим до ХIХ века символически изображался на фресках и иконах Страшный суд: Христос Спаситель спускается в ад), и лишь пройдя через него, человек может рассчитывать на путь восхождения к престолу Господа, в небесный град Иерусалим, где бессмертны Красота и Любовь. Именно так полагал великий Гоголь, автор не только «Мертвых душ», но и «Божественной литургии». Любопытно, что историю жизни, биографию Чичикова автор не дает в начале повествования как некий пролог или экспозицию. История жизни будет развернута, кажется, в самом неожиданном месте, когда герой покинет губернский город N с его балами, интригами, приемами. Загадочный Чичиков «решается» Гоголем как романтический персонаж но с точностью до наоборот: таинственность его оказывается синонимом мошенничества, обаяние создает образ пройдохи и первостатейного проходимца. Но в отличие от портретов помещиков, составляющих своебразную галерею состоявшихся и «законченных», Чичиков первого тома «Мертвых душ» «сильно заботился о своих потомках». Гоголь иронизирует над ним:«Такой чувствительный предмет! Иной, может быть и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети?» По-новому заставил зазвучать эту проблему великий русский драматург Александр Николаевич Островский. С особенной пронзительностью она звучит и по сю пору в “Грозе”, постановками которой гордится едва ли не каждый российский театр. А. Добролюбов, увидевший в драме А.Н. Островского некоторые комментарии к социально-нравственной жизни провинции и России, подметил небезынтересные черты русской жизни провинциальных городов. Его статьи “Темное царство” и “Луч света в темном царстве” вводят в характеристики этой жизни “сказочные” составляющие. Но всетаки, начавшийся как внутрисемейный, конфликт расширяется и может быть прочитан и как социально-нравственный, и как духовно-нравственный. Житейский план этого конфликта давным-давно является сюжетной составляющей множества анекдотов. Драматург увидел в тривиальном — трагическое. И имя, данное героине, — Катерина означает “чистая”. Ее замужество кажется ей просто переходом из родительского дома в дом Кабановых, внешне очень напоминающий родительский дом. Разницу она заметит не сразу: в родительском доме все дышит любовью, а следовательно, правила, по которым живут домочадцы, ничуть не гнетут, а в доме мужа она заметит: “...здесь все как будто изпод неволи”. Плохи законы, которых преступать нельзя? Плохи люди, которые не хотят им следовать? Может быть, окажется, что и то, и другое, и даже третье мы обнаружим. Но все-таки самое главное и печальное: в доме нет настоящей любви, в нем нет и настоящей веры. Вместо любви — мертвые правила приличия, вместо веры — суеверие. Именно поэтому бегут из него дети. “Домострой” — почти ругательно называют законы, по которым живет Кабаниха. Может быть, собственно “строительное” исчерпало себя за столетия? Или дети больше не нуждаются в доме? Катерина — образ души, жаждущей любви и щедро дарящей свою любовь. По существу Катерина, как это ни парадоксально, пытается восстановить первозданность дома, где жива его душа, а душа — это любовь и вера. Ей это явно не под силу. Она мечется, пытаясь хоть в ком-то ( какой неудачный объект — Борис!) найти эту любовь. Может, ее и вовсе нет в земных пределах? Конфликт выходит из дома в буквальном смысле через калитку, чтобы оказаться уже в пределах города, на набережной, а оттуда выйти и в околоземные пределы. Пьеса символически названа “Гроза”. Кажется, самый прямой почти пейзажный смысл способен затмить это символическое. Так бы, пожалуй, и случилось, если бы не повторялись Кулигиным его мечты о громоотводе. Кажется, символическое, переведенное в план положительной науки, должно снять другие ассоциации. Нет, образ громоотвода лишь стимулирует наши размышления о доме и грозе над ним. Тогда что же будет громоотводом? Громоотвод — настоящая вера, настоящее просвещение (свет — корень этого слова) и любовь, без которой ничего в мире не происходит, как настаивает А.Ф. Лосев, судя о ней не житейски, но философски. Пока же громоотвода нет, гибнет жаждущая настоящего устройства дома героиня. И гибнет не от грозы, не от кары небесной “чистая” Катерина, «разбивается о камни мертвых душ» своих родных. Не кажется ли странным поступок по-настоящему верующей Катерины? Почему не дорожит она своей душой, когда решает разом покончить с жизнью? Может, кажется ей, ад — везде ад, то есть одинаково мучителен для души: на земле ли, в преисподней ли? Ей кажется, выбора нет: “...мне что домой — что в могилу”. Без любви Дом — могила. Есть в этом социальное, специальное какое-то “купеческое” содержание? Может быть. Но с еще большей определенностью в драме заложено духовно-нравственное содержание: беда каждому отдельному человеку, беда отдельной семье, но в конце концов, беда нации, государству и “человеческому всеединству” (Вл. Соловьев), если любовь и вера не сопутствуют им в жизни. Это не просто беда, это — болезнь, диагноз которой — или спящая душа, может быть, летаргическим сном спящая, или вовсе — атрофированная душа. Тут как в каждом конкретном случае из медицинской практики. Обобщать — не самое благодарное занятие. Может быть, роман И.С. Тургенева “Отцы и дети” кажется непосредственной иллюстрацией затронутого нами вопроса. Размышляя над смыслом названия, мы не можем и не должны миновать “мысли семейной”, заключенной в нем. Отцы и дети, вопервых, отцы Аркадия и Евгения, “поколение”, в котором, в конце концов, полюса сходятся. Ценностью непререкаемой оказывается Любовь, соперничающая, как в романтической поэзии, так и в жизни, лишь со Смертью. С этой точки зрения, Павел Петрович Кирсанов не просто противопоставлен молодому нигилисту Базарову, но сопоставлен, они отражены автором, как в зеркале, в Любви. Напомним, Базаров, выслушав историю жизни Павла Петровича, заключает:«Я всетаки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек — не мужчина, а самец. «...» И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты поштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество». Давая диаметрально противоположные точки зрения на любовь, семью, дом, писатель «приводит» Павла Петровича в комнату Фенечки, не без мягкого юмора описывает обстановку комнаты, завершая это описание своеобразным портретом Фенечки с малышом: «И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?» Несколько позже автор, кажется, непреднамеренно возвратит читателя к размышлениям о загадочном взгляде: «Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо». За вечерним чаем «турнир» будет продолжен и коснется такой материи, как семья: «Семья, наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! — закричал Павел Петрович», пытаясь убедить своего собеседника в святости хоть каких нибудь социальных институтов в России. И Базаров, накануне заключивший о Фенечке:«Она мать — ну и права...» и о Николае Петровиче:«И он прав», на сей раз обращается к Павлу Петровичу с совершенно иными речами: «И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах?» И.С. Тургенев, философски осмысливая происходящее в человеческом обществе, постоянно «сталкивает противоположности», понимая, что истиной не может быть одна из спорящих сторон, что истина и рождается из взаимодействия этих самых противоположностей. Не случайно, кажется, придерживающиеся одной позиции в споре за вечерним чаем, Николай Петрович и Павел Петрович поданы едва ли не как антиподы: Николай Петрович «... размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем. какая-то ищущая , неопределенная, печальная тревога, все не унималась. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели». Сейчас он, кажется, смотрит на самого себя глазами нигилиста Базарова, но ничего не может с собой поделать: он таков, каков есть. Павел Петрович «Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизанропическая душа». Впрочем, тема любви получает новый разворот во время путешествия Аркадия и Евгения Базарова в губернский город, поднята она будет во время посещения Евдокии Кукшиной, когда хозяйка дома скажет: «Вместо того, чтобы нападать на них (на женщин — И.М.), прочтите лучше книгу Мишле «De I amour». Это чудо! Господа, будемте говорить о любви...» Однако именно Базаров пытается перевести разговор о любви на разговор об Одинцовой. Впоследствии судя о ней Базаров также не будет последователен: «Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове» и в этом же разговоре с Аркадием: «Этакое богатое тело!... Хоть сейчас в анатомический театр». Любопытно проследить, как это напускное, пошло-циничное в конце концов венчается не просто поэтическим, а даже мистическим: «Поздравь меня, — воскликнул вдруг Базаров, — сегодня 22 июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, — прибавил он, понизив голос... — Ну, подождут, что за важность!» Но прежде чем отправиться домой, он принужден будет убедиться в том, что не может рассудительностью, иронией победить пробудившееся в нем чувство. И этот урок невольно будет преподан Анной Сергеевной Одинцовой. «... чувство, внушенное Базарову Одинцовой, — чувство, которое, которое его мучило и бесило и от которого лн тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительной дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами». «Нравится тебе женщина, — говаривал он, — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». Заключения весьма циничные и, как мы позже сумеем убедиться, принадлежат не лицу, а маске героя. «Одинцова ему нравилась ‹...› Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. ‹...› оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе». Но, размышляя о происходящем в душе Одинцовой, автор говорит: «Она как будто хотела и его испытать и себя изведать». Любовь и окажется тем самым испытанием, которым проверяется в Базарове и верность новым идеям, и верность самому себе, и психологическая глубина личности героя. Аркадий будет свидетелем встречи Базарова с родителями, 3 года не видевшими своего единственного сына, и при встрече не умеющими скрыть своих чувств. Кажется, что все в доме, а не только Арина Власьевна и Василий Иванович стосковались по нему. Описание дома, березовой рощицы, кабинета Василия Ивановича самым непосредственным образом характеризует хозяина и образ его мыслей, его характер, уклад жизни, который дан в сопоставлении с характерами Николая Петровича и Павла Петровича. В отличие от них Василий Иванович — натура деятельная: «А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы» и еще: «На сем месте я люблю пофилософствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием». Приведенные строки позволяют сопоставить и отцов Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова и объясняют и характер пристрастий сына (Евгения Базарова), но именно отчасти. На вопрос Аркадия: «Сколько ты времени провел здесь всего?», тот ответит: «Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше всего по городам шлялись» (выделено мной - И.М.). И хотя это родовое гнездо (дом этот построил дед, отец матери), но лишь разумом, а не сердцем понимает Базаров это. Один из источников внутреннего разлада и разлада с миром у Базарова состоит в том, что нет в нем глубокого чувства «укорененности» («по городам шлялись»), которое «выкристаллизовывает» в человеке чувство Родины, более того, заставляет осознавать себя значимым звеном в цепи поколений. Отсюда его почти исповедальческие размышления о родителях: «Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами — кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда» и о себе:«А я вот думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже...» И пусть не покажется это странным, разительно напоминают друг друга Базаров и Павел Петрович Кирсанов, не внешне, конечно. Более того, Павел Петрович ревностно оберегает семью брата, семью, которая дышит, кажется, почти романтической идилличностью, гармонией и светом (перечитайте все сцены, где семья вместе). Каждый из героев и «проверяется» писателем отношением к дому, родовому гнезду. Не случайно Тургенев приводит своих молодых героев вместе сначала в усадьбу Кирсановых, потом к Одинцовой, потом к старикам Базаровым, потом опять к Кирсановым, чтобы начатое дорогой повествование завершить описанием могилы. В пылу раздражения на слова Аркадия «‹...› сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым» Базаров скажет: « ‹...› об одном прошу тебя: не говори красиво». Впрочем, в этой «красивой фразе» содержится поэтическая мысль самого писателя о сходстве, кажется, совершенно различного: отцов и детей. Более того, Базаров, подтрунивающий над красивостью речи, считающий красивую речь просто неприличной, сам говорит красиво ... с Фенечкой:«Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит» или « ‹...› все умные дамы на свете не стоят вашего локотка». Но ведь и об Одинцовой он после знакомства с ней скажет красиво:«ей бы шлейф сзади носить да корону на голове», так же красиво, но не без иронии встретит ее умирающий Базаров: «Это по-царски». Подтрунивая над самим собой в свой предсмертный час он признается Одинцовой в любви тоже в словах необычных: «Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что — какая вы славная! И теперь вот стоите, такая красивая... ‹...› Великодушная! — шепнул он. — Ох, как близко, и какая молодая, молодая, свежая, чистая... ‹...› Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет... » В эпилоге романа автор обрисует почти идилически семейство Кирсановых, даст «семейный портрет в интерьере», помянет и иных героев, а завершит все повествование лирически:« ‹...› Между ними (могилами - И.М.) есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает, две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлых старичка — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшей походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын:поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы и слезы бесплодны? Неужели святая, преданная любовь не всесильна? О нет! какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрывалось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной “природы”; они говорят также о вечном примирении и жизни бесконечной...» Философ и поэт, И.С. Тургенев позже в трогательном стихотворении в прозе “Воробей” напишет: “Только ею, только любовью держится и движется жизнь!” Но и тогда, когда он, явно сочувствуя молодому, смелому, просвещенному поколению, показывает те основания, которые ей необходимо разрушить, чтобы “переустроить” мир на разумных или рациональных началах, он указывает на нерушимое, на неподвластное разрушительной человеческой воле. “Отменить” любовь или семью не удавалось реформаторам и прежде, не под силу это уму человеческому, ибо эти институты не просто выдумка тщеславия, человеческой воли вообще, они микромир общества и образ мира, связуемого любовью. По-своему встает наша тема в произведениях Ф. М. Достоевского, будь то повести “Бедные люди”, “Униженные и оскробленные” или романы “Преступление и наказание”, “Идиот” или “Бесы”. Более того, в каждом новом произведении тема эта задается с новым ракурсом. Название романа “Преступление и наказание” выводит нас изначально за пределы дома как такового... «Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру». Герой «вознесся» в своих «мечтаниях», ироническое авторское отношение к болезненной идее Раскольникова сказывается даже в описании интерьера. Более того, это умственное «воспарение» героя, может быть, и происходит от «стесненности обстоятельств». Впрочем, дома по существу нет ни у одного из героев романа. Комната-шкаф, комната-гроб Раскольникова все-таки отличается от «места обитания» семейства Мармеладовых: «Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная». В этом смысле мармеладовское жилище даже противопоставлено раскольниковому по кажущемуся признаку «замкнутости-открытости»: Раскольников одинок и замкнут в своем жилище; Мармеладов тоже одинок, но это едва ли не более тягостное одиночество: быть все время на виду, не иметь возможности остаться наедине с самим собой, быть всегда «на глазах», все время соглядатаям «объяснять» самого себя, так что актерская маска прирастает к лицу. Так герой превращается в жалкого ритора, которого воспринимают все как ритора, комедианта, все за исключением, может быть, Раскольникова. Единственный «дом» видим и осязаем как «крепость», дом, в котором живет старуха-проценщица: «Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома». «Стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо... на всякой случай...»— думает Раскольников, ведь по его мысли, «дом» этот, как и миропорядок, должен быть разрушен. Даже в его описании автор дает это «будущее» для него: « — Пройдите, батюшка. Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. "И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!.." — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам на двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, — вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто: и мебель, и полы были оттерты под лоск; все блестело. "Лизаветина работа", — подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. "Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота", — продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат». Внимание Раскольникова привлекает как раз «крошечная комнатка», которая в свою очередь «свертывается» до «укладки», которую ищет герой и до «туго набитого кошелька», который будет срезан Раскольниковым с шеи старухипроцентщицы. Что представляет собой эта самая «укладка»? Что она напоминает? «... укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть: стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным сафьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белою простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром; под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки.... Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг, из-под шубки, выскользнули золотые часы». Преодолевая «пространство», герой невольно спотыкается «во времени». Укладка не случайно напоминает гроб со всеми «атрибутами» смерти, «золотые часы» возвращают и героя, и читателя к содеянному, возвращают «на круги своя», когда Раскольников идет на пробу и несет отцовские серебряные часы, на которых изображен глобус. Жизненное пространство главного героя оказывается живым, способным вырастать до размеров земного шара и уменьшаться до размеров комнатки, укладки, часов. В конце концов есть еще несколько принципиально «педалированных» писателем деталей, в которых отражается его отношение к дому и любви. Убийца дважды возвращается к телу старухи, и в последний раз будет крайне важно то, что видит и что берет Раскольников: «На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же вместе с ними висел небольшой, замшевый, засаленный кошелек, с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню». Любопытно проследить, как писатель исследует причины и следствия социально-психологического и духовно-нравственного плана событий романа, поступков героев. Достоевский — гениальный художник и блестящий психолог — показывает мир отдельного человека не как микромир, а как макрокосм: душа человека, затерянного в огромном доме, в еще большем Петербурге и необъятном мирозданье, тоскующая по родной душе, заглядывает не только в земное будущее, но и в вечность; пространство души отражается в пространстве дома , пространстве вечности. Таково пространство, «осязаемое» не только Раскольниковым, но и другими героями романа: Мармеладов, вспоминая о своем тяжком грехе, когда он приходит пьяный туда, где живет Соня, у Сони просить, говорит так: « — Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, все что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!..» Свидригайлов полемизирует с Раскольниковым: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится». Так дом как пространство земное отражается в образе Храма как отражении христианского представления о Мирозданье, мизерно-малое, обыденное, даже пошлое отражается даже по принципу противоположного в образе Мира Горнего, где любовь и сострадание... Лежащий на поверхности собственно юридический смысл заглавия, кажется, исключает даже сам образ Любви: сухому языку человеческого закона не показаны такие “эфемерные” феномены. Однако чтобы постичь не только юридическое, но собственно художественное содержание романа, надо вспомнить, где рождаются умонепостижимые идеи Родиона Раскольникова. «Он ни о чем не думал. Так, были какие-то мысли или обрывки мыслей, какие-то представления, без порядка и связи, — лица людей, виденных им еще в детстве или встреченных где-нибудь один только раз и об которых он никогда бы и не вспомнил; колокольня В-й церкви; биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиарда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскресный звон колоколов... Предметы сменялись и крутились, как вихрь. Иные ему даже нравились, и он цеплялся за них, но они погасали, и вообще что-то давило его внутри, но не очень. Иногда даже было хорошо... Легкий озноб не проходил, и это тоже было почти хорошо ощущать». Этот перечислительный ряд «пространств» не случайно дан как полусон-полубред, ибо он символизирует образ мира накануне светопреставления, накануне Страшного Суда. Так исподволь тема суда выходит за пределы юридического смысла, «обрастает» сакральными значениями. По существу Свидригайлов, явившись в Петербург, к Раскольникову, кажется, расскажет любовную историю более чем тривиальную: «А все-таки посадили было меня тогда в тюрьму за долги, гречонка один нежинский. Тут и подвернулась Марфа (имя сестры Лазаря. — И.М.) Петровна, поторговалась и выкупила меня за тридцать тысяч сребреников. (Всего-то я семьдесят тысяч был должен.) Сочетались мы с ней законным браком, и увезла она меня тотчас же к себе в деревню, как какое сокровище. Она ведь старше меня пятью годами. Очень любила. Семь лет из деревни не выезжал. И заметьте, всю-то жизнь документ против меня, на чужое имя, в этих тридцати тысячах держала, так что задумай я в чем-нибудь взбунтоваться, — тотчас же в капкан! И сделала бы! У женщин ведь это все вместе уживается. — А если бы не документ, дали бы тягу? — Не знаю, как вам сказать. Меня этот документ почти не стеснял» Тут любовь оказывается сделкой, юридическим договором, коммерческим предприятием. Вспомните, как сам Раскольников остался в постояльцах собственной квартирной хозяйки. Ведь в основе его договора с квартирной хозяйкой любовь хозяйской дочки к Раскольникову. Так что эта «любовная коллизия» Свидригайлова заставляет читателя увидеть в них своеобразных героев-двойников. Только один этому миру «дает полный расчет», участвуя в судьбе семейства Мармеладовых, собравшись было жениться, порывает с миром, как с пустым домом, где нет ни людей, ни страстей, и уж тем более любви: пуста душа. Другого герой заставит пройти путь мистериальный: от страшного грехопадения, ада через приход к вере, к Богу, к раскаянию и покаянию, но прежде чем это все произойдет, герой не случайно вновь и вновь возвращается с площадей и перекрестков в комнатку, в каморку, похожую на гроб. Где же еще может родиться идея, по которой герой с легкостью забывает о христианской заповеди “не убий”, идея, по которой люди делятся на тех, кто “право имеет” и “тварь дрожащую” не рождается в семье, в душе человека, вполне соответствующего образу и подобию Божию. Он живет в какой-то своей вполне, кажется, отвлеченной от конкретной в плоти и крови жизни, системе координат, которой не показано кажущееся обязательным христианское. Это новые научные изыскания? Сможет ли с научными изысканиями спорить многовековая вера? Впрочем, весь сюжет романа “свернут” в имени героя и его фамилии. Родион — в переводе означает роза, герой, Родион имя одного из 70 апостолов, учеников Христа, в фамилии заключена распря, раздор, но «расколотость», раздвоенность, хрупкость... Две эти линии чрезвычайно важны в произведении: сострадание и страдание героя, — и внутренняя борьба с самим собой, с несправедливостью мира. Все это вкупе приводит героя из комнаты-гроба на перекресток улиц к раскаянию, к покаянию и через искупление каторгой к восстановлению, как представляет писатель, должного мироведения и видения себя в этом доме-мире. И Соне будет принадлежать главная роль в «обращении героя в веру». Все что было прежде с ним: лихорадочное выстраивание теории, не менее лихорадочное, почти бредовое совершение убийства и тяжелая болезнь уже на каторге, — минует. “Болезнь” Раскольникова имеет не только медицинский, но и символический смысл: это рождение заново, когда он принимает и любовь, не только как сострадание и жалость, но как любовь и веру, тогда имя его — Родион — обретает духовную энергию. Но тогда настоящим достоинством наполняются души его близких. «А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенные указания, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся наконец во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаумову, вдруг, в трех шагах от него, отворилась какая-то дверь; он схватился за нее машинально. — Кто тут? — тревожно спросил женский голос. — Это я... к вам, — ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча. — Это вы! Господи! — слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная... Мельком успел он охватить взглядом комнату». Сонино жилище автор видит глазами Раскольникова:«Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим нумером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькою скатертью; около стола два плетеных стула. Затем, у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой, простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот все, что было в комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок». Автор подчеркивает не просто бедность, но аскетизм всей жизни Сонечки уже описанием ее комнаты. «Огромность» жилища соположена «просторности и открытости» ее души, никакие «материальные» привязанности «не тяготят» ее жизни. Из описания всего, что замечает Раскольников в комнате Сони, в памяти читателя остается «свеча в искривленном медном подсвечнике» и несообразность, непропорциональность всего в комнате. «Какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее... С новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. "Юродивая! юродивая!" — твердил он про себя». Сколь «угловата», неправильна, не стандартна квартира, в которой живет Соня, столь вопиет «неправильностями» весь ее облик. Создается впечатление, что в доме хозяйки отразилась ее собственая душа, способная вместить едва ли не все человеческое страдание. Не случайно приходит на ум Раскольникову это определение — «юродивая»: столь любящая Бога, что преднамеренно принимает гонения, лишения, поношения, чтобы через страдание оказаться ближе к Нему. «Ненасытимое сострадание» — вот что такое любовь в понимании Достоевского. Может быть, поэтому из множества «вариантов» образа любви писатель выбирает такое, которое соединяет людей, как братьев и сестер: «— Как! — вспыхнула Дуня, — я ставлю ваш интерес рядом со всем, что до сих пор было мне драгоценно в жизни, что до сих пор составляло всю мою жизнь, и вдруг вы обижаетесь за то, что я даю вам мало цены! Лужин: — Любовь к будущему спутнику жизни, к мужу, должна превышать любовь к брату, — произнес он сентенциозно». Разведенными на полюса оказываются представления о любви Лужина и Дуни, один все мерит деньгами, другая «узами родства», совсем не обязательно кровного, а как и у Сони — духовного. Вот почему из всех евангельских притч автор дает для чтения Соней «Воскресение Лазаря»: «Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему (и как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала:) Так, господи! Я верую, что ты Христос, сын божий, грядущий в мир». Так соединяет людей Вера как Любовь к Богу. «Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем и было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход». «— Есть на тебе крест? — вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила. Он сначала не понял вопроса. — Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми... ведь мой! Ведь мой! — упрашивала она». В православии поменяться крестами означает и породниться (стать братьями, сестрами, братьями и сестрами во Христе и взять себе, на себя чужой грех и нести его как свой). Так «ненасытимое сострадание», «юродство» Сонечки оказывается жизнестроительным, душеспасительным для Раскольникова. «Раскольников вошел в свою каморку и стал посреди ее. "Для чего он воротился сюда?" Он оглядел эти желтоватые, обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку... Со двора доносился какой-то резкий, беспрерывный стук; что-то где-то как будто вколачивали, гвоздь какой-нибудь... Он подошел к окну, поднялся на цыпочки и долго, с видом чрезвычайного внимания, высматривал во дворе. Но двор был пуст, и не было видно стучавших». Комната-гроб уже пуста, возврата в нее нет, герой миновал смерти, он на пути к возрождению, пока что в самом начале этого пути, пока еще ощупью движется туда, где настоящее, где истина, а истина, по Достоевскому, есть деятельное добро, вера, сострадание. Как много пройдет времени, как много произойдет событий, прежде чем Раскольников предстанет уже с совершенно новыми мыслями и чувствами: «Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце; вспомнил ее бедное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания: он знал, какою бесконечною любовью искупит он теперь все ее страдания. Да и что такое эти все, все муки прошлого! Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря». Ф.М. Достоевский, сам прошедший через каторгу, не завершает произведение вынесением приговора или чистосердечным признанием. Понятно, писателя волновала не столько юридическая сторона, даже не столько социально-нравственная, сколько духовнонравственная природа самой идеи и ее осуществления. Он выносит в эпилог и чтение Евангелия, и “выздоровление” героя. Достоевский заставляет читателя уверовать в то, что главное для человека — это храм души, который он обретает через страдания, болезненно, и это будет самый первый дом, который он построит, ибо человек с храмом в душе обрел уже самые главные узы в мирозданье — узы веры, которые и строятся лишь Любовью, Радостью и Красотой, той самой, по Достоевскому, что “спасет мир”. О любви и последние строки романа: «Он не раскрыл ее и теперь (Книгу — И.М.), но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере...» Так от распри с самим собой и с миром автор приводит героя к Миру и Любви, которые не возможны без Веры. “Война и мир” — эпопея Л.Н. Толстого ставит вопросы, непосредственно обращенные к смыслу Любви, Дома и Семьи, именно поэтому жизнь России вообще представлена как жизнь русских семей, семей очень разных: Болконских и Ростовых, прежде всего, не столько противопоставленных, сколько сопоставленных, ведь обе семьи — начала созидательные для русской жизни, спасительные для нее в трудную, даже смертельную годину. Случайно ли начинает писатель свой роман в чопорной петербургской гостиной речью, звучащей на чужом языке, а затем отправляет читателя «путешествовать» по русским семействам, из судеб которых и складывается судьба России? Глазами Пьера дается и «салон», и дом патриархальных Ростовых. Но не только поэтому приводит писатель своего героя к Ростовым в день именин Наташи. «Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала: — Мама велела вас просить танцовать. — Я боюсь спутать фигуры, — сказал Пьер, — но ежели вы хотите быть моим учителем... И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке» Как много предстоит пережить им, чтобы в конце концов понять, что есть любовь, чтобы понастоящему полюбить друг друга и создать семью. Вот уж воистину «сказочные испытания» выпадут на долю героев; жизнь прежде чем соединить их судьбы преподаст настоящие уроки любви. Впрочем, эти уроки будут преподаны не только и, может быть, не столько героям, сколько читателям романа. Семьи и начинают «раскрываться» Толстым, начиная с семьи Ростовых. Не случайно связующим звеном этих семейств избран писателем Пьер Безухов. Толстовская идея России, соединяющей в себе европейское, азиатское и совершенно особенное — православно-христианское, — выкристаллизовывается в идею соборной России. Мир семьи Ростовых дает представление об образе любви и по-особому проявится тогда, когда автор возвращает графиню Ростову к письму Николеньки. «Письмо Николушки было прочитано сотни раз, и те, которые считались достойными его слушать, должны были приходить к графине, которая не выпускала его из рук. Приходили гувернеры, няни, Митенька, некоторые знакомые, и графиня перечитывала письмо всякий раз с новым наслаждением и всякий раз открывала по этому письму новые добродетели в своем Николушке. Как странно, необычайно, радостно ей было, что сын ее -- тот сын, который чуть заметно крошечными членами шевелился в ней самой 20 лет тому назад, тот сын, за которого она ссорилась с баловником-графом, тот сын, который выучился говорить прежде: "груша", а потом "баба", что этот сын теперь там, в чужой земле, в чужой среде, мужественный воин, один, без помощи и руководства, делает там какое-то свое мужское дело. Весь всемирный вековой опыт, указывающий на то, что дети незаметным путем от колыбели делаются мужами, не существовал для графини. Возмужание ее сына в каждой поре возмужания было для нее так же необычайно...» Образ материнской любви как образ безмерной нежности и одновременно образ чуда (любовь эта растет вместе с дитятей и нисколько не умаляется чувство удивления матери перед чудом взросления). Особое место в галерее образов, непосредственно «аккумулирующих» идеи Толстого на этот предмет, принадлежит Наташе Ростовой. Она ведь весь мир видит «через Любовь». В этом смысле она будет сопоставлена с княжной Марьей и противопоставлена Элен. « — Как тебе сказать, — отвечала Наташа, — я была влюблена в Бориса, в учителя, в Денисова, но это совсем не то. Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и мне так спокойно, хорошо теперь. Совсем не так, как прежде...» «Наташа была так же влюблена в своего жениха, так же успокоена этой любовью и так же восприимчива ко всем радостям жизни; но в конце четвертого месяца разлуки с ним, на нее начинали находить минуты грусти, против которой она не могла бороться. Ей жалко было самое себя, жалко было, что она так даром, ни для кого, пропадала всё это время, в продолжение которого она чувствовала себя столь способной любить и быть любимой». Не о превратностях судьбы говорит в конце концов «измена» Наташи жениху, о все о той же жажде любви, ненасытимой жажде любви. Пьер, обратим внимание, в роковые для героев времена будет рядом. Так происходит с Наташей. Так будет и с Андреем. «Пьер приподняв плечи и разинув рот слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташе Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого (Пьер знал тайну его женитьбы), и так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним! — Этого Пьер не мог понять и не мог себе представить» Разрушительное начало семейства Курагиных проявляет себя в циничном “сватовстве” Анатоля к княжне Марье, в женитьбе Пьера на Элен, с еще большей силой оно обнаруживается в совращении Наташи Анатолем и пошлой роли Элен во всей этой истории. И на сей раз Пьер подводит итог их “деяниям”, которые порочат не только людей, вовлекаемых ими в “приключения”, но и само имя Любви. Пьер — Элен: « —Где вы — там разврат, зло, — сказал Пьер жене. -- Анатоль, пойдемте, мне надо поговорить с вами, — сказал он по-французски. » Пьер — Анатолю:« — Вы не можете не понять наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами подобными моей супруге - с этими вы в своем праве, они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата; но обещать девушке жениться на ней... обмануть, украсть... Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка!... » И снова именно Наташе автор дает право прийти к высшему пониманию любви, семьи, соборности, которое так важно для писателя и которое со всей очевидностью отражается в мыслях Пьера и Андрея. «-- "Миром господу помолимся". "Миром, -- все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью -- будем молиться", -- думала Наташа. -- "О свышнем мире и о спасении душ наших! "О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами", -молилась Наташа. Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее, и об Анатоле, как об людях, к которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к богу. Когда молились за царскую фамилию и за Синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит правительствующий Синод и молится за него. Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес: -- "Сами себя и живот наш Христу-богу предадим". "Сами себя богу предадим, -- повторила в своей душе Наташа. — Боже мой, предаю себя твоей воле, — думала она. — Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!- с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа». Как видим, вместе с Наташей вырастает и ее представление о Любви: из восторга перед радостью и новизной мира через ошибки она приходит к тому пониманию любви, без которого не мыслится Толстым достойная жизнь русского дворянства, русской женщины. По-разному постигают образ Мира, Дома, Семьи, Любви герои, но все в этом постижении проходят непростой путь. Князь Андрей приезжает в отцовское имение вместе с женой, чтобы оставить ее на попечении отца. Кажется, в самой ситуации нет ничего интригующего, но она нужна Толстому и для того, чтобы показать, каковы «ценности» семейства Болконских. И ответ на этот вопрос не заставит себя ждать: « — Врешь, врешь, закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. — Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет и с три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... это я знаю. Австрия что? — говорил он, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. — Швеция что? Как Померанию перейдут?» Для старого князя Болконского семья — малая часть государства, потому переход от дел собсвенно семейных к заботам государственным не кажется странным. Впрочем, для него домочадцы во всем равны по значимости «чиновным посетителям»: «— Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он своим пронзительным, жестким голосом. — Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!» Старый князь Болконский — человек долга и чести, но не почитатель «портфелей». В этой его черте узнается своеобразный демократизм «птенцов гнезда Петрова». В нем счастливо сочетаются внимание к детям, глубоко спрятанная нежная привязанность к ним, и «внимание к будущности предков» (Вл. Соловьев). Свидетельство тому генеалогическое древо, вызывающее улыбку молодого князя Андрея Болконского: «Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно-сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет. — Как я узнаю его всего тут! — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему. Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Всё сделанное ее отцом возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению». Отношение к семье как к государственному организму как части жизни Отечества собственно никак некларативно не выражено. Скорее оно отражено в поведении, в поступках отца. Любовное в строгом семействе Болконских исследуется писателем со всем тщанием. «Что за комиссия, Создатель,/ Быть взрослой дочери отцом!» — сокрушался герой комедии. У Толстого сватовство Анатоля Курагина (забавное, с точки зрения сватавшихся) к княжне Марье весьма драматические черты, но оно помогает лучше понять Дом Болконских, семейный уклад и одновременно сформулировать представление о Любви и семье. С новой стороны мы узнаем княжну Марью: «И прежде чем итти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив на освещенный лампадой черный лик большого образа Спасителя, простояла перед ним с сложенными несколько минут руками. В душе княжны Марьи было мучительное сомненье. Возможна ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В помышлениях о браке княжне Марье мечталось и семейное счастие, и дети, но главною, сильнейшею и затаенною ее мечтою была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его от других и даже от самой себя. Боже мой, — говорила она, — как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так, навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять Твою волю? И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце: "Не желай ничего для себя; не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы быть готовой ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить Его волю». Сколь велико это желание испытать истинную Любовь, и как легко она расстается с ним, поняв ложность своего положения: «— Князь от имени своего воспитанника... сына, тебе делает пропозицию. Хочешь ли ты или нет быть женою князя Анатоля Курагина? Ты говори: да или нет! — закричал он, — а потом я удерживаю за собой право сказать и свое мнение. Да, мое мнение и только свое мнение, — прибавил князь Николай Андреич, обращаясь к князю Василью и отвечая на его умоляющее выражение. — Да или нет? — Мое желание, mon pere, никогда не покидать вас, никогда не разделять своей жизни с вашей. Я не хочу выходить замуж, — сказала она решительно, взглянув своими прекрасными глазами на князя Василья и на отца. — Вздор, глупости! Вздор, вздор, вздор! — нахмурившись, закричал князь Николай Андреич, взял дочь за руку, пригнул к себе и не поцеловал, но только пригнув свой лоб к ее лбу, дотронулся до нее и так сжал руку, которую он держал, что она поморщилась и вскрикнула». Толстой вкладывает в уста княжны Марьи слова, объясняющие суть русской женщины: «Мое призвание другое, — думала про себя княжна Марья, мое призвание — быть счастливой другим счастием, счастием любви и самопожертвования. И что бы мне это ни стоило, я сделаю счастие бедной Ame. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтобы устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, я попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою. Она так несчастлива, чужая, одинокая, без помощи! И Боже мой, как страстно она любит, ежели она так могла забыть себя. Может быть, и я сделала бы то же!...» Сколь смешна, неуклюжа, некрасива, угловата княжна Марья, увиденная глазами окружающих, столь она красива духовно и душевно, поэтому Толстой и дает ее внутренний мир не глазами других героев, а оставляя читателя один на один с откровениями княжны наедине с самой собой. Благородное, созидательное в жизни России и ее семейств дается Толстым через раскрытие понимания Любви героями. И князь Андрей делает свои открытия: это будут и семейные отношения, которые тяготят, это будет радостное открытие мира в сватовстве к Наташе, и это, наконец, будет открытие Любви на пороге Смерти: «Я понимал ее, — думал князь Андрей. — Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил..." И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. "Ему ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку, с которой он не удостоил связать свою судьбу. А я? И до сих пор он жив и весел» «Да, мне открылась новое счастье, неотъемлемое от человека, - думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно-раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?.. » «Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?" — сказал он, и он вдруг невольно застонал, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий» И снова князь Андрей: «Любовь? Что такое любовь? — думал он. — Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источник». Любимые мысли самого Толстого будут варьироваться им в мыслях Наташи на службе в церкви, мыслях умирающего князя Андрея, в мыслях Пьера: Толстому было принципиально важно показать, что для созидательной сущности Отечества, России — именно такое видение Любви созидательно и “будущно”. Оно соединяет уходящих с грядущими через ныне живущих, оно незримыми нитями соединяет людей с каким-то высшим предназначением. «Открытие это взволновало его (Пьера - И.М.). Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoleon и l'Russe Besuhof -- все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых, он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастию». Судьбоносность этих таинственных соответствий приводит в конце концов героя к определяющему событию в его личной жизни: «Но нет, это не может быть, — подумал он. — Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того. Но в это время княжна Марья сказала: "Наташа". И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, — улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее». Так рука, поданная маленькой девочке в танце в начале романа будет подана вновь прошедшей через страдания Наташе, чтобы она составила его, Пьера, счастье. Счастлив “итог” и любовных страданий Николая и княжны Марьи. Ничем иным, как любовью не может быть движима жизнь, но это любовь одухотворенная, мыслимая Толстым как любовь Бога, соединяющего людские судьбы во благо грядущего России. Любовь — “движущая сила” в этих семьях, хотя она в семье Болконских спрятана под спудом долга и дворянской чести, а в семье Ростовых расточается без меры и выплескивается везде и во всем. Путь семьи Курагиных в противоположность семьям Болконских и Ростовых путь разрушительный для них самих и для Отечества. Все, чего бы они не касались, должно “погибнуть”. По Толстому, зло стремится к саморазрушению. Не случаен в этом смысле финал и Анатоля и Элен. Но размышления Л.Н. Толстого о любви, доме, семье и Отечестве в конце концов заставляют его одного из любимых героев привести в плен, где он встретит Платона Каратаева, в имени и фамилии которого, как в жизни едва ли не каждого русского человека прямо или косвенно сходятся Восток и Запад: имя греческого философа, как раз толковавшего о любви и бессмертии, и татарское в самом корне фамилии. Может, образ его мыслей, его отношение к семье, к роду, его отношение к слову и к Богу не сводимо к пословице, которую Пьер Безухов слышит от него: “Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — нет ничего...” Счастье отдельного человека есть капля в счастье семьи, нации... “Счастье есть Бог”, — это открытие сделает Пьер, вспомнив во сне о Платоне Каратаеве. Роман Л.Н. Толстого — чрезвычайно благодатное поле для размышлений обо всем об этом. Если в “Войне и мире” показана лишь одна семья, “зараженная” злом, то в “Братьях Карамазовых” Ф.М. Достоевский показывает, как рушится мир, если рушится хотя бы одна семья. А. П. Чехов, идущий вслед за своими старшими современниками, как врач ставит диагноз многим человеческим недугам в своих рассказах и пьесах. “Вишневый сад” назовет он пьесу, написанную уже в новом ХХ веке, правда, вопрос в ней стоит насущный для дворянства как сословия и поставлен он еще Н.В. Гоголем в знаменитых “Мертвых душах”. Сердцевина этого вопроса — дом... и сад. «Умилительность» и сентиментральность героев очень напоминает нам стиль отношений в доме Манилова: «Детская, милая моя, прекрасная моя комната... Я тут спала, когда была маленькой... (Плачет) И теперь я как маленькая... (Целует брата, Варю, потом опять брата.)...» или еще пример: «Ненаглядная дитюся моя. (Целует ей руки.) Ты рада, что ты дома?...». И наконец весьма красноречивое: «Неужели это я сижу? (Смеется.) Мне хочется прыгать, размахивать руками. (Закрывает лицо руками.) А вдруг я сплю! Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала. (Сквозь слезы.) Однако же надо пить кофе. Спасибо Фирс, спасибо мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.»(Подчеркнуто мной — И.М.) Это все хозяйка имения Любовь Андреевна Раневская. Символика дома, как и сада, впрочем, к началу века и прозрачна, и многомерна одновременно. Герои “Вишневого сада”, может быть, за исключением Лопахина и Фирса — дети. Именно поэтому встречает гостей, вернувшихся домой, именно детская. Подетски безрассудна Раневская, младенчески беспомощен ее брат Гаев, который все еще играет, пусть не в детские игры, а в биллиард, он играет, как дети, помогая себе жестами и репликами некстати. Играет во взрослого, способного найти выход для человечества, “вечный студент”, не способный сам выучиться, найти свою собственную дорогу и даже свои калоши постоянно теряющий, Петя Трофимов. Есть одна деталь, по особенному использованная писателем в пьесе. Может быть, следует говорить не о единственной детали, какой является «телеграмма», т.к. она сама по себе не выполняет в сюжете драмы, в ее конфликте никакой решающей роли. Телеграмма — лишь повод к указанию на принципиальные расхождения «отцов» и «детей» на то, что А.Ф. Лосев полагал основанием отдельной человеческой жизни и существования мирозданья, — это любовь. Телеграмму, оброненную Раневской, поднимает Петя Трофимов, но она не единственная: «Каждый день получаю... И вчера и сегодня,» — говорит Любовь Андреевна. Можно назвать эту деталь «кумулирующей» (соединяющей, накапливающей) множество ассоциативных смыслов, которые крайне важны для разрешения конфликта чеховской пьесы. С одной стороны, Любовь Андреевна, получающая телеграммы, принимающая на себя роль, в которой она жертвует собой ради любви к ничтожному человеку. Но как поверхностен этот образ жертвенной любви, он, в сущности, пародирует аналогичные образы в мировой и русской литературе. С другой стороны, Петя Трофимов, который утверждает, что молодое поколение «выше любви». Выходит, что с одной стороны, «жертвенно-эгоистичная» женская любовь к проходимцу, а с другой стороны, абстактная любовь к будущему Отечества: и то, и другое равно бесплодно, ибо нет любви к родовому гнезду, к тому, что соединяет людей не только в воспоминаниях о юности - прекрасной, беззаботной, едва ли не райской поре жизни, в осознании будущности Родины. Так что телеграмма один из многочисленных импульсов, подводящих нас к выводу о том, что в пьесе «переизбыток вариаций» любви, но нет той единственной, которая является хранительницей, берегиней, созидательницей жизни героев и их Отечества. Как и в других произведениях, в “Вишневом саде” все проверяется любовью. Весьма превратное представление о любви у Раневской, хотя именно она о любви говорит много, в том числе, как мы убедились, и о любви к Родине. Это она бросает пошлый упрек Пете Трофимову: “В ваши годы не иметь любовницы!” На что герой имеет свои резоны: “Мы выше любви!” — говорит он. Какой мир собирается строить этот строитель новой России? Мир без любви? Лишь одного человека можно назвать радеющем о доме и саде — это Лопахин. Интересно, что Лопахина «забывают» в доме, отправляясь встречать Раневскую, прибывающую из Парижа. Не случайно именно он и встречает гостей в доме, где довольно скоро станет хозяином. Нам не нравится будущее, на которое он обрекает поэтичный по весне сад, но весна, как и детство, проходят, человек взрослеет и обустраивает свой дом с любовью, пестуя красоту. В доме, который будет продан, больше нет семьи, в нем на время собрались эгоистичные дети, которых заботит не дом сам по себе и не сад сам по себе, а “мои чувства ко мне самому в “прошлом” доме и “прошлом”саде”. Нет и тени той жертвенности, той жертвенной любви, которая во все времена спасала и семью, и Дом, и Родину. Может быть, именно в Лопахине это есть. «Ваш брат — говорит он, обращаясь к Раневской, — говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше, чем родную». Да и мечтает Лопахин не о наживе, а о благополучии дома и сада. Но по мановению волшебной палочки не настанет это прекрасное будущее, надо пройти через полосу совсем некрасивую: «До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще и дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...» И еще. Спасительна память о прошлом. Она — залог выстраданного грядущего. Но как относятся к прошлому герои? Вот Любовь Андреевна: «О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось.(Смеется от радости) Весь, весь белый! О, сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с моих плеч тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!» Но Фирса, единственного человека, который помнит и молодость сада, и цветущую пору его, хранителя и няньку, как в самом начале пьесы Лопахина, забывают в забитом доме. И старик, остающийся умирать, называющий себя недотепой, выглядит почти буднично. А.П. Чехов умел “раскрывать страшное в нестрашном”. Так и на сей раз. Эта последняя сцена по существу пророчество и приговор одновременно. Какое будущее может быть у людей, забывших свое прошлое? История уже отвечала на этот вопрос не в художественном произведении, а в самой обычной жизни. “Вишневый сад” — образ почти рая земного, преступно утраченного людьми, ведь рай — это труд души, а труд души —деятельная любовь.