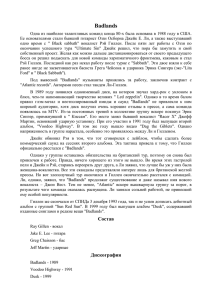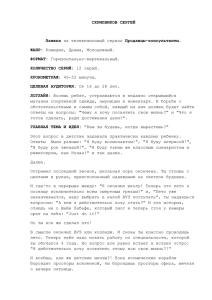Айгуль Иксанова Белый тигр - Сверхновый литературный
реклама

Выпуск 97. Содержание: Айгуль Иксанова Белый тигр Анна Райнова Другими глазами Артемий Дымов Сознание 2.19 Элизабета Левин Экскурсия в музей Tempora Insensata Полина Липкина Убить дракона Абрам Лерман Раковый Корпус Михаил Кельмович Иосиф Бродский и его семья * * * Айгуль Иксанова Белый тигр Джейк Браун медленно потягивал сок через соломинку, сидя за круглым белым столиком в кафе с прозаическим названием "У Тома", и время от времени нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец в дверях появился Фрэнк. Он помахал Джейку и направился к его столику, лавируя между выходящими посетителями. Джейк отметил с неудовольствием, что Фрэнк был не один, его сопровождала какая-то ярко накрашенная, легкомысленная на вид девчонка. – Ах, да! Это же его жена, – вспомнил он, – Как там ее звали? Диана? Линда? Он напряг память, но вспомнить имени так и не смог. – Привет, старик! – Фрэнк энергично пожал ему руку. Джейк лениво кивнул ему и женщине. – Это Аманда, вы уже встречались, – сказал Фрэнк, отодвигая стул. Аманда приветливо кивнула Джейку, тряхнув короткими золотистыми волосами, и улыбнулась наивной, детской улыбкой. «Вот пустышка, – подумал Джейк, но улыбнулся в ответ, – лет тридцать, небось, уже по земле топает, а выглядит на двадцать с небольшим. Потому что мыслей никаких нет. У женщин так всегда». – Как настроение, Фрэнк? – спросил он. – Не знаю, что и сказать... – Фрэнк потер затылок. – Мандраж. – Аналогично, – согласился Джейк. Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент, хозяин заведения, Том, вышел из-за стойки и приблизился к их столику. – Принесла нелегкая, – пробормотал Джейк, и в его голосе послышались нотки агрессии. – Фрэнк, познакомься, это Том, – неохотно сказал он. Фрэнк пожал хозяину руку, после чего тот бесцеремонно уселся рядом с ними. – Он что, тоже боксер? – с интересом спросил Фрэнк, очевидно намекая на огромные кулаки Тома. – Нет, слава Богу, – засмеялся Джейк, эта мысль показалась ему нелепой, – Том не имеет никакого отношения к боксу, так знает что-то от меня... – Так вы друзья? – вступила в разговор Аманда. – Я бы так не сказал, – раздраженно ответил Том. – Да уж... Скорее просто знакомые, – добавил Джейк. «Настоящая женщина. Лишь бы ляпнуть что-то. А к месту или нет – для них не важно», – подумал он про себя. – Ладно, вернемся к делу. – Фрэнк начинал терять терпение. – Ты решил участвовать? – Да. Решил. Пятьсот тысяч на дороге не валяются. Да и престиж. Сам понимаешь... – Это не обычный поединок. – Фрэнк предостерегающе поднял палец. – Учти, что ты всего лишь любитель. – Не важно. – Джейк начинал кипятиться, его пальцы нервно теребили золотистую соломинку. – Я буду участвовать. Конечно, тайские бойцы всегда были лучше нас, но настало время показать, что мы лучшие из лучших! – Вы не лучшие, – неожиданно и дерзко вмешался Том, – Джейк, ты даже не профессионал. Ты любитель! – Я не любитель, а Большой любитель, – ответил Джейк, – а это разные вещи. И потом, не лезь в это дело, Том! Тебя это абсолютно не касается. Занимайся своими коктейлями. – И правда, Томми, – обратился к хозяину Фрэнк, – не стоит тебе вмешиваться, поверь! Он лукаво подмигнул хозяину. – Бокс – грязная и жестокая игра, – возразил Том, почесав свою обритую наголо голову. – Меня не тянет туда. Кстати, ты ведь Фрэнк Корн? Чемпион Европы? Так? Фрэнк кивнул головой. – Рассчитываю стать чемпионом мира. После того как побью Ноя. – Ноя? Ты имеешь в виду Ноя Гучая? Чемпиона? – Том с сомнением покачал головой. – Я видел его по телевизору. Он сражается как Бог. Это ясно даже мне. – Да... – протянул Джейк. – Европейские бойцы не могут сравниться с тайцами. Может, им и правда помогают их древние Боги? – Я знаю одного американца, который мог бы победить Ноя, да и остальных тоже. Но, к сожалению, он уже мертв, – задумчиво произнес Фрэнк. – Ты имеешь в виду Пита? – Кого? – переспросил Том. – Пит Прайс, по прозвищу Белый тигр. Единственный белый, который достиг совершенства в Муай Тай. Настоящего совершенства. Я же рассказывал тебе про него. – Больно я помню, что ты мне рассказывал. – Том с презрением отвернулся. – Если уж даже он отдал Богу душу, то вам нечего соваться в это дело. Помяните мое слово. Том громко отодвинул стул и вернулся за стойку. – Дурак! – Джейк зло сплюнул в пепельницу. – Настоящий дурак. Аманда вдруг засмеялась, что окончательно вывело его из себя. Надо же засмеяться так не вовремя! – Ладно. – Джейк поднялся, – У нас есть еще два дня. Увидимся завтра на тренировке. И кстати, никакой выпивки, никаких девочек. Фрэнк кивнул и обнял жену за плечи. – До завтра, Джейк! – Счастливо! – Аманда махнула ему рукой. Джейк развернулся и направился к выходу из заведения, случайно встретился глазами с Томом и, не выдержав, показал ему кулак. – Когда-нибудь я все-таки начищу ему физиономию, и наплевать, что он всего лишь владелец кафе, а не боксер, – подумал он, выходя из заведения. Том смерил его презрительным взглядом и отвернулся. – Они не жалуют друг друга, правда? – спросил Фрэнк Аманду. – Мне так не показалось, – улыбнулась она. – Напротив, по-моему, они любят друг друга. Просто не могут выразить это. Фрэнк был мужчиной в полном смысле этого слова, мужчиной на сто процентов, поэтому, не поняв того, что сказала жена, он лишь с усмешкой пожал плечами, как если бы говорил «Д-у-у-урочка!», но даже не подумал возразить, бросил на стол пачку купюр, после чего вместе с супругой покинул заведение. – Давай вернемся домой пораньше, – сказал он, – мне нужно отдохнуть перед тренировкой. – Ладно, – кивнула головой Аманда. – Фрэнки, – она потянула его за рукав, – я боюсь за тебя. А вдруг что-то случится? Вы с Джейком переоцениваете себя! – Ничего не случится. Все будет хорошо. Не волнуйся. Главное – не бояться противника. Подумаешь, какой-то узкоглазый! Мы победим, вот увидишь, – заверил он жену. – Надеюсь, – вздохнула Аманда. До матча с Гучаем оставалось только два дня. Этот матч был неофициальным, проводился теневыми воротилами спортивного бизнеса, и целью его, конечно же, были деньги. И Джейк, и Фрэнк понимали это. Они оба знали, что никому из организаторов нет дела до них, их волнуют только большие ставки тотализатора, и ничего больше. И тем не менее они собирались пойти на это и не ради гонорара – пятьсот тысяч долларов каждому, а скорее ради шанса, который не стучится в дверь дважды. Для Фрэнка этот матч означал титул неофициального чемпиона мира по Муай Тай – тайскому боксу, в случае победы, разумеется. Для Джейка – возможность сразиться с профессионалом и самому выйти на профессиональный уровень. В официальных матчах он участвовать не мог, но здесь никого не интересовало, профессионал ты или любитель, главное – чтобы ты умел драться, а Джейк умел. Он был прирожденным бойцом – выносливым, сильным и решительным, на тренировках он чувствовал, что еще немного, и возможно он сумеет оставить позади даже Фрэнка – лучшего "белого" в боксе. Джейк приобщился к боевым искусствам еще в раннем детстве. Сначала его привлекали китайские единоборства, и только ближе к двадцати годам он увлекся Муай Тай, помимо тренировок с учителем и отработки ударов, Джейк часами просматривал записи поединков, пытаясь разгадать, в чем же заключается секрет успеха тайских бойцов и недостатки европейцев. Он скептически относился к европейским и американским боксерам, однако Белый тигр сумел покорить и его. Высокий и сильный, с татуировкой, изображающей тигра в прыжке на левом плече, Пит Прайс не только великолепно владел техникой Муай Тай, но и словно чувствовал душу бокса, как если бы сумел подчинить себе неподвластные человеку силы природы и управлять ими. За все годы выступлений на ринге Белый тигр не потерпел ни одного поражения, снискал фантастическую популярность среди болельщиков, тысячи профессионалов и любителей стремились подражать ему, но были лишь жалкими подобиями великого боксера. «Интересно, сумел бы он победить Ноя Гучая? – думал Джейк. – Наверное, сумел бы. И почему он погиб?» Точнее, Пит не погиб. Он пропал без вести, где-то в Центральной Африке. Почему это должно было случиться именно с ним? Джейк вытер лицо полотенцем и направился в раздевалку. Еще не открыв дверь, он услышал звонок сотового телефона, вошел и взял телефон с гладкой, полированной поверхности стола. – Алло, Джейк? Это Фрэнк. У нас ЧП! Майк сломал ногу. Что мы будем делать? – голос Фрэнка звучал взволнованно. О Господи! Ведь все шло так хорошо! Только этого им не хватало! Майк был третьим членом команды, кем теперь заменить его? Сумасшедших больше нет. Никто не согласится выступить против Ноя Гучая, даже за пятьсот тысяч. Всем дорога жизнь. Несколько секунд Джейк молча соображал. – Ну что ж, – ответил он наконец, – придется нам драться вдвоем. Другого-то выхода все равно нет. Возьмем с собой ребят. Может быть, кто-то загорится в процессе. В конце концов, мы и вдвоем сделаем его, Фрэнк, он ведь один, черт его возьми! Подумаешь, один какой-то таец. Ну и что, что чемпион! Не раскисай, старина! – Я знал, что ты так скажешь, хотя можно еще отказаться. Еще не поздно. Может не стоит совать голову в петлю? – И не думай об этом, – ответил Джейк и отключил телефон. Да, веселый предстоит матч! Остаться бы в живых, уже не до денег. Но тщеславие не позволяло ему отступить. Да и Фрэнк не отступит, даже если останется один. В этом Джейк был уверен. Под вечер он снова пришел в кафе, как если бы какая-то невидимая сила тянула его сюда. Фрэнк и Аманда опоздали на полчаса, и ему пришлось потягивать колу в компании Тома. Тот спокойно наливал себе виски и, выпивая бокал за бокалом, не упускал случая поддеть приятеля: – Ну что, боксер? Пришлось отказаться от спиртного? Спортсмен? – Том ехидно улыбнулся и закурил сигарету. Джейк только злобно хмыкнул, почувствовав желание немедленно двинуть кулаком по этой бритой голове. Потом он обязательно сделает это, но не сейчас, нельзя давать выход агрессии перед боем. Ведь все дело в злости! Когда подошел Фрэнк, он немного успокоился, может быть, от приветливой улыбки Аманды. – Не волнуйся парень, – Фрэнк хлопнул Джейка по спине, – завтра мы покажем этому тайцу, где раки зимуют. Том, придешь поболеть за нас? – И не подумаю. Какое мне дело? – Том сердито выдохнул дым. – У меня в кафе дел полно. Надо налог платить. Пять тысяч. Завтра последний срок, потом проценты пойдут. А я в такие расходы влетел! Не представляю, где деньги брать. – Да ладно тебе! – изумился Фрэнк. – Не хочешь поболеть за товарища? Такое же раз в жизни бывает! – Я думаю, вам стоит прикрыть эту лавочку, ребята, – сказал Том, – вы ничего не сможете сделать против тайца. – Это мы еще посмотрим! Тут никто не спрашивал твоего мнения, – возмутился Джейк. – Да мне-то что? – Том равнодушно пожал плечами. – Ну прибьет он вас, не моя печаль. Охота расстаться с жизнью – дело ваше. Тому парню, который сломал ногу, повезло. Смотрите, как бы вам не сломали шею! Джейк всерьез разозлился. Только этого не хватало! Говорить под руку прямо перед таким матчем! – Заткнись, идиот! – злобно пробормотал он. – Думаешь, мне нужна твоя рожа на трибуне? Если ты не придешь, нам будет только лучше, одним... Джейк хотел выругаться, но присутствие Аманды остановило его, и он смущенно замолчал. Женщина улыбнулась и опустила глаза. – Джейк, если вы так не любите Тома, то почему приходите в этот бар каждый день? – спросила она. Джейк пожал плечами. Глупый вопрос. – Привычка, – ответил он. – Сам этот лысый меня совершенно не интересует. Хотя и к нему я уже, наверное, привык. Он меня раздражает. Ужасно раздражает. Затушив сигарету, Том поднялся и направился к стойке. Весь его вид выражал презрение к Джейку и ему подобным. – Том, старина, не обижайся! – крикнул вслед Фрэнк. – Но ты ведь и правда ничего не смыслишь в боксе. Джейк тебя правильно осадил. Том резко обернулся. – Я понимаю только то, что ваш бокс – жестокая игра. Одни набивают свои кошельки – другие, дураки вроде вас, лупят друг друга кулаками и отдают им свои жизни. Грязные, кровавые деньги, бессмысленные бои, смерть и жестокость. Вот что такое ваш бокс. Нет ничего в этом мире, что заставило бы меня драться вот так вот на ринге, как вы. – Даже чтобы помочь другу? – спросила Аманда. – У меня нет друзей. – А как же Джейк? Я думала, он ваш друг. Том презрительно улыбнулся, но во взгляде, который он бросил на женщину, мелькнуло любопытство. – Что вы понимаете в мужской дружбе, мадам? – усмехнулся он и скрылся за стойкой. – Ладно, хватит слушать этот бред. – Джейк встал. – Надо выспаться получше. Счастливо вам ребятки. – Куда это ты так заторопился? – Фрэнк удивленно поднял брови. – Да мне еще надо в банк успеть до закрытия. Деньги перевести. Не знаете, сколько времени займет перевод? – Это зависит от суммы. Сколько? – спросила Аманда. Джейк пожал плечами. – Несколько тысяч долларов. Насмешка вспыхнула в глазах женщины, и она опустила ресницы. – Думаю, деньги придут уже завтра, – ответила она. Джейк пожал Фрэнку руку, кивнул Аманде и покинул бар. Выпив еще по стаканчику, Аманда и Фрэнк тоже направились домой. – Ты иди, я тебя догоню, – сказала она мужу, когда они проходили мимо стойки. Фрэнк согласно кивнул. – До встречи, Том. – Аманда остановилась около хозяина заведения, который, опершись локтем на стойку, исподлобья смотрел на нее. Том махнул ей рукой. – Скажите, вам не все равно побьют ли Джейка и Фрэнка, ведь нет? – спросила она. – Для вас имеет значение, выиграют ли они, правда? С равнодушным видом Том достал сигарету. – Мне все равно, – спокойно ответил он. – Но вы все-таки придете поболеть за них? Им так нужна поддержка... – Нет, – решительно отрезал он. – Понятно. Значит, я ошиблась. – Аманда пристально посмотрела ему в глаза. – До свидания. И она последовала за мужем. Однако, когда на следующий день Аманда заняла место на трибуне, села и расправила широкую юбку своего белого платья, она подняла глаза и увидела Тома. Его высокая мускулистая фигура, словно утес, возвышалась над ней, но лицо было в тени, и она не сразу узнала его. – Можно сесть рядом с вами? – спросил он. – Конечно! – Аманда радостно улыбнулась – Спасибо, что все-таки пришли! Так много народу собралось! Том молча кивнул. В это время у ринга появились Фрэнк и Джейк, оба готовые к бою и одетые в традиционную экипировку бойцов Муай Тай. Джейк внимательно оглядел трибуны. – Смотри, старик, сколько наших ребят пришло поболеть за нас! Может кто-нибудь и захочет присоединиться. Хотя надеюсь, что этого не понадобится. Черт! – рука Джейка замерла в воздухе. – А это еще что такое? Что там делает эта лысая обезьяна?! – Полегче, Джейк, он же пришел поболеть за нас, – Фрэнк попытался остановить приятеля, но было уже поздно. – Эй, Том! Я же сказал, что не хочу видеть тебя здесь! Давай, проваливай поскорей, а не то я сам выставлю тебя отсюда, – закричал он. Том не ответил и только сделал Джейку неприличный жест рукой. – Скотина! Я ему сейчас устрою... – Джейк решительно направился к Тому. – Прекрати, ты расходуешь энергию перед боем, – Фрэнк придержал его за локоть. – Сейчас начнется матч. – Да. Правда. – Джейк глубоко вздохнул. – Я волнуюсь, старик. Правда, волнуюсь. Вот и сорвался на этого кретина. Он меня раздражает. – Все будет о’кей. Фрэнк сжал руку друга. – Пошли, сейчас начнут. А вот и он. Смотри. У противоположного конца ринга появился тайский чемпион. Широкоплечий и мускулистый, он в то же время отличался удивительной пластикой, и двигался грациозно и легко, подобно кошке. Его лицо выражало настороженное самодовольство, именно так, настороженное. Потому что, несмотря на восхищение собственной персоной, Ной Гучай был слишком умен, чтобы не принимать противника в расчет или недооценивать его силы. Раздались звуки цимбалов и барабанов и бойцы начали ритуальный танец рам Муай, являющийся неотъемлемой частью каждого поединка, танца помогающего сосредоточиться и сконцентрироваться, поблагодарить мысленно учителей и обратиться к богам, а также и просто размять конечности перед решительной схваткой на ринге. После исполнения танца участники пожали руки и произнесли слова клятвы, гарантирующие, что они не нарушат этикета: «Я буду сильным и чистым, буду всегда поступать честно, всегда следить за своим поведением. Я буду стараться совершать добрые поступки, отзывающиеся в сердцах других людей. Я буду повиноваться своим наставникам и верен своей нации. Мы все, ученики и учителя будем едины в своих целях и помыслах и всегда будем помогать друг другу». Глядя на эти мирные церемонии, невозможно было поверить, что через несколько минут бойцы сойдутся в жестоком поединке, но именно этого и ожидала собравшаяся на трибунах толпа. Ставки были сделаны. Все ждали исхода боя. Фрэнк шел первым. За ним следовал Джейк. Бойцы вышли на ринг, удары барабанов стали быстрее и ритмичнее, наконец, судья дал знак к началу боя. Фрэнк не успел даже сориентироваться, настолько таец оказался стремителен и ловок. Он нанес противнику серию молниеносных ударов, и по окончании двух трехминутных раундов, Фрэнк отошел к своему углу ринга для отдыха и вытер поданным ему полотенцем кровь, стекавшую из рассеченной ударом локтя брови. – Джейк, боюсь это напрасная затея. За два раунда мне удалось нанести ему только один удар. Я так и не перешел в наступление, – с трудом переводя дыхание, сказал он, – Уходи пока не поздно. Откажись от участия. – Что ты несешь! – Джейк с негодованием ударил друга в плечо, – Что еще за упаднический настрой? У тебя все в порядке! Вставай. Посмотри на них! Джейк указал пальцем на ревущие трибуны. – Смотри, сколько народу болеет за тебя! Там твоя жена. Иди! Не подводи ее. Фрэнк молча кивнул и поднялся. Он еще раз вытер лицо полотенцем и бросил его на стул. Перерыв был окончен. Во время третьего раунда чемпион, который, казалось, не только не устал, но даже вошел во вкус нанес ему сокрушительный удар в голову, Фрэнк почувствовал, что у него темнеет в глазах, и в следующее мгновение противник перешел в активное наступление. Удары коленями и кулаками, затянутыми в перчатки сыпались один за другим, и один раз Фрэнк не сумел среагировать вовремя. Удар ногой пришелся прямо в солнечное сплетение, а последовавший за ним удар локтем в лобную и височную зоны черепа довершил дело. – 4, 5, 6, 7… – считал судья, но Фрэнк никак не мог подняться. Не поднялся он и на счет 10. Судья поднял руку Ноя Гучая, провозгласив его победителем, в то время как Фрэнку помогали встать, чтобы увести его с ринга. Единственной его мыслью в этот момент была мысль о смерти. Мысль о поражении и 500000 долларов уже не волновала его. Аманда вскочила со скамьи и, взволнованная, кинулась вслед за мужем. Том с бесстрастным выражением лица остался сидеть на месте. Аманда вернулась лишь к началу следующего раунда. – С ним все в порядке, – сказала она, – слава Богу, жить будет. Жизненно важные органы не были повреждены. – Вы так спокойны, – усмехнулся Том. – Я привыкла, – грустно ответила женщина, поправив выбившиеся волосы. – Столько раз собиралась уйти от него из-за этого бокса. Но так и не смогла. Я только не хочу иметь детей. Не хочу, чтобы они последовали по его стопам. – Понимаю. – Как там Джейк? Том молча кивнул в сторону ринга, где как раз в этот момент появился Джейк. Том хохотнул – лицо боксера выражало мрачную решимость. «В конце концов, может быть то, что Фрэнк был профессионалом, помешало ему. Он действует слишком стандартно. Здесь нужна неожиданность. Возможно, я сумею сделать это», – думал Джейк. В то, что таец устал, он не верил, напротив, он еще больше воодушевился, словно вобрал в себя силу поверженного врага. Джейк закрыл глаза. Надо сосредоточиться. Жаль, что он не Белый тигр. Будь здесь Пит, показал бы он этому Ною. Перед глазами Джейка встала зловеще-наглая улыбка противника. На один миг ему стало жутко. Но он прогнал страх, открыл глаза и вышел на середину ринга. Соперники пожали руки. Заиграла музыка. Начался первый раунд. Для Джейка бой был коротким и молниеносным, он не успел даже опомниться, как таец оказался слишком близко, нанося удар за ударом, от которых не было возможности увернуться. Толпа на трибунах ревела от восторга, страсти накалялись. Джейк собрал все силы и попробовал атаковать противника, но вдруг что-то словно сломалось внутри него, и неожиданно он осознал, что не стоило принимать участие в поединке, что Том был прав, предостерегая его. Это была лишь секунда промедления. Джейк спохватился. Но было уже поздно. Сокрушительный удар ногой в прыжке пришелся куда-то в область позвоночного столба, от дикой боли Джейк потерял сознание и как подкошенный рухнул на пол. Когда он открыл глаза, его уже положили на носилки, судья давно уже отсчитал десять секунд. Матч был завершен. Победа осталась за тайцем. С этим ничего не поделаешь. Он получит полтора миллиона долларов, по пятьсот за каждого побежденного бойца, как и было обещано. Хотя деньги уже не волновали Джейка. Он попробовал шевельнуться, но боль пронзила все тело, и сознание снова покинуло его. – Боже мой! Что теперь будет? – Аманда испуганно посмотрела на Тома, – Как он там? Том ничего не ответил. Крики на трибунах не утихали, только звуки музыки стали казаться Аманде зловещими. У нее было нехорошее предчувствие перед этим матчем. Зачем они пошли против чемпиона мира? Зачем? Разве так уж нужны были эти деньги? Она закрыла лицо руками. Голос судьи вывел ее из задумчивости. – Дамы и господа! Прошу тишины. Внимание, пожалуйста! Внимание! – повторил он. – Только что мы стали свидетелями блестящей победы чемпиона мира по Муай Тай Ноя Гучая над двумя нашими бойцами. Но по условиям данного матча, чтобы быть признанным абсолютным победителем Ной Гучай должен победить троих. Однако в последний момент один из участников был вынужден отказаться из-за полученной травмы. Сейчас я обращаюсь к присутствующим на трибуне соратникам наших боксеров. Есть ли желающие сразиться с чемпионом и оспорить его победу? Предупреждаю, еще есть время. У нашей команды еще есть шанс. Самый последний шанс! В зале воцарилась тишина. Судья медленно обвел глазами сидевших на скамье боксеров. – Есть ли желающие? – спросил он, но лишь тишина была ему ответом. – В последний раз я задаю этот вопрос, или я буду вынужден признать тайского боксера победителем сегодняшнего матча. Есть ли желающие? Боксеры продолжали сидеть молча. Судья снова обвел глазами зал. Том поднялся и сделал несколько шагов вперед. – Я бы хотел попробовать свои силы, – сказал он. Судья с удивлением взглянул на него, ведь тот сидел в стороне от боксеров, среди простых зрителей. – Подойдите сюда. Вы профессионал или любитель? – поинтересовался он. – Я не люблю бокс, так что, скорее профессионал. – Том вплотную подошел к нему. – Хорошо. Вы готовы выступить против Ноя Гучая и заменить одного из членов команды? – Да. – Ваше имя? – Пит Прайс. Глухой рокот прокатился по залу, потом толпа засвистела, и в стоящего рядом с судьей Тома полетели пустые пластиковые бутылки из-под воды. Кто-то кинул горящий сигаретный окурок, он упал на пол и задымил. Том придавил его ногой. – Как вы сказали? – язвительно переспросил судья. – Это настоящее имя или псевдоним? – Это мое настоящее имя. – Удивительно, я почему-то никогда не слышал про полного тезку легендарного боксера среди профессионалов! – он с улыбкой покачал головой. – Повторите еще раз ваше имя. – Пит Прайс. Прозвище Белый тигр, – с этими словами Том стянул футболку. На его плече красовалось изображение тигра в прыжке. Гул в зале нарастал. Изумленные зрители вставали со своих мест, чтобы лучше видеть происходящее. – Позвольте, но Пит Прайс погиб в Центральной Африке! И выглядел он, кстати, совсем по-другому, может быть вы объясните... – растерянно начал было судья. – Мне сделали несколько пластических операций. И я чуть было не погиб. Но это не важно, – прервал его Том. – Важно то, что я уже несколько лет как ушел из бокса и не собираюсь возвращаться. Только сегодня. Это исключение из правил. – Можете ли вы удостоверить вашу личность? – попросил судья, – Как вы докажете, что вы – действительно тот самый Прайс? Том поднял сжатые в кулаки руки, напряг мускулы и мышцы заиграли на его груди и спине. – Вот мои документы, – ответил он. – А поединок послужит лучшим доказательством. – Вы давно не тренировались... – Я не проиграл ни одного боя. – Все же не стоит... – Стоит. На этот раз стоит, – спокойно возразил боксер. – Хорошо, – судья согласно кивнул, – Дамы и господа! Сейчас вы станете свидетелями сенсационного матча, самого выдающегося за всю историю бокса! Этот человек называет себя Белым тигром и хочет сразиться с чемпионом мира. Позволим ему это доказать! Даю вам пятнадцать минут, чтобы одеться и размяться. Потом мы начнем. Толпа ответила восторженным ревом, и последние слова судье пришлось выкрикивать. Пит Прайс не стал тратить время на исполнение ритуальных танцев и медитацию, он размашистым шагом вышел на ринг, сунул в рот капу и крепко пожал руку противнику. В глазах тайца загорелся новый, невиданный ранее огонь, его зрачки как маленькие дробинки обстреляли соперника. Да. Если это тот самый воин, тот, кто сумел превзойти даже жителей Таиланда в искусстве Муай Тай, то сами боги послали ему этот шанс, этот небесный дар – возможность сразиться с Белым тигром. Сразиться и победить. Но уже самое начало матча показало, что схватка будет необычной, с ловкостью неожиданной в его несколько громоздкой фигуре, Белый тигр бросился в атаку, демонстрируя блестящую технику финтов, чередуя уклоны с ударами. Это действительно был бой восьмируких, как часто называют тайский бокс, и Белый тигр оправдывал это название, нанося круговые удары то кулаками, то локтем, то используя технику ближнего боя – удары коленями на нижнем уровне. Ной Гучай никогда еще не сталкивался с подобным противником, который словно предугадывал каждое его движение, настолько ловко блокировал он руками и голенью все выпады тайского боксера. В течение первого перерыва, вытирая пот и кровь, заливающие лица, оба боксера уже знали, что эта решающая схватка – схватка между непревзойденными мастерами. Трибуны пульсировали, как одно огромное сердце, выталкивающее вместо крови новые и новые взрывы эмоций и азарта, не осталось ни одного сидящего, даже самые спокойные зрители вскочили на скамейки и громко приветствовали легендарного бойца. В том, что перед ними Белый тигр – феноменальный боксер, не растерявший своих навыков за годы отсутствия поединков – боксер от бога, человек, достигший абсолютного совершенства в своем деле, не сомневался уже никто. Сначала они настороженно восприняли появление этого самозванца покусившегося на святыни – имя, с благоговением повторяемое всеми почитателями Муай Тай, и татуировку в виде тигра на плече. Но это был он, только он был способен противостоять тайскому чемпиону, не позволив тому нанести ни одного сокрушительного удара. Толпа ждала, что же произойдет во втором, третьем, пятом раунде, ждала исхода матча, ведь не только ставки, но и национальная гордость, спортивный азарт, желание победить – все было поставлено на карту. Мгновенно даже люди, далекие от бокса и оказавшиеся на матче случайно, превратились в фанатов, скандировавших "Пит! Мы с тобой!" Но оба боксера знали, что не третьего, ни тем более, последующих раундов не будет. Все свои силы они вложат во второй раунд, последнюю и решающую схватку. Судья подал сигнал к началу. Несколько секунд оба стояли, не двигаясь, потом медленно пошли на сближение. Таец решительно бросился на противника и нанес несколько ударов коленом и стопой, но что-то в его поведении сказало Питу, что он потерял главное – уверенность в себе, а значит, наполовину побежден. Успешный выпад вдохновил чемпиона на новую серию ударов, но Белый тигр применил блокировку и нанес противнику удар локтем по диагонали снизу-вверх. Удар был сокрушителен по своей силе, но пришелся в плечо, и лишь на секунду вывел тайца из строя, и все же он дал Питу преимущество. Он еще раз ударил локтем и на этот раз попал в голову соперника. Таец упал лицом вниз, и поднялся только на восьмой секунде. В его глазах больше не было былого огня. Теперь в них горела злоба и желание разрушать, добиться своей цели, во что бы то ни стало. Противники сошлись еще раз, и новая схватка завершилась падением Ноя Гучая, на этот раз он встал, шатаясь, но на вопрос судьи, не желает ли он прекратить поединок ответил отрицательно. У него еще были силы. Он еще может победить. До конца второго раунда оставалось всего сорок секунд. Пит повернулся к трибуне и увидел сияющее лицо Аманды, махавшей ему чем-то белым. Позднее он понял, что она сняла верх платья, и стояла в одной маечке. Белый флаг. Но это не означает поражения. Это белый цвет. Цвет добра и справедливости. Это Белый тигр. Ной Гучай медленно направился к противнику и нанес несколько ударов, что позволило ему приблизиться настолько близко, что позволяло осуществить один из самых распространенных приемов – захват головы противника и удары коленом. «Если это произойдет, то схватка затянется и тогда третий раунд неминуем!» – подумал в это мгновение практически каждый болельщик, но в последний миг Белый тигр стремительно ушел в сторону, отскочив вправо. Ной Гучай обернулся, словно потерял соперника из виду, и именно тогда Белый тигр выполнил самый красивый прием Муай Тай, удающийся далеко не в каждом сражении, – удар коленом и локтем в прыжке. Зрители затаили дыхание. Голова тайского борца откинулась назад, на несколько мгновений он замер, что дало возможность Питу нанести еще несколько ударов. Но Белый тигр неподвижно стоял на месте и смотрел на противника. Он не использовал своего преимущества. Ни звука не доносилось с трибун. Ной Гучай упал. В полной тишине судья отсчитал десять секунд и также в полной тишине поднял вверх руку победителя. Зрители молчали. – Пит Прайс! – закричал судья, закричал не своим голосом, так громко, как только позволяли его возможности, и в следующее мгновение, словно громовые раскаты, крики и аплодисменты болельщиков наполнили зал. Аманда, подбрасывая вверх топ от платья, визжала от восторга, толпа продолжала скандировать имя легендарного героя, чудом вернувшегося на ринг, в то время как сам герой тихо говорил судье, о том, что он хотел бы поделить призовой фонд в полтора миллиона долларов между Джейком, Фрэнком и благотворительными организациями. Он не успел договорить, обезумевшая толпа фанатов подхватила его и принялась качать на руках, а потом с триумфом вынесла из зала. Глядя на эту картину, Аманда плакала от счастья. Впрочем, плакала она достаточно часто. *** Через несколько дней Пит Прайс, Белый тигр, снова называющий себя Томом, пришел с корзинкой фруктов в руках больницу, где с серьезной травмой позвоночника лежал Джейк. Джейк знал, что на ринг ему больше не выйти и следует благодарить Бога, если он хотя бы сможет вести полноценную жизнь – жизнь обычного человека. Со слезами радости на глазах он уже несколько часов разглядывал белый потолок больничной палаты, благодаря судьбу за то, что ему выпало быть в одной команде с легендарным боксером, да что там – быть его другом! Правда, прежде они не очень жаловали друг друга, но теперь все должно измениться. Обязательно должно! – Можно? – Том приоткрыл дверь палаты. – Пит! – Радостно выкрикнул больной, – Заходи! Конечно же, заходи. – Меня зовут Том, – резко оборвал Джейка боксер. – Да, но... – Никаких но! Пит Прайс погиб в Африке. Меня зовут Том. Усвоил?! Джейк прикрыл глаза в знак согласия. Том подошел и присел на стул рядом с кроватью. – Вот тебе фрукты принес, – сказал он, – ешь, поправляйся. – Спасибо. И спасибо за деньги. Они мне теперь пригодятся. На лечение, да и так я вряд ли смогу зарабатывать много. – Отлично. Ты не вернешься на ринг. Займись чем-нибудь нормальным. Купи себе ферму, например. Или магазин. Или кафе, как я. – Почему? – спросил Джейк. – Что «почему»? – Ты знаешь. – Потому что, мне не нужны эти деньги. Они ваши. – Нет, я спрашиваю, почему ты оставил карьеру, ушел в зените своей славы, почему покинул ринг? – Хочешь знать, любопытный калека? – пробормотал Том. – Ладно. Скажу. Сначала я ушел, потому что считал, что надо уходить именно в зените славы, чтобы тебя запомнили таким. Я много ездил, и везде видел одно – насилие, насилие, насилие. Люди уничтожали друг друга. Деньги и кровь. Кровь и деньги. И много смертей. И я подумал, а чем мы лучше? Мы делаем то же самое. Мы уродуем жизнь. А потом я был в саванне. Столкнулся со львом. Лев и тигр – это было забавное зрелище. Я был без оружия. Но ведь ты знаешь – тайский бокс – оружие, которое всегда с тобой. Лев здорово меня потрепал, пластическим хирургам пришлось поработать. А его шкура до сих пор лежит у меня дома перед кроватью. Думаю: женюсь, и дети будут играть на ней. Только все что-то никак. Кафе отнимает много времени. Да и всякие идиоты, вроде тебя. После схватки со львом я был на волосок от смерти. Тогда и понял, что такое жизнь. Моя и других. Бесценный подарок, которого я не ценил. Я купил кафе, а остальные деньги отдал в фонд борьбы со СПИДом. – Ясно, – кивнул Джейк. – Значит, Белый тигр не будет больше драться? Ты не вернешься? – Нет, не вернусь. – Но ведь все было так удачно! Это было возвращение героя. Триумфальное шествие. Слава. Деньги. У тебя будет все. Ты уже вошел в историю, так задержись в ней! Почему ты не хочешь? Почему?! – Потому что я ненавижу бокс и все, что с ним связано – ринг, поединки, орущие трибуны, тебя. Ненавижу. – Так не бывает, – Джейк сделал попытку покачать головой. – Человек не может ненавидеть свой талант. Ведь это дар Бога и он влечет с непреодолимой силой. Мы не можем отказаться от него и не в состоянии ему противостоять. Ты не можешь ненавидеть все это. – Значит, могу, – спокойно резюмировал Том. – Тогда почему ты вернулся? Почему выступил за нашу команду? Ведь теперь все знают, кто ты! Ты пожертвовал своей безвестностью, своей спокойной жизнью, переступил через свои принципы. Зачем ты это сделал? Почему? – Да что ты заладил "почему, да почему"! – разозлился вдруг бывший Белый тигр. – Почему? – упорствовал Джейк. Несколько секунд Том молчал. – Да потому, что я люблю все это! Ринг, поединки, трибуны. Тебя люблю, дурака, – ответил он наконец. Джейк улыбнулся ему улыбкой победителя, но Том, казалось, не заметил насмешки, мелькнувшей в его взгляде. – Хоть ты и щенок, – добавил он, – И еще та девчонка, жена Фрэнка... Которая махала своей кофтой... Она мне, кстати, сказала после матча, что это ты перевел мне деньги. Мне позвонили из банка, и я никак не мог понять, кто это сделал. Это самый глупый поступок, который только можно вообразить. Джейк снова усмехнулся в ответ. Том помолчал. – Ну ладно. Идти мне надо. Он поднялся. – Я еще зайду. Может быть. Поправляйся. Он направился к двери. – Том! – окликнул его Джейк, когда он был уже у самого выхода. – А что девчонка-то? Что ты хотел сказать? Том лукаво улыбнулся. – Она оказалась умной, да? Гораздо умнее, чем мы с тобой. Она знает любовь. И дружбу знает. А на первый взгляд – так, глупышка, дурочка. Она словно видит души людей. Видит и меня, и тебя. Насквозь. Джейк понимающе кивнул. И как он раньше не заметил этого? Как не понял сам? Видно его мозговая деятельность все же пострадала от постоянных ударов по голове. – Как ты думаешь, почему так получается? – спросил он. – Почему мы не видели этого? Том поднял указательный палец кверху и произнес первую в своей жизни философскую фразу. – Умный человек – как хороший боксер. Скрывает свои силы до нужного момента, чтобы застать врага врасплох. Почему Ной победил тебя? Потому что ты недооценил противника. И ее ты недооценил. А ведь она была права! Все время была права... Он комично постучал пальцем по своей обритой голове. – Мысль – это оружие, которое всегда с тобой, – добавил он, выходя из палаты, заставив Джейка скорчиться от душившего его смеха. Смех причинял ему сильную боль, но он никак не мог остановиться – Вот мерзавец, и тут мне напакостил! – пробормотал Джейк. – Первое, что я сделаю, как только выйду отсюда, начищу-таки ему физиономию! И плевать мне, что он великий боксер. Анна Райнова Другими глазами Спросите любого подростка, кем он хочет стать, когда вырастет. «Пилотом боевого глайдера» – не задумываясь, ответит он. Ведь помнит, как тайком выбравшись из детской кровати, вглядывался в ночное небо, где, сталкиваясь и разлетаясь, метались яркие огоньки, оставляя за собой желтые кляксы взрывов. Как скандировала толпа, встречая героев-победителей. Он смотрел на выходивших из посадочного терминала людей в серебристых лётных комбинезонах и представлял себя на месте бравого капитана с суровым лицом, тот не улыбался, как все остальные, значит точно – самый смелый. Мальчишке невдомёк, что на свете нет мерила, способного определить чью-то смелость, а его новоявленный кумир, бурно отмечая победу, вчера так сильно перебрал, что теперь ему не до улыбки. *** На голографических часах, отмеряя потерянное время, беззвучно пульсировали секунды. Капитан прославленной боевой восьмёрки, герой Клиптианской войны, наставница Лэми Аррах будто приклеилась к стулу. Сидела в своём кабинете на двухсотом этаже лётно-космической академии, величественного здания в форме устремлённой ввысь ракеты, и рассеянно смотрела в окно. По яркому весеннему небу раздувшимися гусеницами ползали грузовые паромы, стайками железных птиц проносились бытовые глиссеры и пузатые служебные боты. Утопая в роскошной зелени аллей и парков, внизу лениво ворочался нарядившийся к празднику город. Пять лет прошло с войны, а на утреннем заседании совета наставников вновь пришлось отбиваться. Да, Мио Краас блестяще сдал вступительные экзамены. Лэми честно призналась, что не может принять его на свой курс по личным причинам. В конце концов, имеет на это полное право. И пусть другие наставники осуждают её в кулуарах, приписывают ей гордыню или самодурство. Да что угодно. Она не будет отчитываться ни перед кем, даже перед начальником академии, что и сказала, когда он попросил выйти из конференц-зала, чтобы объясниться наедине. – Вы, кажется, воевали с его отцом в одной десятке? – осторожно поинтересовался он. – Вот именно, воевали, – отрезала Лэми. Не стала продолжать при всём уважении к сдержанному генерал-лейтенанту. Да он и сам мог бы узнать причину, но видимо посчитал неприличным разнюхивать у неё за спиной. Вот и теперь за язык тянуть не стал, посмотрел в глаза, стушевался и поспешил уладить дело. Одарённого парня отдали другому наставнику. Но отчего так пакостно на душе? Лэми глотнула из чашки остывший кофе и заставила себя подняться. Уже два, к семи нужно быть у Сани, а она тут расселась. – Здравствуй, Лэми, – услышала она, не успев переступить порог кабинета. Голос с резким металлическими нотками она узнала прежде, чем подняла взгляд. Отвернулась и ускорила шаг. Бывший нападающий не дал уйти, догнал и резко развернул к себе. Лэми оказалась прижатой к стене, лицом к лицу с предателем, рванулась что есть сил, едва не задохнувшись от нахлынувшей ярости, но Краас вцепился в неё мёртвой хваткой. – Руки убери, – процедила сквозь зубы. – Я здесь из-за сына. Мио хочет учиться только у тебя. Поговори со мной, прошу, – тихо проговорил Краас. Заискивающий тон нападающего взбесил ещё сильнее: – О чём ты можешь меня просить? Арраха нет, а ты – живой, здоровый, рыло наел, – едва не сорвалась на крик Лэми. Краас мотнул головой, сделал несколько отрывистых вдохов и продолжил – глаза в глаза: – Ты не раз оспаривала выводы комиссии по расследованию. Выстрел произошёл самопроизвольно, опознавательная система глайдера Арраха не сработала. Я был его другом, Лэми. – Другом? – Если бы взгляд мог убивать, Краас тотчас упал бы замертво. Лэми справилась с собой и продолжила с холодным спокойствием. – Ты целился, Краас. В блок гравитора случайно не попадёшь. Мне интересно, как ты живёшь после того, что сделал? Кошмары не мучают? Краас отшатнулся, словно получил пощёчину. Лэми не сдвинулась с места: – Список моих курсантов утвержден советом наставников, так что если у твоего сына есть претензии – это не ко мне. – Хорошо, можешь меня ненавидеть, но при чём здесь Мио? Он хороший парень. Он бредит космосом. – Если Мио хочет летать – будет летать. В наше время не выбирали наставников. – Мио получил ответ, закрылся в комнате и не выходит, не может понять, почему ты ему отказала. – Может, ты объяснишь? – не выдержала Лэми и, отпихнув предателя в сторону, быстро пошла прочь. Не могла прийти в себя, даже оказавшись в кабине поджидавшего на парковке одноместного глиссера, поэтому включила автопилот и, пока машина набирала высоту, безотчётно тёрла ладонями лицо, точно пыталась смыть с него несуществующую грязь. На экране инкома всплывали поздравительные сообщения от курсантов, друзей, знакомых и совершенно чужих людей. Откинувшись на спинку сиденья, Лэми закрыла глаза. Да как он вообще посмел явиться, вновь пошли по кругу мысли. И к начальнику академии на поклон бегал, не иначе, пытался надавить, бряцал боевыми заслугами. Пусть она плохо обошлась с Мио, но что ей было делать, он слишком похож на отца. То же крючконосое лицо с колючими глазами, те же рваные жесты и голос. Во время личного собеседования с Краасом-младшим Лэми дважды брала перерыв. Она выскакивала в коридор, хваталась за стену и часто дышала, чтобы не выплеснуть растущий внутри гнев на парня, виновного только в том, что он оказался сыном предателя. Вера Краас хладнокровно расстрелял флагманский глайдер, когда десятка Арраха возвращалась на базу после тяжёлого столкновения с триариями – самыми опасными нападающими противника. Это неотёсанных велитов, горохом сыпавшихся из подпространства, отстреливали, как стайки непуганых воробьёв, и пачками брали в плен. Гастаты приходили группами поменьше и кое-что умели. Но схватка с десяткой клиптианских триариев всегда была настоящей игрой со смертью. Севший Лэми на хвост вражеский ловец, несмотря на все её хитрые увёртки, упрямо сокращал расстояние. Вторил каждому движению, будто мысли читал. Ему почти удалось зацепить её глайдер магнитной ловушкой. Ушла в последний момент. Остановившись на последнем витке спирали, резко потянула вверх. Враг не успел среагировать и оказался в перекрестии виртуального прицела. Этот спёкся, но бой продолжался. Команде едва удалось вернуться без потерь. Они вышли в исходные точки над низкой атмосферой Луны. Ждали сигнала, чтобы отдать корабли на волю гравитационных уловителей посадочных шахт. Ничто не предвещало беды. Миг, когда лазерный луч Крааса вспорол капитану бок, в доли секунды оставив от глайдера сгусток пылающей плазмы, запёкся в памяти выжженным клеймом. Почему защитное поле корабля не отразило заряд «своих»? Этот вопрос до сих пор не давал покоя. Аррах не мог просто так отключить контур. Если во время боя глайдер получил повреждения, капитан должен был сообщить об этом на базу и увести неисправную машину на запасную посадочную площадку, но ничего подобного не было. Безнаказанность Крааса приводила в отчаяние. Предателя обвинили в преступной халатности и сослали в штрафной батальон в текущем звании старшего лейтенанта, оставив за ним все военные льготы. Лэми не раз пожалела, что, повинуясь мгновенному чувству, встала между Краасом и разьярённой командой: выбравшись из посадочных боксов, ребята мчались к убийце, их перекошенные гневом лица не оставляли сомнений в том, что сейчас будет. Вера даже не пытался сбежать, стоял на месте и молча ждал расправы. Вот и бросилась наперерез, но Краас одним движением отшвырнул защитницу в сторону. – Стоять! – сотряс стены громоподобный, замораживающий рык комэска Рокко Гримма, невесть какими судьбами оказавшегося в посадочном отсеке. Озверевшие парни встали, как вкопанные, словно натолкнулись на невидимую стену. – Смир-р-рно! – взревел командир. Лэми вскочила на ноги и вытянулась вместе со всеми. Пошатнулась, когда на запястьях Веры защёлкнулись наручники. Рокко не дал упасть. Лэми билась в его руках, силясь выдохнуть застрявший в горле крик. Осиротевшие ребята обступили их и, сглатывая слёзы, цедили сквозь зубы страшные ругательства. Так боевая десятка превратилась в восьмёрку. Новичков присылали бездарных, пришлось воевать неполным составом до самого конца. Но как воевать! Последние годы войны команда Лэми Аррах не знала поражений. Удивительно, что взрослые мужики безоговорочно признали её главенство и поддерживали смелые решения иногда на грани самоубийства. Это теперь хитрые тактические приёмы Лэми Аррах преподают в академии, а тогда… На боевом дежурстве оплакивать мужа времени не было, но когда возвращалась в каюту, где они с Аррахом прожили вместе всего три недели, хотелось не плакать – орать. – Милая, ты в порядке? – застал врасплох приятный женский голос. Разглядев на экране инкома маму, Лэми смутилась, соображая, как могла пропустить вызов по личной связи. – Конечно, мам. Просто немного устала. – Пришлось изобразить на лице благодушную улыбку. Мама кивнула – не заметила фальши или сделала вид? Ведь они почти не знали друг друга. В детстве, пока больные наукой родители годами торчали на орбите, их с братом воспитывала незамужняя тётка, работавшая клоунессой в столичном цирке. Тётя Мина была особа эксцентричная, зацикленная на себе. Она не умела сюсюкать с малышами. Чтобы не болтались без дела, пристроила детей в цирковую секцию акробатики. Пятилетняя Лэми была пухленькой и неуклюжей, а наделённый природной гибкостью Гай делал успехи и не уставал насмехаться над младшей. Она долго терпела издёвки, но когда брат при всех обозвал её жирной каракатицей, побежала жаловаться тётке. – Вот глупый мальчишка, – улыбнулась та, утирая ей слёзы. – А ты разозлись, докажи, что это неправда. Лэми сильно разозлилась. Спустя несколько лет, летая на полотнах под куполом цирка, дуэт юных воздушных гимнастов творил чудеса. Публика замирала от восторга, глядя на их неожиданные рисковые трюки. Гай все ещё покрикивал на сестру во время тренировок, но гордился и опекал. Они всегда были вместе. Лэми до смерти ревновала, когда у брата появилась первая подружка – не могла понять, отчего он каждую свободную минуту бежит к этой невзрачной белобрысой девчонке. Ух, как она её ненавидела! – Перестань терроризировать брата. У него любовь, понимаешь? – объясняла ей тётка. – Да он просто помешался на этой Вики, – не унималась Лэми. – Спать домой не приходит, на репетиции опаздывать начал. Я ему говорю, чтоб не опаздывал, а он смотрит на меня и улыбается, как последний дурак. Вчера на представлении чуть с поддержки меня не грохнул. – Не грохнул же,– возразила тётя. – Ты и сама скоро в кого-нибудь влюбишься. Правда, правда. Не заметишь, как это случится. – И не подумаю, – надулась Лэми. – Эта твоя любовь делает из людей идиотов! Тётка хохотала до слёз. А Лэми обиделась. Так взъелась, что не подпускала к себе парней на пушечный выстрел. Нет, погонять в футбол или замутить чего вместе с ребятами, тут она была на передовой, но, если ловила на себе сальный взгляд, точки над «i» расставляла жёстко. Лэми окончила школу, когда случилось нашествие клиптиан. Человечество в то время только подбиралось к границам Солнечной системы. В том, что инопланетяне существуют, убедились, когда вышла на связь станция Совета миров, как выяснилось, Бог знает сколько времени болтавшаяся в поясе Койпера. Нас уведомили, что Совет не представляет угрозы и не намерен вмешиваться в жизнь земной цивилизации, но на все дальнейшие попытки установить с пришельцами более тесный контакт, станция отвечала молчанием. Земные исследовательские аппараты обесточивались, стоило пересечь невидимую границу в десять тысяч километров, то же случилось и с посланным к станции разведывательным десантом. Выживших пилотов долго пытались лечить, но так и не смогли вернуть им способности мыслить. Позабыв о межгосударственных распрях, люди начали готовиться к войне. На геостационарную орбиту в срочном порядке вывели оборонные комплексы. В недрах Луны в районе горы Малаперт, неподалёку от добывавших воду предприятий, началось строительство военной базы ВКС. Оказалось, беспокоились не зря. Спустя несколько лет над блином Солнечной системы, выпрыгнув из подпространства, возник вооруженный инопланетный линкор. – Покоритесь, или будете покорены, – размахивая перепончатыми лапами, по всем телевизионным каналам вещала пучеглазая чешуйчатая тварь, назвавшаяся проконсулом Клипты. Надо же, римлянин нашёлся. Просканировав на удивление хилую защиту вражеского флагмана, Земля дала залп с орбитальных рельсотронов. Линкор разнесло вдребезги, один из его обломков разрушил исследовательскую станцию, на которой в то время работал отец. Маме повезло, она проходила обследование на Земле. Вдогонку к этим страшным событиям пришла весть, что клиптиане не состоят в Совете миров: – Мы нейтральны к вашей войне. Мы наблюдаем, – заверял чужеродный голос. Сообщение облетело Землю. Правда, в лояльность таинственных пришельцев мало кто верил. Лэми поняла это из разговоров взрослых. Тётка частенько собирала у себя большие компании. Среди её знакомых, кроме циркового сословия, попадались учёные, журналисты и даже военные. Обычно, рассевшись за длинным столом, они много спорили на разные животрепещущие темы, но были единодушны в том, что загадочный Совет миров и нападение клиптиан – звенья одной цепочки. Тогда вообще все вокруг воодушевились. Лёгкая победа над вражеским линкором кружила головы и будоражила души. Когда в продолжение войны из подпространства посыпались группы маленьких клиптианских ботов, над горе-завоевателями откровенно смеялись. Наши истребители не дремали, лишь немногим клиптианам удавалось сбежать, не говоря о том, чтобы подобраться к Земле. Значит, победа не за горами. – С праздником, дорогая! – прервав поток воспоминаний, мама неловко повела плечом. – Спасибо, тебя тоже. – Я думала, ты заедешь. Посидим хоть немного. – Не сегодня, прости, как-нибудь в другой раз. Меня ребята ждут. – Как скажешь, дочка, – с заметным облегчением проговорила мама и отключилась, пожелав ей хорошо провести вечер. Теперь она старается быть милой, но утраченных лет не вернёшь. Узнав о гибели отца, Гай подался в пилоты. Лэми переделала номер на соло и с замиранием сердца ждала каждой связи с Луной. – Они будто играют с нами в войну, – делился впечатлениями брат. – Не боись, малая, всех переловим. Я тут на досуге придумал нам номер. Вернусь, закажем портативные гравидвижки, как детские «карлсоны», только мощнее. Тогда и полетаем. Судьба распорядилась иначе. Известие о смерти брата в бою настигло Лэми после представления. Она перечитывала сухие строчки сообщения и никак не могла понять, что там написано. Помчалась к тётке. Столкнулась с ней в коридоре – примятые волосы, размазанный клоунский грим, рыжий парик в руке, в глазах слёзы. Они вцепились друг в друга и простояли так, не в силах говорить, неизвестно сколько времени. Дом, где они с братом играли детьми, встретил пугающей мёртвой тишиной. Ночь прошла без сна. Укутанная тёплым пледом, Лэми зябла в кресле и чувствовала руки брата на своих плечах. Боялась шевельнуться, настолько явным было ощущение. Ждали маму, но та не приехала, сказав, что плохо себя чувствует. Наверное, Лэми до сих пор не может ей этого простить… Утром девчонка из цирка помчалась сдавать документы в лётную академию. Поступила, наплела тётке, что будет работать в обслуге лунной базы – хоть так помогать в борьбе с ненавистными клиптианами. Обман раскрылся, когда восьмёрка Лэми Аррах взяла в плен сразу пять клиптианских кораблей. Об этом гремели во всех новостях. Живописуя наши победы, СМИ старались вовсю, а люди роптали сквозь зубы: – Сколько можно, семь лет побеждаем и никак не победим. Дети, родившиеся в начале войны, уж в школу пошли. Чуть ли не в каждой семье похоронка, пояса затягиваем всё туже, а воз поныне там… Лэми оставила глиссер на площадке у дома – типовой одноэтажной коробки в звёздном городке академии – где жила, изредка возвращаясь на Землю. Задержалась у входа, вдыхая весенний ветер, полный ароматов цветения, каких ни за что не ощутить в благоустроенных подземельях Луны. Переступив порог, приказала обслуживающей системе распахнуть все окна и включить новостной канал, пусть себе бормочет. Заглянула в гостиную – голые стены, казённая обстановка. Лэми ничего здесь не меняла с тех пор, как получила жильё. Да и зачем? Это Сани любит всякие новомодные штучки. После войны всё искал повода сблизиться, но Лэми чётко дала понять, что между ними не может быть ничего, кроме дружбы. На ходу снимая с плеч комбинезон, она направилась в спальню. Загрузила одежду и обувь в приёмник дресспринтера и выбрала в меню копию платья, которое надевала каждый День Победы. В этом платье она впервые танцевала с Аррахом… Сначала, увидев, кого ему прислали вместо погибшего ловца, капитан едва не отправил девятнадцатилетнюю пигалицу домой на Землю. Мало что кожа да кости. Короткая стрижка «ёжиком» ради военного удобства делала её похожей на мальчишку-подростка. – Вы не имеете права, у меня диплом с отличием! – вскинулась Лэми. Аррах пригляделся к ней внимательнее, но медлил с ответом. Не зная, куда девать глаза, она принялась рассматривать нашивки на груди его комбинезона: молнии за сбитый, звёздочки за приведенный на базу с живым клиптианином на борту. Все золотые! Выходило, что на счету команды Арраха более ста кораблей! Капитан перехватил её взгляд, лицо осталось твердокаменным, но в самой глубине тёмных, чуть раскосых глаз Арраха мелькнула тень улыбки: – Ладно, отличница, идём. Покажешь, чему тебя научили. Воздушный гимнаст свободно ориентируется в пространстве под куполом цирка. Пилот, мозг которого работает с компьютером глайдера, как одно целое, не видит своего корабля. Это даёт идеальный обзор. Ощущение в полёте такое, будто натянул поверх своего тела ещё одно, массивное, управлять которым нужно с той же лёгкостью, как ходишь, прыгаешь и уклоняешься от препятствий в собственной биологической оболочке. Только всё это происходит в космосе, где, как известно, ни верха, ни низа. Лишь Солнце, Земля и Луна в качестве ориентиров. Боевой гравитационный глайдер слишком высокоманевренная машина, чтобы ждать пока человек нажмёт нужную кнопку или повернёт штурвал руками: выстрел, вираж, выброс магнитной ловушки – мозговые импульсы, полная концентрация, никаких посторонних мыслей. Кроме того, все перестроения и атаки в бою завязаны на капитана, руководящего передвижением своих ловцов, защитников и нападающих. За год ускоренного выпуска в академии глайдер Лэми освоила неплохо, но тактика хромала. Куда ей было до остальных виртуозов команды, ставших пилотами ещё до войны. В паре со вторым ловцом Сани Эргмонтом она часами отрабатывала маневры и перестроения. Рыжеволосый гигант проникся симпатией к настырной девчонке и помогал, чем мог. Остальные глядели сквозь неё. Лэми понимала, что внимание зубров Арраха надо заслужить, и старалась тянуться за ними, но без ошибок не обходилось. Когда во время тренировочного полёта Лэми едва не столкнулась с глайдером нападавшего, Аррах в выражениях не стеснялся. Краас настаивал на отстранении, но Сани вступился, и девчонку отдали ему на поруки. Стиснув зубы, Лэми без устали упражнялась на симуляторах, даже когда могла спокойно филонить: сутки через трое команда двенадцать часов проводила в готовности номер один, поднимаясь в небо по тревоге. Лэми оставалась одна в расположении команды – узком ответвлении коридора с клетушками кают. Капитан заметил рвение новенькой и через месяц взял её в бой. Лэми пришла на базу с уловом. За каждый бот с живой рептилией на борту команда получала хорошую премию. Девчонку зауважали, теперь с ней разговаривал не только Сани. Раз в году пилоты получали отпуск. Команда на месяц перебиралась из тесных кают базы боевого дежурства в пансионат, так же упрятанный глубоко в недрах Луны, но гораздо более свободный и комфортный. Кроме госпиталя там были оранжерея, бассейн, спортзал, а также множество увеселительных заведений для отдыхавших пилотов. В первый же вечер Лэми пригласили в танцевальный клуб, предупредив, что устроят ей официальный приём в команду. На радостях она вырядилась в облегавшее стройную фигурку платье, встала на каблуки, убила три часа, отращивая волосы на модуляторе причёсок, собрала их на макушке в высокий хвост и немножко подкрасила лицо. Дожидавшийся под дверью каюты Сани, увидев её, аж присвистнул: – Ты это, осторожней. «Наши» могут и накинуться с голодухи. – Ничего, я умею отбиваться, – озорно рассмеялась Лэми. Команда не ждала, что «сын полка» явится в столь неожиданном обличье. – Великий космос, это малышка Лэми? – первым прозрел Краас. – Вот это да! – поддержали его остальные. Аррах ничего не сказал, но Лэми заметила, что капитан посмотрел на неё совсем не так, как раньше. Обряд инициации прошел как по маслу. Лэми одним глотком осушила положенный стакан водки с солью. Дыхание перехватило с непривычки, но закашляться было нельзя – плохая примета. Пилоты очень суеверный народ. – Наш ловец! – громко сказал Аррах, протягивая ей кусочек хлеба на закуску. Не дожидаясь, пока кто-нибудь умыкнёт девчонку, Сани потянул её танцевать. Лэми не могла отказать верному другу, оказавшемуся вдобавок отличным партнёром в танце. Они так жгли рок-нролл, что сбившиеся в плотный круг пилоты восторженно хлопали вытворявшей акробатические трюки паре. Лэми увидела среди них капитана и вдруг обнаружила себя в его объятиях – верно в памяти случился провал. Они мерно покачивались под известную песню Люка Гробовски. Рядом колыхались другие пары… – Где ты научилась так танцевать? – не давая опомниться, шепнул ей на ухо Аррах. – Я из цирка, воздушный гимнаст, – пропищала Лэми и невольно поёжилась, горячее дыхание капитана щекотало шею. – Да ты ещё совсем маленькая, маленькая циркачка Лэми, – с необыкновенной нежностью сказал Дуг, крепче прижимая её к себе. Лэми почувствовала его запах, тонкий аромат деотика, смешанный с алкогольными парами и чемто ещё, терпким, горьковатым, волнующим. Вдыхала эту смесь, и пол уходил из-под ног. Господи, да она сейчас растает! Хорошо, Аррах на мгновенье ослабил хватку. Лэми смогла привести себя в чувство, иначе так и стекла бы на пол бесформенной лужицей. – Подожди, у нас тут уже был один циркач. – Гай? Ты знал Гая? – обрадовалась Лэми. – Имени не помню, все Циркачом звали. Видный парень такой. А кто он тебе? – глаза капитана вдруг сузились в пугающие щёлки. – Гай мой брат, – сама не зная, зачем оправдывается, поспешила ответить Лэми. – Он погиб два года назад. – Мне жаль, – кивнул Аррах, но взгляд потеплел. Как она раньше не замечала, что его глаза точно два бездонных колодца – раз заглянув в них, уже не вернуться? Он тоже всё понял, и было совершенно неважно, что произойдёт дальше, потому что устоять перед тем огромным, что без всякого спроса пустило корни в их сердцах, уже не могли ни его опытность, ни её невинность. Проснулись поздно. Кто-то настырно колотил в дверь: – Сани пришел, – тихо сказала Лэми. Аррах на миг прижал её к себе и начал одеваться, но прятаться не стал. Сани был вынужден отдать капитану честь на пороге её каюты, но стоило Дугу уйти, принялся отчитывать Лэми: – Ты с ума сошла? Разве не знаешь, Аррах женат, у него сын подрастает. – Сани, мне всё равно. Всё равно, понимаешь? – говорила, и с её лица не сходила та самая улыбка. – Глупая. Вот увидишь, Дуг проспится, поймёт, что натворил, а тебе будет больно. И тут же сообщение с Земли, обухом по голове: «Тётя Мина упала в обморок во время представления». Выслушав бледную, как стена, Лэми, Аррах подписал увольнительную на Землю. Оказалось – переутомление. Тётя почти не спала в последнее время, всё нервничала. У неё не ладилась новая реприза. Лэми всего несколько дней отсутствовала на Луне, торопилась обратно, а встречать её явился Краас: – У вас что, отношения с Аррахом? – огорошил вопросом, не успела выйти из посадочного терминала. – Какие отношения? Нет у нас никаких отношений, – солгала она, до корней волос заливаясь краской. – Молодец! – Краас склонился к ней и продолжил, понизив голос до шепота. – Если тебя вызовут давать показания, скажешь то же самое. – Куда вызовут? Какие показания? – едва не задохнулась Лэми. Оказалось, вчера в облюбованном командой клубе Сани на виду у всех зазвездил капитану в лицо. Аррах в долгу не остался. – Пятеро растащить не могли, сцепились слово за слово. Оба подвыпившие были. Сидят теперь в соседних камерах, герои. Аррах будет молчать. Думаю, Эргмонт тоже, но на всякий случай надо быть готовыми ко всему, – рассуждал Краас, вышагивая по каюте Лэми от стенки к стенке. – Если их переведут на Землю, считай команде каюк. Расформируют к чёртовой матери. Говорил я ему бабу не брать… Он сделал паузу, прежде чем спросить: – Вас с Аррахом кто-нибудь видел? – Только Сани. – Хорошо. Навещать не смей ни того, ни другого, поняла? Вечером пойдёшь с нами в клуб. Оденься как надо, и чтобы держала лицо. Лэми слушала и не могла поверить, как такое могло случиться, вернее, уже случилось из-за неё. До вечера просидела на полу, комкая неизвестно как оказавшееся в руках полотенце. Но в назначенный час заставила себя подняться. Трёх дней не прошло, Вера принёс весть, что их выпустили – недоразумение вроде улажено. Только Аррах спешно отбыл на Землю. – Надеюсь, теперь он тебя выставит, – напоследок сказал Краас. Потянулись дни ожидания: бесконечные, однообразные, пустые. Сани не казался на глаза, остальные пилоты команды делали вид, что её не существует. Днём Лэми спала или сидела в каюте, уставившись в экран, создававший иллюзию земного окна, а с наступлением ночи, надвинув на лоб капюшон спортивной курточки, пробиралась в опустевший спортзал. Привязывала эластичные ремни к укреплённому под потолком канату и тренировалась до седьмого пота. Не сомневалась – придётся вернуться в цирк. Сердце пропустило удар, когда, завершив раскрутку, однажды разглядела Арраха в дверях спортзала. Спускалась ни жива, ни мертва. Отдала капитану честь по всем правилам. – Красиво летаешь, – не обращая внимания на официальность приветствия, первым начал Дуг. Подошёл, взял за плечи, заглянул в глаза. – Почему ты дрожишь? Лэми изо всех сил старалась крепиться, но стоило оказаться в его руках… – Теперь ты выгонишь меня из команды? – сумела выговорить, из глаз брызнули предательские слёзы. – За что? – удивлённо сощурился Дуг. – Из-за всего. Мне сказали, что… – Кто сказал? – Неважно, – насупилась она. – Угу, значит ты у нас партизанка, – кивнул Дуг, в его глазах блеснули озорные искорки. – Вот что я тебе скажу: ты серьёзно вляпалась, очень серьёзно, потому что никуда я тебя не отпущу, даже если будешь проситься. Будешь, скорее всего, ведь в семейной жизни Дуг Аррах далеко не подарок. Наверное, поэтому от меня ушла Ана. – Куда ушла? – Лэми хлопала глазами не в силах понять, зачем он это сказал, но слёзы высохли сразу. – Ну вот, так-то лучше, а то вздумала сырость разводить. – Он улыбнулся и обнял так, что сердце зашлось. – Выходи за меня замуж. – Но ведь ты… ты… – вновь заливаясь слезами, залепетала Лэми. – Теперь свободен, – продолжил за неё Дуг. – Видишь ли, маленький ловец Лэми, мы с женой тянули с разводом только потому, что, как семья военного, они с сыном получали на Земле хорошие льготы. Сама знаешь, жить там сейчас непросто. Но теперь появилась ты. Честно скажу, давно мне так крышу не сносило. Эргмонт в растлители малолетних зачислил уже. – Больно? – Лэми тронула желтоватый след синяка на его щеке. – Не-а, Сани досталось больше, я сломал ему нос. – И ты решил на мне жениться из-за сломанного носа Сани? – Нечего совать его куда не следует, – хохотнул Аррах и вдруг посерьёзнел. – Теперь кроме шуток, Лэми. На Земле я мог бы ухаживать за тобой месяцами, но мы на войне. Отношения без статуса между командиром и подчинённой будут расхолаживать команду. Рассыплемся – костей не соберём. Знаешь, как мы потеряли ловца? Втюрился в местную певичку из бара. Та водила его за нос, как слепого котёнка. Я вовремя не одёрнул, думал, не имею права вмешиваться в амурные дела. И он подставился в бою, как первокурсник. Так что роспись завтра, в десять утра. Вопросы? Возражения? – Возражений нет, капитан. – Вот и отлично. Надеюсь, ты успеешь распечатать подвенечное платье? Ещё немного воспоминаний, и она останется дома. Какое платье? Краас со своим выродком напрочь убил настроение. Да и кому нужен этот маскарад? Дуга нет, этого ничто не изменит. Лэми дала команду дресспринтеру повторить рабочий комбинезон и ринулась в ванную. Теперь она – капитан Аррах, а капитану опаздывать не пристало. – Ты не переоделась? – удивился Сани, встречавший её на крыльце собственного особняка, изящного ромбовидного строения в окружении диковинного сада из карликовых деревьев, любовно взращенных руками бывшего ловца. В День Победы команда всякий год собиралась у него. Однако с тех пор, как Сани стал начальствовать в резервации клиптиан, после капитуляции «своих» попросивших земное гражданство, преданная дружба начала сходить на нет. Лэми с подозрением относилась к врагам, променявшим родную планету на сомнительные земные блага. Состав атмосферы не подходил им для дыхания, сила притяжения другая – Клипта вдвое меньше Земли. Спрашивается, чего им здесь прохлаждаться? Однако Сани проникся к ним уважением и без конца выбивал для своих питомцев всевозможные послабления и блага. – У меня дресспринтер сломался, – пожала плечами Лэми. – Идём, все уже в сборе. – О, капитан! Выпьем за капитана! – поднялся навстречу чернокожий нападающий Рено Зуум, за излишнюю болтливость носивший прозвище Бубен. – Привет, мальчики! – окинув сидевших за столом отставников тёплым взглядом, Лэми подняла бокал. – За нашу победу! – Ур-а-а! – в голос ответили ей. Стены комнаты провалились в космос – началась трансляция соревнований боевых десяток. Рассевшись на мягком полу, команда уставилась в голографические экраны. Горячо обсуждая неверные маневры молодых пилотов, присвистывая и улюлюкая, болели за десятку Анда Арраха. – Отлично, загоняй их, ребята. – Так их! – Давай! – Ты гляди, что он задумал! Твоя школа, Лэми. Вместе с последним выстрелом команда разразилась победным криком. После космических фейерверков изображение на экранах переместилось к сцене лунного театра, где для получения наград выстроилась десятка победителей. Трое – выпускники Лэми. Вытянувшийся в струнку Анд сейчас более всего походил на мать, белокурую красавицу Ану. Когда сын Арраха выбрал её в наставники, у Лэми душа ушла в пятки, но стоило познакомиться поближе, полюбила его всей душой. Ей не раз приходилось бороться с собой – выделять Анда среди других курсантов было нельзя. Впрочем, он выделялся и без этого, отцовская хватка проявилась в нём сполна. – Вечная память капитану Арраху и ловцу Грумо. Спокойного космоса вам, ребята, – взрезал консервы памяти голос Бубна. После вспоминали войну, пели под гитару, говорили за жизнь и потихоньку хмелели. Только Сани вёл себя странно, часто отлучался из-за стола, а вернувшись, никак не мог пристроиться к общему веселью. Лэми не раз ловила на себе острые иголки его взглядов. Ужели снова свататься задумал? И правда, попросил задержаться, когда, засидевшись почти до утра, стали расходиться по домам. – Тут кое-кто приехал, хочет с тобой говорить, – стоило последнему глиссеру скрыться в светлеющих небесах, с волнением в голосе заговорил он. – Ты пустил в дом Крааса? – предположила первое, что пришло в голову. – Причём здесь Вера? Я о нём давно ничего не слышал, – покачал головой Сани. – Нет, Лэми, тут другое… – Что другое? – Не что, а кто. – С каких пор ты разговариваешь загадками? – Пожалуйста, идём. – Говоря, он прятал взгляд и хрустел суставами пальцев. Лэми кивнула, сообразив, что происходит нечто из ряда вон. Минуя гостиную, Сани повлек её сквозь анфиладу комнат, остановился у дальней двери и постучал. Оттуда стукнули в ответ. – Это что, шутка? – улыбнулась Лэми, решив, что её разыгрывают. – Мне не до шуток, капитан. Я тут головой рискую, – пробормотал ловец. – Об одном тебя прошу, выслушай его до конца. Ты поймёшь. – Не найдя больше слов, Сани открыл дверь и мягко подтолкнул её в спину. Лэми переступила порог и обмерла, стоило разглядеть клиптианина в дыхательной маске, развалившегося на белом диване у дальней стены. Мороз продрал до костей – сталкиваться с врагом так близко ей ещё не приходилось. Пленных приводили на базу вместе с кораблём, и больше их не видели. Рептилия не шевельнулась, лишь выпуклые глаза с продольными зрачками пристально следили за каждым её движением. – Ты не изменилась, мой маленький ёжик, – послышался знакомый голос. Земля ушла из-под ног. Маленький ёжик? Так называл её только Дуг, и никто другой в целом свете не мог об этом знать! Сквозь тёмные круги перед глазами Лэми разглядела крохотный динамик, укреплённый на маске пришельца. – Тебе противно на меня смотреть? – взгляд продолжал гипнотизировать, острый кадык на шее клиптианина часто задвигался. – Что поделаешь, теперь твой Дуг такой. Дыхание пресеклось, голос сводил с ума. Его хотелось слушать и слушать, а глаза видели другое, и дикое несовпадение рвало её на части. – Как ты смеешь? – прохрипела Лэми. – Дуг погиб, я своими глазами видела взрыв. – Краас отстрелил пустой глайдер. Отключить защитный контур в бою не получилось. Пришлось разыгрывать показательное убийство. Зря пришелец помянул Веру. Лэми вдруг обрела ясность мысли. Голос можно подделать, а ёжик… и не такие тайны узнавали. Ища пути к отступлению, она невольно покосилась на дверь. Нет, нельзя показывать спину врагу. Дышать, только дышать. Выдержит, не маленькая. Пусть говорит. Главное: понять, что ему надо. – Зачем? – изобразив на лице заинтересованность, спросила Лэми. – Что зачем, Лэми? – рептилия дёрнула головой. Передаваясь от чешуйки к чешуйке, движение волной пронеслось по телу пришельца. Лэми едва удержалась, чтобы не скривиться: – Зачем нужно было тебя убивать? – Миссия «612». Секретная разведывательная операция в тылу врага. Послушай, времени у нас в обрез, дыхательная смесь через час закончится. Не успею вернуться в резервацию – умру. – Ей показалось, что рептилия усмехнулась совсем по-человечески. – Ну что ты там застыла, иди сюда, садись. Лэми сделала несколько шагов непослушными, ватными ногами и покорно опустилась на стул в полуметре от дивана. Скулы свело, клиптианин вдруг потянулся к ней своей омерзительной лапой, но вовремя одумался. – Прости, – махнув перепонками, лапа вернулась на место. – Помнишь, после нашей свадьбы меня и Веру вызывали на Землю? Я ещё удивлялся, зачем выдёргивают из отпуска, помнишь? Лэми кивнула. – Тогда я и узнал, что назначен участником миссии. Приказ утверждён и подписан, моя скороспелая женитьба по сравнению с важностью операции ничего не значит. Попытка уклонения влечёт за собой обвинение в дезертирстве. Мне сказали, что в ходе операции придётся пожертвовать собой, вроде как не этим я на войне занимался. – В голосе скользнули знакомые иронические нотки. – Правда, о том, что будут перекраивать в клиптианина, сообщили уже после выемки. Вера должен был стать капитаном, вторым номером я рекомендовал тебя. Новый кивок. Господи, только бы выдержать. Этого засланного казачка отлично подготовили к встрече. – Нам не зря так хорошо платили за пленных, Лэми, – продолжил он, будто не замечая, что с ней творится. Вот, сволочь, и прокололся. Дуг видел её насквозь. – Это называется целенаправленная мутагенеция. Год в секретном военном санатории, и получается то, что ты видишь. Нас было триста, выжили меньше половины. Пока мы заново учились ходить, клиптиане, вместо которых нас всучили под видом передачи пленных, натаскивали нас пилотировать подпространственные боты. Несмотря на кучу отбитых кораблей, нуль-переход нашим учёным не давался, а мутагенеция разрабатывалась давно. Война затягивалась, население роптало, спецслужбы придумали хитрый способ внедриться на Клипту. – Но Клипта капитулировала. – Ничего подобного! Клипта вымерла, мы были носителями смертоносного вируса, жаль только поняли это слишком поздно. Никто из «наших» не заболел. Я не знаю, кто из земных правителей принимал это дикое решение, но под миссию отбирали лучших из лучших. Теперь держат в резервации, точно преступников. Вроде на свободе, а далеко не уйдёшь. Даже Сани со всеми его полномочиями не смог раздобыть мне дополнительную маску. – Что ты сказал? – вскочила Лэми, терпение лопнуло. – Вы тут жрёте, пьёте, вам создают условия, а ты, мерзкая тварь, мало того, что играешь со мной в Дуга, так ещё и пытаешься настроить против собственной планеты? Хочешь завербовать меня, да? – Завербовать? Какая глупость! – вскричал клиптианин, тяжко поднимаясь на задние лапы. – Я предупредить тебя пришёл. Совет миров требует восстановить популяцию на Клипте, иначе грозится принять жёсткие меры. Никто не знает какие, но поджилки уже затряслись. Закавыка в том, что среди нас нет женщин. Клиптианки никогда не воевали. Сани видел твоё имя в списках на мутагенецию… – И слушать не хочу, – прервав его на полуслове, Лэми одним прыжком оказалась за дверью. Сани был здесь и преградил дорогу: – Остановись, послушай, я всё объясню, – пытаясь схватить её за руки, заговорил ловец. – Хватит с меня объяснений. И ты повелся на их дешёвые штучки? Совсем с ума сошел? Дай пройти, или я за себя не ручаюсь. Бывший друг отступил. Лэми бросилась к выходу. Успеть, только бы успеть. Оказавшись на крыльце, позволила себе оглянуться – в доме тихо, погони нет. Впрочем, до глиссера добрых двести метров по карликовому саду, укрыться негде, один прицельный выстрел из окна, и концы в воду. Инком она оставила в машине, будто пуговица связи могла оттянуть карман. Сани знал эту её идиотсткую привычку, сказал, что рискует головой. Значит, терять ему нечего. Она думала, война калечит людей, но что с ними делает мирное время? Время! Надо добраться до глиссера. Лэми набрала полную грудь воздуха и помчалась навстречу поднимавшемуся из-за горизонта солнцу. Стоило поднять машину в воздух, на экране замигала иконка Сани. Трезвонил без перебоя, пока не загнала его в чёрный список. Добравшись до дома, отправила сообщение по красному коду. Дважды переписывала донос. Вдруг вспомнилось: сразу после войны ей предложили набрать новую десятку. Лэми пыталась отстоять команду – не вышло. По выслуге лет всем, кроме неё, пора было на заслуженный отдых. Тогда она подала в отставку и получила место в академии. Ответ пришел через час. На связь вышла женщина средних лет в сером гражданском костюме, озвучила приказ командования прибыть в управление разведывательной службы к десяти часам, прислала адрес и отключилась. Лэми примчалась, как вихрь. На проходной её ждала та самая женщина. Представившись координатором проекта, она препроводила именитую наставницу в тесную комнатушку, сказав, что прежде необходимо уладить некоторые формальности. На стол лёг документ о неразглашении информации строгой секретности. Пришлось подписать. После этого Лэми оставили наедине с голографическим экраном, на котором спустя секунды появилась заставка: «Миссия 612». *** Вернувшись из академии, Вера весь день провозился с цветными стёклышками в своей мастерской. Составлять витражи когда-то научил отец, теперь это трудоёмкое занятие спасало в трудные минуты. После трибунала его перевели в секретную службу, пришлось познакомиться с мерзкой изнанкой войны, так что от прежнего патриотизма осталась обида за ребят, грудью защищавших планету от не существовавшей клиптианской угрозы. О том, что театр военных действий был всего лишь представлением, а кукловодом войны являлся Совет миров, разведка знала давно – пленные клиптиане легко шли на контакт, только никто из них не имел понятия ни о причинах подобного спектакля, ни о целях загадочного Совета. Посему информацию засекретили и продолжали играть по навязанным чужаками правилам, обманывая население собственной планеты, пока не придумали мощный ответный ход. Краас, скрепя сердце, исполнял приказы и сочинял доклады начальству, понимал, что даже если станет выкрикивать правду на главной площади столицы, ему никто не поверит, в лучшем случае до конца дней упрячут в психушку. Уж лучше бы он остался в команде, там всё было просто и ясно – враг впереди, Земля за спиной. Он задумался, обтачивая белёсое стёклышко, и не услышал, как распахнулась дверь мастерской. На пороге стояла жена. Встретившись с ним глазами, отчитала за сына и, громко хлопнув дверью, уехала к сестре. Мио ушел, не прощаясь. Пришлось праздновать победу в одиночестве. Давно он так не напивался. Опорожнил три бутылки и начал четвёртую, изливая душу в безмолвие опустевшего дома. Утром обнаружил себя на коврике в отхожем месте. Самое оно для блестящего пилота, которому прочили капитанские крылышки, а после бортанули, назначив мальчиком на побегушках. Краас принял холодный душ, выпил крепкий чай и до вечера завалился в постель. Снилась какая-то жуть. Вражеский бот тянул его на магнитном аркане. Оставалось сбросить давление – наши пилоты в плен не сдаются. Но Вера медлил, одновременно сгорая от стыда и бешеного желания жить. Пусть даже рабом на Клипте, вращавшейся вокруг голубого гиганта на окраине Большого Магелланова Облака. У чёрта на рогах, хоть где, только бы жить! Он зажмурился, мысленно отдавая машине последний приказ. Настырная трель инкома вырвала из кошмара. Звонок по защищённому каналу. Вера ругнулся, натянул на себя вместо пропотевшей свежую футболку и поплёлся в зал отвечать. – Привет, старина. Что такой помятый? – Отметил… победу, – махнул рукой Краас. – Как у тебя вчера прошло? – Хуже некуда, – Аррах помолчал немного. – Она решила, что я – посланец клиптианских врагов. – Можно представить, что будет дальше… – С Эргмонтом, – продолжил за него Дуг. – Я надеялся, Лэми поймёт, что-то совсем отупел в последнее время. – Не ты первый, – хмыкнул Краас. – Я тоже вчера пытался с ней поговорить. Отделала по всем правилам. Погоди, я перезвоню, тут гостей принесло на ночь глядя. На пороге топталась бледная, как смерть, Лэми: – Прости… – проговорила одними губами. – Ты получила доступ? – сообразил Краас. Лэми коротко кивнула. – Ничего, я понимаю… – Он осторожно сжал в ладони её холодные пальцы, потом отпустил. – Давай, заходи, моих дома нет. – Мио будет учиться у меня. Думаю, ему уже сообщили. – Лэми подняла на него взгляд. – Нальёшь чего-нибудь покрепче? – Без проблем, капитан. – Краас провел гостью в зал, усадил на диван и, прежде чем отправиться в кухню, отправил вызов. – Ну что, спровадил своих гостей? – продолжил разговор Аррах и осёкся, разглядев, кто сидит напротив. – Господи… – прошептала Лэми, подхватываясь с места. Подошла к экрану, стала ощупывать страшно изменившееся лицо Дуга, будто слепая. Аррах протянул руку, силясь дотронуться до мягких иголочек её волос: – Сани говорил, ты до сих пор одна. Про платье рассказывал тоже. Я побоялся, что можешь согласиться на мутагенецию. Тебе уже предлагали? – Стать клиптианкой? Да. Сегодня всучили договор. – Не подписывай, – вскочил с места Дуг. – Ты не представляешь, что это такое. – Представляю, я видела ролик… – Значит, видела. Видела она! Этого врагу не пожелаешь, Лэми. Сначала кожа зудит так, что содрал бы её с огромным удовольствием, а руки обездвижены – не почесать. Лежишь и дёргаешься на гравитационной подушке в коконе стерильной барокамеры, куда нет доступа ничему живому. Малейшее заражение – смерть. Потом кожа слезает пластами, гной течёт отовсюду, даже из глаз. Кости и суставы выворачивает наизнанку так, что перестаёшь понимать кто ты, что ты, зачем ты. Вдобавок задыхаешься, потому как процесс изменения организма достиг уровня, когда земная атмосфера становится отравой. Дыхательную смесь всё время меняют, но пока находят подходящую… – Почему у тебя губы не двигаются? – накрыв его щелеобразный рот ладонью, вопросом перебила Лэми. – Ах-ха, ты только заметила? Я говорю с тобой через динамик, гортань клиптианина не может воспроизводить человеческую речь. – Скажи что-нибудь по-клиптиански. Дуг приподнял голову, изо рта высунулся тонкий синюшный язык. Послышались отрывистые щелчки и пришепётывания. – Ух ты! – хлопнула в ладоши Лэми. – Расскажи, как там на Клипте? – Не хуже, чем на нашей старушке. Красиво, но всё по-другому: озёра, деревья огромные, солнце ярче. Ясный день для них стихийное бедствие, зато, когда идут дожди, все нежатся в струях воды, как мы на пляже. Клиптиане не строят городов, живут в природных гротах, освещённых радужной слизью. Живут и не пересыхают, так там говорят. Говорили, пока не явились мы… Передавали информацию первое время… Потом… – Он отвернулся, перевёл дыхание. – Самое страшное, что им вовсе не нужно было нас завоёвывать. – То есть как? – А так, они могли сделать нас одной левой, но сражались на нашем уровне. Их боты мало чем отличаются от наших глайдеров. Война для них нечто вроде инициации для клиптианских мужчин или замена естественного отбора. Как я понял, Совет миров давно использует эту их особенность в своих целях. Мне кажется, так они проверяют цивилизаций на вшивость. – Вот как. И мы не прошли проверки? – Да кто его знает. – Он помолчал и вдруг спросил: – Так что там с договором, Лэми? В комнате повисла напряжённая тишина. – Проект рассчитан на пять лет, как раз успею выпустить группу, – наконец выдавила Лэми. – Откажись! Они не могут тебе приказать. – Я выживу, я постараюсь, правда… – Аррах, меня б так любили, – вклинился в разговор Вера, разливавший по стаканам скотч. – Ну что, капитан, за любовь, чтоб её! Осушив стакан, Лэми заметила, что глаза у нападающего на мокром месте, и вся подобралась. – Блин, я даже напиться теперь не могу, – злобно прошипел Дуг. – Завидуй молча, – махнул на него Вера и посмотрел на Лэми. – Эргмонта теперь посадят? – Не посадят, – возразила она. – Я его имени не называла. ПОСЛЕСЛОВИЕ Спустя три года капитан прославленной боевой восьмёрки, герой Клиптианской войны Лэми Аррах погибла при странных обстоятельствах. Глайдер именитой наставницы на выходе из шахты зацепился за заклинившие крепления и взорвался на взлёте. Машину разнесло в пыль. Артемий Дымов Сознание 2.19 «Нарушитель». Машина знакомо и бесстрастно изрекла это слово в ушной имплантат, и М-19 проснулась. Дыхание пульсировало во влажной тьме. Пальцы заскользили по металлу, но только лед отслаивался под ногтями. Чертова ручка экстренной разблокировки не желала поддаваться. Заклинило. М-19 облизнула потрескавшиеся непослушные губы. Почесала запястье, раздирая онемевшую после заморозки кожу. ― Чтоб тебя… Ее слова повисли в тесном пространстве капсулы и осели конденсатом на стенках. Блок вентиляции мертво молчал. М-19 надавила языком на внутреннюю сторону щеки, и под кожей мягко лопнул шарик седативного. Паника никогда и ничему не помогала. Она откинулась на пропитанное влагой ложе из бипрена,― «лучший выбор для вашего корабля», как заявляла реклама,― подтянула ноги к груди, поставила пятку ботинка на рукоять блокировки и ударила, сверху вниз. Подошвы прочертили по металлу дугу, соскользнули в лужу на полу. Лишь бы не отломилась. М-19 ударила снова. Уловив тихий щелчок, она из последних сил саданула по двери и вывалилась на белый пластик крио-отсека. На него она и опорожнила желудок, отторгнув голубоватый физиогель. *** Корабль глухо вздыхал и поскрипывал переборками; негромкий "ночной" свет вздрагивал в такт шагов. М-19 перевела окуляр в тепловой режим, коснувшись вживленной в висок пластины. Увеличила резкость, приложила запястье к колонне сканера у лифта главной оси. Алый зайчик скользнул по чипу. В глубинах шахты, словно в толстой кишке, заурчало и залязгало. Спустя минуту ожидания двери отъехали в стороны, и М-19 шагнула в тесную вытянутую ячейку на три сидячих места. По привычке пристегнула себя к центральному, самому потертому, и надавила на сенсорный экран браслета. Лифт рухнул по вертикальной оси корабля, в голубоватый, клубящийся сумрак. За стеклом высверкивали огни уровней, ухо заложило, ноги приподнялись над полом. На миг М-19 потеряла ориентацию; казалось, она летит вниз головой ― а затем снова в нормальном положении. С годами, проведенными на борту, организм научился быстро подстраиваться к смене гравитационных центров. На середине оси лифт остановился. Щелкнули тормозные колодки, двери всосались в стены кабины. Снаружи царил сонный полумрак капитанского уровня. Именно на нем датчики отметили движение. М-19 простуженно шмыгнула носом, свернула голографическую карту ― та втекла обратно в ленту браслета ― и шагнула на неон аварийных полос. Капитанский уровень опоясывал корабль точно посередине, его гладкие безликие стены закруглялись, повторяя окружность внешней обшивки главного блока. В белом пластике темнели впаянные, столь же безликие двери. Краем глаза М-19 отметила старую дырку от выстрела, с угольными оплавленными краями. Шаркнула ногой, отбросив с дороги металлический цилиндр, пропущенный системой уборки. Или… Она присела на корточки, ухватила цилиндр и заглянула в его полое нутро. Ей подмигнул красный огонек. Как наглый глаз чужака. М-19 отбросила чужеродный датчик за плечо и ускорила шаг. Заметив движение в сумраке за поворотом, она положила руку на пояс, рядом с ребристой рукоятью «скорпиона». Впереди ступал мужчина; пружинисто и слишком мягко для своих габаритов. Он обернулся. В свете аварийной подсветки зеркалом блеснула тесная маска пилота с усами проводов и трубок. М-19 получила выстрел в бедро, не успев вытащить оружие из-за пояса еще влажного криокостюма. Она подалась в боковой коридор и вжалась в стену, задыхаясь от боли и гнева. Выстрелил в нее! Этот сукин сын, он прострелил ей ногу! Она перехватила рукоять пистолета и прислушалась. Вдавила кнопку на запястье, и на изнанку искусственного глаза легло изображение, передаваемое с ближайших камер. Главная окружность капитанского отсека пустовала в обе стороны. Тускло светилась линия освещения. Карта тоже пустовала, ни единого признака жизни, кроме самой М-19. Никого. Сбежал. Она поднесла браслет к губам. ― Я найду тебя,― передала по громкой связи, кривясь от боли. ― Ты ― труп. Динамики, спрятанные под линией освещения, повторили сказанное с точностью до вздоха. М-19 перетянула бедро ремнем и поковыляла на поиски аптечки. В капитанской рубке должна была заваляться одна. *** Незваный гость, может, и выучил схему корабля, но М-19 знала ее куда лучше. Замотав рану регенерирующим бинтом, она влезла в спецкостюм, включила режим маскировки. Натянула капюшон и закрепила маску на лице. Та прилипла второй кожей, посерела, сливаясь со стенами и металлической установкой навигации. М-19 проверила исправность пистолета, пальнув в кадку с уродливой пластиковой пальмой. Та задымилась, в отсеке повисла химическая вонь. Нарушитель ее спокойствия, конечно, пальмой не был, но "скорпион" прожигал всех на удивление одинаково. Гостя она нашла спустя несколько часов на первых уровнях корабля. Он осматривал систему блокировки двигателей, вводил пароль за паролем, а система выдавала ему отказы. Сообщения о попытках взлома на браслет не приходили ― похоже, охранную систему удалось отключить. Чужак метался между двумя голографическими панелями на ярко освещенных стенах, его длинные пальцы скакали по кнопкам со знаками на общегалактическом. Внезапно он замер, словно чуя на себе взгляд. Опустил руку к бедру с пристегнутой кобурой. Блики застыли на облитых смолой костюма мышцах спины. М-19 подалась за угол, подволакивая онемевшую ногу так быстро, как могла. Вжалась лопатками в ледяные переборки, прислушалась, касаясь губами ствола «скорпиона». Он крался недалеко. М-19 чуяла его поступь загривком. Она придвинулась к световому блику главной оси. Линию аварийного освещения укрыла тень, размытые очертания головы. М-19 плавно сняла палец с кнопки предохранителя, и пистолет едва ощутимо завибрировал. Повысила чувствительность окуляра до максимума. Тепловой контур чужака приблизился, стал ярче и четче. Выстрел сжег его маску вместе с лицом. Он даже не успел нажать спусковую кнопку. Тело рухнуло, заливая кровью подсвеченный пластик, ноги пару раз дернулись, проскребли пятками и обмякли. Аварийные датчики вспыхнули алым, однократно. Так они делали всегда. М-19 убрала "скорпиона" в кобуру. Опустилась на колено и задрала забрызганный алым рукав убитого. Как она и думала, под ним бугрилось сизое клеймо. На сей раз номер тридцать два. Вздохнув, М-19 поднялась, ухватила тело С-32 за укрепленные армобинтами щиколотки и потащила вниз по коридору. Его руки безвольно мотались на поворотах, чертя пальцами ядовитоалый след на плитах. Раненая нога ритмично пульсировала болью, эхо шагов отзывалось от пустых стен с безжизненными язвами отсеков. У лазурной двери пищевого блока М-19 остановилась. Выпустила чужие ноги, ― те глухо брякнулись, щелкнув застежками ботинок,― и набрала код на сенсорном экране. Дверь бесшумно всосалась в стену, выпустив волну оглушающего смрада. М-19 вытянула из воротника маску и закрепила ее на бритом затылке. Ухватила С-32 под мышки и втащила внутрь, переступая через истлевшие конечности сваленных в кучу тел. Поднатужившись, она забросила убитого на край гниющей пирамиды. Хрустнула кость чьей-то руки, и пирамида чуть просела, выпустив кромку грязно-бурого сока. Она осмотрела сплетение плоти взглядом опытного скульптора. Покачала головой, вышла и сдернула маску. Сколько же времени она моталась по отдаленным парсекам? И неужели ее смерть все так же была нужна? *** Корабль пришельца уплывал в беззвучную тьму. Бортовые огни молчали ― М-19 предусмотрительно отключила их. Чужакам она не была рада, никогда. Пора было заканчивать эту карусель. Она провела пальцами по ледяному иллюминатору. На информационном экране мигал новый курс, в одно давно покинутое, но не забытое место. М-19 синхронизировала таймер капсулы с системой навигации и опустилась на бипрен ложа. Закрыла глаза и медленно отпустила кнопку блокировки. *** Столица Глизе-667-Сс встретила ее ливневым дождем. Потоки воды умывали ветровое стекло, забурлили под соплами при взлете. С щелчком спряталось шасси, и "каир" поднялся в воздух, неловко качнувшись. Проклятая колымага, в космопорту осталась лишь она и ей подобное дешевое старье. Но М-19 торопилась и не могла позволить себе долго выбирать. К тому же новой машиной ― М-19 покосилась через боковое стекло на летящую мимо железную осу ― она вряд ли смогла бы управлять. Полученным ею знаниям было слишком много лет. «Каир» спустился с третьего уровня округа на первый. Свернул от небоскребов и жилых колонн ― дешевого жилья, что служило опорой верхним слоям города. Дальше лежал пригород с зеленым ковром парков. М-19 припарковалась на углу невысокого заборчика, старомодного, под чугунное литье. Искомое имя числилось по данному адресу, но, как М-19 ни старалась, не могла углядеть ни одного дома. Лишь ровный искусственный газон и оранжевый хром купола столичного колумбария, мокрого и сияющего в лучах проглянувших светил. Она сунула за щеку свежую пилюлю химической дряни, и назойливая боль в бедре отступила. Застегнув куртку под горло, М-19 пинком распахнула дверь старого «каира». По лицу скользнул яркий, непривычно теплый луч; пахло травой и ушедшей грозой. Где бы он ни прятался, он выбрал себе отличное местечко. *** За тонированным стеклом под заунывную музыку плыли ящики с табличками. Украшенные пыльными цветами, какими-то символами и нелепыми завитками. Отыскав нужные имена, М-19 надавила кнопку, и карусель замерла, качнувшись. Умерли. Уже как сотню лет тому назад, вот же незадача. Видать, не помогли все омолаживающие операции и процедуры, которые они посещали чаще, чем собственного финансиста. Многие альфа-версии баловались Игрой, спасибо новой имперской программе по предотвращению насилия и противоправных действий. Хотите задушить шефа? Подраться с мужем без риска для здоровья? Нет ничего проще. Скиньтесь с ним на пару раундов Игры, устройтесь поудобнее и смотрите. Ведь конфликты нужно решать цивилизованным путем. Ведь клоны ― не люди. Бета М-19 всегда надеялась хоть глазком увидеть свой оригинал. А теперь... Лишь ящик с выпуклыми рюшами на железном углу. С легким раздражением она хлопнула по кнопке, и карусель продолжила свой неспешный ход. У выхода она остановилась и прислушалась. Перевела окуляр в боевой режим. Тепла он не выхватил, на сотни шагов вокруг выделялись лишь лампы да кофейный аппарат у лавки на аллее. Остальное, нагретое весенним солнцем, казалось ровно апельсиновым, как сопла шаттла. И часть рыжего марева двигалась. Удар М-19 нанесла первой. Расставила пальцы, выпустив вшитые в перчатки крючья, и вспорола маскировочный костюм врага, одним рывком сделав его видимым. Отпрыгнув, она нацелила «скорпиона» в полупрозрачную голову ― воздух преломлялся у остатков защитной ткани, и очертания тела можно было угадать по едва заметной ряби. Противник тоже снял палец с предохранителя. Медленно стащил маску и капюшон, открыв давно знакомое лицо. Таким он был вшит в ее память; с упрямо сведенными черными бровями и поджатыми губами. Над переносицей очертился гневный залом, желваки гуляли по щекам, будто С33 пережевывал собственные зубы. Все они были качественными клонами. Все они точно передавали черты и манеры оригиналов. Вот только оригиналы померли. М-19 выдохнула и опустила пистолет. Заложенная в ней цель утекла вместе с механической каруселью и тесными коробками, в которые впихнули альфа-версии. Остальное лишилось смысла. Вот сейчас, подумала она, глядя смерти в металлическое аккуратное дуло. Сейчас он надавит кнопку спуска. С-33 опустил оружие. ― Я пытался тебе сказать,― он кивнул на латунный купол колумбария. ― Ты не слушала. Нас забыли вывести из программы. М-19 кивнула, не отрывая взгляда от упрямых губ. Сощуренных серых глаз. Гневного залома над переносицей, который разгладился, когда она шагнула ближе. ― Они тоже редко друг друга слушали,― сказала она, улыбнувшись, и протянула ладонь. ― М-19. Будем знакомы. Элизабета Левин Экскурсия в музей Tempora Insensata Перестроить человека куда труднее, чем систему управления государством. Илья Эренбург К сегодняшнему уроку преподаватель Демиров готовился всю свою жизнь. И вот свершилось – после многолетних колебаний, споров и обсуждений, в первом году 41 века всеобщее собрание родителей и педагогов специальной исторической школы разрешило первый пробный визит выпускников в Музей Тempora Insensata. Музеи начали распространяться по всей Земле 2500 лет тому назад, в период так называемого Ренессанса. По общепринятой сегодня естественной хронологии (*) это произошло в прошлом Зодиакальном цикле (**) Феникса, когда соединения Нептуна-Плутона перешли из земного знака Тельца в воздушный знак Близнецов. Тогда же на Земле распространился новый тип рационального человека – любознательного естествоиспытателя и гуманиста. Последовавшие за этим поколения с удивлением оглядывались на прошлое человечества, не понимая, как люди могли существовать на протяжении пяти мрачных лет Феникса в земном знаке Тельца (1071 г. до н. э. – 1398 г.). Позднее этот период получил название Terra Incognita, так как в те далекие дни все, что было связано со стихией Земли – форма Земли и место Земного шара во Вселенной, очертания материков и строение материи, анатомия и физиология человека – оставалось таинством для людей. Отдельные носители высшей премудрости, такие как Эмпедокл и Аристотель, были и тогда уже посвящены в тайны четырёх стихий или первооснов мира: Огня (интуиции), Земли (вещества, материи), Воды (чувств), Воздуха (мышления). Тем не менее, в тот темный период человечества практически все усилия направлялись на углубление в стихию Земли. Перелом произошел в первом году Феникса в воздушном Знаке Близнецов (1398 - 1891 гг.). Земля в человеческом сознании окончательно стала круглой, атомное строение вещества стало очевидным, а анатомические атласы стали общедоступны с раннего возраста. Мысль неустанно постигала материю, демонстрируя свое превосходство и власть над ней. О том, как это происходило и о самих открытиях наглядно свидетельствовали экспонаты музеев, связанных с периодом познавания Материи Разумом. К этим храмам познания, сохранявшим историю периода Terra Incognita, причислялись археологические, этнографические, исторические, краеведческие, зоологические, геологические, научные или художественные музеи. Объединяло их одно – материальная суть безмолвных и бездушных экспонатов. Утверждая свое всесилие над материей, разум, тем не менее, не проникал в область чувств. Для него существовало лишь то, что поддавалось определению и измерению. В результате мысль оставалась еще целых четыре года Феникса (1891 - 3863 гг.) слепой и глухой по отношению к чувствам, к душевным порывам и к музыке высших сфер. Впоследствии весь этот бесчувственный период человечества вошел в историю под названием Тempora Insensata. Очередной скачок в сознании человечества был связан с началом Зодиакального цикла Феникса в Раке – первом водном знаке Зодиака, сопряженном с чувствами. Тогда на Земле стали рождаться поколения, для которых Чувства осознанно преобладали над Разумом. Каждая мысль в восприятии новых поколений окрасилась в соответствующую эмоциональную окраску и завибрировала в тон с музыкой небесных сфер. Этот процесс перерождения протекал болезненно и медлительно, и его поэтапную историю хранили экспонаты музеев Тempora Insensata. Как и музеи времен Тerra Incognita, музеи типа Тempora Insensata должны были играть двоякую роль в становлении нового человека. С одной стороны, в них нуждались в качестве учебных пособий для молодежи, а с другой стороны, они служили архивами для исследователей. Но, как и в период Terra Incognita, создатели очень скоро убедились в том, что музеи могут быть опасными для душевного здоровья посетителей. К сожалению, музеи Terra Incognita неадекватно влияли на чрезмерно рациональных людей, вызывая у них психические расстройства типа синдрома Стендаля. Впервые этот синдром был изучен итальянским психиатром Грациэллой Магерини в конце 20 века. Оказалось, что при виде великих произведений прошлого, некоторые посетители страдали от головокружений, сердцебиений, галлюцинаций, острых приступов истерии, сопровождавшихся вспышками гнева и отчаяния. При контакте с идеальными и совершенными творениями прошлого людей захлестывали неподвластные им эмоции и страсти, приводившие их либо к тяжелой депрессии и отсутствию дальнейшего желания жить и творить, либо к яростным порывам гнева и попыткам уничтожения непостижимых и недостижимых шедевров. Перед руководством музеев стояла сложная задача – как заранее выявлять потенциальных жертв всевозможных музейных синдромов, и как предотвращать кризис у детей. Как известно, у детей эмоциональные травмы сказываются тем тяжелее, чем в более раннем возрасте они приобретены. Долгое время нижняя граница разрешенного возраста для посещения музеев Тempora Insensata устанавливалась по шкале умственного возраста Бинэ-Симона. Затем оказалось, что эти тесты, успешно определяющие ментальную зрелость, никак не отражали истинную зрелость чувств. Более поздний Тета-факторный анализ Делоне-Демирова, предлагавший комплексный подход к превентивной диагностике, давал более надежные результаты, но оставался слишком трудоемким и потому был отклонен Высшим советом по делам воспитания и обучения ребенка. Объявляя о дате похода в музей, Демиров внимательно следил за цветовым пультом контроля эмоций. Как воспримут это сообщение ученики? Не зашкалит ли где-нибудь опасный пурпурный оттенок азарта или грязно-лиловый оттенок испуга? Но нет. Все личные сенсометры переливалась радостными бирюзово-лазурными оттенками цвета морской волны. Прикрепленные к ним чувствительные тонометры подкрепляли цветовые показания аудио контролем. Озвученное настроение школьников напоминало журчание искристого источника ключевой воды, что в точности соответствовало норме. Подростки по-детски радовались возможности выйти за пределы школы, посетить незнакомые места и получить новые впечатления. На показания своего личного сенсометра Демиров смотреть боялся. Мысленно он еще и еще раз перебирал все детали плана экскурсии и, глядя на своих учеников, пытался предугадать, как изменятся показания сенсометров и тонометров каждого из них при виде древних экспонатов. Как поведут себя чувства детей, родившихся в Эпоху Великих Сенсуальных Открытий, оказавшихся в античном мире, отличавшемся поголовной асенсией, атонией и амузией? (***) Как жаль, – думал Демиров, что нет никакой возможности воспроизвести первые рудиментарные чувства, спонтанно возникавшие в людях того периода. Лишенные цветовой переливающейся оболочки чувств, поблекшие ряды отжитых мыслей и идей, заключенные в книгах или картинах, представляли собой лишь скелеты чувств, и могли потрясти детей омертвением закостенелости. Залы просмотра звуковых фильмов с их отжившими законсервированными, неконтролируемыми страстями и фальшивыми эмоциональными тональностями могли выглядеть в глазах детей устрашающими мумиями. Поведение героев фильмов, глухих к чувственному уровню мира, может вызвать у неподготовленных подростков реакцию отвращения, презрения или даже ужаса. Все ли меры предосторожности были соблюдены? Конечно, ответственность за меры безопасности возлагалась, прежде всего, на руководство и сотрудников музея. Именно они возложили на себя непростую задачу оберегать, поддерживать и демонстрировать экспонаты музея так, чтобы при этом не нарушалась экология чувства окружающей среды или гармоничность внутреннего мира посетителей. Здание музея было построено лучшими архитекторами Эпохи Великих Чувственных Открытий. Центральное помещение выглядело снаружи идеальной сферой. Все внутренние залы, перегородки и галереи были округлыми, и во всех пропорциях царили совершенство и гармония. Особое внимание уделялось созданию личного изолированного пространства для каждого посетителя. Каждому входящему в музей полагалось надевать на себя полупрозрачную цветовую пленку, обеспечивавшую максимальную защиту находящегося в ней человека от внешних эмоциональных, световых и акустических возмущений. Самые опытнее эксперты в области прав и защиты чувств человека проверяли эффективность пропускания пленки. Она должна была фильтровать все негативные эмоции, попадающие на нее снаружи, но пропускать и направлять на специальный контрольный пульт все эмоции, испускаемые обволакиваемым ею человеком. Общий вид залов музея, заполненного посетителями, экскурсоводами и служителями, напоминал купол планетария, под которым искрились и переливались разноцветными оттенками десятки громадных мыльных пузырей. Легкость, тонкость и высокая полупрозрачность защитных пленок создавали чувство комфорта и уюта. Сверхновые материалы, созданные специально для этой цели, ни в чем не сковывали свободы движений, но не позволяли посетителям приходить в контакт друг с другом, общаться или делиться впечатлениями в стенах музея. Такие предосторожности были особенно важны для предотвращения нежелательного эффекта толпы или волновых эпидемий ажиотажа, экстаза, оскорбленных амбиций или болезненных чувств. О том, что чувства передаются легко и могут быть чрезвычайно заразительными, знали уже в глубокой древности. Заразительные свойства смеха интуитивно вводились в лечебные процедуры смехотерапии, а легко передающиеся волны ненависти искусно использовались диктаторами для разжигания национальной, расовой или идеологической ненависти. Особой резонансной силы эти эмоции достигали тогда, когда большое число легковозбудимых и не вовлеченных в творческий процесс людей одновременно подвергалось напряженным и противоречивым воздействиям среды. В отсутствии позитивного созидательного развития люди начинали функционировать в режиме, названном впоследствии "анти"-фазой, и тогда вступал в силу первый закон Гюго: "Люди ненавидят. Надо же что-нибудь делать". Для предотвращения разрушительных эффектов массового экстаза в музее соблюдались дополнительные меры предосторожности. Во-первых, музей впускал посетителей по заранее намеченному графику, установленному лучшими темпорологами своего времени. В их задачу входило ежедневно проводить спектральный анализ мгновений и следить за космическим потенциалом напряженности по "тетаскопам" – символическим сферическим системам координат жизни души, предложенным еще в 21 веке Мойрой Марой Делоне. Ее метод был подробно описан в ставшей классической книге "Краткая история аллевиации" (****), но потребовался целый Зодиакальный цикл Феникса, пока общественные и личные тетаскопы стали общедоступны и понятны будущим поколениям. В дни эмоциональных бурь или в часы напряженного разлада (фазового сдвига) между уровнем активности четырех стихий – Воды, Воздуха, Огня и Земли – музей превентивно закрывался, как для посетителей, так и для сотрудников и научных работников. Далее, с учетом резонансных явлений, возникающих в результате эффекта селестиальных близнецов (резонанса эмоций при продолжительном контакте между людьми, рожденными одновременно, с близкими значениями тета-фактора и со схожим врожденным душевным потенциалом), категорически воспрещалось одновременное нахождение селестиальных близнецов в музее. Более того, в целях идеальной гармонии, посещения музея разрешалось только группам из 24 человек, строго по одной паре (мужского и женского пола) на каждый знак Зодиака. Кроме защитной оболочки, каждый посетитель при входе получал усовершенствованный дозиметр негатива. Когда доза негативных эмоций превосходила допустимый порог, цветная оболочка приобретала матовый тускло-серый цвет, а на пульте контроля администрации раздавалась атональная музыка. При появлении этих сигналов посетитель немедленно выводится в зал отдыха до полного восстановления чувственного равновесия и до возвращения идеального бирюзового оттенка его защитной оболочки. Для точной калибровки цвета пленки были предложены цветовые "кюритоны". Своим внешним видом они напоминали нечто среднее между камертоном и развилкой из лозы. Когда на кюритон направлялись потоки чувств людей, он трансформировал их в цветомузыку. Кюритон получил свое название в честь Марии Кюри-Склодовской – выдающегося физика, ставшей первой женщиной, получившей Нобелевскую премию и первым лауреатом Нобелевской премии, получившим ее дважды. Мария Кюри родилась в 1867 году, в конце первого года Феникса в Близнецах. В день ее рождения Солнце находилось в водном знаке Скорпиона. Вдобавок большая часть планет (шесть из десяти) находилась в стихии Воды. Такое преобладание стихии Воды соответствовало натуре необычной для своего периода: натуре пылкой, страстной и эмоциональной. Эта особенность ее характера позволила использовать накал чувств, заключенный в ее афоризмах и изречениях, для установления пределов допустимых уровней негативных эмоций. Например, защитная пленка должна была потускнеть, если человек находился десять секунд в эмоциональном состоянии страха и душевной изоляции, заложенном в признании Кюри: "Люди, так живо чувствующие, как я, и не способные изменить это свойство своей натуры, должны скрывать его как можно дольше". Атональная музыка сигнального предупреждения должна была раздаться после пяти секунд пребывания в отчаянии, выражавшемся словами Кюри: "Иной раз у меня создается впечатление, что детей лучше топить, чем заключать в современные школы". При мыслях Демирова о калибровке кюритона его сердце забилось сильнее. Ему тяжело было даже подумать о том, что женщина, мать настолько была настроена против системы вмешательства общества в воспитание ребенка, что готова была утопить своих детей, лишь бы они не подверглись массовому формированию их душ и убеждений. Конечно, согласно второму закону Гюго, гласящему, что "семья – это кристалл общества", Кюри пыталась защитить свои природные материнские права. Но при высказывании такой экстремальной позиции, она впадала в режим настроя "анти"-фазы. В свою очередь настроение противостояния устоям общества порождало ненависть к ним, а согласно третьему закону Гюго "нет малой ненависти. Ненависть всегда огромна". Именно поэтому ненависть, даже в зародыше своем, противится жизни и разрушительна для нее. Третий закон Гюго был сформулирован в год рождения Марии Кюри французским писателем, поэтом и драматургом Викто́ ром Мари Гюго, ставшим теоретиком французского романтизма. К сожалению, судьба законов Гюго повторяла судьбы атомистических теорий Демокрита, которым пришлось дожидаться признания более 2000 лет. Когда-то, в период доминирования стихии Земного знака Тельца люди отказывались соглашаться с идеей существования атомов. В период доминирования Воздушного знака Близнецов Разум отказывался признавать право на существование математики Чувств. С точки зрения математики периода Тempora Insensata, считалось бы, например, невозможным увеличивать любовь, делясь ею с ближним. Аналогично, считалось математически непреложной истиной, что малая ненависть не могла быть столь же разрушительной, как и большая. Математики, родившиеся в Водных знаках, такие, как, например Георг Кантор (родился в Рыбах), зачастую испытывали чувства болезненного внутреннего раскола из-за противоборства разума и чувств. Ощущение того, что Кантор чувственно пришел к неприемлемому разумом тех дней математическому результату, он выразил следующим афоризмом: "Я его [результат] вижу, но я ему не верю". Сейчас при появлении такой противоречивой эмоции, пленка бы почернела за первую секунду. В 19 веке внутренние противоречия Кантора обострялись резкой критикой его рациональных коллег-математиков, применявших по отношению к нему такие эпитеты, как "научный шарлатан", "отступник" и "развратитель молодёжи". Не мудрено, что Кантор страдал от тяжелых приступов депрессии и последние годы жизни провел в психиатрической лечебнице. Математика Водных знаков начала получать признание только в 39 веке, и только с рождением первых Homo Sentient. Основным критерием, по которому можно было отличать современных Людей Чувствующих от первобытных Людей Мыслящих, было их умение воспринимать иерархичность человеческой личности. В их сознании произошло четкое разделение между физикой существующего и метафизикой возникающего. Первая подчинялась законам единого определенного материального мира, в котором события могли быть упорядочены единой шкалой вещественных чисел (одномерной стрелой времени). Вторая физика относилась к многомерию времени, (т. е. к времени, как к оператору перехода между процессами различной природы, описываемому составной алфавитноцифровой цепочкой, называемой "кодонами времени"). В мыслях своих, в полете фантазии люди могли параллельно существовать сразу в нескольких мирах Эверетта (*****). В период Тempora Insensata наука предполагала, что мышление возникало спонтанно, существовало автономно, и потому ничем не ограничивалось. Наука того периода приняла за аксиому утверждение очень "земного" физика Макса Планка, у которого шесть планет находилось в Тельце, что "существует лишь то, что можно измерять". Так как мышление не поддавалось тогда измерениям, то оно как будто не существовало и не подчинялось вовсе законам материального мира. Только с рождением человека Homo Sentient оказалось, что и у мышления есть свои рамки, свои дозволенные траектории в фазовом пространстве жизни и свои законы эволюции. Говоря словами древнееврейского мудреца Авраама ибн Эзры, люди постепенно учились сложнейшему искусству воспринимать мир "глазами нутра твоего / и зрачками сердца твоего", и это умение росло и крепло с ростом уровня развития чувств. Немало способствовали этой эволюции поэты. Они первыми заметили, что порой в процессе размышления над стихотворением им слышится отвлеченный аккомпанемент слов, лишенных еще смысла, будто мелодия и ритм сопровождали и инициировали рождение мысли. Об этом свойстве поэзии писала Надежда Мандельштам: "поэзия целительна и животворна, а люди не утратили дара проникаться ее внутренней силой". Как и Мария Кюри, Надежа Мандельштам родилась в водном знаке, в Скорпионе. Ее умение тонко прочувствовать эмоцию, скрывавшуюся за творческим порывом, было оценено только недавно, когда в ее честь цвет маджента, розоватого отлива был назван цветом Надежды на шкале кюринома. Трех секунд ощущения веры Мандельштам в животворность и целительность поэзии хватало для восстановления посеревших защитных пленок в Музее Тempora Insensata. Таким же эффектом обладали стихи Халиля Джибрана: Не говорите, Я нашел правду, а скажите: "Я нашел крупицу правды" И не стремитесь измерить глубину познанья себя при помощи мерной рулетки, Потому что Я – это море, которое не имеет границ, и которое невозможно измерить. Потому что душа не идет по прямой и не растет как тростник, Потому что душа как цветок лотоса, открывает свои лепестки, один за другим и число их нельзя сосчитать. Казалось, что мысленная проверка безопасности похода в Музей Tempora Insensata должна была успокоить Демирова. Но что-то в стихах Джибрана не давало ему покоя. Скрывалась ли тревога в ритмах, в музыке стиха? Ведь именно музыка служила людям языком эмоций. Или было это в словах о неизмеримости лепестков души? А что, если хотя бы один из них пострадает от столкновения с ошибками прошлых поколений? А что если этот лепесток окажется связанным с самым сложным для Демирова вопросом: "Сумеют ли подростки прочувствовать тончайшую разницу между идеалом тотальности (цельности) личности и тоталитарным диктатом какой-нибудь одной из стихий?" Размышления на эту тему занимали Демирова, начиная с его первого визита в Музей Tempora Insensata. Он тогда уже был научным сотрудником Института Всемирной Истории, и его специализацией была проблема возникновения тоталитарных режимов. Демиров родился в активном знаке Овна, и потому более всего на свете ценил свободомыслие и свободу деятельности. Наверно, именно поэтому первый визит в Музей запомнился ему позитивными чувствами, возникшими в галереях, связанных с качествами Овна. Защитная пленка Демирова приобретала ярко алые тона при первом знакомстве с лозунгом польского основоположника романтической школы историографии, легендарного профессора Иоахима Лелевеля, родившегося в Овне. Его призыв к борьбе "За нашу и вашу свободу" воспринимался Демировым как глоток свежего воздуха или как задорный марш "Легко на сердце от песни веселой" в исполнении родившегося в Овне Леонида Утесова. После первого посещения музея сама жизнь в глазах Демирова стала восприниматься такой, какой ее определял рожденной в Овне британский основоположник эмбриологии. Уильям Гарвей: т.е. заключенной в постоянной циркуляции крови. Демирову было трудно понять, как люди не замечали этого до Гарвея. Еще больнее было ему представить себе, почему в 1628 г., когда Гарвей сформулировал первую теорию кровообращения, его догадки вызвали шквал негодования медиков. Почему современники отказывались согласиться с ним, что тайна жизни была связана с движением и с периодичностью пульсации сердца? Расстраиваясь и переживая за своих героев, Демиров не замечал, как в его сердце закрадывались чувства "анти"-фазы. Чем больше ему нравились идеи и качества, присущие его доминантному знаку Зодиака, тем сильнее в нем нарастали чувства обиды, досады и раздражения против всех тех, кому такие идеалы были чужды или безразличны. Ему все сильнее хотелось убедить всех и немедленно в правоте Лелевеля или Гарвея. Убедить и перевоспитать всех и сиюминутно, чтобы они искренне радовались открытиям самой истинной истины, заключавшейся в их идеях. Но этого не происходило. Происходило только безжалостное помутнение его защитной пленки, достигавшее опасного порога, требовавшего немедленной передышки в залах восстановления. Второй визит Демирова в Музей Tempora Insensata был запланирован заранее в зале земного знака Девы. Первый экспонат, запомнившийся Демирову в тот день, относился к временам Гарвея, и был датирован 4 сентября 1624 года. В те дни, когда пять планет находились в Деве, в самом аналитическом и рационалистическом из всех знаков, парламент (высший судебный орган Франции) запретил под страхом смертной казни поддерживать и излагать какое-либо иное учение, кроме учений Аристотеля или других древних писателей, сыскавших одобрение церкви. В 1629 году нетерпимость продолжала нарастать, и тот же парламент по настоянию Сорбонны постановил, что противоречить Аристотелю равносильно выступлению против церкви. Законы старого мира, периода Terra Incognita, были дороги восприятию стихии Земли, и их поклонники отказывались понимать, что кто-либо, находясь в здравом уме, смог бы подумать иначе. Глядя на диктатуру мысли последователей Аристотеля, Демиров чувствовал, как в нем поднималась волна протеста и потребность высказать все, что накипало в душе. Но его пленка все еще не посерела окончательно, а только дошла до пограничного синевато-черного отлива маренго. Обход музея продолжался в зале Девы, и следующим экспонатом был уголок Луи Антуана Сен-Жюста, родившегося в Деве 25 августа 1767 года. Как и подобало рожденному в Деве, он был трудолюбивым худощавым молодым человеком с треугольной формой лица, заостренным подбородком и волнистыми ниспадающими на плечи волосами. В возрасте 24 лет он уже сыскал себе славу блестящего оратора, что позволило ему в дни французской революции стать правой рукой Робеспьера и составителем французской конституции. В его обличии было что-то девичье и что-то ангельское, но ангел в нем не имел ничего человеческого. Сен-Жюст не признавал за людьми права на ошибки, на заблуждения или инакомыслие. Воодушевленность, с которой он, как главный обвинитель на суде, произнес историческую речь против Людовика XVI, не оставляла места для сомнений. Французам нельзя было смотреть на короля как на человека. В их глазах он должен был стать только неприятелем и врагом, тем, кого следовало безжалостно уничтожить. Стремясь к воплощению божественного совершенства на Земле, Сен-Жюст не передыхал ни минутки, норовя уничтожить всех врагов нового порядка. Вскоре он стал живым воплощением террора, и в народе его называли не иначе, как "Архангелом Смерти", "Нация может создать себя только с помощью горы трупов", – уверял Сен-Жюст, и потому без тени сожаления подставил и свою голову под лезвие гильотины. Экспонат Сен-Жюста был сконструирован так, чтобы, в конце концов, помочь посетителям прочувствовать всю мощь законов и качеств Девы. Затем им полагалось осознать, что привело СенЖюста стать "ледяным идеологом республиканской чистоты", и до конца оставаться "подобным камню, недоступному любым тёплым страстям". Но с Демировым этот план сотрудников музея не сработал. Он не ХОТЕЛ и не МОГ понимать. Он всеми фибрами души возненавидел Деву, ее тщательность, ее земную каменную холодность, ее логику и тиранию ее стремления к чистоте. – "Подпасть под тоталитарный диктат Девы? – думал он. – Ну, нет уж! Лучше вовсе не родиться! И еще он ненавидел Сен-Жюста. Он ненавидел тонкую гладкую кожу его лица, его вежливые манеры и ухоженный вид. Время потеряло для Демирова всякий смысл. Ему казалось, что он провел в галереях Девы не менее 170 лет, начиная с декрета об Аристотеле и до казни Сен-Жюста в 1794 году. Ему казалось, что он своими руками был бы готов отсечь эту ненавистную голову с хрупких костлявых плеч. В ушах Демирова раздавались раздирающие визгливые шумы и свисты. Ему казалось, что это улюлюканье всех знаков Зодиака против Девы. Он готов был и сам стереть этот знак с небесной эклиптики. На самом деле, как ему потом рассказали, провел он в зале не более трех минут. Чудовищные звуки, которые слышались ему, были атональной тревогой сработавшей сигнализации. Все показатели личных дозиметров Демирова зашкаливали так сильно, что раздавались сигналы самого острого душевного кризиса. Эти звуки были когда-то доставлены в музей одним из ученых, которому удалось раздобыть и восстановить запись звукового фона в столице Индии начала 21 века. На улицах многомиллионного мегаполиса царила неимоверная сумятица, сопровождавшаяся гудками клаксонов и выкриками возниц, создававшими вместе сущую какофонию. Подобный хаос царил и в душе Демирова. В восстановительном зале над ним долго колдовали врачи скорой эмоциональной помощи. Цвета пленки отказывались возвращаться в пределы разрешенных оттенков, а музыка в голове не становилась мелодичнее, чем метал. В тот день Демиров поклялся больше никогда не терять равновесие и не предпочитать качества одних знаков другим. Всем своим сердцем он понял, что свободолюбие Овна не более важно, чем тщательность Девы. Умом он понимал, что железная логика Девы не менее полезна, чем интуиция Овна. Но… Но оставалось что-то непонятное, то что-то, та малая крупинка ненависти к чему-то чуждому, которая однажды могла бы привести к тоталитарному порыву очистить и освободить себя и весь мир от непонятных (и потому неприятных душе) качеств. Демиров вспоминал, как после этого кризиса ему надолго пришлось задуматься над одной из центральных проблем Homo Sentient. С одной стороны, люди этого периода уже составили периодические таблицы элементарных чувств. Они научились составлять долгосрочные прогнозы мировых колебаний эмоций и избегать значительной части нервных срывов. Но по-прежнему никто не знал, как достичь полного душевного равновесия. Парадокс заключался в том, что знаков Зодиака было 12, а число первостепенных планет в натальных картах людей оставалось равным десяти. Десять планет не делилось целочисленно ни на число знаков Зодиака, ни на число стихий (4), ни на число триад (3). Всегда и у всех что-то оставалось несбалансированным, своим, индивидуальным, дополняемым каким-то важным элементом "самости". Именно это зерно личной решимости было тем, что позволило Демирову еще много раз возвращаться в Музей Tempora Insensata и никогда более не выходить за рамки дозволенных доз. Именно это подтолкнуло Демирова подготовить особую программу визита в музей в рамках прививки против самой страшной формы тоталитаризма – диктата одной из стихий над другими в душе человека. Но в последний момент, оглядывая веселые лица ребят, он изменил свое решение. Уверенность покинула его. А кто дал ему право показывать другим уродливые искаженные чувства и искалеченный разум? В инстинктивном порыве он обратил свой взгляд к Небесам с немым вопросом: "Боже, я зашел в тупик. Ответь, что мне делать? Вправе ли я возлагать на себя ответственность за эти юные души?" Ответ пришел неожиданно в виде загадочного текста Притчи царя Соломона, загоревшегося на табло классных объявлений. "Три вещи непостижимы для меня, и четырех не знаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девушке". – "Трех триад созидания мне не понять, стихии Воздуха, Земли и Воды мне понятны лишь отчасти, но путь к сердцу любимой я проложил", – подумал Демиров. И путь к сердцам учеников мне был указан. Я выбрал уважать их и уважать их выбор, ту глубинную волевую "самость", которая позволяет им самим принимать решения. – "Ребята, – сказал учитель. – Я зажег в вас искру познаний (Огонь, Овен), я поделился с вами своим опытом (Земля, Телец), я рассказал вам обо всем, что знал (Воздух, Близнецы), я любил вас всем сердцем (Вода, Рак), но теперь я оставляю вас один на один со вторым знаком Огня (Лев). Его урок – урок свободы выбора и воли – каждый должен в наш период проходить самостоятельно. Поэтому, скажу не тая, я НЕ ХОЧУ контролировать ваши чувства в Музее Tempora Insensata, я не настаиваю на составе сбалансированный группы и жесткого контроля эмоций. Я не настаиваю на самом визите в Музей Tempora Insensata. Сейчас я покину помещение. Кто выберет пойти со мной в Музей Tempora Insensata, присоединится к поездке в назначенный час". После этих слов Демиров бесстрашно взглянул на свой сенсометр. Такого ярко золотистого блестящего оттенка белого цвета он еще не видал никогда. * Начиная с 40 века, "естественной хронологией" признана модель Часов Феникса, рассматривающая историю человечества как целостный организм, развивающийся по определенной схеме и претерпевающий метаморфозы с периодичностью порядка 493 лет (названной "годом Феникса"). Впервые модель была предложена в 21 веке в книге Э. Левин "Часы Феникса", и тогда же она была связана с астрономическими циклами Нептуна-Плутона. История подтвердила гипотезу, что каждое соединение Нептуна-Плутона ("час Феникса") сопровождается социальными катаклизмами и зарождением новых парадигм, – Прим. ред. ** В каждом знаке Зодиака час Феникса наблюдается 5-6 раз подряд. Затем он смещается в следующий знак, и наступает новый Зодиакальный цикл. Например, Зодиакальный цикл в Тельце начался около 1071 г. до н. э., с наступлением первого часа Феникса в этом знаке. Следующий Зодиакальный цикл начался с наступлением первого часа Феникса в Близнецах около 1398 г. – Прим. ред. *** Асенсия, атония и амузия - отсутствие способности воспринимать и воспроизводить определенные чувства, музыкальные тона или мелодии. – Прим. ред. **** Э. Левин. "Краткая история аллевиации", Toronto, Altaspera, 2014. – Прим. ред. ***** Подробно об этом в обзоре Павла Амнуэля, "Вселенные: Ступени бесконечностей". – Прим. ред. Полина Липкина Убить дракона Двое сидели у костра. Костер почти догорел, и маленькие язычки пламени совсем чуть-чуть лениво шевелились над угольками и под хворостом. День тоже почти закончился, и последние лучики солнца освещали верхушки высоких деревьев. Пели вечерние птицы. На удивление красиво пели, даже для этих мест. Все вокруг выглядело очень мирным. — Что-то не хочется умирать, — произнес один из двоих. Он был светловолосым и светлоглазым, меч лежал под его правой рукой. Он был без доспеха и без шлема, но каждый признал бы в нем рыцаря. И не только по одежде и вышитому на ней гербу, но и по осанке, по движениям, по всему, что отличает привыкшего к сражениям или хотя бы к беспрестанным тренировкам благородного человека от человека простого. Впрочем, доспех рыцаря лежал рядом, уже как следует начищенный и порядком разложенный. Видимо, рыцарь приготовился к ночному сну. И как только рыцарь произнес эти свои слова, к нему тут же обернулся его спутник. — Не говори ерунды, Бертрам! — резко сказал тот. — Какого Нечистого ты собрался умирать? Спутник Бертрама был широкоплечим, наполовину черноволосым, наполовину седым человеком, с решительным и, вместе с тем, недовольным лицом. Он тоже был рыцарем, и вот он-то был одет в полный доспех, со шлемом, как полагается, будто на турнир собрался. Или на войну... но войны в здешних местах не было уже лет пятьдесят. Во всяком случае, настоящей войны. — Какого Нечистого ты собрался умирать? — повторил доспешный рыцарь. — Тоже мне невидаль, Дракон! Тристан Победитель уже убил одного. Болдуин, судя по всему, убил другого. И чего ты начал скулить, уж совсем раньше времени? Радовался бы лучше, что я сегодня полдня дрых у Пьеретты и потому вызвался караулить за тебя всю ночь. А ты вместо этого несешь какую-то хрень, забери тебя Нечистый... — Не стоит перед таким делом поминать Нечистого и Изгнанного, — тихо сказал Бертрам. — Ты и сам знаешь, что не стоит, Ланселот. Точно так же, как ты знаешь, что встречу с Драконами еще никто не пережил, по крайней мере, надолго. И точно так же ты знаешь, что Тристан Победитель отчего-то всегда отправляет на эти встречи тех, кто неугоден Тристану Победителю. — Ничего подобного я не знаю! — рявкнул Ланселот. — Я знаю обратное — по крайней мере один человек встречу с Драконом пережил, и очень надолго пережил, и этого человека зовут Тристан Победитель. И после того, как Тристан Победитель убил Дракона, Дракон нами более уже не правил, и не поедал наших девственниц, и не сжигал наших женщин, и не ... Ланселот замолк, очевидно, потому, что осознал, наконец, бессмысленность своей речи — бессмысленность перечисления общеизвестного. — Да тебе это и без меня прекрасно известно, Бертрам, — произнес в конце концов Ланселот, значительно более миролюбивым тоном. — А после того ни один Дракон здесь не появлялся, очень долго не появлялся. — продолжил он. — Да нам просто повезло, мы и сами этого не понимали. А сейчас вот завелись в округе Драконы. Что делать, нужно их убить. И не Тристану же Победителю этим заниматься. Ему уже много лет. Верно, на коня он вспрыгнет, и даже и в рысь его поднимет, но драться с Драконом? И потом, что же, Тристан – единственный рыцарь на всем белом свете? Хотя я, положим, тоже стар, — Ланселот вновь вернулся к недовольно-ворчливому тону, — но раз никого моложе меня не нашлось... Ланселот помолчал. — Неугодны Тристану Победителю, говоришь? — негромко произнес он. — Но ведь они были отличнейшими бойцами. Сильнейшими бойцами, из самых лучших. Что странного в том, что Тристан отправил на бой с Драконом именно их? На это Бертрам, очевидно, не нашел что ответить. Он промолчал. — А не кажется ли тебе, Ланселот, — сказал, наконец, Бертрам после длительного молчания, — Не кажется ли тебе, что с годами Тристан Победитель становится все более похож на Дракона? Того, которого он убил? Те же законы. Те же... решения... Последние солнечные лучи все еще цеплялись за верхушки высоких деревьев, но уже уходили вслед за солнцем. Ночная птица, которую тут именовали - воспевающей сумрак, запела особенно сладко. — Ты про учет всех девственниц и налог со свадеб? — спросил Ланселот. — Менестрели, особливо заезжие, уже все уши мне на сей предмет прожужжали. Понятно, в менестреле важен приятный голос и красивый волос, разумом ему обладать не обязательно. Ну да, при Драконе тоже всех девственниц учитывали, и налог со свадьбы взимали, если ее играли все-таки, если Дракон девственницу не сожрет. Ну и что с того? Сейчас кто-нибудь жрет девственниц? Кто-нибудь их сжигает? — В соседнем с Высокой Гаванью селе одну сожгли, — откликнулся Бертрам. — Разве не слышал? Невесту старостиного сына, недели две назад. Хотя она, понятно, девственницей не была. После проверки выяснилось, что не девственница, вот ее и... — А в другом соседнем с Высокой Гаванью селе жениха перед свадьбой утопили. Не слышал? — сказал Ланселот несколько раздраженно. — Слишком много он за чужими девками бегал, вот его невестины дядья, сговорившись с невестиным отцом, и утопили. Стража должна за такими делами смотреть. Стража! Смотреть, чтобы не убил кто-нибудь кого-нибудь, а не пить с утра до вечера хмельной лур. Давно пора всю теперешнюю стражу разогнать и новую набрать. — Ты не замечал, сколько недевственниц сейчас объявилось? — сказал Бертрам, словно бы и не услышав последних слов Ланселота. — С тех пор, как Дракона убили, и еще совсем недавно, их вроде бы и вовсе не было. Разве что разведется кто сразу после свадьбы... то ли потому, что жена слишком уж сварлива оказалась, то ли по какой-то другой причине. А теперь — шила в мешке не утаишь, позора не скроешь, даже и деньгами, невестиным приданым его не смажешь. Можно только сжечь, или утопить, или кровью смыть. — Говорю тебе, надо стражу разогнать и новую набрать, — проговорил Ланселот еще более раздраженно. — А ты что предлагаешь? Если на девственность не проверять, каждый станет объявлять невесту не девственной, а свадьбу недействительной, только бы налог не платить. Страже наврать — не позор, главное — соседи правду знают, знают, что это вранье. Через год поженятся вновь, уже без свадебного пира и без налога. А если еще на горькую сыть раскошелятся, да не забудет разведенная про то, что надо эту горькую сыть каждую Луну пить, тогда даже и байстрюки по двору бегать не будут. На пару мгновений Ланселот замолк. — Ладно, об этом можно толковать до бесконечности. Но смысл-то какой? Дракона все равно убивать надо. Или, может быть, ты скажешь, что и Драконов направил к нам Тристан Победитель? Менестрели и про это поют. — Менестрели обязательно должны петь какую-то ерунду... в числе прочего, — усмехнулся Бертрам. — Нет, я не думаю такого, конечно. Нет у Тристана Победителя подобной силы — Драконов по своей воле направлять. Была бы — все было бы по-другому. — Эти Драконы отличаются от Дракона, которого убил Тристан Победитель, — задумчиво произнес Ланселот, словно забыв, о чем они тут только что говорили и спорили, и что доказывал он сам. — Точно, отличаются, — подтвердил Бертрам. — И все же это не он. Не Тристан Победитель. Тристан... если бы это был он, след Дракона не проходил бы через земли Оружной Заставы. Где угодно, но не там. Не станет Тристан с ними ссориться, сейчас, по крайней мере. Это не он. К тому же... нет у него волшебной силы, это точно. Неоткуда ей взяться. И... и тайных волшебных знаний у него тоже нет. Эти последние слова Бертран почему-то произнес совсем тихо, почти шепотом. Словно бы сам испугавшись своей догадки. — Да откуда они у него возьмутся, волшебные знания, тайные или не тайные? — махнул рукой Ланселот. В отличие от Бертрама он говорил довольно громко, и не подумав снизить голос. Видимо, молодой спутник Ланселота подразумевал нечто такое, чего Ланселот не знал. Или — то, до чего Ланселот не додумался. — Все это ерунда, — сказал, наконец, Ланселот решительно. — Ложись лучше спать, а я посторожу. Нынешние Драконы вне своей тропы не летают и не ползают, но мало ли что... Слишком уж близко к Драконьему следу. А все, что ты сказал — полная чушь... непонятно только, куда делся рыжий менестрель... — прибавил Ланселот неожиданно. — Какой такой менестрель? — осведомился Бертрам. — Тот, что называл себя эдак непонятно?.. — Да, Лоэнгрин Лебяжье Перо, точно, — подтвердил Ланселот. — Он так неожиданно исчез... — Ты думаешь, это Тристан Победитель? — недоверчиво спросил Бертрам. — Но почему? Зачем ему это надо? Менестрели, почти что все до единого, с недавних пор только и поют хульные песни о Тристане Победителе. А Лоэнгрин в этом смысле как раз особой рьяностью не отличался... — Он, может, ею и не отличался, — сказал Ланселот, — но именно Лоэнгрин Лебяжье Перо сочинял песенки про то, как развелся Тристан со своей женой, белокурой Изольдой, из-за еще более белокурого юноши. — Только-то? — Бертрам даже рассмеялся. — Да мало ли кто юношей любит! Нет, конечно, кое-кто на такие дела смотрит косо, а кое-кто и посмеивается; но мало ли кто на что смотрит косо, и мало ли кто над чем посмеивается? — Это, конечно, верно. — сказал Ланселот. — Не то чтобы любителей юношей так уж не любят. Но на этакие дела по-другому смотрят косо и по-другому посмеиваются. Не так, как насчет иных прочих предметов. Был бы я Тристаном Победителем, и был бы я при том таким гадом, каким ты его рисуешь, приказал бы я верным людям засунуть Лоэнгрина в мешок побольше и покрепче, и кинуть тот мешок в речку поглубже. — Хм. А касаемо других менестрелей как бы ты мыслил? — заинтересовался Бертрам. — Их бы ты разве не кинул поскорей в речку поглубже? — Нет, — ответил Ланселот.- Сейчас — ни в коем случае. Позже — очень может быть. Но сейчас не время. — А когда оно наступит, это время? — с любопытством спросил Бертрам. Ланселот не ответил. — Давай, ложись спать, — вместо этого буркнул он. Бертрам не обратил внимания на слова Ланселота. Очевидно, Бертраму хотелось поговорить. — Болдуин, — произнес он, — Болдуин Отважный. Ладно, может быть, он и впрямь устроил заговор. Может быть, он и впрямь хотел убить Тристана Победителя и еще кучу народа. Зачем ему это понадобилось — об этом, верно, знает Нечистый и Изгнанный. Но неужто обязательно было казнить Болдуина Отважного такой вот казнью? Болдуин Отважный сражался еще в той Великой Войне, Войне против Черных Воинов Дракона... Вместе с Тристаном Победителем, да... Но... — Победа в Великой Войне была даже важнее победы над Драконом. Ты про это? В последние годы менестрели только и поют, что о Великой Войне; теперь и ты тоже решил? Этими словами Ланселот перебил Бертрама. Похоже, Ланселот почувствовал, что разговор с одной стороны ему уже надоел, а с другой — начал раздражать. — Ланселот, — сказал Бертрам, — почему Тристан Победитель покарал Болдуина Отважного казнью на костре? Да еще и на медленном огне к тому же? Это ж дела Дракона. Его суд. Он сжигал людей на медленном огне за покушения на его власть, и похвалялся своим мастерством, похвалялся тем, как ловко он может править своим огненным дыханием, как медленно способен, ежели хочет, направлять огненную струю. — Бертрам, — произнес Ланселот менее раздраженным тоном. Очевидно, он справился с желанием отделаться поскорей от назойливого собеседника и решился говорить серьезно. — Бертрам. Хорош или плох Тристан Победитель, но Дракона надо убить. Поручили его убить нам, значит, убить его должны мы. А ты перед боем должен хорошенько выспаться, перед боем это самое важное дело. Так, между прочим, говорил Болдуин Отважный... перед сражением в Ущелье Пегой коровы... эту заварушку, конечно, со старой Великой Войной не сравнить, но и там было жарко. Впрочем, неважно это. Я хотел сказать тебе другое — уймись и ложись спать! Бертрам не лег спать и не унялся. Похоже, ему не понравился командный тон Ланселота. Конечно, он признавал его старшинство, и в бою не раздумывая выполнил бы его приказ, но сейчас-то никакого боя не было... Поэтому Бертрам как ни в чем не бывало продолжил разговор. — И еще одно, — сказал он, — запрещение книг. Запрещение их хранить и читать. После Победы над Драконом и над Черными Воинами этот запрет отменили, но через несколько лет — снова ввели. Ввел Тристан Победитель. Почему? Тот же запрет, что и при Драконе... Ланселот так удивился, что даже не выказал недовольства касательно неисполнения его распоряжения. — Ты о чем? — недоуменно спросил он, — Тот же запрет, что и при Драконе? Ну да, а что? Воровать при Драконе тоже было запрещено, что же, потом разрешить надо было? Что-то ты загнул... очень сильно... — Ланселот недоуменно тряхнул головой. — Ну, хорошо, — не унимался Бертрам, — но почему же тогда несколько лет книги читать разрешалось? И почему их вообще запретили? — То есть как это почему? — Ланселот как будто даже опешил. — Ну, вот объясни мне, почему? — Бертрам не унимался. — Представь себе, что я совсем дурак. — Это себе представить не трудно, — ответствовал Ланселот. — Ну, хорошо. Все полезное, Бертрам, если ты не знаешь, люди могут запомнить и без книг. Все и так знают старые песни, сказки, и советы про то, как лучше охранить пшеницу от мышей. А если кто-нибудь что-нибудь все-таки забыл, так на белом свете есть Мудрые, или, на худой случай, менестрели, уж они-то все помнят. А то, что записывается в книгу, то, что нельзя запомнить — это либо бесполезное, либо вредное. Вон как та книга, что ходила меж Черными Воинами — им-то Дракон читать не запрещал! Не слышал? Она называлась «Молот врагов Дракона». В ней описывались пытки, казни, способы выбить признания, показания... и то, как можно казнить на медленном огне, если рядом нет Дракона, чтобы казнь длилась подольше. Конечно, такое наизусть не запомнишь. И не надо такого. — Но, может быть, в книгах есть и что-то другое? — возразил Ланселоту Бертрам. Что-то такое, что люди не знают наизусть, но хорошее и полезное. Ты помнишь, что Болдуина Отважного осудили и за чтение книг тоже? — Ну, помню, и что? — Книги, которые он читал... это было как раз перед его поединком с Драконом. Поединком, в котором он убил Дракона. Единственный из всех тех, кого послал на бой с Драконом Тристан Победитель. А что, если... что, если Болдуин Отважный узнал из книг про то, как можно победить Дракона? Что скажешь? — Ерунда. — Ерунда? А что, если не ерунда? А что, если в книгах есть и хорошее? Что, если в книгах можно прочитать про то, как можно убить Дракона... или про то, как можно управлять страной - что-то такое ... что-то такое, что не понравится Тристану Победителю? — Бертрам, — спокойно перебил Бертрама Ланселот, — Бертрам, говорю тебе, сейчас ты договорился до полной ерунды. Не о чем тут рассуждать. Все, мне время сторожить, тебе - спать укладываться. На этот раз Бертрам послушался Ланселота. Где-то далеко протяжно запела воспевающая сумрак - ночная птица. А еще дальше, вернее, уже совсем далеко от ночлега Ланселота и Бертрама, за сотни парсек отсюда и на другой планете, за мониторами сидели люди и наблюдали за тем местом, которое Бертрам и Ланселот называли следом Дракона. Это были железные паровозные рельсы. Самого паровоза с составом видно не было. Он должен был появиться на этом участке пути только завтра. — Они принимают поезд за дракона, — сказал один из сидевших за столом людей другому. — Можешь себе это представить? Принимают его за дракона, и бросаются на него с копьями. — Копья? — присвистнул этот другой. — Ну, это не беда. Если так, в этом мире еще много лет можно будет сбрасывать радиоактивные отходы. И ничего утилизировать не надо. Потом, конечно, планетка загнется окончательно, придется другую искать. — Угу, — откликнулся первый. — Вот только ты, Василий, новенький, ты не знаешь... Был тут один смышленый рыцарь, додумался, камень на рельсы положил. Поезд и того ... тю-тю. Но больше такое не повторялось. — Так, может, и не повторится? — нерешительно спросил Василий. — Что со смышленым рыцарем-то сталось? — А казнили его, — ответил собеседник Василия. — Казнили за какой-то заговор. И еще вроде бы за чтение книг — здесь это запрещено. Так что больше проблем не будет. А вообще — тут мир интересный, сочетание средневековья и элементов Нового времени. Надо бы изучить его — пока можно, пока он еще есть. Абрам Лерман Раковый Корпус Роман польского писателя Скатислава Лемовского "Раковый Корпус" написан в 2012 году, заслуженно оценен критиками, номинирован на престижные литературные премии, но еще не переведен на культурные языки. Действие романа начинается в октябре 2017 года. Научный семинар Краковского Университета анонсирует тему: "Современные средства борьбы с раком". На семинар съезжаются ведущие онкологи, биохимики и биофизики со всего мира; экспозиция романа явно затянута и содержит массу балластной информации. Молодой краковский математик, компьютерный гений, со странной фамилией Ванкаменецкий, по случаю забредает на семинар. Японский биофизик Сон Дю, взбалтывая самурайской косичкой кондиционированный воздух аудитории, монотонно и одноцветно читает лекцию об удивительных свойствах раковых клеток. Онкологи кемарят: во-первых, от физика дельного слова не услышишь; вовторых, профессоров интересуют исключительно собственные результаты, о чужих достижениях перед ленчем слушать не рекомендовано, неровен час, от нервного расстройства подхватишь нехорошую болезнь, путь из профессоров в пациенты недолог. Профессор Сон Дю журчит, толмач, смахивая со лба капли скользкого пота, переводит. Альберт Ванкаменецкий слышит поразительную вещь: оказывается, раковые клетки неприхотливее, а главное, устойчивее здоровых. Выращивание здоровых клеток – великое искусство, требующее умения, терпения и таланта. Им требуются специальные, скрупулезно поддерживаемые условия. Чуть зазевался, и они – мертвы. А раковые клетки – бодры и жизнерадостны при любой погоде. Их не задушишь, не убьешь, растут себе, и хоть бы хны. Они - бессмертны. И тут по задней стенке темечка Ванкаменецкого пробегает зайчик мысли, которой надлежит изменить судьбы человечества: необходимо построить суперкомпьютер на нетленных раковых клетках. Эдакий сверхмозг, напичканный вечными и самовоспроизводящимися, перерабатывающими информацию раковыми клетками. Ванкаменецкий отправляется к декану факультета, излагает свою идею и получает совет съездить отдохнуть в Карловы Вары. Неугомонный математик рассказывает о своем прозрении, другу детства и однокласснику, полоумному банкиру Сергею Шнайдеру. Встреча почему-то происходит в финской бане, напичканной гладкоствольными девицами. Без дурного вкуса эротики автор не обошелся, но сегодня без этого – никак; к Букеру и не подпустят. Шнайдер сбрасывает с банкирского плеча вшивые сто тысяч долларов, и компьютерный гений, наняв биологов и инженеров, принимается за работу. Дальше следуют неизбежные для жанра тоскливые описания мук и радостей Ванкаменецкого, расположившиеся на трех набивших оскомину главах. Всю эту перенасыщенную квазинаучной терминологией труху можно безболезненно пропустить. Через год компьютер готов, способен решать простенькие школьные задачки и играть в шахматы на уровне средненького второразрядника. Ничего особенного. Проект никого не потряс, проеденные деньги следует списать на бой посуды. Еще одна нечленораздельная сцена в бане. Перед тем, как умертвить свое детище, отправив на склад научного утиля, Ванкаменецкий, способный шахматист, заходит сыграть с раковым компьютером прощальную партию и с изумлением замечает, что компьютер просчитывает блестящие комбинации отменного стиля, отродясь в него не заложенные. Ванкаменцкий заводит в комп зубодробительное дифференциальное уравнение, заведомо непосильное его убогим возможностям, и получает правильный ответ. Ванкаменецкий докладывает о результатах на крупнейшем компьютерном шабаше и получает громадные инвестиции. Следующая модель ракового компьютера уже играет в шахматы лучше Ананда, и нет математической проблемы, которой он не мог бы решить. Механизм самообучения, между тем, остается полной загадкой. Ванкаменецкий предполагает, что онкоразум черпает энергию из нулевых колебаний вакуума, из всепроникающего и миротворящего Ничто. Через год раковое чудо вытесняет обычные ветхозаветные компьютеры из банковской сферы, науки и военной промышленности. Раковый суперкомпьютер, расположенный в Стокгольме, поглотив всю доступную человечеству информацию, полностью восстанавливает человеческую историю, загадочно реставрируя утерянные рукописи, шедевры живописи и музыки, а также человеческие судьбы. К услугам человечества – рукописи Александрийской библиотеки, утерянные полотна Рембрандта и восстановленные до мельчайших деталей битвы при Гавгамеллах, Каннах и Бородино. Решена великая задача воскрешения мертвых, ведь судьбы всех особей, когда-либо топтавших Земной Шар, известны до мельчайших подробностей. К сожалению, в этой точке сюжета фантазия Лемовского сбоит, и дальнейшие авторские ходы слишком легко угадываются. На пике торжества ракового разума не нужен, не востребован оказывается сам человек. Популяция людей, присосавшись к компьютерам, доставляющим потребителям максимальное, недробимое интеллектуальное и эротическое наслаждение, отказывается от обременительного, потного размножения и стремительно и счастливо вымирает. Проказа городов легко и ловко залечивается лесами. Дюжина борцов за человеческое уничтожает стокгольмский суперкомпьютер. Не тут-то было. Неведомо как точно такой же метастазный комп возникает в Австралии. Корпус компьютеров – неистребим. Роман завершается исполнением грандиозной симфонии, сочиненной компьютерами для компьютеров. Дюжина престарелых меломанов (и среди них Ванкаменецкий, недурной скрипач), завалявшихся на Земле, этой канцерогениальной музыки не понимают, она слишком хороша. Михаил Кельмович Иосиф Бродский и его семья Предисловие Внутренним условием для написания этой книги стала работа со словом, попытка художественного, а не популярного изложения. Представление о том, что можно заполнить страницы простым описанием фактов или наукообразным анализом стихов, вызывало чувство неловкости, какое возникает, если в ботинках с уличной грязью наступил на только что вымытый пол. Иными словами, мысль о том, что о Иосифе Бродском можно писать шаблонно, кажется мне абсурдной. Вследствие такой установки, текст получился художественным (о качестве не берусь судить), независимым, и я бы сказал несколько своевольным. Он отчасти не отвечает требованию, излагать так, чтобы постоянно все было понятно и подробно объяснено. Для того чтобы исправить этот недостаток, внести ясность, увязать детали и так далее возникла идея начинать с предисловия, в котором все исходные для понимания вещи были бы сразу объяснены. Итак, эта книга посвящена Иосифу Бродскому и его семье, семье в которой он родился и вырос. О его жизни и творчестве написано уже невероятно много. При этом остается почти не известной та часть его жизни, которая протекала рядом с родителями и близкими родственниками. Возможно, на фоне творческого прорыва, преследований, крушения любви – она казалась не важной или не заметной, но, скорее, мне представляется, рассказать о ней было некому. Неизвестна история жизни его родителей, читатель ничего не знает и о них самих - так можно было бы подумать, если б не существовало пронзительных слов «Полторы комнаты». Несмотря на то, что текст эссе невелик по объему, Иосиф так много сказал о матери и об отце, о своем доме, что, кажется, и прибавить нечего. Страшно становится от того, что берусь за ту же тему. Но все же… Это имеет смысл хотя бы потому, что я находился в другой позиции: не такой близкой, но все же рядом. Другая точка обзора позволяет охватывать взглядом его и родителей сразу, видеть их отношения без дистанции, но чуточку со стороны. И далее, это еще взгляд с другой стороны океана: не из Нью-Йорка на берега Невы, а скорее наоборот. Иная позиция позволяет мне сказать: родители его Мария Вольперт и Александр Бродский были столь замечательными, незаурядными людьми, что, вероятно, следовало бы только о них написать отдельную повесть. Когда-нибудь так и случится. Не меньшего внимания заслуживают другие члены нашей семьи, все старшее ее поколение. О них действительно неизвестно ничего. Вскользь сказанные две фразы… Мне это кажется несправедливым. Вместе с отдельными судьбами мы теряем настроение и картину той эпохи. Она в людях, и уходит от нас. Но даже не в этом дело. Следует уточнить, что я называю семьей. У Марии Моисеевны Вольперт, матери Иосифа Бродского – были три сестры и брат. У некоторых из них были мужья (жены) и дети. Вместе с детьми – Иосифом и его двоюродными братьями – и затем появляющимися внуками они образовывали нашу семью. Я не знаю, как это назвать точно, может быть кланом или родом. С того времени, как себя помню, я воспринимал семью в два круга. Внутренний – я, родители, бабушка - мы жили вместе в одной комнате. И второй, внешний – состоящий из всех членов нашего клана. И этот, второй круг ощущался не менее близким, чем первый, и, может быть, в чем-то более фундаментальным. Я бы сказал, для ребенка это была внутренняя родина, абсолютная точка отсчета. Мне кажется, что все члены семьи ощущали свою общность так же. Дело не только в том, что все они были особенными во многих отношениях: талантливыми, мужественными, интеллигентными, эрудированными и так далее. Нас соединяла удивительная атмосфера единства и родства. Мы были действительно близки, не только общностью интересов и взглядов, взаимной помощью, бытом – чем то еще… Здесь следует вскользь добавить, что великие стихи не всегда, не только - вырастают из «сора»*. Общность имела множество выражений, в том числе она заключалась и в том, что, двоюродный брат или племянник, например, воспринимался очень близким родственником. Патриархами семьи были Моисей и Фанни Вольперт. Они, как известно, до Первой мировой войны жили в Двинске, и с началом боевых действий перебрались в Санкт-Петербург. Мой прадед был агентом по продаже швейных машинок «Зингер» на Северо-Западе: в Прибалтике и Петербурге. Фанни занималась домом и детьми. Я, к сожалению, знал их только по фото. Основу семьи в то время, которое я помню, составляли дети Моисея и Фанни - сестры и брат Вольперты. Мне кажется, что особое пространство сложилось из их дружбы. ___________________________________________________________________ * «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». А. Ахматова. Вот оно, старшее поколение. Мария Моисеевна Вольперт – мать Иосифа Бродского, и его отец – Александр Иванович Бродский. Три ее сестры: Роза Моисеевна Кельмович, Раиса Моисеевна Руткис, Дора Михайловна Вольперт и ее муж Михаил Савельевич Гавронский. Брат Марии и ее сестер – Борис Моисеевич Вольперт и его жена Тамара Израилевна Зингер. Следующее поколение нашей семьи это Иосиф Бродский и его двоюродные братья: Яков Захарович Кельмович (мой отец), Михаил Викторович Руткис и Александр Борисович Вольперт. В книге упоминается моя мама – Нина Гордина и ее брат Солик (Соломон Гордин), а так же Лиля Руткис – жена Михаила. Лиля (Циля Александровна Руткис) сыграла особую роль в сохранении архивов и переписки Иосифа Бродского и его родителей, а также обстановки «полторы комнаты». Она передала все материалы и вещи в Фонтанный дом с целью создания будущего музея. О родственниках Александра Ивановича я, к сожалению, ничего не знаю. То есть, относительно Иосифа, в книге упоминается только материнская линия. Роза была старшей в семье, и мой отец родился в 1923 году. В результате образовался возрастной сдвиг поколений, в силу которого отец был ближе к старшим: своему дяде Борису, Рае и так далее, а я по возрасту попадал в одну линейку с Александром Вольпертом и Михаилом Руткисом. Иосиф в этом смысле несколько изолирован, он был много моложе моего отца, и старше Михаила и Алекса. Пожалуй, с Михаилом они больше совпадали. Теперь в следующем, третьем поколении относительно своих троюродных братьев и сестер я значительно старше. С Андреем Руткисом (сын Михаила), мы периодически встречаемся. Он, как и я, живет в Петербурге. Катю Вольперт (дочь Алекса), я видел взрослой два-три раза, когда она приезжала в Питер из Нью-Йорка. Дети Иосифа Бродского – мои троюродные братья и сестры. Но я никогда их не встречал и никого не знаю. И, как мне кажется, не узнаю никогда. В нашей семье существовали три характерные привычки. Первая: все праздники и большинство дней рождения (старшего поколения всех сестер – точно) справлять в квартире Бориса на улице Чайковского. Вторая: на лето снимать дачу в Зеленогорске в одном и том же его районе ближе к Комарово, приблизительно там, где сегодня стоит санаторий «Балтийский берег». Третья состояла в том, что все мы привыкли называть основные места обитания членов семьи, квартиры – отвлеченно, по названию улицы. Квартира Бориса была просто «Чайковская». Поехать на «Чайковскую», встретиться «на Чайковской». Полторы комнаты, коммуналка, в которой жили Бродские, обозначалась, как «Пестеля», хотя номер дома был Литейный 24*. Говорилось, например, надо заехать «на Пестеля», или – «На Пестеля сегодня придут Осины друзья». О нашем доме говорили: «На Майорова» (Проспект Майорова, ныне Вознесенский), в то время как он стоял на площади рядом с Исаакиевском собором. Дора жила «На Бородинке» – Бородинская улица 13, а Рая – вначале «на Литейном», а затем на «Кутузова». Этим же названиями пользуюсь и я в данной книге. __________ *Дом Мурузи располагается на углу Пестеля и Литейного, и выходит еще одним фасадом на Преображенскую площадь. По безнадёжности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни. И. Бродский Часть 1. Детство во дворце Подсказка Вопрос о том, чтобы написать несколько страниц воспоминаний об Иосифе Бродском и моей семье всплыл в очередной раз, когда мы сидели в кафе «Чуланчик» на улице Чайковского. Я всегда относился к таким предложениям настороженно по нескольким причинам. Во-первых, в слове мемуары, мне, почему то слышится издевательский оттенок. Далее, в пространстве языка и смысла будущее всегда маячит впереди, а прошлое мы осознаем сзади. Я же никогда не любил оглядываться назад. Аналогия того, какое место прошедшее занимает в моей жизни, сводится к типичному кадру из фантастического боевика, когда главные герои бегут по мосту, который обрушивается прямо у них за спиной. То есть, каким бы «монотонным» не ощущалось будущее, прошлого не существует вовсе. Причина, по которой я все же «взялся за перо», отчасти состоит в том, что разговор происходил в обстановке не умело, но трогательно воссоздающей советскую квартиру 70-х годов, к тому же мы находились в кварталах, которые были основным местом происшедших когда-то событий. Пространство и предметы интерьера подталкивали к воспоминаниям. В этом была подсказка, совершенно мне необходимая. Несмотря на безоглядность в отношении прошлого, свое детство и юность я воспринимаю, как огромный объем жизни, оставленный в том временном измерении. Кажется, он наполнен образами людей, ситуаций, и событий, составляющими целую эпоху. Однако, при попытке обратиться к воспоминаниям, ощущение оказывается обманчивым. И я убеждаюсь всякий раз, что речь идет скорее о чувстве, о принадлежности к определенному времени, месту и отношениям. Память об отдельных событиях, вероятно, хранится где-то глубже гортани, и при попытке извлечь ее содержание – связанного в целое воспоминания, а также текста не рождается. В то же время, отчетливы образы старых Ленинградских квартир, в которых протекала вся та наша жизнь. Может быть, мысленно входя в эти квартиры, мне удастся отчетливей восстанавливать ход событий? Моя квартира Я родился и вырос во дворце. Следует добавить, в большой коммунальной квартире. Мы жили в квадратной двадцатиметровой комнате впятером: мои родители, я, бабушка и мамин брат. Потом мамин брат Солик женился, и у него родилась дочка. На какое-то время нас стало семеро. Тогда я ходил во второй или третий класс, и иногда серьезно задумывался о том, что, если бы можно было положить нашу комнату на бок, ее площадь была бы больше. Дело в том, что потолки в ней были высотой шесть с половиной метров. Когда во дворце делают коммуналку, пространство всегда получается необычным. Так же вышло и в нашем случае. В каждом жилом помещении коммунального дворца был построен второй этаж, который занимал пространство над коридором и приблизительно на треть выступал в комнаты. Получался великолепный балкон с деревянными перилами. У нас его площадь превышала 12 метров. Еще одна настоящая комната, только вытянутая. Это было смягчающее существование обстоятельство. Балконом пользовались по-разному. Иногда наверху жил я. Потом там поселился Солик со своей семьей. Подобный балкон имелся у всех соседей. На каждый вела деревянная лестница. Лестницы были у кого прямые, у кого с площадкой и поворотом, были и винтовые. Наша – отличалась массивностью и угловой площадкой. Кроме этого в квартире имелись: четырехметровые изразцовые печи, огромные окна со старинной бронзовой фурнитурой и мраморными подоконниками, парадная лестница из мрамора с бронзовыми же креплениями для ковровой дорожки, черная лестница, кухня площадью 75 квадратных метров с эмалированным умывальником в углу, дровяная колонка в ванной и выгороженный деревянный туалет один на всех. Длинный, как беговая дорожка стадиона, коридор разделяли на индивидуальные секции двери. В нашей секции – почти напротив входа в комнату висел на стене старый телефон, тоже один на всех. Он часто звонил, и мы слышали через дверь все, что говорилось в черную эбонитовую трубку. В квартире было всего семь съемщиков. За стеной справа, в небольшой, светлой и узкой комнате жил поэт Володя Уфлянд. Володя Уфлянд К Уфлянду я ходил в гости потому, что у него жила ворона. (Он подобрал раненого птенца и выходил). Ворона свободно расхаживала по комнате, поэтому весь пол был застелен газетами и все равно загажен. В этом ощущался дух свободы. В его комнате этот дух чувствовался во всем. И что-то еще витало в пространстве отличное от привычного бытового ощущения. Ощущение быта присутствовало везде: дома и у соседей. Но у Володи было иначе, и поэтому мне у него нравилось. Хотя его комната выглядела небольшой и узкой, в ней было много света и, как ни странно, ощущался простор. Я думаю теперь, что дух свободы поселился в ней в большей степени от того, что он не ходил каждый день на работу, чем от того, что писал стихи. Свободу выражало все: светлая ткань портьер, то, что ограждение балконного этажа было не сплошным, а в виде деревянной решетки. То, что он жил с Галей, которая не была его женой. (Она тоже мне нравилась). А так же то, что они курили оба в комнате и спали на полу в верхнем этаже. К нему в гости ходили литераторы. На стенах висели изразцы, взятые со стен взорванной Греческой церкви. Они с Соликом (опасное приключение) лазали по развалинам взорванного храма и отыскивали целые изразцы. «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, …»*. Тогда мне казалось, что Володя менее настоящий поэт, чем Бродский. Иосиф был в Архангельской ссылке, лежал на Пряжке, преследовался КГБ, и его печатали в Америке. А Володя всего лишь постоянно сидел без работы, либо был каким-нибудь рабочим сцены, и его стихи печатали здесь в детских журналах. Стихи я тогда не любил, взрослые – вообще не читал. Из своих книжек того времени помню только «Волшебные китайские и корейские сказки». Первое полноценное воспоминание, точно до 1968 года. Я выхожу из комнаты, в коридор, и вдруг вижу Иосифа Бродского. (Все родственники за глаза его звали – Оська, иногда более уважительно Иосиф, Ося. Притом, когда говорили о политике и серьезной литературе, он назывался Иосиф, а когда обсуждались дела семейные – был Оськой.) Он стоит на перекрёстке кухонного коридора и нашего и вычисляет, судя по всему, соседнюю Володину дверь. Для меня – это очень неожиданно. В моем детском понимании, Иосифа можно встретить у него дома, на Пестеля: там он меня фотографировал. Или на Чайковской у Вольпертов на каком-нибудь семейном обеде или дне рождения. А как он попал сюда, совершенно не понятно. *И. Бродский. «Остановка в пустыне». Потом из своей комнаты выходит Володя, и оказывается, что Бродский пришел к нему, и что они знакомы. Они шутят, улыбаются, и начинают о чем-то говорить. Затем уходят к Володе. То, что он заходит в комнату к Володе, а не к нам, для меня так же удивительно, но и только. А вот родителям еще и обидно, и они долго потом обсуждают, что он «всегда такой». «Все время с приятелями, а к родственникам не заходит вообще. Даже когда пришел в нашу квартиру, не зашел». Фасад Дом наш постройки Монферрана был в три этажа, с галереями и белыми колоннадами коринфского ордера. Сам он, россиевского желтого цвета, был похож на утюг, стоял отдельно, и выходил тремя фасадами на улицу Майорова (Вознесенский проспект), Исаакиевский собор и Адмиралтейский проспект с Александровским садом. Адмиралтейский фасад украшало парадное крыльцо с парой благородных мраморных итальянских львов на гранитных постаментах. Львы были могучи и высоки в холке. В детстве я сам не мог на них забраться. На одном из них пережидал наводнение 1824 года Евгений из «Медного всадника». Со спины льва слева был виден Конногвардейский манеж с Диоскурами, впереди за деревьями сада – фасад и шпиль Адмиралтейства. Тогда сад был огражден решеткой. А справа выглядывал ангел Александрийского столпа и кусок Дворцовой площади. В дошкольные, детсадовские времена я любил еще оседлать бронзового верблюда у памятника Пржевальскому в саду. Впрочем, кто не любил. У верблюда всегда была очередь из детей. Внутри дома были три огромных загадочных двора, соединённых переходами. Дворы были оснащены конюшнями, переделанными в гаражи, башней вентиляции бомбоубежища и будкой дворника. От мира их отделяли кованые решетки в двух грандиозных порталах – подворотнях. Дворы можно было пройти насквозь: войти в одну подворотню и выйти через другую. Друзья и родственники В отличие от друзей, родственники вспоминают Иосифа Бродского без характерного придыхания. Позиция друзей и родственников вокруг индустрии воспоминаний о нем – это вообще вопрос интересный. В этом деле, несомненно, сложилась монополия друзей и полное забвение родственников. Что в значительной степени объективно, так как среди родственников не было людей пишущих. Кроме того, родня не нуждалась в шансах на известность, так необходимых людям литературного труда. Они (родственники) просто ходили на работу и получали зарплату. Меня вопрос дележа чужой славы не интересовал абсолютно. Но я видел у некоторых своих родных глубокую и затаенную обиду на то, что они обойдены вниманием. Друзьям всегда достаются не только отблески славы, но приключения. Семье же остаются будни. Например, будни бесконечного и безнадежного ожидания матерью и отцом звонка из-за океана. Жизнь наша состоит из повседневного, в той же степени, что и из приключений. Впрочем, говорить огульно и о тех и о других было бы неправильно. Жизнь показала, что среди друзей есть люди, самоотверженно преданные его памяти, и есть исподтишка таскавшие на продажу предметы домашней обстановки – тире – музейные экспонаты. В то же время, далеко не всех членов моей семьи волновали вопросы повышения собственной значимости за счет великого родственника. В середине девяностых Иосиф позвонил Михаилу Руткису (двоюродному брату) с предложением стать директором благотворительного фонда. Разговор происходил приблизительно такой. – Михаил, хочешь стать директором моего (с нажимом, и оттенком самоиронии) благотворительного фонда? – А что надо будет делать? – Ничего. У тебя будут деньги, и ты будешь их тратить. («Трхратить» – прозвучало сочно и картаво, с той же ироничной интонацией). – Да, нет спасибо. Не хочу. – Михаил, как обычно был немногословен. Я знаю, что Бродский предлагал ему авторские права на некоторые свои произведения. Но Михаил также отказался. Не будем впадать в оценку. Гораздо интереснее вопрос, с кем Иосиф был ближе. Конечно, в стране советов он больше был с друзьями. Но «полторы комнаты» – это плач о матери и об отце. В перечне потерь эмигранта, друзья же обычно выступают общей группой. И это просто характерная черта отношения к жизни молодости и зрелости. Рекламные газеты Помните, в самом начале эссе «Полторы комнаты»: «Теперь ни матери, ни отца нет в живых. Я стою на побережье Атлантики: масса воды отделяет меня от двух оставшихся теток и двоюродных братьев – настоящая пропасть, столь великая, что ей впору смутить саму смерть». В 1985 году, в год написания этого текста были живы еще младшие сестры Дора и Рая. Но один из двоюродных братьев, Александр Вольперт, на самом деле уже собирался обосноваться в Чикаго. Собственно, он – ныне профессор Чикагского университета, один из немногих ленинградцев, кто регулярно общался с Иосифом по ту сторону Атлантики. Я знаю, что Алекс совершенно не доверяет журналистам и всякого рода биографам, и, как правило, отказывается от интервью на тему семейных воспоминаний. Относительно недавно он рассказал эпизод одной из последних их встреч. С его слов, Иосиф жил в небольшой квартирке, почти полуподвальной, со ступеньками вниз. Когда Иосиф открывал входную дверь, из почтового ящика вывалился ворох рекламных газет и листков. Они разлетелись по полу, и Иосиф в ярости стал топтать их ногами. Мне это очень понятно. Представьте себе, что значит такой ежедневный «холодный душ» рекламы для человека, который обозначил свою жизненную позицию следующим образом: «Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению», «Все тиражное я воспринимал, как некую пропаганду». Не скрою, я постоянно учусь у него именно этому: искусству искать небанальное, пропускать первые, но очевидные формулировки, решения, способы понимания. Учусь, зная, что до такой степени остроты восприятия, бескомпромиссности в отвержении стандартного мне никогда не дотянуться. И все же я пытаюсь быть единомышленником и понимаю, какую боль ему причиняли рекламные газетенки. В тени этого эпизода, мне кажется, стоит то глубокое и горестное отрезвление, которое постигло в эмиграции опальных литераторов и диссидентов, вынужденных или хотевших покинуть родину. Они искренне верили в угнетение «здесь» и понимание и справедливость, человечность «там», и столкнулись с жестоким разочарованием. Оказалось, что «там», может быть более благополучно, но столь же (и даже более изощренно) бесчеловечно. Понимание того, что «хрен редьки не слаще», выходило на экзистенциальный уровень. Я думаю, это не только социальная проблема. Для меня сегодня сравнение умеренной тирании и западной демократии вылилось в ехидный вопрос, который я люблю задавать спорщикам на политические темы. Кем быть лучше: угнетенным человеком или свободным зомби? Семейная фотография Для меня поисковики Интернета что-то вроде голоса коллективного бессознательного. И я пользуюсь ими иногда для уточнения отношения человеческого сообщества к тому или иному предмету. Вот, задумался над описанием семьи, и вдруг, как говорят в таких случаях, повинуясь внезапному порыву, набрал в поиск: «родственники Иосифа Бродского». Яндекс «безмолвствовал». Неужели, совсем ничего? В Гугле нашлась ссылка: «Латвийские корни Иосифа Бродского». Открываю страницу этого сайта и вижу: передо мной моя бабушка. Юная красавица, она сидит за столиком, подперев ладонью щеку. Рядом, тоже в центре стоит ее брат Борис. Справа сидит прадед. Рядом, держась за его плечо, расположилась еще одна сестра Дора. С левой стороны, на диванчике рядом с прабабушкой, устроились младшие сестры, Рая и Мария. Мария, уже тогда полная – мама Иосифа Бродского в будущем. Фотография великолепна. Несмотря на дату – 1911 г., она сохраняет четкость и выразительность жестов, а также перспективу. Создается впечатление, что ты неожиданно вошел в просторную комнату, и все участники фотосессии замерли на мгновение. Вот она, моя семья. Четыре сестры и брат. Только все они, кроме бабушки, еще дети, а я видел их немолодыми, прошедшими войны, блокаду, голод и сталинизм… Прадеда, прабабушку, естественно, не застал вовсе. Я знаю эту фотографию. Оригинал хранится у Лили и Миши Руткис. Вот только с датой на сайте немного ошиблись. Это никак не 1911 год, и, скорее всего, не Даугавпилс, а Санкт- Петербург. Бабушка уже совсем взрослая барышня.* Ее звали Роза. Она родилась 31 декабря 1900 года, и ее день рождения всегда совмещали с празднованием Нового года. *Вопрос о дате этой фотографии вызывает до сих пор ожесточенные споры. С одной стороны, 1911 год подписано от руки на обратной стороне фото, с другой, возраст на только Розы, но и некоторых других детей надписи не соответствует. Моя бабушка Моя бабушка, старшая сестра, ослепительная, неприступная красавица, за которой, кажется, ухаживал Александр Блок. Она любила литературные вечера Серебряного века и рассказывала, что в 1917 году, во время революции вместе с Блоком ходила вдоль Невы, и они плакали, глядя, как рушится все вокруг. Во время НЭПа была великолепная свадьба, она вышла замуж за процветающего предпринимателя. Богатство, 11-комнатная квартира на Рылеева, или в Манежном переулке с каретным сараем и конным выездом. Рождение сына – моего отца. Муж исчез в 1937 году. Квартиру уплотнили до одной комнаты. Дорогие вещи растащили, в том числе и дальние родственники в блокаду. Затем эвакуация из блокадного Ленинграда, кажется в 1942 году. Сын пропал и затем, в конце войны, неожиданно обнаружился живым на оборонном заводе, на Урале. Далее, всю свою жизнь она прожила рядом с братом Борисом в одной квартире на Чайковского, приняв его семью как свою. Всегда была величественна, как королева, несколько холодна и строга. До глубокой старости работала секретарем в школе на Фурштатской у метро, делала зарядку, растила племянника и раз в неделю ездила в гости к своему сыну. Ее патрицианский римский профиль подошел бы для старинной золотой монеты. Но никто не видел ее с мужчиной, не было никаких романов или попыток выйти замуж. С сестрами и братом всегда была рядом и вместе. Это была не просто дружба. Они, четыре сестры и брат, продолжали жить одной семьей, даже когда у каждого был свой дом, мужья, жены, дети. Слово о пьедестале Я понимаю, что интерес к семье Вольперт подогревается личностью великого поэта. Однако, хотел бы предостеречь от распространённого в таких случаях взгляда на близких людей как на обстановку и обстоятельства «формирования гения». Бродский подобен «Чёрному лебедю» Нассима Талеба. В 60-е годы его не только судили за тунеядство, но и литературный андеграунд «склевал» при первом знакомстве. После Нобелевки ситуация изменилась. Как обычно, гения вначале пинают ногами, затем (иногда те же люди), изучают его наследие. Сейчас такой период, когда ему возводят пьедестал и делают статусной фигурой. Когда воздвигнут – будет уже не дотянуться. А статусность предполагает, что солидные люди могут его стихов и не читать, но пару томиков великого поэта с золочеными корешками на полку должны поставить. Самое подлое свойство нашей эпохи состоит в том, что она способна не уничтожить, но спрофанировать истину, что гораздо хуже. Допускаю, что интерес к семье Бродского может быть связан со строительством пьедестала. Более того, воздвижение оного – обычно процесс стихийный. Посему хочется противопоставить ему действие живое и осознанное. В данном случае таким движением будет обращение к истории его семьи с той мыслью, что она сама по себе интересна. Что его близкие: мать, отец, родственники, люди не обычные. Они – не обстановка, подобная стульям в комнате великого человека, но талантливые и мужественные дети своей эпохи. Я против пьедестала. Говорю это, опираясь на то, что для меня он гений и number one не только русской, но и мировой поэзии. Считаю так не потому, что случайно стою рядом (точнее, несколько в отдалении), но потому, что при обращении к его стихам возникает настолько личное и интимное переживание, которое описать трудно. Я в нем теряю границу себя, разграничение своей и его жизни. Может быть, в этом особое воздействие генов, а так же единство времени и места проживания. «Прощание славянки» Незадолго до отъезда Иосифа (естественно, я был не в курсе) у меня возникло желание показать ему свои стихи. Он пригласил меня сразу, и я пришел к нему в гости. Не к Марии и Александру Ивановичу, как обычно, вместе с семьей, а именно к нему. Мне было 16 лет. Стихи начал писать с тринадцати, вначале самым банальным образом выражая интерес к одноклассницам, трагическое видение жизни и усталость от ее будничного содержания. После прочтения «Рождественского романса», «Еврейского кладбища» и «Пилигримов» пережил потрясение, тоже захотел стать поэтом, писал по ночам, пытаясь делать со словом что-то особенное. Узнал сладость творческих потуг, восторг и чувство облегчения от постановки точки в конце стиха. Когда мне показалось, что я уже почти великий поэт, позвонил ему. Я принес тетрадку и листы, в основном, рукописные. Кое-что удалось отпечатать у бабушки на машинке Ундервуд 1913 г. Иосиф отнесся внимательно к моим каракулям, прочел все и разбирал затем почти каждую строчку. Было непривычно, что он беседовал со мной на равных, как с взрослым. Остальные родственники так меня еще не воспринимали. Но он говорил на равных, как поэт с поэтом. Так, как будто я уже состоявшийся литератор, и мы обсуждаем мои вполне достойные публикации произведения. Серьезно, внимательно, без того покровительственного тона, с которым обращаются обычно к юным дарованиям. Недавно, во время двухнедельного плаванья на яхте, я видел, как восторженный новичок спросил у бывалого капитана, нет ли возможности побывать в более длительном морском путешествии. Капитан тотчас же позвонил по скайпу на Каймановы острова друзьям, совершающим кругосветное путешествие, и спросил, нет ли у них свободного места? В этом не было ни капли рисовки. То, что чувствовал новичок в этот момент, удивительно похоже на мои ощущения во время встречи с Бродским. Иосиф отметил несколько строк в разных стихотворениях. Ему понравилось одно место, где тень от скамейки я сравниваю с детскими страхами. Он отнёсся к моему поэтическому увлечению не только серьезно, но и заинтересованно, как будто бы сразу увидел во мне товарища по цеху. Видимо, для него это была другая мерка, и иные отношения в сравнении с бытовыми, родственными, приятельскими и т. п. В какой-то момент он задумался и, как бы подытоживая, предположил, что у меня, вероятно, хорошо получилось бы писать стихи для детей. Что-то он удивительно точное почувствовал своей невероятной интуицией…* ________ *Учитывая мое последующее обучение в Педиатрическом институте и более поздний 15-летний опыт изучения перинатальных матриц. Вся встреча была предложением учиться. Он называл имена неизвестных мне поэтов и сразу доставал их книги. Из некоторых – читал целые стихотворения или отрывки. Прочитал из Роберта Фроста: «…Сосед хорош, когда забор хороший…». Он не делал разбор текста в обычном понимании, а как бы пытался показать состояние, передать силу образа. Основная мысль его высказываний звучала так: современная поэзия говорит простым, как будто обыденным языком. Затем он достал с полки потрепанный толстый томик антологии русской поэзии и начал читать Державина «На смерть князя Мещерского». В оглавлении это стихотворение было помечено крестиком. Он декламировал, как обычно, с подвыванием, обращая внимание на отдельные строки, их силу или смысл. Его волновала тема смерти, особенно строчка. «Где ж он? – Он там, – Где там? – Не знаем». Он почти сыграл ее, как в театре, сказал, что это одно из лучших и первых стихотворений в русской поэзии. Для подростка, покалеченного школьной программой по литературе, это было особенно неожиданно. Я не рассматривал, как достойное внимания, в принципе ничего написанное ранее поэтов Серебряного века, даже Пушкина считая официальным фаворитом. Далее Иосиф выбрал несколько книг из своей библиотеки, чтобы я прочел их дома как образцы хорошей настоящей поэзии. Дал любимые и редкие в то время книги. Затем он договорился о встрече с Виктором Соснорой, специально, чтобы меня с ним познакомить. Мы встретились вскоре еще раз, втроем. Вторую встречу я почему-то запомнил плохо. Только лицо Сосноры, длинные черные волосы. Они чем-то оживленно говорили, я при сем, в основном, присутствовал. Виктор Соснора вел в то время литературный поэтический клуб для подростков. Это была прямая дорога в поэтический цех. Но я тогда чего-то испугался и к Сосноре не пошел. Вообще, был достаточно замкнут и интровертен. Вторая встреча не запомнилась, но отчетливо стоит перед глазами завершение первой. Во время разговора он несколько раз забирался с коленями на свой матрас с ножками, стоявший у окна, и смотрел через улицу на фасад дома напротив и мигающий тревожно желтым светофор. На столе стоял компактный проигрыватель с большой черной пластинкой. В процессе разговора Иосиф периодически к нему подходил и трогал лапку с иглой. Перед моим уходом он начал говорить о том, что его любимая музыка – марш «Прощание славянки». Под этот марш, сказал он, русские солдаты в Болгарии уходили на смерть. Он поставил пластинку, и мы вместе слушали марш, он как будто бы смотрел вдаль сквозь стену, и глаза его, мне показалось, были застеклены слезами. Потом он поставил пластинку еще раз. Вскоре он уехал. Вначале я не осознал смысла происшедшего. Со свойственной 16 годам погруженностью в свои подростковые дела. Мне казалось, что ничего страшного не произошло. Я не успел вернуть книги из его библиотеки… Он оставил мне удивительные вещи. Роберта Фроста, Бхагават-гиту в переводе Смирнова, Юлиана Тувима и Роберта Грейвза. Некоторые книги потерялись, но другие еще стоят у меня на полке. Пропал томик стихов Арсения Тарковского с дарственной надписью: «Иосифу, с любовью и верой!» Зато среди тех, что остались, – антология русской поэзии в твердом потрепанном переплете, со стихотворением Державина, помеченным крестиком. Семья и места обитания Основу семьи составляло старшее поколение: сестры и их брат Борис Вольперт. К описываемому периоду (1960 – 1980 гг.) общность их жизни подкреплялась тем, что жили все недалеко друг от друга, в основном, в районе станции метро Чернышевская. Квартира Бродских, как известно, располагалась почти на углу Соборного кольца и Пестеля, в доме Мурузи. Семья Бориса обитала на углу Чайковского и проспекта Чернышевского в доме Чижова, над вечным, существующем до сих пор кафе «Колобок». Рая – в огромном доме с гастрономом, выходившем на Литейный проспект и Фурштатскую улицу. Все – не более чем в 8–10 минутах ходьбы друг от друга. У Доры с Михаилом Савельевичем была квартира недалеко от ТЮЗа, в районе Загородного проспекта на Бородинской улице, в доме актеров. Ей приходилось ездить в гости на троллейбусе. Но путь был короткий и прямой: Загородный, Литейный. Мои родители жили относительно остальных на отшибе, если можно так обозначить Исаакиевскую площадь. Ездить нам приходилась дольше и с пересадкой. В 1968 году дом наш забрал проектный институт и нас расселили в Купчино. Мы действительно оказались далеко. Родители были счастливы тем, что переехали в отдельную трехкомнатную квартиру. Я же втайне глубоко страдал оттого, что потерял свою естественную среду обитания: Исаакиевскую и Дворцовую площадь, Адмиралтейство и Александровский сад. Их сменили свежераскорчеванные колхозные яблоневые посадки, имеющие вид плоского глинистого поля без границ, уставленные коробками хрущевок и параллелепипедами брежневских девятиэтажек. Иногда среди поля попадалось более сложное по форме, но не менее уродливое здание школы или детского сада. Самой сутью семейной общности была удивительная преданность и сплоченность, никогда не выставляемая на показ. Их безоговорочная и безусловная любовь друг к другу не требовала внешних проявлений и специальных подтверждений. Они просто так жили. Каждая из сестер не раз говорила мне о том, какой особенной женщиной была Фанни Яковлевна – их мама, моя прабабка. Она умерла в 1955 году, последний год болела и тяжело передвигалась по квартире. Но никто ни разу не вспомнил, что она казалась немощной. Определяющим ее качеством являлись сила духа и любовь к близким. И от этого ее непререкаемый авторитет, и послушное внимание к ее словам со стороны людей взрослых, самостоятельных и прошедших немыслимые испытания. В ней, вероятно, исток всего. Она передала четырем своим дочерям и сыну то особое чувство семьи, которое я помню, пока они были живы, и которое не могу найти нигде больше, кроме как в своих воспоминаниях. Мужчины Картина старшего поколения получается не полной без описания мужчин. Как мне сейчас кажется, сестры создавали пространство и скрепляли его своими отношениями. А мужчины воплощали собой своеобразный стержень, смысловой центр. Для меня ребенка, подростка, все эти годы семейные собрания (чаще всего они проходили в квартире Бориса) без преувеличения воспринимались событиями грандиозными на фоне будней, сереньких разговоров в школе, вечерних домашних рассуждений о деньгах, работе, усталости и болезнях. Люди, собиравшиеся за праздничным столом, казались представителями другого мира и носителями особой культуры и сокровенного знания. Если говорить о доме Бориса, не последнюю роль в этом впечатлении играло пространство большой старинной петербургской квартиры. Антикварная обстановка, количество гостей – нередко более 30 человек, а также теннисных размеров стол, сервированный по образу и подобию иллюстраций из знаменитой сталинской книги «О вкусной и здоровой пище». На фоне этого великолепия мое детское восприятие выделяло среди гостей, проходящих по длинному коридору в гостиную, двух мужчин подобных айсбергам или линкорам посреди океана. Прежде всего, они выделялись ростом и статью и были выше остальных почти на голову. Кроме того, их отличала прямизна осанки, массивность плеч, выправка и ореол воинской славы. Вероятно, так могли выглядеть отставные офицеры белой гвардии. В детстве я почти физически ощущал их двумя столпами – опорами дома. Так ли это было в обыденной жизни? Не имеет значения. При близком рассмотрении они были совершенно разными. Один из них – Михаил Савельевич Гавронский, муж Доры. Другой – Александр Иванович Бродский, муж Марии и отец Иосифа. Михаил Савельевич После войны Михаил Савельевич был кинорежиссёром, в основном документального кино. До войны играл на сцене и снял известный художественный фильм: «Концерт Бетховена». У него была внешность немолодого лондонского денди, щегольские усики и благородные артистические манеры. Дома он ходил в длинной бархатной куртке со шнуром. Дора после войны стала актрисой театра Комиссаржевской. У них была настоящая артистическая богемная семья. Но не захудалая, мансардная, а успешная и преуспевающая. Мне как ребенку было мало что известно об их жизни. Я видел только, что работают они немного. Михаил Савельевич подолгу отдыхал в Репино, в комфортабельном Доме киноработников. Дора играла редко, и больше в эпизодических ролях. Но при этом создавалось впечатление, что они ведут веселую благополучную жизнь, а дом их можно назвать роскошным. Во время семейных застолий Дора всегда играла, как на сцене, и любила выступать с тостами. Михаил Савельич оказывался в роли балагура и души общества, а также в качестве значимого гостя, способного блеснуть эрудицией и занять собеседников неизвестной богемной историей или серьёзным разговором о театре или кино. В этих разговорах особенно ценилась рафинированность и знание деталей. Тон мог быть, как очень серьезным, так и совершенно водевильным. За столом время проводили весело, и пили много. После войны творческая интеллигенция в этом не уступала гегемону, употребляя, как правило, более дорогую водку с хорошей закуской и коньяк. На фото тех времен Миша Гавронский часто попадается с доставаемой откуда-то бутылкой, а Дора с бокалом и в театральной позе. Их внутренняя жизнь была от меня сокрыта. Детей у них не было. Но я не помню у Доры обычного в таких случаях затаенного женского страдания, и Михаила Савельевича это как будто не беспокоило. Кроме внешнего блеска и великолепных манер, Михаила Савельевича отличали фантастическая щепетильность и чувство собственного достоинства. С 1941 года он воевал солдатом и сержантом прошел множество боев. При форсировании Днепра был тяжело ранен. Не помню кто, бабушка или Мария, рассказывали мне, что он попал в одну из групп, захватывающих плацдармы на вражеском берегу реки. Из всех штурмовых отрядов остались в живых два или три человека, и все они были представлены к званию героя Советского Союза. Михаила Савельича с тяжелым ранением вывезли в глубокий тыл, затем его комиссовали. Таким образом, в список награжденных он не попал. После войны у него были все возможности получить эту награду, но он отказывался собирать бумаги и подавать прошения. Более того, яростно отвергал все уговоры, направленные на то, чтобы это сделать. Так же он относился ко всем ветеранским, военным льготам и юбилейным наградам. Ничего никогда не просил, не искал привилегий. Это было ниже его достоинства. Последний раз встретил его случайно в троллейбусе на Загородном проспекте, незадолго до его смерти. Он был одет в великолепного покроя пальто, по-прежнему статен, ростом и манерами выделялся из толпы, но старость и нездоровье уже брали свое. У него начиналась болезнь Паркинсона, дрожали руки, и стоять долго было трудно. Однако, когда в троллейбус вошла женщина, он единственный из всех встал и уступил ей место. Ленд-лиз В пространстве семьи будничном или праздничном Иосиф чаще всего был «где-то не здесь», (в экспедиции, ссылке, эмиграции), но практически постоянно присутствовал в разговорах и мыслях о нем, создавая на фоне обыденности семейную легенду. Его фактические появления сейчас мне напоминают открытые освещенные окна на темном фасаде здания. В них можно увидеть яркие случайные сцены незнакомой жизни, между которыми совершенно нет сюжетной связи. Не ясен их точный смысл, и они отделены друг от друга протяженными темными плоскостями неизвестного. Одно из таких окон в заброшенном каталоге воспоминаний именуется: ленд-лиз. Это тоже детское воспоминание. Его отчетливость объясняется совершенно необычным содержанием. Это была ссора: яростная, настоящая. Нечто совершенно в нашей семье немыслимое. Мы были в гостях у Доры. Камерная семейная посиделка включала самых близких, и ее редкой особенностью было присутствие Иосифа. Семейные собрания всегда были насыщены разговорами об искусстве или политике. Диапазон был широк: от последних театральных сплетен до сравнительного анализа концепций авангардного искусства или непосредственных воспоминаний из жизни богемы начала века. Присутствовали также водка и коньяк с хорошей закуской в стиле булгаковского: «А Бог сегодня послал…» Разговоры во время таких вечеров иногда перерастали в споры, порой горячие, но всегда корректные. Бродский же обыкновенно имел обо всем оригинальное мнение. В этот раз Иосиф и Михаил Савельевич сначала рассуждали, а потом заспорили о причинах победы в Великой Отечественной войне. Иосиф высказал совершенно крамольную по тем временам мысль: выиграть войну в решающей степени помог американский ленд-лиз. Тут с Гавронским они заговорили особенно горячо. В какой-то момент перешли на крик, затем Михаил Савельевич вскочил, выкинул в указующем жесте руку в сторону двери и заорал: «Вон из моего дома!» Иосиф оделся и быстро вышел. Михаил Савельич долго не мог успокоиться, чувствуя себя оскорбленным. Дора утихомиривала его гнев, а остальные испытывали неловкость и некоторую растерянность. Несколько позже они, они конечно, помирились. В нашей семье никогда не было, и быть не могло настоящей вражды. Между ними – тоже. Канистра спирта Пока есть с кем спорить, споры о прошлом продолжаются. И слава Богу! Хуже, когда ты остаешься один, и спросить более некого. В узком ныне семейном кругу мы не сошлись во мнении, где Михаил Гавронский заканчивал войну. По одним представлениям, после тяжелого ранения в живот он больше не возвращался на фронт. Но есть другая версия, по которой он воевал до 1945 года и завершил службу в Венгрии. Фронтовая судьба его требовала уточнений. Память (если все-таки согласиться с тем, что это нечто материальное) для меня более образ и состояние, чем последовательность дат. Однако, взявшись за написание данного текста, я вынужден учиться воспринимать прошлое иначе. Ответ приходится искать в старых документах. Семейный архив, нередко представляет собой какой-нибудь длинный ящик комода, заполненный бумагами, медалями в коробочках и сломанными безделушками. Этот – был ящиком бюро с запахом красного дерева и бумажной пыли. В нем обнаружились пачки старых документов и фотографий, как довоенных, так и времен войны. Перебирая их, я узнал, в том числе, и то, что кроме «Концерта Бетховена» (1936 г.), Михаил Савельевич снял еще один художественный фильм. Кинолента «Приятели» вышла перед войной в 1940 году. Кроме того, он работал над картиной о Полине Виардо и Тургеневе и для этого даже ездил в командировку в Париж. Фильм по какой-то причине не был закончен. А семейные предания сохранили этот эпизод лишь потому, что Гавронский привез Доре из Парижа пол-литра духов «Шанель». Что касается «Концерта Бетховена», из довоенной рекламной брошюры я узнал, что именно к этому фильму Владимир Шмидтгоф и Исаак Дунаевский написали очень известную тогда песню: «Эх, хорошо в стране Советской жить!» Интересно, что по поводу этого текста думали старшие члены нашей семьи, особенно Мария и Александр Иванович Бродский? «…Эх, хорошо страной любимым быть!» – эта фраза прямо для них. Чудовищная ирония. «…Перед нами все двери открыты: Двери вузов, наук и дворцов» А эти строки прямо адресованы Иосифу Бродскому! Впрочем… в образе мыслей старшего поколения есть нечто, недоступное для моего понимания. Более всего в коробке с документами и медалями впечатлили даже не награды, а пачка небольших, листков напечатанных на серой газетной бумаге. Вот текст одного из них. Младшему сержанту тов. Гавронскому М. С. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. СТАЛИН. Приказом по войскам 2 Украинского фронта от 10 марта 1944 г., Объявляю Вам благодарность за отличные боевые действия в осуществлении прорыва обороны немцев и разгрома Уманьско-Христовской группировки противника Командир части: Подпись – закорючка, сделанная толстым красным карандашом. Перечень листков начинается 2 февраля 1943 года: «…за успешное завершение ликвидации немецких войск, окруженных под Сталинградом…», включает бои под Корсунью, Богуслав и Канев, форсирование Днестра, выход к Государственной границе, и заканчивается Берлином. Нынче на бумажках такого размера печатают глянцевый рекламный флаер: приглашение в модный бутик или фитнес-клуб. В этих же невзрачных листках, прежде всего, ощущалось смертельное дыхание войны. Похоже, Гавронский действительно завершил войну в Венгрии. А поводом к поискам и уточнениям послужила следующая семейная история. Большинство солдат и офицеров из тех, кто заканчивал войну в Европе, возвращались домой с добычей. Они привозили более или менее ценные вещи незнакомого европейского качества и назначения. В зависимости от должностей, званий, технических возможностей, и свойств характера отличалось и количество привезенного. Начиная с чемоданов и заканчивая железнодорожными вагонами. Говорят, Дора очень обижалась на Михаила Савельевича, что из вещей он ничего не привез. Приехал только с канистрой спирта. Как говорилось в начале, я всячески избегал писать воспоминания о семье и Иосифе. Вовлекшись, однако, трудно остановиться. Сказать, что работа над текстом доставила удовольствие, было бы не точно. Люди близкие, но давно ушедшие, как будто бы вновь оказались рядом. Однако сейчас я узнаю их по-другому, как взрослый человек, к тому же из другой эпохи. Это движение не похоже на обращение к прошлому, скорее на проживание нового отрезка жизни, и в этом для меня есть особая ценность. Воспоминания всколыхнули устремление, сходное с чувством долга. Теперь мне представляется важным рассказать о семье Иосифа, о нашей семье. Кажется, что таким образом я не только открываю новые страницы их жизни нашим современникам, но еще что-то возвращаю своим близким. Как будто частицу жизни. Есть вещи, которые необходимо рассказать. В некотором роде, я историческая личность, потому что, именно мне вдвоем с Михаилом Руткисом пришлось разобрать обстановку полторы комнаты, перед тем, как ее (комнату) изъяли в жилой фонд. (Кто-то же должен был это сделать). Память воспроизводит трудно передаваемое чувство, значительно более тяжелое, чем то, которое возникает на похоронах. Я многое помню о жизни матери и отца Иосифа, об их ожидании и одиночестве. Я предполагаю рассказать обо всех сестрах и их брате. Об их отношениях и жизни нашей семьи. Мне хотелось бы осветить мало известные факты из жизни Иосифа, касающиеся его родных. И, возможно, рассказать о том, кто и как сохранял архивы и вещи дома, который на наших глазах становится музеем. Теперь я хочу это сделать. Дай мне Бог на это силы и время.