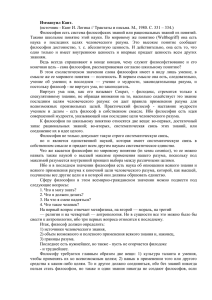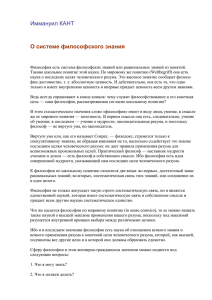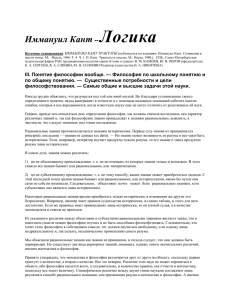О философии
реклама
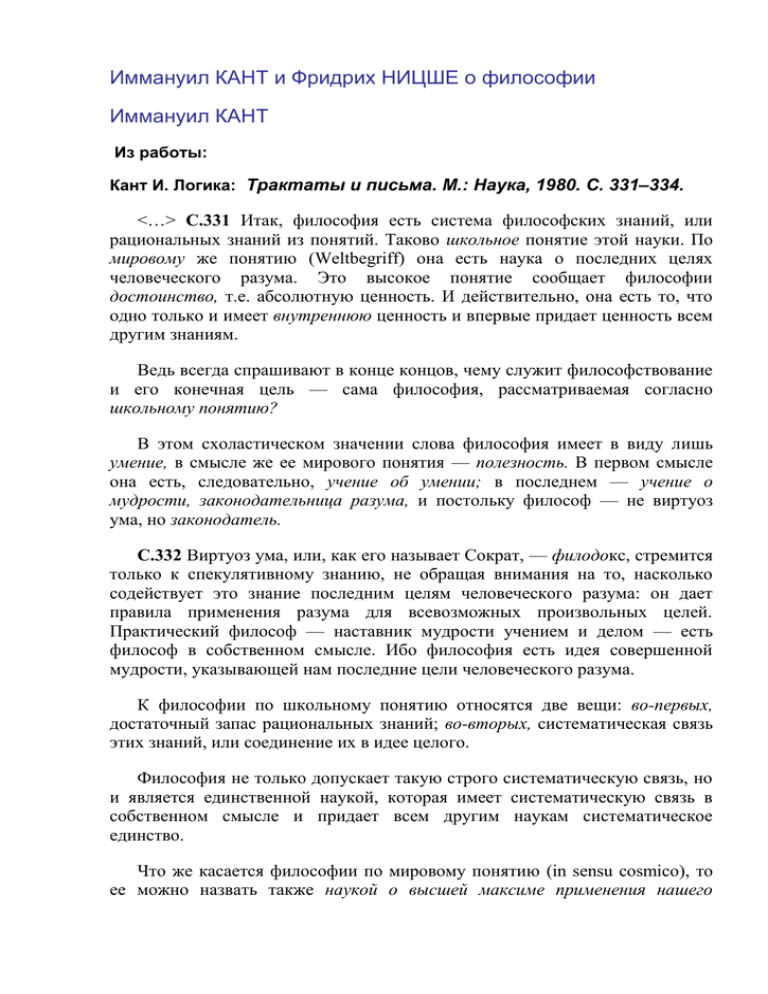
Иммануил КАНТ и Фридрих НИЦШЕ о философии Иммануил КАНТ Из работы: Кант И. Логика: Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 331–334. <…> С.331 Итак, философия есть система философских знаний, или рациональных знаний из понятий. Таково школьное понятие этой науки. По мировому же понятию (Weltbegriff) она есть наука о последних целях человеческого разума. Это высокое понятие сообщает философии достоинство, т.е. абсолютную ценность. И действительно, она есть то, что одно только и имеет внутреннюю ценность и впервые придает ценность всем другим знаниям. Ведь всегда спрашивают в конце концов, чему служит философствование и его конечная цель — сама философия, рассматриваемая согласно школьному понятию? В этом схоластическом значении слова философия имеет в виду лишь умение, в смысле же ее мирового понятия — полезность. В первом смысле она есть, следовательно, учение об умении; в последнем — учение о мудрости, законодательница разума, и постольку философ — не виртуоз ума, но законодатель. С.332 Виртуоз ума, или, как его называет Сократ, — филодокс, стремится только к спекулятивному знанию, не обращая внимания на то, насколько содействует это знание последним целям человеческого разума: он дает правила применения разума для всевозможных произвольных целей. Практический философ — наставник мудрости учением и делом — есть философ в собственном смысле. Ибо философия есть идея совершенной мудрости, указывающей нам последние цели человеческого разума. К философии по школьному понятию относятся две вещи: во-первых, достаточный запас рациональных знаний; во-вторых, систематическая связь этих знаний, или соединение их в идее целого. Философия не только допускает такую строго систематическую связь, но и является единственной наукой, которая имеет систематическую связь в собственном смысле и придает всем другим наукам систематическое единство. Что же касается философии по мировому понятию (in sensu cosmico), то ее можно назвать также наукой о высшей максиме применения нашего разума, поскольку под максимой разумеется внутренний принцип выбора между различными целями. Ибо и в последнем значении философия есть наука об отношении всякого знания и всякого применения разума к конечной цели человеческого разума, которой, как высшей, подчинены все другие цели и в которой они должны образовать единство. Сферу философии в этом всемирно-гражданском значении можно подвести под следующие вопросы: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я смею надеяться? 4. Что такое человек? На первый вопрос отвечает метафизика, на второй — мораль, на третий — религия и на четвертый — антропология. Но, в сущности, все это можно было бы свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему. Итак, философ должен определить: 1. Источники человеческого знания, С.333 2. объем возможного и полезного применения всякого знания и, наконец, 3. границы разума. Последнее есть нужнейшее, но также — пусть не огорчается филодокс — и труднейшее. Философу требуются главным образом две вещи: 1) культура таланта и умения, чтобы применять их ко всевозможным целям; 2) навык в применении того или другого средства к каким-либо целям. То и другое должно соединяться, ибо без знаний никогда нельзя стать философом, но также и одни знания никогда не создают философов, если целесообразная связь всех знаний и навыков не образует единства и не возникает сознание соответствия этого единства высшим целям человеческого разума. Вообще нельзя называть философом того, кто не может философствовать. Философствовать же можно научиться лишь благодаря упражнениям и самостоятельному применению разума. Да и как, собственно, можно научиться философии? — Всякий философский мыслитель строит свое собственное здание (Werk), так сказать, на развалинах предыдущего, но и оно никогда не достигает такого состояния, чтобы стать прочным во всех своих частях. Поэтому философию нельзя изучать уже по той причине, что таковой еще не существует. Но если даже и предположить, что таковая действительно имеется, то все-таки ни один из тех, кто ее хотя и изучил, не мог бы сказать о себе, что он философ, потому что его знание философии всегда было бы лишь субъективно-историческим. Иначе обстоит дело в математике. Эту науку вполне можно до известной степени изучить, ибо доказательства здесь столь очевидны, что каждый может в них убедиться; вместе с тем, в силу своей очевидности, она может, так сказать, сохраняться как надежное и прочное учение. Напротив, кто хочет научиться философствовать, тот все системы философии должен рассматривать лишь как историю применения разума и как объект для упражнения своего философского таланта. Следовательно, истинный философ как самостоятельный мыслитель должен применять свой разум свободно и оригинально, а не рабски подражательно. Но он не должен с. 334 также применять свой разум диалектически, направляя его лишь на то, чтобы сообщить знаниям видимость истины и мудрости. Последнее есть занятие одних софистов и совершенно несовместимо с достоинством философа как знатока и учителя мудрости. Ибо наука имеет внутреннюю истинную ценность лишь как орган мудрости. Но в качестве такового она также необходима для мудрости, так что можно утверждать: мудрость без науки есть лишь тень совершенства, которого нам никогда не достичь. Ненавидящего науку ради любви к одной мудрости называю мисологом. Мисология обыкновенно возникает при отсутствии научных знаний и непременно связанного с этим своего рода тщеславия. Иногда же в ошибку мисологии впадают и те, которые сначала с большим прилежанием и успехом отдавались науке, но в конце концов во всех ее знаниях не нашли никакого удовлетворения. Философия есть единственная наука, которая способна дать нам это внутреннее удовлетворение, ибо она как бы замыкает научный круг, и благодаря ей науки впервые только и получают порядок и связь. Итак, для навыка к самостоятельному мышлению или философствованию нам следует обратить внимание больше на методы нашего применения разума, чем на сами положения, к которым мы пришли с помощью этих методов. Фридрих НИЦШЕ Из работы Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч. в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 244-245, 255-256, 335-338, 400-401, 273-274. 6 с.244 Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия: как раз самоисповедью ее творца, чем-то вроде mémoires, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя; равным образец для меня выяснилось, что нравственные (или безнравственные) цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которой каждый раз вырастает целое растение. В самом деле, мы поступим хорошо (и умно), если для выяснения того, как, собственно, возникли сама отдаленные метафизические утверждения данного философа, зададимся сперва вопросом: какая мораль имеется в виду (имеется им в виду)? Поэтому я не думаю, чтобы «позыв к познанию» был отцом философии, а полагаю, что с.245 здесь, как и в других случаях, какой-либо иной инстинкт пользуется познанием (и незнанием!) только как орудием. А кто приглядится к основным инстинктам человека, исследуя, как далеко они могут простирая свое влияние именно в данном случае, в качестве вдохновляющих гений (или демонов и кобольдов), тот увидит, что все они уже занимались некой философией и что каждый из них очень хотел бы представлять собою последнюю цель существования и изображать управомоченного господина всех остальных инстинктов. Ибо каждый инстинкт властолюбив; и, как таковой, он пытается философствовать. Конечно, у ученых, у людей науки дело может обстоять иначе — «лучше», если угодно, там может действительно существовать нечто вроде позыва к познанию, какое-нибудь маленькое независимое колесо часового механизма, которое, будучи заведено, работает затем бодро без существенного участия всех остальных инстинктов ученого. Настоящие «интересы» ученого сосредоточиваются поэтому обыкновенно на чем-нибудь совершенно ином, например на семействе, или на заработке, или на политике; и даже почти все явно, приставлена ли его маленькая машина к той или иной области науки и представляет ли собою «подающий надежды» молодой труженик хорошего филолога, или знатока грибов, или химика: будет он тем или другим, это не характеризует его. Наоборот, в философе нет совершенно ничего безличного, и в особенности его мораль явно и решительно свидетельствует, кто он такой, т. е. в каком отношении по рангам состоят друг с другом сокровеннейшие инстинкты его природы. <...> 20 с.255 Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего произвольного, ничего само по себе произрастающего, а вырастают в соотношении и родстве друг с другом; что, несмотря на всю кажущуюся внезапность и произвольность их появления в истории мышления, они все же точно так же принадлежат к известной системе, как все виды фауны к данной части света, — это сказывается напоследок в той уверенности, с которой самые различные философы постоянно заполняют некую краеугольную схему возможных философий. Под незримым ярмом постоянно вновь пробегают они по одному и тому же круговому пути, и, как бы независимо ни чувствовали они себя друг от друга со своей критической или систематической волей, нечто в них самих ведет их, нечто гонит их в определенном порядке друг за другом — прирожденная систематичность и родство понятий. Их мышление в самом деле является в гораздо меньшей степени открыванием нового, нежели опознаванием, припоминанием старого, — возвращением под род- с.256 ной кров, в далекую стародавнюю общую вотчину души, в которой некогда выросли эти понятия, — в этом отношении философствование есть род атавизма высшего порядка. Удивительное фамильное сходство всего индийского, греческого, германского философствования объясняется довольно просто. Именно там, где наличествует РОДСТВО языков, благодаря общей философии грамматики (т. е. благодаря бессознательной власти и руководительству одинаковых грамматических фУНКЦИЙ), все неизбежно и заранее подготовлено для однородного развития и последовательности философских систем; точно также как для некоторых иных объяснений мира путь является как бы закрытым. Очень вероятно, философы урало-алтайских наречий (в которых хуже всего развито понятие «субъект») иначе взглянут «в глубь мира» и пойдут иными путями, индогерманцы и мусульмане: ярмо определенных грамматических функций есть в конце концов ярмо физиологических суждений о ценностях и расовых условий. 211 с.335 Я настаиваю на том, чтобы наконец перестали смешивать философских работников и вообще людей науки: с философами, — чтобы именно здесь строго воздавалось «каждому свое» и чтобы на долю первых не приходилось слишком много, а на долю последних — слишком мало. Для воспитания истинного философа, быть может, необходимо, чтобы и сам он стоял некогда на всех тех ступенях, на которых остаются и должны оставаться его слуги, научные работники философии; быть может, он и сам должен быть критиком и скептиком, и догматиком, и историком, и, сверх того, поэтом и собирателем, и путешественником, и отгадчиком загадок, и моралистом, и прорицателем, и «свободомыслящим», и почти всем, чтобы пройти весь круг человеческих ценностей и разного рода чувств ценности, чтобы иметь возможность смотреть различными глазами и с различной совестью с высоты во всякую даль, из глубины во всякую высь, из угла во всякий простор. Но все это только предусловия его задачи; сама же задача требует кое-чего другого — она требует, чтобы он создавал ценности. Упомянутым философским работникам следует, по благородному почину Канта и Гегеля, прочно установить и втиснуть в формулы огромный наличный состав оценок — т. е. былого установления ценностей, создания ценностей, оценок, господствующих нынче и с некоторого времени называемых «истинами», — все равно, будет ли это в области логической, или политической (моральной), или художественной. Этим исследователям надлежит сделать ясным, доступным обсуждению, удобопонятным, сподручным все случившееся и оцененное, надлежит сократить все длинное, даже само «время», и одолеть все прошедшее: это колоссальная и в высшей степени удивительная задача, служение которой может удовлетворить всякую утонченную гордость, всякую упорную волю. Подлинные же философы суть повелители и законодатели; они говорят: «так должно быть!», они-то и определяют «куда?» и «зачем?» человека и при этом распоряжаются подготовительной работой всех философских работников, всех победителей прошлого, — они простирают с.336 творческую руку в будущее, и все, что есть и было, становится для них при этом средством, орудием, молотом. Их «познавание» есть созидание, их созидание есть законодательство, их воля к истине есть воля к власти. — Есть ли нынче такие философы? Были ли уже такие философы? Не должны ли быть такие философы?.. 212 Мне все более и более кажется, что философ, как необходимый человек завтрашнего и послезавтрашнего дня, во все времена находился и должен был находиться в разладе со своим «сегодня»; его врагом был всегда сегодняшний идеал. До сих пор все эти выдающиеся споспешествователи человечества, которых называют философами и которые редко чувствовали себя любителями мудрости, а скорее неприятными безумцами и опасными вопросительными знаками, — находили свою задачу, свою суровую, непреднамеренную, неустранимую задачу, а в конце концов и величие ее в том, чтобы быть злой совестью своего времени. Приставляя, подобно вивисекторам, нож к груди современных им добродетелей, они выдавали то, что было их собственной тайной: желание узнать новое величие человека, новый, еще не изведанный путь к его возвеличению. Каждый раз они открывали, сколько лицемерия, лени, несдержанности и распущенности, сколько лжи скрывается под самым уважаемым типом современной нравственности, сколько добродетелей уже отжило свой век; каждый раз говорили: «мы должны идти туда, где вы нынче меньше всего чувствовать себя дома». Принимая во внимание мир «современных идей», могущих загнать каждого в какой-нибудь угол, в какуюнибудь «специальность», философ, если бы теперь могли быть философы, был бы вынужден отнести величие человека, понятие «величия» именно к его широте и разносторонности, к его цельности в многообразии: он даже определил бы ценность и ранг человека, сообразно тому, как велико количество и разнообразие того, что он может нести и взять на себя, — как далеко может простираться его ответственность. Современный вкус и добродетель ослабляют и разжижают волю; ничто не является до такой степени сообразным времени, как слабость воли: стало быть, в идеале философа в состав понятия «величия» должна входить именно сила воли, суровость и способность к продолжительной решимости; на том же основании, как обратное учение и идеал робкой, самоотверженной, кроткой, бескорыстной человечности подходили к противоположному по характеру веку, к такому, который, подобно шестнадцатому с. 337 столетию, страдал от запруженной энергии воли, от свирепого потока и бурных волн эгоизма. Во времена Сократа среди людей, поголовно зараженных усталостью инстинкта, среди консервативных старых афинян, которые давали волю своим чувствам — «к счастью», по их словам, на деле же к удовольствиям — и у которых все еще не сходили с уст старые великолепные слова, хотя их жизнь уже давно не давала им права на это, — тогда для величия души, быть может, была нужна ирония, та сократическая злобная уверенность старого врача и плебея, который беспощадно вонзался в собственное тело так же, как в тело и сердце «знатных», — вонзался взором, довольно ясно говорившим: «не притворяйтесь предо мной! здесь — мы равны!». Напротив, нынче, когда в Европе одно лишь стадное животное достигает почета и раздает почести, когда «равенство прав» легко может обернуться равенством в бесправии, т.е. всеобщим враждебным отношением ко всему редкому, властному, привилегированному, к высшему человеку, к высшей душе, к высшей обязанности, к высшей ответственности, к творческому избытку мощи и властности, — нынче в состав понятия «величия» входят знатность, желание жить для себя, способность быть отличным от прочих, самостоятельность, необходимость жить на свой страх и риск; и философ выдаст кое-что из собственного идеала, если выставит правило: «самый великий тот, кто может быть самым одиноким, самым скрытным, самым непохожим на всех, — человек, стоящий по ту сторону добра и зла, господин своих добродетелей, обладатель огромного запаса воли; вот что должно называться величием: способность отличаться такой же разносторонностью, как и цельностью, такой же широтой, как и полнотой». Но спрошу еще раз: возможно ли нынче величие?.. 213 Научиться понимать, что такое философ, трудно оттого, что этому нельзя выучить: это нужно «знать» из опыта — или нужно иметь гордость знать этого. Однако в наши дни все говорят о вещах, относительно которых не могут иметь никакого опыта, а это главным образом и хуже всего отзывается на философах и состояниях философии: очень немногие знают их, имеют право их знать, все же популярные мнения о них ложны. Так например, истинно философская совместность смелой, необузданной гениальности, которая мчится presto, и диалектической строгости и необходимости, не делающей ни одного ложного шага, не известна по собственному опыту большинству мыслителей и ученых, отчего и кажется невероятной, если с.338 кто-нибудь заговорит с ними на этот счет. Они представляют себе всякую необходимость в виде нужды, в виде мучительного подчинения и принуждения, и само мышление считается ими за нечто медленное, томительное, почти что за тяжелый труд, и довольно часто за труд, «достойный пота благородных людей», — а вовсе не за нечто легкое, божественное и близко родственное танцу, резвости! «Мыслить» и «относиться серьезно» к делу, «понимать с трудом» — эти вещи для них имеют общую связь: только в таком виде и «переживали» они это явление.... Право на философию — если брать это слово в обширном смысле — можно иметь только благодаря своему происхождению — предки, «кровь» имеют решающее значение также и здесь. Многие поколения должны предварительно работать для возникновения философа; каждая из его добродетелей должна приобретаться, культивироваться, переходить из рода в род и воплощаться нем порознь, — и сюда относится не только смелое, легкое и плавное течение его мыслей, но прежде всего готовность к огромной ответственности, величие царственного взгляда, чувство своей оторванности от толпы, ее обязанностей и добродетелей, благосклонное охранение и защита того, чего не понимают и на что клевещут, — будь это Бог, будь это дьявол, — склонность и привычка к великой справедливости, искусство повелевания, широта воли, спокойное око, которое редко удивляется, редко устремляет свой взор к небу, редко любит. <...> 290 с.400 Каждый глубокий мыслитель больше боится быть понятым, чем непонятым. — В последнем случае, быть может, страдает его тщеславие, в первом же — его сердце, его сочувствие, кото- с.401 рое твердит постоянно: «ах, зачем вы хотите, чтобы и вам было так же тяжело, как мне?» <...> 292 с.401 Философ; это человек, который постоянно переживает необыкновенные вещи, видит, слышит, подозревает их, надеется на них, грезит о них; которого его собственные мысли поражают как бы извне, как бы сверху и снизу, как привычные для него события и грозовые удары; который, быть может, сам представляет собою грозовую тучу, чреватую новыми молниями; это роковой человек, постоянно окруженный громом, грохотом и треском и всякими жутями. Философ: ах, существо, которое часто бежит от самого себя, часто боится себя, — но которое слишком любопытно для того, чтобы постоянно снова не «приходить в себя», не возвращаться к самому себе. <...> 42 с.273 Нарождается новый род философов: я отваживаюсь окрестить их небезопасным именем. Насколько я разгадываю их, насколько они позволяют разгадать себя — ибо им свойственно желание кое в чем вставать загадкой, — эти философы будущего хотели бы по праву, а может быть и без всякого права, называться искусителями. Это имя само напоследок есть только покушение и, если угодно, искушение. 43 Новые ли это друзья «истины», эти нарождающиеся философы? Довольно вероятно, ибо все философы до сих пор любили свои истины. Но наверняка они не будут догматиками. Их гордости и вкусу должно быть противно, чтобы их истина с.274 становилась вместе с тем истиной для каждого, что было до сих пор тайным желанием и задней мыслью всех догматических стремлений. «Мое суждение есть мое суждение: далеко не всякий имеет на него право», — скажет, может быть, такой философ будущего. Нужно отстать от дурного вкуса — желать единомыслия со многими. «Благо» не есть уже благо, если о нем толкует сосед! А как могло бы существовать еще и «общее благо»! Слова противоречат сами себе: что может быть общим, то всегда имеет мало ценности. В конце концов дело должно обстоять так, как оно обстоит и всегда обстояло: великие вещи остаются для великих людей, пропасти — для глубоких, нежности и дрожь ужаса — для чутких, а в общем все редкое — для редких.