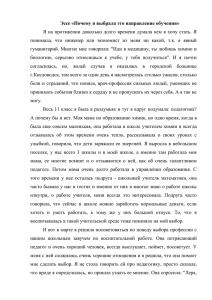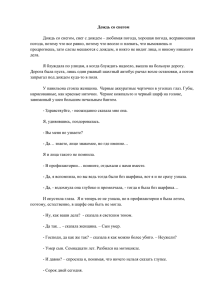Что-то вроде счастья
реклама

Джон Бернсайд o Джон Бернсайд Что-то вроде счастья Фотограф Грегори Холперн / Gregory Halpern Впервые я увидела Артура Маккекни в банке — он принес какие-то чеки. Я только начала там работать, недавно окончила школу, пожалуй, немного нервничала; мне понравилось, как он держится: такой вежливый, говорит негромко, чего не скажешь о других посетителях. Под конец этой первой, почти безмолвной трансакции я уже решила, что он может мне понравиться, хоть и успела заметить, что он сильно отличался от других. Один из тех, кто чересчур думает о вещах, до которых больше никому нет дела, и не обращает особого внимания на людей, так что не понимает, на что они способны, когда их прихватит. Пока он стоял с ручкой, явно изучая надпись на значке, приколотом к моему лацкану, я поймала себя на том, что хочу пробудить его из этого краткого сна. Я, конечно, обратила внимание на фамилию сразу же, как только он протянул мне платежку. Артур Маккекни. Семейство Маккекни известно было всем, причем большинство знало, что хорошего от них не жди. Мне оно было знакомо, в основном, из-за сестры, которая встречалась с худшим представителем семейства. Люди часто говорили Мари, что Стэн Маккекни не подходит ей, и зря — все эти советы лишь укрепляли ее решимость продолжать с ним встречаться. И потом, Стэн был хорош собой, если особенно не приглядываться. Не то что этот Артур, которого будто сложили из конструктора: сплошные углы, не разбери что, глаза странные, чутьчуть косят, а рот словно не доделан до конца, как на детском рисунке. Тогда я еще не знала, что это младший брат Стэна. Мари ни разу не упоминала ни о каком Артуре, зато про сестер Маккекни она говорила постоянно. Мы все про них говорили. Коекто считал, что девчонки Маккекни еще хуже своего брата, хотя бы потому, что они выглядели неплохо, были хорошо одеты. Если не знать их близко, поначалу и не поймешь, на что они способны, а потом уже будет поздно. Стэна легко было раскусить с первого взгляда, как бы он ни отскребал себя дочиста. В его лице было что-то жестокое, и проглядеть это было невозможно, разве что тебе, как Мари, хотелось это проглядеть. Артур протянул мне деньги и платежку; потом, когда трансакция была завершена, он взял квитанцию и аккуратно, не скрываясь, записал на обороте то, что было написано на моем нагрудном значке. Писал он медленно. Ручку держал неуклюже, между большим и указательным пальцами левой руки, а руку изогнул, выводя большими печатными буквами: «ФИОНА, ПРАКТИКАНТ» Казалось, ему плевать, что я все вижу. Закончив, он поднял глаза и кивнул. — Могу я вам еще чем-нибудь помочь? — спросила я, не зная толком, смеяться или сердиться. Он покачал головой. Голос его, когда он заговорил, звучал тихо. — Нет, спасибо, на сегодня все, — произнес он со странным, прямо-таки двусмысленным нажимом на «сегодня». Потом он улыбнулся; улыбка вышла какая-то натянутая, заговорщическая, но не жестокая, и мне стало ясно: он не считает, что вел себя как-то необычно. Он не выпендривался, не хамил — просто записал мое имя на обороте своей квитанции, как мог бы сделать ребенок, по своим собственным побуждениям, не имевшим никакого отношения к другим. Мне хотелось что-нибудь сказать, но нужные слова не находились. Я просто покачала головой, самую малость, и перевела глаза на очередь, высматривая следующего посетителя, — а Артур Маккекни направился к выходу с этой улыбочкой на лице, улыбкой, в которой я уже тогда разглядела не только потайное счастье, но и его неизбежное падение. Я не хочу сказать, будто знала, в чем будет заключаться это падение, не собираюсь заявлять, будто испытала своего рода предчувствие; люди, что ни говори, созданы для падения, а в нашем городке большинству людей ждать его, так или иначе, оставалось недолго. И все-таки что-то необычное я правда заметила, и теперь жалею, что не обратила на это должного внимания. Придя тем вечером домой, я спросила Мари об Артуре. Она была поглощена собой, собиралась на свидание со Стэном, так что я думала, она просто отмахнется, но она перестала краситься и замерла перед зеркалом, глядя на мое отражение; ее карандаш для глаз застыл в воздухе. — Артур? — сказала она. — Господи, он-то где тебе попался? — Он сегодня заходил в банк, — сказала я. — Да ну? — уронив руку, она скривилась. — На этого ты лучше не заглядывайся. Стэн говорит, он чокнутый. — Так кто же он такой? — спросила я, подбирая одежду, разбросанную повсюду; я всегда все подбирала за Мари, даже теперь, когда нам больше не приходилось спать в одной комнате. — Брат Стэна, кто же еще. Только он Стэна прямо достал. — Да? — Я сложила ее бледно-голубой свитер и убрала в комод. — Как это? — Что-то по поводу денег. — Она смотрела, как я собираю в охапку вещи, явно дожидавшиеся стирки. — А что? Ты что, серьезно на него глаз положила? Я фыркнула. — Нет, конечно. Просто не помню, чтобы ты хоть раз говорила, что у Стэна есть брат. — Ну да. — По лицу ее скользнуло озабоченное выражение. — Говорить тут особо не о чем. Я его сперва особо и не замечала. Когда я к ним прихожу, его почти никогда не бывает. А если он дома, просто сидит в углу, читает себе, — при мысли об этом она вздрогнула, — папаша Стэна говорит, Артур на самом деле не Маккекни. Говорит, Маргарет, небось, взяла его у какой-нибудь жены бродячего лудильщика, с которой познакомилась у винного магазина. — Она снова принялась краситься. — Может, оно и вправду так, откуда мне знать. В смысле, он вообще не похож на Стэна. — Так за что Стэн на него злится? Мари покачала головой. — Понятия не имею. И вообще, я тороплюсь. И так уже опаздываю. Пока она наносила на лицо последние штрихи, я ее изучала. Симпатичной она не была, зато как старалась. К тому времени она успела три года проработать на сборочном конвейере и, хоть ни за что не созналась бы в этом, завидовала мне, что я нашла хорошую работу в банке. В ее понимании это означало, что у меня есть будущее. Ну как я могла ей объяснить, что будущее для меня значит меньше, чем она думает? Работа, действительно, была хорошая, все говорили, я радоваться должна; большинство девочек из семейств вроде моего остались без всяких перспектив, восемь часов на конвейере, и все. Люди всегда говорили: ну и повезло тебе. Как будто я выиграла в лотерею или что-то в этом роде. — Куда вы идете-то? — спросила я. Она встала, покрутилась. — Без понятия. По-моему, у Стэна нету денег. — Так, может, ему у Артура взаймы попросить? — Я мило улыбнулась. — Ха-ха. Как смешно. МАРИ никогда не одобряла меня и мой вкус, когда речь шла о романах. Можно, наверное, сказать, что я была посимпатичней ее с виду, а в школе учителя называли меня умницей, но ведь не секрет, что с парнями главное не внешность и не ум, а способность подавать нужные сигналы. Как раз перед тем я встречалась с парнем по имени Джек, но что-то у нас не сложилось, и я испытала странное облегчение, будто меня освободили от необходимости притворяться и дальше, пусть по мелочам, но времени на это уходило много. Мари всегда нравилось думать о любви; у нее уже в девять лет был друг, мальчик по имени Тони Росс, даривший ей открытки на Рождество и на день рождения. И потом, когда она подросла, все эти годы ей явно нравились мальчики, и она им нравилась, в основном, потому, что мальчикам нравится кому-то нравиться. Мари считала, что главный недостаток в парне — интеллект, а те немногие мальчики, которых приводила домой я, как минимум, умели написать свою фамилию и сложить два и два. Про Стэна утверждать определенно было трудно, и в этом крылась одна из причин, почему отец так рассердился на Мари спустя несколько дней после нашего знакомства с Артуром. Это произошло перед его уходом на завод, на смену. — Из Стэна Маккекни никогда не выйдет ничего путного, — заявил он в своем привычном стиле, тихо, но безапелляционно. — Ни на одной работе подолгу не задерживается, деньги считать не умеет, все ему подавай за так. Придет время, он поймет, что никто его не обязан кормить. Держись от него подальше, слышишь меня? Мари, кажется, искренне удивлялась всякий раз, когда про Стэна думали так плохо; все-таки, говорила обычно она, Маккекни — не самые плохие люди на районе, есть и гораздо хуже. Стэну не повезло: он потерял маму в нежном возрасте, а сестры избаловали его до предела. Папаша у него, по сути, был мерзавцем, это все знали, мерзавцем, любившим выпить, но Стэн старается, как может, у него большие планы. Ему просто нужно вырваться, и все. Конечно, грустно было слушать, когда она так говорила, и я вообще не знаю, насколько она сама во все это верила. Дело было в том, что она, выбрав Стэна, уже не могла пойти на попятный, даже если бы захотела. Ей не хотелось признавать, что она ошиблась; поддаваться на уговоры она не собиралась. Даже когда начали ходить слухи про Бобби Каррэна, она отказывалась верить, что Стэн имеет к этому отношение. — Нечего рассказывать сказки, — говорила она. — Сначала разберись, в чем дело, а потом рассказывай. А дело, как оказалось, было нехитрое. Бобби Каррэн выпивал в «Белом лебеде», как вдруг туда зашли Дес Кронин с братьями. Дес и Бобби враждовали с тех пор, как на рождественской вечеринке у Дейва Муни сцепились по пьяни из-за мотоцикла. Все знали, что дело не кончено, однако полгода ничего не происходило, до того вечера в «Лебеде», когда Дес с братьями наткнулись на Бобби, сидевшего в одиночестве, под мухой, в месте, где он пил очень редко. Кронины слишком боялись Бобби, чтобы схватиться с ним по-честному; даже в тот вечер, когда их было трое против одного, они сперва не стали ничего делать, потому что ни у кого из них при себе ничего не было. Драться кулаками и ногами в ботинках, как в старые времена, они не могли — им обязательно требовалось оружие. Поскольку Дес жил через дорогу, нужно было лишь оставить кого-нибудь присматривать за Бобби, чтобы не ушел, пока Кронины сбегают в квартиру к Десу за ножами. Стэн как раз и остался поддерживать с Бобби разговор, пока ребята готовились. Потом, когда Бобби пошел в туалет, он подал Крониным сигнал, и они вошли. Все произошло в считаные секунды — Бобби, наверное, даже не понял, что случилось. Кронины выбежали, все в крови, а остановить их никто не попытался. Хозяин паба Джим, выйдя из-за стойки посмотреть, что там стряслось, оказал Бобби первую помощь, пока кто-то вызывал полицию, а большинство посетителей улетучились, не желая попадаться на глаза блюстителям закона. Один Стэн Маккекни не сдвинулся с места. Он смотрел, как вошли полицейские, смотрел, как выносили тело, и при этом даже глазом не моргнул. Неизвестно, кто распустил слух, что он был замешан, никто не знал точно, правдива ли история, но все поверили, а значит, теперь уже не важно, правда это или нет. Тем летом стояла жара, крепкая, желтоватая. Воздух и так никогда не был особенно чистым — все-таки рядом завод, — но в этот год он стал густым и сухим, словно тонкая материя, которой мне обернули лицо и руки. Считалось, что в банке есть кондиционер, но на деле система не работала; к концу дня мне не терпелось выбраться куда-нибудь, где прохладно, и смыть жар, толстой марлей окутавший кожу. Иногда я просто шла домой и принимала душ, а потом сидела у приоткрытого окна, дожидаясь вечера: Мари в городе, гуляет со Стэном, родители на заводе, работают в вечернюю смену, или сидят внизу, смотрят телеигры. Но бывало, что я шла к старой яме — «двадцатидвушке», так все почему-то называли это место, там можно было плавать, — и проводила в воде около часа, не столько плавала, сколько болталась, зависнув в шепотке прохлады, что поднималась из глубин подо мною. Про это место знали все; когда я училась в школе, мы проводили там остаток дня после уроков, шли туда впятером или вшестером, поплавать, поболтать, покурить, исследовали любовь, дружбу, одиночество, как подростки в поп-музыке или в кино, но к ужину всегда возвращались домой, а вечера проводили в других местах: в клубах, на дискотеках, в пабах, нарядившись, как нам казалось, в то, что нам идет, дожидаясь, пока нас заметят мальчики, которые, как нам казалось, нам нравились. Никто никогда не плавал там по вечерам, а ведь в жаркую погоду это лучшее время. В яме бил какой-то поток — никто не мог толком объяснить, что это — какой-то подземный ручей или источник, — он был холодный и быстрый, прямотаки животная сила, которая двигалась, крутилась в воде. Я всегда ее чувствовала — словно что-то живое прикасается к коже, поднимаясь из глубины, тянет за ноги или обтекает ступни. Движение было не просто поверхностным, а шло из самых недр — сила, обладающая собственными очертаниями. Может, это огромный клубок речных водорослей крутился внизу, в холодном потоке, а может, просто земное притяжение так действует в воде, но ощущение было такое, словно там — что-то в точности под стать мне, той же формы, веса и объема, причем всегда казалось, будто это что-то ожило в тот самый миг, когда я вошла в воду. В тех редких случаях, когда у «двадцатидвушки» мне попадались другие, возникало ощущение, будто меня надули, как если бы я выглянула дома в окно и обнаружила, что у нас на газоне компания ребят передает по кругу бутылку. Впрочем, мое одиночество нарушали редко. Мне нравилось приходить туда в полседьмого, в семь, когда все еще ужинают или смотрят телевизор; я просто соскальзывала в воду и плавала кругами, чтобы стало прохладнее. Не так, как плавают в бассейне, не ради тренировки. Просто мне нравилось быть в воде и ощущать собственное эхо глубоко под собою, в потоке, как оно повторяет каждый мой гребок или замирает, когда я перестаю двигаться. Иногда я выплывала на середину и проводила какое-то время там, болтая ногами в воде, прислушиваясь к окружавшей меня тишине: пробел в воздухе, словно дыхание задержали. Если, пока я плавала, туда заявлялись другие, я слышала их приближение задолго до того, как они доходили до меня, и тогда просто гребла по-собачьи к берегу, собирала свои вещи, чтобы не дать никому испортить этот момент. АРТУРА я там ни разу не видела. Я ни разу не видела его нигде, кроме банка, так что удивилась, когда однажды вечером заметила его выходящим из воды: белый, до странности угловатый, в бледно-голубых трусах и в футболке, волосы облепили лоб, руки и грудь, блестят. Нас разделяло около двадцати ярдов, когда он попался мне на глаза, и я, не успев обдумать ситуацию, нырнула и спряталась в кустах. Наверное, надеялась, что он меня не заметил, потому что вышло неловко — вот так с ним встретиться. Но он успел меня увидеть, это точно. Я почти уверена, что он увидел меня первым: наблюдал за мной, подходя по тропинке, наблюдал в полной тишине, тихо стоял в прохладной воде, ожидая, что произойдет дальше. Я решила, что он хотел меня смутить, просто чтобы посмотреть, что я буду делать. Хотя это наверняка было не так или, по крайней мере, не совсем так, потому что он быстро обернулся и отплыл, как только заметил, что я его увидела. Плавал он хорошо, без усилий, легко, словно животное, обитающее в воде, некое существо, доверчивое и грациозное; он добрался до центра за считаные секунды и нырнул, исчез в темной воде, словно там, внизу, был выход, какой-то ход наружу, известный только ему. Только что был тут, а вот уже исчез, оставив за собой лишь легкую рябь. Я не знала, что делать. Уставилась на то место, где он исчез. Стала ждать, когда он вынырнет набрать воздуху, мне было любопытно, окликнет он меня или нет, или помашет, или просто нырнет снова и так и будет нырять, пока я не уйду. Тут меня поразила такая мысль: поменяйся мы ролями, я бы поступила точно так же. Наверное, я смогла бы пробыть там, под водой, с минуту, может, дольше. Но все равно недостаточно. Не знаю, сколько времени провел под водой Артур, но точно больше минуты. Вероятно, больше пяти минут. Я все думала, скоро ему придется вынырнуть, а он не выныривал. Оставался под водой. Мне в голову пришла мысль, что его подхватило и утащило течением; я даже представляла себе, как придется идти за подмогой или нырять и спасать его, когда он вынырнет, наглотавшийся воды, еле живой, — но делать ничего не делала. Просто стояла. Может, он знает какой-нибудь трюк, вроде того, как бывает в старых фильмах, когда шпион или кто-нибудь в этом роде часами сидит под водой, дыша через выдолбленную палочку или тростинку. Может, он готов скорее утонуть, чем признать поражение и вынырнуть обратно, с неловкостью и чувством, что он обманут. Этого я не знала, но и поверить, что ему грозит опасность, мне как-то не удавалось до конца, а через некоторое время я поняла, что вообще не хочу видеть его, потому что я потревожила его наедине с собой. Жаль, думала я, что я ничего не сказала, могла бы хоть крикнуть ему, что ухожу, теперь он может вылезать, но все-таки не сказала ни слова. Просто повернулась и зашагала обратно той же дорогой, что пришла, придерживаясь тропинки до самой дороги, а спину мою холодила яма с водой, да еще не отставал один звук, едва услышанный, словно птица вспорхнула с поверхности воды или рыба в сероватом раннем вечернем свете взбаламутила тихую заводь, выпрыгнув оттуда в головокружительный, незнакомый мир, чтобы схватить свою добычу. Лето шло, жаркие дни угасали, начиналась сырая, липкая осень. Я время от времени видела Артура в банке: иногда он заговаривал со мной, чаще всего просто протягивал свою стопку чеков и платежек — суммы на них были проставлены его аккуратным, слегка детским почерком, — но выглядел не таким отстраненным, не таким робким, как в тот, первый раз. После того как мы столкнулись у «двадцатидвушки», стало казаться, будто между нами есть какая-то тайна, что-то, о чем мы оба знаем, но обещали не упоминать, и хотя между нами так ничего и не произошло, к сентябрю я поняла, что он мне немножко нравится, пусть и не в том смысле, какой вкладывала в это Мари. Где-то посередине между последним летним теплом и сырым ноябрьским холодом я заметила в Мари перемену и поняла, что это как-то связано со Стэном. Правда, поначалу я не знала, что это как-то связано еще и с Артуром. Стэн, судя по всему, никогда не относился к Артуру по-братски, но до того лета он его, в основном, просто игнорировал. В глазах Стэна Артур и правда был мальчиком из отцовской шутки: щуплый пацан, которого бросили бродячие лудильщики, сидит в углу кухни, мечтая дни напролет, никогда не говоря ни слова. Потом, этим летом, все изменилось. Первые неприятности начались из-за денег: у Стэна их вечно не было, но он не видел тут большой беды, пока брат не начал приходить домой со случайных заработков с полными карманами чеков и денег. Еще хуже было то, что Артур просто копил эти деньги, относил в банк все, что оставалось после квартплаты (Стэн за квартиру никогда не платил), — все откладывал, каждый день уходил из дому, захватив на обед бутербродов с арахисовым маслом, а возвращался поздно и попрежнему ничего не говорил, зато был счастлив, и этого Стэн никак не мог понять, это счастье или что-то вроде счастья, словно как-то ночью, лежа без сна, он задумал какой-то безошибочный план, что-то на будущее, что Стэн не мог себе и представить. Так продолжалось несколько недель, и Стэн на стенку от этого лез, но Артуру ничего не говорил. Он просто срывал злость на Мари, дулся, когда они встречались в «Очаге» или в «Лошадке». Бывало, пригласит ее, а потом бросит за столиком с парочкой других девушек, как поступают женатые старики со своими женами, а сам отправляется бродить по пабу, беседовать с приятелями, обстряпывать дела. Обычно он брал ей пива с лимонадом и уходил, шел играть в бильярд с кем-нибудь, кого Мари не знала, а то трепался с Дженни за стойкой. Они с Дженни когда-то гуляли, говорил он. Теперь они просто добрые друзья. Если бы он только дулся, это Мари еще могла бы вытерпеть, — но тут, с наступлением зимы, Артур внезапно переменился снова. Сначала он купил гитару. — Гитару, пропади она пропадом, — сказала она. — Нет, серьезно: он же вообще играть не умеет. — Какую гитару? — спросила я. Она посмотрела на меня, будто на участницу этого великого заговора против ее счастья. — Откуда я знаю? Какая разница? Я покачала головой. Перемену в Артуре я заметила еще неделю назад, когда он пришел в банк и впервые снял деньги. Я бы не придала этому особого значения, только он, видимо, не знал, как снять деньги с собственного счета. Ему пришлось спросить. — В смысле, какая это гитара: электрическая или акустическая, — сказала я. Мари на секунду задумалась. — Акустическая, — ответила она. — Сидит себе в гостиной, бренчит. Стэн этого терпеть не может. И все остальные тоже. — Может, он решил собрать группу, — предположила я. Мари фыркнула. — Ага, сейчас. Как оказалось, планов собрать группу у Артура не было. Стэн как-то спросил его в присутствии Мари; сцена вышла безобразная: Стэн с папашей издевались над Артуром, а тот сидел за кухонным столом, поглаживал гитарные струны, отвернувшись к окну. Как сказала Мари, он ничего не сказал, просто сидел с такой грустной улыбочкой на лице, словно ему их всех жалко, хоть и видно было, что он сдерживает слезы. Ей самой чуть не стало его жалко, сказала она, но с другой стороны, он же сам на это напрашивался: тут тебе и эта его дурацкая гитара, и странная новая одежда. Когда я последний раз видела Артура в банке, он был одет, как всегда, в черные джинсы и темно-синюю рубашку. — Какая одежда? — спросила я. — О господи, — сказала Мари. — Видела бы ты его. Он полностью переменился. Яркая рубашка в полоску, этот замшевый пиджак, странный такой с виду. Во всяком случае, так мне кажется, что замшевый. — Когда это началось? — Недавно, — сказала она. — Его совершенно не узнать. Целыми днями играет на гитаре, потом уходит, куда — никто не знает. Папаша Стэна говорит, он себе завел какую-нибудь бабу. Я покачала головой. Артур меня до странности разочаровал: то ли тем, что так себя вел перед отцом и Стэном, то ли потому, что я так и представляла себе, как он выставляет себя дураком перед какой-то женщиной. — Вряд ли, — сказала я. — На Артура непохоже. Мари засмеялась. Это был жестокий смех. — Ага, непохоже, — сказала она. — Только у него появились кое-какие деньги, он показал, какой он. — Она бросила на меня неприятный взгляд. — Ты свое упустила, — добавила она. Тут я разозлилась. Не на нее, а на себя, за то, что вообще ввязалась в этот разговор. Какая мне разница, чем занимается Артур Маккекни. Хочет швырять с трудом заработанные деньги на модные шмотки и на гитару, на которой он не умеет играть, — удачи. Я посмотрела на Мари и увидела, что в ее глазах мелькнула неприятная радость. — Ты сегодня вечером идешь куда-то? — спросила я. — Конечно, — ответила она; я так и видела, как она думает: что за дурацкий вопрос. — Со Стэном? Она закатила глаза. — Ага. Я кивнула. — Это не я свое упустила, — сказала я и тут же об этом пожалела. У Мари с лица сошло всякое выражение, потом она засмеялась. — Мне тебя просто жалко, — сказала она, и я почувствовала себя еще хуже, не только из-за нее, но из-за себя, из-за собственной мелочности. Позже мы выяснили, что Артур Маккекни, как правило, просто наряжался в свою странную одежду и сидел в китайском ресторане, один, с полулитровым графином белого вина и тарелкой жареной утятины. А то отправлялся в клуб при церкви и прятался в углу, смотрел, как люди танцуют. Там он, наверное, и познакомился с Хелен Уолш, и тогда-то начались настоящие неприятности. Дело, по сути, было пустяковое. Вроде бы СТЭН Маккекни ходил в один класс с Хелен Уолш, когда Артур был еще в начальной школе. Уолши тогда жили на Глостер-уэй, через два дома от Маккекни, и хоть семьи никогда не дружили — Джо Уолш всегда считал себя выше их, — Стэн решил, будто они с Хелен — парочка, начал увязываться за ней по дороге в школу, пытался поддерживать беседу, делать то да се, чтобы произвести на нее впечатление, вел себя так, словно их связывает не просто похожий адрес. По-моему, Хелен никогда не воспринимала все это всерьез, но когда они перешли в третий класс, Стэн уже ходил и повсюду рассказывал про нее как про свою подружку; он расстроился, когда Джо Уолш выбился в люди и перевез семейство с района — они переехали в один из так называемых административных домов, с отдельной столовой и стеклянными дверьми, выходящими в огороженный дворик с цветниками. Все Маккекни по-своему расстроились, узнав о продвижении Уолшей: папаша Стэна, презиравший Джо за успех, говорил, что тот просто прихлебала, а сестры распустили слух, будто Мэй Уолш пристрастилась к водке. Сильнее всех Уолшей возненавидел Стэн. — Стэн недоволен, — сказала мне как-то после работы Мари. — Артур постоянно таскает его вещи. — Она покачала головой. — Зря он это, ох, зря. — В каком смысле — таскает его вещи? — Я не могла себе представить, чтобы Артур оказался вором, и даже если, не могла себе представить, чтобы у Стэна нашлось что-то, что ему пришлось бы по вкусу. — Да так, ерунду всякую, — сказала она. — Одежду и прочее. Говорит, что берет на время, но Стэн никому не разрешает брать свои вещи. Можешь себе представить? — Я покачала головой, подтвердить, что не могу. — А он берет, надевает Стэнову лучшую рубашку и идет на свидание с этой заносчивой сучкой Уолш. — Не может быть. — Может-может. — Нет, — сказала я. — В смысле, какое же это может быть свидание. Ты можешь себе представить Хелен Уолш с кем-нибудь из Маккекни? Мари кинула на меня злобный взгляд. — Что это ты хочешь сказать? — спросила она. — Сама знаешь, что, — сказала я. — Я не про вас со Стэном говорю… — Нет, про нас. Про кого же еще. — Она закурила сигарету. Обычно она в доме не курила, боялась, как бы папа не поймал. — И все равно мы со Стэном счастливы. Плевать мне, что папа говорит. Я его люблю и собираюсь за него замуж. — Она говорила, как девочка в школьном дворе. — А ты, прежде чем судить других, лучше на себя посмотри. — Она чуть отвернулась и стала смотреть в окно, прижав руку с сигаретой к щеке. Отвечать на это было бессмысленно. Я на нее не сердилась; я не расстроилась. На секунду мне даже захотелось подойти к ней и как-то ее обнять, но такие вещи в нашей семье не приняты. — Я никого не сужу, — сказала я через некоторое время. — Просто хочу тебе счастья. Тут она посмотрела на меня, и я увидела, что она вот-вот заплачет. — Счастья, — тихо произнесла она, словно какое-то иностранное слово, значение которого забыла. Она засмеялась. — Счастья, — повторила она. Она затянулась сигаретой — дымок и свет наступающего вечера сделали ее почти симпатичной, похожей на девушку из телешоу, ночью накануне побега, когда она все бросает — ее больше не будет в сценарии — и начинает новую жизнь в другом месте. В тот год снег выпал рано: каприз природы, метель, прекрасная аномалия. Снег был вроде того, какой бывает в кино, белый, идеальный, глубокий, машины медленно двигались по белым дорогам, люди выходили по утрам из дому или останавливались на главной улице, посмотреть на свет. Какое-то время казалось, будто завода не существует: снег все падал и падал, белый на белое, белый на белое, и вокруг не было ничего серого, дымного, ничего запачканного, способного надолго оставить пятно. Было правда красиво. Люди входили в банк в пальто и перчатках, стряхивая снежинки с плеч и волос у двери, улыбаясь самим себе, повеселевшие от яркости дня. В каждом лице было видно что-то ребяческое, погребенная жизнь поднималась на поверхность, что-то светлое вокруг рта и глаз, по-детски милое. Все выглядели счастливее — или почти все. Стэн Маккекни счастлив не был. Я то и дело слышала об этом от Мари — всякие мелочи, приступы мрачности, угрозы, которые он бормотал, — но уже не обращала внимания. Просто все это выглядело смешно, когда вокруг столько снега и света. Правда, снег лежал недолго. На смену ему пришло серое затишье, сплошной дым и доменный чугун. В общем, вот что я помню про тот день, когда Стэн Маккекни чуть не убил своего брата: как изменился свет, когда растаял снег. Такой день мог случиться только в городке вроде нашего: солнце светило ярко, даже пригревало, но в воздухе висела химическая дымка, свет, расплывчатый, припорошенный пылью, был нам знаком — еще бы, столько прожить в тени завода. Вот что я заметила в то утро, эту бледную дымку и слабый железистый запах, который превратился в привкус во рту: то ли ржавчины, то ли чего-то кладбищенского. Но в тот день чувствовалось и еще что-то, чего я раньше не знала. Если бы потребовалось это описать, я бы сказала так: ощущение того, каким тут все, наверное, было еще до нас, упрямая красота в наполнявшем деревья свете, ощущение земли вокруг нас, где похоронены мертвые и пасутся стада, и есть облака и столбики ограды, все это, бывшее тут прежде, смотрящее на нас как на отклонение от нормы, уродливую, но малоприметную складку в ткани вещей, несущественную на фоне большего. Нападение произошло из-за Стэнова черного свитера. Так, во всяком случае, говорили потом, когда все было кончено: «Этот Стэн Маккекни, он своего брата чуть не убил, а все из-за какого-то свитера». Мари рассказала мне про этот свитер, когда мы обе собирались идти гулять. В тот день, после обеда, Артур взял у Стэна одеколон после бритья, потом надел новый черный свитер, купленный Стэном в прошлые выходные, хоть Стэн и говорил ему уже тысячу раз, что никому не разрешает прикасаться к своим вещам. Никто не знал, куда пошел Артур, но Стэн позвонил Мари и сказал ей, что хочет разобраться с этим раз и навсегда. Мари попыталась его успокоить, хоть и понимала, что это бессмысленно; Стэн, сказала она, уже которую неделю настраивается на крупную ссору, и она знает, что грядут неприятности. Никто не мог предсказать, насколько далеко зайдет дело, никому никогда не суждено было понять, как произошло то, что в конце концов произошло. Этому случаю предстояло стать очередной историей, которую люди рассказывают друг другу, очередным предостережением насчет Маккекни, семейства, в котором один брат способен избить другого ногами до беспамятства из-за свитера, взятого на вечер. Мари была так погружена в собственные переживания, что мои сборы даже не заметила. Потом, когда она закончила рассказывать, и я сказала ей, не переживай, все устаканится, она поняла, что я куда-то собираюсь. — У тебя что, свидание? — выпалила она, не скрывая удивления. Я засмеялась. — Да не пугайся ты так, — сказала я. — С кем? — Не твое дело. — О господи! — Она приложила руки к лицу. — Не с Артуром, нет? Я посмотрела на нее. Говорила она серьезно, однако я видела по ее лицу, что переживает она не за меня — просто боится, как бы вся эта каша не заварилась еще сильнее. Я покачала головой. — Не с ним, нет? — снова спросила она. — Очень надеюсь, что не с ним. Меня подмывало ей сказать, что с ним, просто чтобы посмотреть, какой у нее будет вид, но я не стала. Просто опять покачала головой. — Не говори ерунды, — сказала я. Так или иначе, это было не настоящее свидание. Меня пригласил один человек из банка, высокий, худой, по имени Питер, работавший в бизнес-отделе и в международном. Он был немного старше меня, но мне было скучно, я удивилась, когда он меня пригласил, и согласилась выпить с ним в «Соколе», еще не успев сообразить, что происходит. Так оно бывает на работе. Все эти служебные романы начинаются от скуки, от желания, чтобы что-то произошло и сломало однообразие. Тот вечер, как показали события, оказался достаточно однообразным, и я начала сожалеть о своей ошибке задолго до того, как в бар вошел Артур и встал у стойки, ожидая, пока его обслужат. Он был один, приоделся в Стэнов черный свитер и зеленоватые брюки; может, у него встреча с кем-нибудь, может, просто вышел поглядеть, что происходит. В одном я была уверена — он пришел не на свидание с Хелен Уолш. Сидя и слушая, как Питер распространяется про свои планы на будущее, я наблюдала, как Артур заказал себе пива с лимонадом, и в голову мне пришло, что я его, по сути, совсем не знаю. Я сказала себе, что не следует вмешиваться в его распри со Стэном, что не мое это, в общем-то, дело, но мне скучно было слушать о планах Питера на будущее, и я была рада любому предлогу отделаться от него, пусть хотя бы на пару минут. Когда я сказала Питеру, что мне надо кое с кем поговорить, он как будто не возражал. «Семейные дела», — сказала я в порядке объяснения. Он лишь кивнул и отхлебнул пива. Может, ему со мной тоже было скучно. Артур не видел, как я подошла. Он и когда вошел, меня не заметил, а может, заметил, но не хотел, чтобы я это поняла. Когда он наконец повернул голову и увидел меня, я поняла, что совершаю ошибку. Но возвращаться было уже поздно. Я бросила на него серьезный взгляд. — Хороший свитер, — сказала я. Он поставил стакан на стойку и посмотрел на меня. Он знал, кто я такая, но удивился, что я с ним заговорила. — Спасибо, — сказал он. — Это не мой. Я на вечер одолжил. — Тебе идет, — сказала я. — Спасибо. — Знаешь, тебя Стэн ищет, — сказала я. Чем скорее скажу, что должна сказать, подумала я, тем скорее мы сможем разойтись. Вид у него сделался озадаченный. — То есть? — переспросил он. Но стоило ему открыть рот, как он понял, о чем я. Он покачал головой. — Да нет, — сказал он. — Правда, — сказала я. — Он уже давно что-то замышляет. Я чувствовала себя идиоткой: говорю, как персонаж из мыльной оперы. Ну что я тут стою? Все это не мое дело. Я обернулась, бросила взгляд на Питера. Он подошел к игральному автомату, сыграть. Я снова повернулась к Артуру. — Это не мое дело, — сказала я. — Просто подумала, тебе надо знать. — Ты ничего не понимаешь, — сказал он. — Стэн мой брат. — Он вгляделся в мое лицо. — Мы же братья, — сказал он. — Знаю, — сказала я. Я хотела еще что-то сказать, но не могла придумать, что. На миг мне показалось, будто Артур вот-вот рассмеется; потом, словно впервые заметив меня, словно я была какой-то головоломкой, а он уже много недель подбирал ключи к разгадке и только что разгадал ее, он посмотрел на меня — серьезно, едва ли не озабоченно. — Все нормально, — сказал он. — Я понимаю, ты хотела как лучше, только Стэн — мой брат. Он знает, что я ему ничего плохого не сделаю. Тут бы мне и отстать от него. Это было бы разумно. Не знаю, зачем я решила продолжать. — Вряд ли, — сказала я. — Он как раз сейчас тебя ищет. Он мягко улыбнулся. — Откуда ты знаешь? — спросил он. — Мне сестра сказала. МНЕ стало прямо-таки стыдно за собственные слова, как будто я маленькая и рассказываю сказки. Я понимала, что дело безнадежное, мне хотелось прекратить разговоры, просто взять его за руку и отвести куда-нибудь, в тень, где спокойно, туда, к «двадцатидвушке», где можно спрятаться под водой, пока не минет опасность. — А… — Он наклонился ко мне, и свет немножко сдвинулся на его лице — оптический эффект, — от чего оно стало казаться мягче, не таким резко очерченным. — Вы с Мари сестры. Я кивнула. На миг мне показалось, будто до него дошло — будто мое родство с Мари убедило его, что я знаю, о чем говорю. На миг он опустил голову и уставился на пол, а я подумала, он думает о том, что я сказала. На миг он, может, и правда об этом задумался. Понятия не имею, что крутилось у него в голове в ту минуту, но когда она прошла, я увидела, что он смотрит на меня, опять улыбается, едва заметно покачивая головой. — Спасибо, но ты не беспокойся, — сказал он. — Все будет хорошо. — Он поставил стакан на стойку, там еще оставалась половина, но он не стал допивать и двинулся прочь. — Честно, — сказал он. Мне тогда показалось, что он разочарован, но не в Стэне. Он был разочарован во мне, может, потому, что думал, будто я играю в какую-то игру, придумала какую-то хитроумную уловку, чтобы добиться его внимания. Такое было возможно. «Двадцатидвушку» он не забыл, он замечал меня в банке — может, я ему нравилась, а от таких разговоров ему стало неловко. Когда он повернулся, чтобы уходить, все это крутилось у меня в голове, но было там что-то еще, что-то, чего я не могла объяснить. В тот момент я не зафиксировала это, по крайней мере, в словах, но, думаю, как раз тогда я точно поняла, что он уже пропал, и кто бы что ни сказал ему, это не имело ни малейшего значения. Все равно он обречен — и причины тут самые обыденные, самые банальные. Невинная душа, безнадежный случай, чужак в том единственном месте, которое ему было известно, и он ничего не мог с этим поделать. Сложись обстоятельства по-другому, Артур Маккекни стал бы одним из тех людей, про которых читаешь в газетах: шизоидный тип, который выпрыгивает в окно, решив, что умеет летать, сумасшедший исследователь, пересекающий Арктику с одним лишь рюкзаком и парой альпинистских кошек. Уходя, он кинул взгляд за спину, и я увидела, что он не хуже моего понимает: говорить тут больше нечего, но он все равно сказал. — Увидимся, — сказал он. Стэн настиг его через час. Я думаю, Стэн явно не намеревался так сильно избивать брата из-за какого-то одолженного свитера. Но дело было не в его намерениях. Считается, будто он сказал полиции, мол, не помнит, что совершил в тот вечер, но там было около дюжины свидетелей, и все они дали примерно одни и те же показания: уйдя из «Сокола», Артур отправился в «Очаг», а потом, возвращаясь домой, повстречал Стэна возле кебабной на Глостер-роуд. Стэн подбежал, крича и размахивая кулаками; Артур так и остался стоять, ничего не говоря, первые несколько ударов он воспринял, словно шла какая-то игра, — на лице его, говорили, было странное выражение, чудная полуулыбка, непонятная для всех, хотя все ее видели, и все они потом говорили одно и то же, что Стэн озверел именно от этой улыбки, от этой чудной улыбочки, словно говорившей, что Артур не собирается воспринимать происходящее всерьез: ни гнев Стэна, ни поток ударов, обрушившийся на него. Кое-кто из видевших все это говорил, что он, наверное, был немножко не в своем уме, иначе зачем было вот так стоять и улыбаться, провоцировать нападающего и ничего не делать, чтобы защититься. Когда все было кончено, Стэн не стал предпринимать особых усилий, чтобы убежать. Какое-то время он стоял, оглядывая толпу людей, за всем этим наблюдавших, словно удивляясь, почему они никак не попытались его остановить. После люди говорили, они решили, что Артур умер, глядя, как он вот так лежит на тротуаре, весь искалеченный, не шевелясь. Те, кто был там в начале, понимали, что надо что-то сделать, но все просто стояли и смотрели, сперва человек восемь или десять, потом больше, вся очередь из кебабной высыпала на тротуар посмотреть, что происходит. Ни один из них не попытался помешать Стэну, ни один не попытался остановить его, когда он повернулся и пошел прочь по дороге. Он не бежал — даже не торопился. После кто-то говорил, что он как будто на прогулку вышел, если бы не кровь по всей куртке и на руках. Он не пошел к дому, зашагал в другую сторону и так и шел целый час, пока его не забрала полиция. Когда его привезли в участок, он якобы сказал им, что не хотел этого делать. Сказал, не понимал, что делает. Просто обезумел от ярости. После того как Стэна арестовали, Мари перестала выходить из дому. Все говорили о том, что произошло, рассказывали старые истории о дурных поступках, совершенных Стэном в прошлом, о торговле наркотиками, о краже со взломом, когда он учился в школе, о том случае с Крониными и Бобби Каррэном в «Лебеде». Некоторые из свидетелей нападения — те самые, что стояли и ничего не делали, — говорили даже, что Стэн легко отделался, его могли бы привлечь за попытку убийства, а не за тяжкие телесные повреждения. Мари тем временем не ходила на работу, сидела у себя в комнате, включив радио, правда, не думаю, чтобы она хоть что-нибудь слышала. Иногда она спускалась вниз, все еще в пижаме и халате посередине дня. Она мало говорила, а если и заговаривала, то несла какую-то чушь. «Хоть бы мне взять и исчезнуть, — говорила она. — Хоть бы мне взять и сквозь землю провалиться». Мы все понимали, надо что-то сделать, чтобы вывести ее из этой депрессии, но никому не хотелось делать первый шаг. Так что мы ждали. Иногда я беседовала с мамой, мы перебирали все обычные доводы, потом одна из нас говорила что-нибудь обнадеживающее, и мы продолжали заниматься своими делами. «Это пройдет, — говорила мама. — Понятное дело, она расстраивается, как же иначе». Или я отмечала, что моей сестре, сидящей наверху в халате, только повезло, что Стэн оказался за решеткой. «Если он такое со своим братом мог сделать», — говорила я, начиная предложение, которое не обязательно было заканчивать, и ожидая, пока появится гримаска ужаса, означающая ее согласие. Не то чтобы нам было плевать. Просто мы не знали, что делать, а выяснять было слишком неловко, так что и начинать не хотелось. Тем временем Мари горевала, а мы жили дальше, делая вид, будто все в порядке. В семействе Маккекни, вероятно, происходило примерно то же самое. Старшего сына посадили, младший лежал в больнице; старику оставалось лишь сидеть дома и надеяться, что все оставят его в покое, а там, глядишь, найдется новый предмет для разговоров. Сестрам, и тем было стыдно за то, что совершил Стэн, а они всегда в нем души не чаяли. Я слышала, они отправились всей семьей навестить Артура в больнице, а он их и видеть не захотел. Он просто дождался, пока ему станет лучше, потом пришел в банк, снял все деньги, что оставались на счету, и снова вышел в серый день и пошел, куда — бог его знает. С тех пор я его не видела, с того дня, когда он пришел за своими деньгами, а взгляд у него был темный, застывший, так что я даже немного испугалась. Он не подошел к моему окошку, чтобы снять деньги. Дождался, пока освободится другой кассир, и пошел к ней. Закончив операцию, он положил деньги в карман куртки и что-то пробормотал себе под нос; потом он ушел, даже не оглянувшись. Куда он отправился, никто не знает. Лучше всего считать, что он просто исчез. На неделе перед Рождеством снова пошел снег. Я возвращалась домой после похода по магазинам, шла через парк на Уэймут-роуд, и тут он начался, густой, падающий быстро с самой первой секунды, он ложился на траву, на чахлые сырые кусты, обрамлявшие детскую площадку. Он падал всю дорогу, пока я шла по улице, белил сады, густыми складками устилал живые изгороди, и я невольно замедлила шаг, просто чтобы побыть в этой белизне, глядя, как все вокруг сливается с этим вечным движением, сделавшимся до того густым и быстрым, что, когда я добралась до собственной калитки, уже почти ничего не было видно. Все исчезало, вливаясь в этот поток, — дома, припаркованные машины, тротуар; городок у меня за спиной превратился в шепоток, не больше, в легкий привкус железа и дыма, в смутную массу, поглощаемую метелью. Этот снег был совсем не такой, как в ноябре: тогда повсюду была яркость, заметные следы, дорожки и царапины на белом, превращавшиеся в сливово-синие и черные с наступлением темноты, а этот был темным с самого начала, темным по-новому: да, лежал он белым, но сыпался из низких облаков сливово-синим и черным. Первый снег был снегом в кино, этот был снегом во сне. Стоял сильный холод. Выйдя из дому, я сперва этого не заметила, но теперь почувствовала, как совершенный холод пробирает до костей; по мере того как сады вокруг исчезали под снегом, я чувствовала, как этот совершенный холод отстраняет меня от всего, и я остаюсь совершенно одна на этой улице, исчезаю, снежинка за снежинкой, миг за мигом. Мари говорила, что хочет исчезнуть, но она имела в виду другое — на самом деле она хотела вернуться в те времена, когда еще не познакомилась со Стэном, когда жизнь казалась полной возможностей. Она не хотела стать невидимой, она хотела, чтобы ее видели такой, какой она сама себя видит, а не героиней местных новостей. Когда она говорила, что лучше бы ей сквозь землю провалиться, я понимала: стыд ее скоро пройдет, через год все, что с ней произошло, будет неважно. Она встретит другого, выйдет замуж, будет жить, как жила наша мать; люди будут воспринимать ее как чью-то жену, потом — как чью-то мать, и невидимой она не станет — никогда. А я стану. Я стану невидимой. Это уже начиналось под неумолимым, летучим снегом — я уже начинала исчезать, исчезать не просто в этой белизне, но во всем, что меня окружало. Словно призрак в кино, сливаясь с пейзажем, я начинала испаряться из собственной жизни, при этом никуда не уходя, а просто оставаясь на месте и занимаясь тем, чем всегда занималась. Работала в банке, готовила ужин, читала свою книжку, плавала в «двадцатидвушке» летом, гуляла под снегом зимой. Это было как-то связано с Артуром, все это исчезание — глупо, и все-таки это правда. В отличие от Мари, я не хотела провалиться сквозь землю, зато я знала, что начинаю сходить на нет, постепенно исчезать — и ощущение от этого было, что ни говори, не такое уж плохое. Ничего плохого в этом не было; возможно, я всегда только этого и хотела. Оставаться на месте и исчезать, сливаясь с обоями. Ничего не хотеть: ни хорошей работы, ни мужа, ни детей. Ни денег, ни счастья. Ни того, что мои родители могли бы назвать будущим. Вся моя жизнь будет похожа на эти утра, когда почтальон приходит и стоит у двери, перебирая стопку открыток и писем: он думает, дома никого нет, такая там стоит тишина, а на самом деле все это время кто-то сидит на кухне, слушает, как он возится с почтой, а сам заваривает чай или мажет маслом гренки, не особенно счастливый, если уж вам угодно говорить про счастье, но и нельзя сказать, что несчастный. Это было нечто вроде того, что показывают в кино или по телевизору, но мне представлялось, что это хорошо, — так я думала, пока стояла под снегом, незаметно сливаясь с жизнью, которую не выбирала, но теперь, когда узнала о ее существовании, не хотела от нее отказываться. Когда я вошла в дом, Мари сидела в кухне и смотрела, как закипает чайник. Лицо у нее было белое и пустое, ненакрашенное, волосы растрепанные. Окна все запотели, и мне пришло в голову, что она, вероятно, уже давно тут сидит. — Все нормально? — спросила я. Она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Когда я вошла, она, видимо, собиралась заваривать чай, но забыла, чем занимается, а может, решила, что неохота. — Хочешь чего-нибудь? — спросила я. Она покачала головой. — Я все думаю про Стэна, — сказала она. Я кивнула. — Ну да, конечно, — с этими словами я шагнула к ней. Я подумала, может, протянуть руку, прикоснуться к ней — к руке, плечу, — потом решила, не стоит. Она негромко засмеялась. — Он ему не шел, — сказала она. — Я ему так и сказала, когда он купил его. Сразу же сказала, как только он его примерил: «Стэн, он тебе не идет». — Она посмотрела на меня. — И вообще, — сказала она, — подумаешь, свитер. Я снова кивнула. Мне хотелось подойти к ней и что-то сделать, но я не знала, что. Через некоторое время я достала из буфета пакетики и заварила чай. Потом сунула в тостер четыре ломтика хлеба. Стояла тишина, ни разговоров, ни звука, только безмолвное, непрерывное присутствие снега в окне, — и мне захотелось, чтобы она увидела, как это красиво, пускай не всегда, зато хотя бы сейчас, но когда я обернулась, она спала на стуле: голова откинута назад, руки болтаются по бокам. Было похоже на эквилибристику, как будто она годами оттачивала этот номер, и каким бы неустойчивым ни казалось ее положение, я знала, что она не упадет. Я подумала, может, пойти с чаем в комнату, но решила остаться с ней за компанию. Вдруг она скоро проснется, а если проснется, то вдруг проголодается. Это будет хороший признак, подумала я. В книжках это всегда хороший признак, когда люди, у которых была депрессия, снова начинают есть. Это начало чего-то: новой жизни, восстановления. Я сунула в тостер еще четыре ломтика хлеба и достала из буфета джем и новую, непочатую банку черносмородинового варенья. Когда все было готово, я поставила на стол свою чашку и две тарелки с гренками, намазанными маслом, одну для нее, одну для себя. Я успела проголодаться и скоро съела порцию, которую приготовила для себя, — варенья не хотелось, и так хорошо: теплое масло и хрустящие свежие гренки. Было очень вкусно, словно что-то из давнего прошлого, какое-то детское удовольствие. Потом, доев, я налила себе еще чаю; мне все еще хотелось есть, и я правда чувствовала себя счастливой, сидя в этой тишине, глядя на снег, поэтому я стащила сперва один ломтик, потом другой, потом все гренки, которые приготовила для Мари, и съела их с вареньем, еще теплыми. 2013

![Автор «Парижского хозяина» [71. Vol. 2], делая в своей книге](http://s1.studylib.ru/store/data/002719181_1-190da5bcc0b015a1566910e454f64256-300x300.png)