ЛАБИРИНТ - образ-метафора постмодернизма
реклама
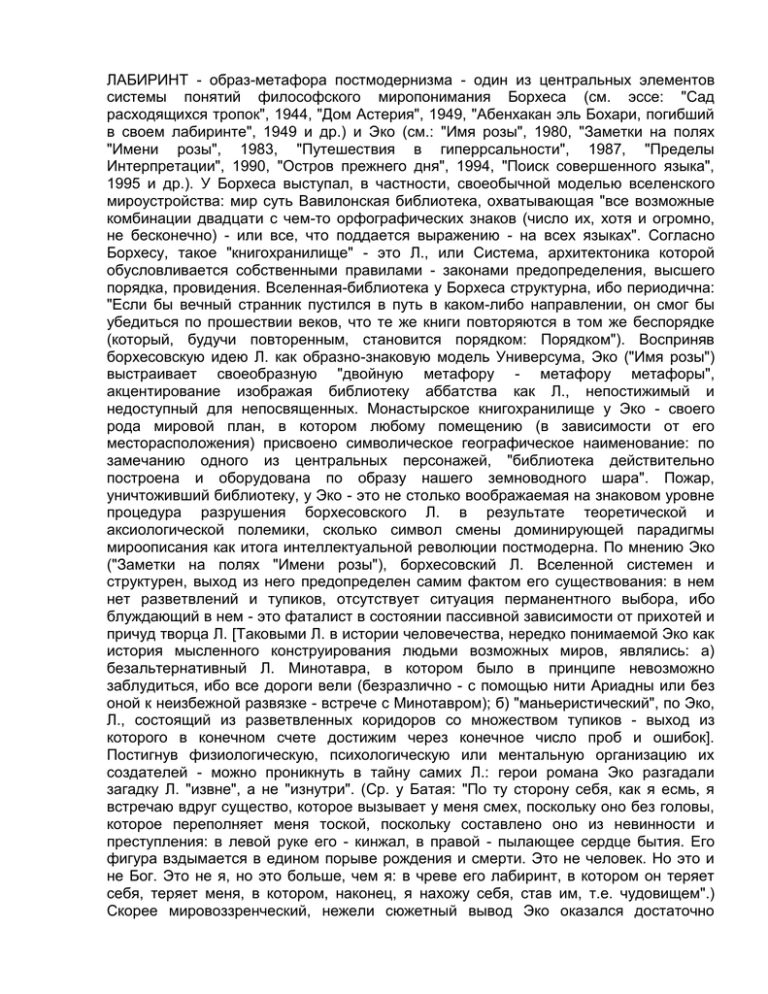
ЛАБИРИНТ - образ-метафора постмодернизма - один из центральных элементов системы понятий философского миропонимания Борхеса (см. эссе: "Сад расходящихся тропок", 1944, "Дом Астерия", 1949, "Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте", 1949 и др.) и Эко (см.: "Имя розы", 1980, "Заметки на полях "Имени розы", 1983, "Путешествия в гиперрсальности", 1987, "Пределы Интерпретации", 1990, "Остров прежнего дня", 1994, "Поиск совершенного языка", 1995 и др.). У Борхеса выступал, в частности, своеобычной моделью вселенского мироустройства: мир суть Вавилонская библиотека, охватывающая "все возможные комбинации двадцати с чем-то орфографических знаков (число их, хотя и огромно, не бесконечно) - или все, что поддается выражению - на всех языках". Согласно Борхесу, такое "книгохранилище" - это Л., или Система, архитектоника которой обусловливается собственными правилами - законами предопределения, высшего порядка, провидения. Вселенная-библиотека у Борхеса структурна, ибо периодична: "Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком: Порядком"). Восприняв борхесовскую идею Л. как образно-знаковую модель Универсума, Эко ("Имя розы") выстраивает своеобразную "двойную метафору - метафору метафоры", акцентирование изображая библиотеку аббатства как Л., непостижимый и недоступный для непосвященных. Монастырское книгохранилище у Эко - своего рода мировой план, в котором любому помещению (в зависимости от его месторасположения) присвоено символическое географическое наименование: по замечанию одного из центральных персонажей, "библиотека действительно построена и оборудована по образу нашего земноводного шара". Пожар, уничтоживший библиотеку, у Эко - это не столько воображаемая на знаковом уровне процедура разрушения борхесовского Л. в результате теоретической и аксиологической полемики, сколько символ смены доминирующей парадигмы мироописания как итога интеллектуальной революции постмодерна. По мнению Эко ("Заметки на полях "Имени розы"), борхесовский Л. Вселенной системен и структурен, выход из него предопределен самим фактом его существования: в нем нет разветвлений и тупиков, отсутствует ситуация перманентного выбора, ибо блуждающий в нем - это фаталист в состоянии пассивной зависимости от прихотей и причуд творца Л. [Таковыми Л. в истории человечества, нередко понимаемой Эко как история мысленного конструирования людьми возможных миров, являлись: а) безальтернативный Л. Минотавра, в котором было в принципе невозможно заблудиться, ибо все дороги вели (безразлично - с помощью нити Ариадны или без оной к неизбежной развязке - встрече с Минотавром); б) "маньеристический", по Эко, Л., состоящий из разветвленных коридоров со множеством тупиков - выход из которого в конечном счете достижим через конечное число проб и ошибок]. Постигнув физиологическую, психологическую или ментальную организацию их создателей - можно проникнуть в тайну самих Л.: герои романа Эко разгадали загадку Л. "извне", а не "изнутри". (Ср. у Батая: "По ту сторону себя, как я есмь, я встречаю вдруг существо, которое вызывает у меня смех, поскольку оно без головы, которое переполняет меня тоской, поскольку составлено оно из невинности и преступления: в левой руке его - кинжал, в правой - пылающее сердце бытия. Его фигура вздымается в едином порыве рождения и смерти. Это не человек. Но это и не Бог. Это не я, но это больше, чем я: в чреве его лабиринт, в котором он теряет себя, теряет меня, в котором, наконец, я нахожу себя, став им, т.е. чудовищем".) Скорее мировоззренческий, нежели сюжетный вывод Эко оказался достаточно категоричен: "Хорхе не смог соответствовать собственному первоначальному замыслу". Согласно Эко, подлинная схема Л. мироздания - это "ризома", устроенная так, что в ней "каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична". Путешествие в таком Л. - являет собой ситуацию постоянного выбора, облик создателя такого Л. куда менее значим: мир такого Л. не достроен до конца, не подвластен даже предельному рациональному пониманию: "Пространство догадки пространство ризомы" (Эко). Сопряжение "ризомы" и "структуры", с точки зрения Эко, невозможно и немыслимо - это понятия-антиподы. Постмодернистский Л. ризомы призван сменить традиционалистский, классический Л. мироподобной библиотеки Хорхе Бургосского, прототипом которого для Эко был сам Борхес. Истоки идеи Л. ризомы Эко усматривал в парадигме устройства мироздания средневекового герметизма, а именно в идее о том, что мир целиком отражается в любом своем конкретном проявлении ("принцип всеобщего подобия"), вкупе с отказом от закона причинной обусловленности, результирующимся в трактовке Универсума как "сети переплетающихся подобий и космических симпатий". Семиозис в рамках герметизма, по Эко, органично допускает и фундирует "герметический дрейф" "интерпретативный обычай, преобладавший в ренессансном герметизме и основывающийся на принципах универсальной аналогии и симпатии". Последний на уровне интеллектуальной практики являет собой бесконечный переход "от значения к значению, от подобия к подобию, от связи к другой связи": знак, тем самым, по Эко, оказывается чем-то таким, посредством познания которого мы постигаем "нечто иное" (ср.: посредством познания знака мы постигаем "нечто большее", по Пирсу). Историческим коррелятом "герметического дрейфа" в предельных его версиях Эко полагал поиск источников бесконечных значений в процедурах каббалы, отдавая предпочтение "процессу свободного лингвистического творения" или "экстатической каббале" (когда почетное место между Текстом и Богом занимал Толкователь) перед "теософической каббалой" (когда посредником между Богом и Толкователем выступал Текст). Пророча наступление Эона Ризомы, Эко не пренебрег постановкой ряда очевидных проблем: Бесконечна ли ризома? Допустима ли акцентированно безграничная и беспредельная иерархия смыслов и значений применительно к миру людей, понимаемому и интерпретируемому в качестве особого Текста, особого Мира Знаков? Насколько продуктивен в предельных своих проявлениях сопряженный с бытием этого мира бунт Означающего против тирании Означаемого? Отталкиваясь от экстравагантных мистических опытов герметизма и оккультизма, продуцируя мыслимый диапазон траекторий человеческих судеб в Л. пространства ризомы, Эко пришел к выводу ("Маятник Фуко", "Остров накануне"): семиозис в игровой форме есть и безусловно должен быть ограничен. "Рамки" гиперпространства ризомы задаются предельно артикулированной сакральной осмысленностью жизни и ее смыслов: только "о-смысленный", по Эко, семиозис - нить из бес-смысленного ризоматического Л.: "рождение Читателя оплачено смертью Автора" (Р.Барт). Для человека не может быть ситуации невозможности преодоления Л. - есть неизбывная проблема цены этого. (См. Борхес, Эко, Ризома, "Смерть субъекта".) А.А. Грицанов ЛАБРИОЛА (Labriola) Антонио (1843-1904) - итальянский философ марксистской ориентации. Участвовал в создании Итальянской социалистической партии. Профессор (1874). Основные работы: "В память манифеста коммунистов" (1896), "Об историческом материализме" (1897), "Очерки материалистического понимания истории" (1895-1898, опубликована в 1925) и др. Разделяя приверженность Маркса методу позитивизма, Л. сознательно отвергал его материализм в понимании как природы, так и истории. Материя, согласно Л., "знак или метафизическое воспоминание... выражение последнего гипотетического субстрата натуралистического опыта". Исторический материализм, не имея отношения к естествознанию, не способен выступать, по мнению Л., "метафизикой материи", поскольку природа и культура потенциально могут лишь фрагментарно взаимозависеть и взаимодействовать, никогда в принципе не совпадая. Культура постигаема через реконструкцию базовых оснований общества как человеком порожденного феномена, человек - не только субъект истории, он в первую очередь ее Творец. Анализируя "вечную" проблему марксистски ориентированных концепций о соотношении базиса и надстройки, первичного и производного в обществе, Л. обращал внимание на то, что "любовь к парадоксам, часто неотделимая от безмерного рвения одержимых приверженцев новой доктрины завербовать максимум сторонников, привела к иллюзии (многим казавшейся очевидностью), что экономический фактор все объясняет". Способ бытия, по мнению Л., первичен по отношению к сознанию, но лишь в конечном счете (что признавал и Энгельс, с которым Л. состоял в переписке). Экономическая анатомия общества являет собой лишь часть общей картины. Учет значимости общественных феноменов, "общественной психологии" (термин введен Л.) - в полном объеме их нюансов, внутренних связей и опосредствований - фактор, по важности соразмерный анализу экономики при адекватной трактовке исторических процессов. Марксизм в трактовке Л. - нечто иное, чем материализм либо натурализм традиционалистских типов: он (как и дарвинизм) ценен исключительно как метод, как установка на познание мира через действие. Субъект истории формирует среду обитания, средства производства, тем самым творя себя. Согласно твердой убежденности Л., претензии неофитов от марксизма на придание этой доктрине статуса системообразующей и миросоразмерной натурфилософии бессмысленны. А.А. Грицанов ЛАВРОВ Петр Лаврович (1823-1900) - русский философ, социолог, публицист, идеолог народничества. Получил военное образование, преподавал в военных учебных заведениях. В 1868-1869 публикует "Исторические письма", ставшие "библией" радикальной молодежи. С 1870 за границей, издает газету "Вперед!", подготавливает обобщающие философско-социологические труды. Как ученый и мыслитель стремился к интегральному философскому синтезу всего, доступного человеческому познанию. По своим взглядам был близок к левому гегельянству и особенно позитивизму; к идеям последнего пришел самостоятельно еще до знакомства с Контом. Позитивизм рассматривался Л. не столько как философия, сколько как научный метод решения задач социальной науки. Характерный для взглядов Л. примат этики (практической философии), сознания нравственного долга выразился в фундаментальной характеристике его мировоззрения - антропологизме: идее "цельного человека" как единственной реальности. С точки зрения антропологизма, невозможно познать сущность вещей и определить подлинную реальность, можно только гармонически объединить мир явлений, исходя из принципа скептицизма (критичности), не распространяющегося, однако, на область практической философии, где личность сознает себя свободной (хотя объективно, генетически это не так) и потому ответственной перед собой. Иными словами антропологизм Л. оборачивается этическим имманентизмом: реально только то, в чем человеку дано действовать, т.е. история, движущей силой которой является мысль человека, открывающая простор для свободы. Тайна бытия сосредоточена в человеке, в его моральном сознании, а потому человек как неразделенное целое и является предметом философии, что делает неприемлемыми все традиционные философские школы (материализм, спиритуализм). Высший уровень философии философия в жизни как единство нравственного идеала и действия. В этом пункте философия перерастает у Л. в социологию. Л. считается основоположником социологии на русской почве, первым русским социологом. Рассматривая социологию в качестве завершения системы наук (антропологии) и отличая ее от исторической науки (сосредоточенной на социальной динамике), Л. определяет ее как науку о солидарности, ее формах и эволюции. Солидарность есть общность привычек, интересов, аффектов или убеждений, совпадение личного интереса с интересом общественным. Нужно не только теоретически исследовать явления солидарности, но и решить практическую задачу ее осуществления, что приводит Л. к выводу о наличии в социологии особого субъективного метода, выражающегося в неизбежной оценке любого исследуемого социального явления с точки зрения определенного нравственного идеала. В этом выявляется этическая доминанта социологии Л., фактически выступившего предшественником неокантианского подхода к обществу. Не принимая органицистских трактовок общества (Спенсер, Маркс), Л., считая личность единственной и исходной социальной реальностью, не отрицает реальность общества, которое, являясь сверхличным бытием, не может быть, однако, внеличным. Личности противостоит не общество как таковое, а культура в качестве совокупности склонных к застою социальных форм. История есть процесс переработки культуры мыслью с целью создания социальных форм, способствующих развитию индивида. А поскольку сознание существует только в человеке и не все люди в силу разных причин могут достичь высокого уровня самосознания, то реальными субъектами истории являются "критически мыслящие личности", способные выработать в себе высший нравственный идеал. Анализируя социальную мотивацию, Л. определяет в качестве высшего мотива потребность в развитии, которая наиболее присуща именно критически мыслящим личностям. Очевиден, т.обр., сугубый интеллектуализм Л. в понимании личности, к тому же он так и не смог найти выход из дуализма физической и этической детерминации индивида (особенно в поздних трудах, где Л. от рассуждений об идеальной личности обращается к анализу реального исторического процесса ее становления). Философия истории Л. представляет собой теорию прогресса. Исходя из того, что история есть в конечном счете история мысли, посредством которой культура перерабатывается в цивилизацию, Л. дает следующую итоговую "формулу прогресса": прогресс есть рост общественного сознания и сознания индивидов, насколько они не препятствуют развитию солидарности, и рост солидарности, насколько она не препятствует развитию сознания и опирается на него. Историческая эволюция выступает как смена (под воздействием критической мысли) форм солидарности вплоть до достижения сознательной солидарности, совпадающей с социалистическим переустройством общества. В политической проекции взгляды Л. характеризуются критикой революционного авантюризма. Другие сочинения Л.: "Очерки вопросов практической философии. I. Личность" (I860), "Три беседы о современном значении философии" (1861), "Опыт истории мысли. Т. 1. Вып. 1" (1875), "Очерк эволюции человеческой мысли" (1898), "Задачи понимания истории" (1898), "Важнейшие моменты в истории мысли" (1903), "Современное учение о нравственности и ее история" (1903-1904), "Этюды о западной литературе" (1923) и др. Г.Я. Миненков ЛАКАН (Lacan) Жак (1901-1981) - французский психоаналитик и философ. Как автор концепции "структурного психоанализа" Л. исходит из решительного разрыва с классической философией самосознания и классическим психоанализом в части его индивидуально-биологизированного понимания бессознательного. В целом "структурный психоанализ" может быть охарактеризован как "посткартезианская" и "постфрейдистская" философская антропология и философия культуры. В числе наиболее существенных философских влияний - неогегельянство (Ж.Ипполит), экзистенциализм (Хайдеггер), феноменология (Мерло-Понти). Структуралистская методология воспринята Л. из структурной лингвистики (Сос-сюр), русского формализма (Якобсон) и "структурной антропологии" Леви-Строса. Проект "возвращения к Фрейду", перепрочтения Фрейда сквозь призму структурализма и в рамках экзистенциально-феноменологической аналитики негативности определяет специфику лакановско-го психоанализа. Институциональным оформлением структурного психоанализа является "Парижская школа фрейдизма", возглавляемая Л. с 1964 по 1980. Основной текстологический корпус работ Л. составляют записи его 26 семинаров, регулярно проводившихся с 1953 по 1979. Значительную трудность представляет сам стиль изложения Л. своей концепции. Лакановский дискурс не является теоретическим в общепринятом смысле этого слова. Лакановские тексты, будучи ориентированы не на готовое систематическое знание, а на процессуальный тренинг психоаналитиков и культивирование определенной "литературной квалификации" как основы аналитической практики, сопротивляются дефинитивной работе, систематизации и обобщению. Понятия Л. находятся в процессе постоянного переформулирования, взаимоподстановок и взаимоопределения, обладая главным образом операциональным значением в зависимости от конкретного контекста и решаемой проблемы. Л. предлагает скорее различные модусы проблематизации фундаментальных феноменов человеческого опыта и правила порождения аналитического дискурса по поводу конкретного "патологического" случая, нежели формулирует и решает психологические или метафизические проблемы. Задача структурного психоанализа в первом приближении может быть определена как выявление условий возможности и "грамматики" такого языка, который, обладая характеристиками универсальной системы, был бы, в то же самое время, "языком желания", укорененным в предельно уникальном и интимном (травматическом) опыте индивида. Несущей логической конструкцией всей лакановской концепции является триада "Реальное - Воображаемое - Символическое". Это "порядки" или измерения человеческого существования, в зависимости от координации которых складывается "судьба" субъекта. В зависимости от акцента на Воображаемом (19301940-е), Символическом (1950-1960-е) или Реальном (1970-е) в общей системе можно условно выделить соответствующие этапы эволюции лакановской концепции. Исходной для разработки системы этих порядков стала идея "стадии зеркала", формулировка которой относится к 1936, а первое развернутое изложение содержится в инициационной статье "Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я" (1949). Внешне стадия зеркала проявляется в овладении ребенком в возрасте 6-18 месяцев способностью узнавать свое отражение в зеркале. Смыслом этого события является прохождение человеческого субъекта через первичный механизм идентификации. На стадии зеркала начинается конституирование "онтологической структуры человеческого мира", вытекающей из специфического способа совпадения человеческого существа с самим собой. Природа первичного конституирования человеческого субъекта - в качестве Эго - заключается, по Л., в характерном для человека факте "преждевременности рождения". Очевидными свидетельствами в пользу этого факта, для Л., являются анатомическая незавершенность нервной системы младенца, связанное с этим отсуствие моторной координации и другие объективные показатели. Иными словами, ребенок на этой стадии является не столько особью, сколько полуавтономной частью материнского тела. Будучи не в состоянии укрыться под "сенью инстинкта", младенец вынужден строить свои отношения с реальностью особым, искусственным образом. Он является "фрагментарным телом" и сначала должен попросту овладеть им в качестве автономного единства: научиться отделять себя от окружения, ориентироваться и перемещаться во внешнем мире. Схватывание себя, частей своего тела как единого функционального целого впервые осуществляется ребенком посредством собственного зеркального образа. Ребенок ассимилирует свою форму или гештальт на расстоянии, помещая хаотический внутренний опыт в оболочку зрительного образа. С этого момента ребенок быстро прогрессирует в пользовании своим телом, становясь парадоксальным двойником собственного отражения, проецирующего на него целостность и автономию в визуальном регистре. Стадия зеркала описывает вхождение человеческого существа в порядок Воображаемого. Природа Воображаемого - компенсация изначальной нехватки Реального, проявляющейся в отсутствии "естественных" автономии и адаптационных возможностей младенца. Реальное в первом приближении может быть описано как регистр опыта, в котором отсутствует какое-либо различие или нехватка. В отличие от реальности, которая конституируется как результат прохождения субъектом порядков Воображаемого и Символического, Реальное есть абсолютно исходный и как таковой невозможный для субъекта опыт. Это опыт органической полноты, которому можно сопоставить пребывание младенца в материнской утробе, слитность с телом матери, с материнской "Вещью". Лакановская философская антропология гегелевско-фрейдовско-хайдеггеровская в своем пафосе - исходит из полагания травмы, некоторого неизбывного опыта "экзистенциальной негативности" в качестве фундаментального антропологического Начала. Феномен человека изначально возникает на месте разрыва с Реальным. У человека, по Л., связь с природой с самого начала "искажена наличием в недрах его организма" неких "трещины", "изначального раздора". Рождаясь в мир, человек не обретает новое единство с "телом" матери-Природы, но выбрасывается в иные, "неестественные" измерения существования, где способы компенсации изначальной нехватки Реального не устраняют или даже ослабляют травматизм человеческого существования, но возводят его в новое качество. Единицей плана Воображаемого является "образ", который возникает на стадии зеркала. Зеркальное отражение-двойник является лишь частным случаем - по существу, скорее теоретической метафорой - того, что Л. обозначает как воображаемый образ или "имаго" (imago). Имаго - это такой "образ", который является, во-первых, идеальным, то есть совершенным, завершенным, статуарным, целостным, простым и правильным. Во-вторых, иллюзорным "воображаемым" (предшествующим действительному овладению телом). В-третьих, формативным, способным существенно влиять на образование формы личности и поведения (принятие на себя внешнего образа посредством визуального контакта описывается Л. посредством механизма "гомеоморфной идентификации"). Вчетвертых, отчужденным, радикально внешним "зазеркальным" по отношению к индивиду. В совокупности этих свойств имаго запускает новую диалектику травмы. Человек оказывается расколот на: 1) "Я" (je), бесформенный, фрагментарный внутренний опыт, и 2) "мое Я" (Moi), внешнюю идеальную форму, в которую этот опыт облекается. Поскольку эта вторая форма, "мое Я" всегда находится на неустранимой дистанции ("там", в за-зеркалье), а условием целостной автономии, идентичности человека является совпадение этих двух составляющих "личности", постольку вместе с ассимиляцией "моего Я" личность интериоризирует и саму эту "зеркальную" дистанцию, вводя неустранимый раскол, самоотчуждение в имманентную "онтологическую структуру" личности. Функция "моего Я" (имаго) это драма, в ходе которой для индивида, попавшегося на "приманку пространственной идентификации", возникает ряд фантазмов, открывающийся расчлененным образом тела, а завершающийся формой его целостности, застывающей в "броню отчуждающей идентичности". Личность, индивид, обретший воображаемую идентификацию, и является, по Л., тем, что принято считать "Эго". Отсюда лакановская критика неофрейдистских (особенно американских) концепций усиления, консолидации, "социальной адаптации" автономного Эго: вместе с усилением Эго интенсифицируется и внутренний раскол, составляющий природу этого Эго как иллюзорного идеала, и, как следствие, депрессивность. Функцией "моего Я", функцией захвата "Я" со стороны имаго, задается особый статус объектов реальности и модус отношения к ним в порядке Воображаемого. Если в Реальном вообще не существует отдельных "объектов", а доминирующая модальность отношения к миру - биологическая потребность, то в Воображаемом господствует "запрос" на признание, направленный на других. В отличие от элементов "воображаемого" поведения у животных (во время, например, брачных ритуалов) и "дикарей", у современного человека, по Л., наблюдается "смещение воображаемой функции" с другого (другой особи) на самого себя (метафора зеркала). Другой, в рамках диалектики воображаемого отношения, становится материалом для построения нарциссической формы. "Своим Я", по мысли Л., мы пользуемся точно так же, как туземцы Бороро пользуются попугаем (тотемом), только там, где Бороро говорят: "Я - попугай", мы говорим: "Я - это "я сам". В данном контексте наиболее аффективными проявлениями воображаемого отношения к миру являются агрессивность и любовь (с крайностями садизма и мазохизма), возникающие в меру, соответственно, недооценки или переоценки, ущербности или совершенства, нестабильности или устойчивости другого в моем мире как "лучшей половины" меня самого. Постольку, поскольку "Мое Я" находится на стороне "другого" - оно постоянно в опасности, вплоть до исчезновения. Через "мое Я" человеку открывается смерть, значение смерти, которое заключается в том, что "она существует". По краям воображаемого отношения размещается знание о собственной смерти - не о том, что особи одного с тобой вида умирают, но некое представление о собственном отсутствии, небытии. "Мое Я" оказывается такой матрицей стабильной, непротиворечивой целостности и самодостаточности, таким поставщиком единства, который делает стремление к нему иллюзорным и, в конечном счете, параноидальным. Так что лозунгом, вводящим в лакановскую концепцию, может быть предостережение: "Осторожно - образ!". В конечном счете диалектика воображаемого отношения складывается из взаимооборачивания процессов формирования Эго в зависимости от внешнего "захватывающего образа", имаго и нарциссического полагания других индивидов и объектов как "других" (по отношению к которым возможны аффекты Воображаемого) со стороны Эго ("эгоморфности" воображаемого мира). Воображаемая диалектика состоит в таком полагании индивидом другого, сам акт которого оказывается полаганием индивида в качестве другого, в парадоксальном единстве меня и другого, при котором "один вверяет себя другому, чтобы стать идентичным самому себе". При этом Эго и воображаемый объект оказываются в отношениях "взаимной утраты". Человек узнает в воображаемых объектах свое единство, но лишь вне себя самого. С другой стороны, когда человек усматривает единство в себе, внешний мир предстает для него в фрагиментаризированном и отчужденном виде. В результате этой двойственности все объекты воображаемого мира неизбежно выстраиваются вокруг "блуждающей тени "моего Я", а само "мое Я", обретя искомый объект, обращается в один неудовлетворенный "запрос". Из этой диалектики возникает лакановский "объект (малой) а" - связующее звено, находящееся на пересечении всех трех порядков (топологическая модель "узла Борромео" - сочленения трех колец, способом, при котором любые два кольца скрепляются посредством третьего). "Объект а" предстает как причина желания в Символическом и несимволизированный остаток Реального. В регистре Воображаемого "объект а" это другой (autre) в плане собственной нехватки как остаточный эрзац-другой. Генезис этого специфического объекта можно проследить на примере всех тех "пустышек" (сосок, погремушек и т.д.), которые предлагаются ребенку взамен матери - образцового другого с маленькой буквы - реального контакта, "слитности" с ней. В "запросе" - на отношение, на любовь - ребенок (человек) ставит на карту собственную идентичность, пытаясь схватить эти "объекты а" в качестве фактов признания себя со стороны жизненно необходимого другого. "Преждевременность рождения", по Лакану, это скорее "натуралистический" повод для введения темы травмы. Именно в напряжении между этим поводом и отчуждающей диалектикой Воображаемого, первым собственно человеческим травматическим опытом, возникает Эго. Вместе с порядком Символического привносится финальный травматизм, попытками вжиться в который определяется вся судьба становящегося субъекта. Специфически символическим способом отношения к миру становится желание, которое, являясь существенно сексуальным и бессознательным, рассматривается Л. как сердцевина человеческого существования. Желание, в отличие от потребности, не знает удовлетворения. Ключевым термином для Символического является запрет, травматическая негативность, "дыры", выбиваемые им в существовании субъекта. Л. скорее метафорически трактует прохождение индивидом эдипова и кастрационного комплекса в качестве способа вступления в порядок Символического. Для него запрет на прямое обладание касается не исключительно реальной матери и исходит не от реального отца, но распространяется на весь класс воображаемых других, имаго, а инстанцией этого запрета становится "Имя Отца" или все то, что в культуре встает между субъектом и объектами желания (писаные и неписаные законы, нормы, правила, обычаи и т.д.). В порядке Символического достраивается до полной формы идентификационная матрица субъекта. После того, как субъективность в самом первом приближении "оседает" в собственном зрительном образе индивида, а затем объективируется в диалектике воображаемого отношения с другим, язык становится источником вторичной, символической идентификации. Подчеркивая радикальную внеположность инстанции символической идентификации чему-либо лежащему в плоскости Эго или встречаемых в опыте других, Л. говорит о Другом с большой буквы и в единственном числе как о предельном идентификационном "образе" (вполне безобразном и непредставимом). Другой - это сам язык, в "зеркале" которого (сравниваемым Л. со "стеной" или зеркалом с многослойной отражающей поверхностью) субъект распыляется, приближаясь к аннигиляции. Идентифицироваться с Другим, значит отказаться от любой жесткой воображаемой идентификации с конкретным имаго, ведущей к патологической стагнации психики и агрессивности. Вторичная идентификация есть сам процесс прикрепления к частным имаго и открепления от них, логика и порядок выбора воображаемых идентификаций, идентификационная динамика, определяемая совокупностью "всего сказанного" об индивиде в поле речевого отношения с другими. Символический субъект это не "монолитное" Эго-центричное ядро, но "луковица", состоящая из многих слоев прошлых воображаемых идентификаций с конститутивной пустотой между ними и в "центре". Парадоксальным объектом желания par exellence выступает "объект (малого) а", который репрезентируется во множестве эмпирических объектов желания, "частичных объектах" в качестве самой нехватки, то есть того, что делает их неполными, "дырчатыми". "Объект а" в порядке Символического делает "объектом" саму нехватку, следовательно сам непрерывный переход от одного объекта желания к другому. В этом переходе из малых "а" разворачивается Другой, (A)utre, на стороне которого и возможно полное "выражение" желания. Известный лакановский тезис "желание субъекта есть желание Другого" (и "другого" как не того, что налично) в этом контексте означает то, что причина неудовлетворенности любым объектом желания, логика перебора объектов желания, равно как и тот факт, что искомым, "идеальным" объектом желания оказывается сам этот перебор, - все это остается по ту сторону самосознания. Желание не имеет объекта, это чистая форма, отливающаяся по языковой модели, и как таковое оно является бессознательным отсюда другой основополагающий лакановский тезис: "бессознательное структурируется как язык". Понятие языка является центральным как для определения сущности Символического, так и для всей концепции структурного психоанализа, постольку, поскольку именно Символическое оказывается силой, доминирующей и над Реальным, и над Воображаемым. В то же время "язык" выступает скорее как проблемный, полисемантичный теоретический конструкт, нежели понятие. В ранних работах Л. растворяет язык в общем представлении о символическом, а само "символическое" употребляет как прилагательное, отсылающее главным образом к формально-логической и алгебраической символике. В широком смысле символическими элементами в рамках такого понимания могут быть названы цифры, слова, иные конвенциональные знаки. С 1950-х слово приобретает "антропологические обертона", в частности под влиянием концепции французского культурного антрополога М.Мосса о символическом характере социальных структур. С 1953 "символическое" становится существительным и приобретает терминологическую нагрузку. Моссовская концепция "дара" дополняется грамматикой символических обменов, предложенной Леви-Строссом. Символическая функция, таким образом, начинает означать определенные правила обмена некого избытка и одновременно нехватки ("дара"), нарушающей в своей циркуляции гомеостаз Реального и циркулирующей в том или ином относительно автономном социальном сообществе. Под влиянием структуралистской методологии Л. все более конкретизирует свои представления о символическом как о языке в его структуралистской трактовке. В этом контексте язык определяется как совокупность формальных элементов и правил их комбинации и обмена, как область "внеприродной комбинаторики", которой определяется сущность Символического. Формальные элементы трактуются в соссюрианском смысле как "означающие", или элементы, не имеющие позитивного существования, значение которых (совпадающее с негативным существованием) конституируется взаимными различиями. Как означающие "символы" артикулируют Реальное, вводя в него "чистые различия", и комбинируют артикулированные элементы. "Грамматика" этих комбинаций определяется не факторами психологического, утилитарного или волюнтаристкого плана, но чисто формальными закономерностями (симметрии, инверсии, правила трансформаций алгебраических групп). В этом отношении симптом может быть рассмотрен как группа трансформаций формальных элементов, его образующих. С другой стороны, специфика Символического раскрывается, по Л., во фрейдовском анализе "языка сновидения". Систематической реконструкцией фрейдовского анализа бессознательного, содержащегося в "Толковании сновидения", и выведением из него философско-антропологических следствий задаются параметры лакановского проекта "возвращения к Фрейду". "Язык" или "символика" сновидений, согласно духу и букве Фрейда, не носят характер фиксированного символизма, при котором за отдельные сновидные образы символизируют с известной долей подобия некое вытесненное содержание (трости, зонты, кинжалы - фаллос и т.п.). Символизм сновидений заключается в самих операциях перевода скрытого плана сновидения в явный - в том, что Фрейд называет "работой сновидения". Двумя основными приемами такой "работы" являются операции "сгущения" и "смещения", посредством которых скрытые мысли сновидения без всякой аналогии или подобия, без всякого волевого или сознательного участия Эго переводятся в явный план сновидения. Именно эти операции, а не "скрытые" мысли, носят бессознательный характер. Материалом для сновидных перекомбинаций являются не столько "представления" или "образы", сколько та лингвистическая материя, на которой они возникают, - "буквы", которые нужно понимать "буквально": так, например, сновидный образ "крыши" (toit; как некой "опасной почвы", на которой разворачивается сюжет сна) может возникнуть как визуализация сгущения слова "три" (trois), обозначающего любовный треугольник, и слова "ты" (toi) как "вершины" этого треугольника. Под влиянием работ Якобсона Л. приходит к выводу, что операции "сгущения" и "смещения", определяющие грамматику "языка" сновидений, в плане естественного языка функционируют в качестве фигур метафоры и метонимии. Таким образом, сила, структурирующая бессознательное, обнаруживается в естественном (поэтическом, сюрреалистическом) языке. Бессознательное не является языком, но "структурируется как" язык, что значит: желание реализуется в формальных разрывах, сдвигах и напластаваниях языка, а не в "означаемом" или "референте". Эдипов комплекс интерпретируется Л. как сюжет об обретении языка и бессознательного. Когда ребенку "запрещают" мать, то выбитая этим запретом пустота способна стать "трепещущей клеткой символизма", из которой вырастают цепи означающих. Ребенок оказывается способен принять нехватку матери, подставив на ее место другой, третий, четвертый и т.д. объект (в качестве "объекта а"). Ребенок научается путешествовать в цепях субституций, строить метафорическо-метонимические сети эквивалентностей ("интенсификация" которых вплоть до разрыва оборачивается шизофреническими расстройствами). Этот способ принятия, сживания с нехваткой Реального, который, не уничтожая преимуществ Воображаемого, редуцирует его опасности, по форме и есть язык. Язык, природа которого заключается не в именовании вещей или передаче информации, но в обнаружении желания субъекта под "взглядом", на "сцене" Другого. "Другой" в данном случае может быть проинтерпретирован как инстанция Символического культура, традиция, социум. Субъект символически вписывается в уже существующий порядок культуры, на предзаданное место (посредством имени, предшествующих употреблений слов, которыми ему суждено пользоваться, истории идей и т.д.). Субъект является переменной, передаточным звеном замкнутых "символических контуров" различного порядка (семейного, соседского, корпоративного, национального), в которых циркулируют соответствующие самовоспроизводящиеся дискурсы, средством, а не порождающим началом которых оказывается субъект ("субъект есть то, что одно означающее репрезентирует другому означающему"). В общем "феномен человека" в лакановской антропологии возникает на пересечении различных модусов опыта негативности. Суть фрейдовского открытия, по Л., определяющая неклассический, посткартезианский пафос лакановского понимания человека в пространстве культуры, заключается в тезисах о радикальной децентрированности субъекта (смещенности по отношению к Эго, рассеянности в языке, о бытии Другим) и его опредмеченности в символе ("человек прорастает знаками в значительно большей степени, нежели он об этом подозревает"). Лакановский теоретический дискурс оказался весьма продуктивен не столько как психоаналитическая концепция, сколько в качестве концептуального инструментария для анализа культуры. Помимо непосредственных учеников Л. - С.Леклера, М.Маннони, Ж.-Б.Понталиса и др. понятия и методы лакановского психоанализа исследуются рядом лакановских обществ и школ, активно используются такими современными философами и теоретиками культуры, как Л.Малви, К.Силверман, Жижек и др. А.А. Горных ЛАКАТОС (Лакатош) (настоящая фамилия - Липшиц) (Lakatos) Имре (1922-1974) венгерско-британский философ и методолог науки, ученик Поппера. Родом из Венгрии, участник антифашисткого сопротивления, после установления в Венгрии коммунистического режима некоторое время работал в Министерстве образования, был обвинен в "ревизионизме", арестован и более трех лет провел в лагере. В 1956 под угрозой очередного ареста эмигрировал в Австрию, затем переехал в Англию, где и прошла вся его философско-методологическая деятельность. Преподавал в Кембридже, с 1960 - в Лондонской Школе экономики. Основные работы: "Доказательства и опровержения" (1964), "Фальсификация и методология научноисследовательских программ" (1970), "История науки и ее рациональные реконструкции" (1972), "Изменяющаяся логика научного открытия" (1973) и др. Деятельность и взгляды Л. необходимо понимать в контексте интеллектуальной ситуации, сложившейся в методологии науки, после того как программа Венского кружка, не выдержав натиска критики, зашла в тупик. Обычно эту ситуацию обозначают термином "постпозитивизм". Новая ситуация характеризовалась сменой основных проблемных узлов, подходов и концепций. Проблема логического обоснования научного знания радикально трансформируется и в конечном счете "снимается" благодаря выдвижению на передний план фальсификационистской точки зрения, проблематики исторической динамики и механизмов развития науки. Л. включается в эту ситуацию на этапе, когда "критический рационализм" Поппера уже вытеснил неопозитивистов с ведущих позиций и в свою очередь сам выступил объектом проблематизации и критики. Критика, обозначившая слабые и уязвимые места в позиции попперианцев, потребовала не только пересмотра ряда исходных положений, но и выдвижения качественно новых идей в развитие подхода. Именно Л. принадлежит здесь наиболее значительная роль. Дискуссии между сторонниками Поппера, наиболее ярким представителем которых и был Л., и их оппонентами (Кун, Фейерабенд) стали центральным моментом в методологии науки на рубеже 19601970-х. Свою научную деятельность Л. начал как методолог математики. Широкую известность получила его книга "Доказательства и опровержения", в которой Лакатос предложил собственную модель формирования и развития понятий в "содержательной" математике XVII-XVIII вв. Как показал Л., в рассматриваемый период развитие математического знания определялось не столько формализованными процедурами дедуктивного построения теорий, сколько содержательным процессом "догадок и опровержений", в котором новые понятия оттачивались и уточнялись в столкновении с контрпримерами. Интересно, что сама книга написана не в форме исторического исследования, а в форме школьного диалога. Используя диалогический метод, Л. искусственно конструирует проблемную ситуацию, в которой происходит вычленение нового идеального содержания, фиксируемого впоследствии в понятии "эйлерового многогранника". Такой подход оказался вполне оправдан, поскольку сами факты логики науки, на основе которых могут формулироваться общие методологические положения, не являются чем-то непосредственно данным в историческом материале, а требуют специального конструирования или, в терминах самого Л., "рациональной реконструкции". Рациональная реконструкция у Л. изначально отлична от реальной истории и создается специально в целях рационального объяснения развития научного знания. "Доказательства и опровержения" остаются одним из наиболее ярких образцов подобной работы. Роль рациональных реконструкций в логике науки определяется прежде всего критическими процедурами: сами реконструкции конечно же могут быть подвергнуты критике за недостаток историзма и несоответствие реальной истории, но зато они дают возможность занять критическую точку зрения по отношению к самой истории - теперь и сама наука может критиковаться за недостаток рациональности и несоответствие собственным методологическим стандартам. Хотя "Доказательства и опровержения" были написаны целиком в русле попперовской концепции, сама идея рациональных реконструкций получила свое дальнейшее развитие именно в подходе Л. Эта идея призвана была примирить методологический фальсификационизм Поппера с требованиями исторического объяснения и соответствия реальной истории. Выход "Структур научных революций" Куна и вызванные этой работой дискуссии заставили Л. пересмотреть и уточнить ряд положений фальсификационизма. Новая позиция была обозначена Л. как "утонченный фальсификационизм". Новым здесь было то, что необходимость опровержения и отбрасывания теории на основании одних лишь отрицательных результатов эмпирических проверок отрицалась. Простое соотнесение теории и опыта признавалось недостаточным. Достаточным основанием становится наличие лучшей теории, способной не только объяснить полученные контрпримеры, но и предсказать новые факты. В отсутствие лучшей перспективы теория не должна отбрасываться, тем более что в соответствии с тезисом Дюгема-Куайна всегда возможна такая коррекция контекстуального "фонового" знания, которая выводит изпод удара базовые положения теории. Таким образом для принятия обоснованного методологического решения необходимо сопоставление различных конкурирующих теорий, оценка их эвристического потенциала и перспектив развития. Ведущей становится идея, согласно которой движущим механизмом развития научного знания выступает конкуренция различных концептуальных точек зрения и их постоянный сдвиг под влиянием аномальных опытных фактов. Понятие "прогрессивного сдвига" фиксирует такую трансформацию теории - путем ее переинтерпретации или добавления вспомогательных гипотез - которая не только устраняет "аномалии", но и увеличивает эмпирическое содержание, часть которого находит опытное подкрепление. Если Поппер делал основной акцент на негативных процедурах опровержения и выбраковки ложных теорий, то Л. смещает акцент скорее на позитивные процедуры ассимиляции новых идей в рамках исходных гипотез, позволяющие наращивать объяснительный и прогностический потенциал теорий. Однако одного лишь уточнения позиций и смещения акцентов было недостаточно. Необходимо было выдвинуть концепцию соизмеримую с куновской концепцией "парадигм", но, в отличие от последней, позволяющую сохранить рациональную точку зрения на процесс развития науки. И Л. делает следующий шаг, вводя понятие "научно-исследовательской программы" и формулируя подход, названный им "методологией научно-исследовательских программ". По существу он отказывается от "научной теории" как базовой эпистемологической конструкции, констатируя ее дефициентность как относительно критериев "научности" (проблема "демаркации"), так и относительно проблемы развития знания. Основной единицей анализа становятся не отдельные теории, а ряды генетически связанных теорий, рациональное единство которых определено онтологическими и методологическими принципами, управляющими их развертыванием. Исследовательские программы складываются из таких принципов и правил. "Отрицательную эвристику" программы образуют, по Л., правила-запреты, указывающие на то, каких путей исследования следует избегать. "Положительную эвристику" - правила, определяющие выбор проблем, последовательность и пути их разрешения. Структурно-морфологически в "программе" выделяется "твердое ядро", содержащее основные метафизические постулаты (онтологический каркас программы), и динамичный "защитный пояс" теорий и вспомогательных конструкций. Отрицательная эвристика запрещает направлять правило "modus tollens" на утверждения, входящие в "ядро" программы. Этим обеспечивается устойчивость программы относительно множественных аномалий и контрпримеров. Подобная стратегия - действовать вопреки фактам и не обращать внимания на критику, оказывается особенно продуктивной на начальных этапах формирования программы, когда "защитный пояс" еще не выстроен. Защитный пояс развертывается в ходе реализации имманентных целей программы, диктуемых положительной эвристикой и в дальнейшем компенсирует аномалии и критику, направленную против "ядра". Прогресс программы определяется прежде всего ее способностью предвосхищать новые факты. Рост "защитного пояса" в этом случае образует "прогрессивный сдвиг". Если рост "защитного пояса" не приносит добавочного эмпирического содержания, а происходит только за счет компенсации аномалий, то можно говорить о регрессе программы. Если различные программы могут быть сопоставлены по своим объяснительным возможностям и прогностическому потенциалу, то можно говорить о конкуренции программ. Исследовательская программа объясняющая большее число аномалий, чем ее соперница, имеющая большее добавочное эмпирическое содержание, получившее к тому же хотя бы частичное подкрепление, вытесняет свою конкурентку. Последняя в этом случае элиминируется вместе со своим "ядром". В отличие от куновских "парадигм", концепция "научно-исследовательских программ" Л. объясняет процесс развития научного знания исключительно с точки зрения внутренних интеллектуальных критериев, не прибегая к внешним социальным или психологическим аргументам. Это придает ей выраженный нормативный характер, но конечно делает дефициентной в отношении многих исторических фактов. Тем не менее Л. привел целый ряд удачных примеров из истории науки, допускающих рациональную реконструкцию в терминах "программ". Полная картина исторического развития науки естественно далека от рациональности, она складывается под воздействием как "внутренних", так и "внешних" факторов. Однако рациональная реконструкция оказывает обратное влияние на нас самих, она дает возможность занять нормативную и критическую позицию по отношению к истории науки, влияя тем самым на ее настоящее и будущее. По всей видимости, многие продукты научной деятельности, которые принято идентифицировать как "теории" или "концепции", могут быть адекватно поняты и оценены только как элементы более широких исследовательских программ. Наука в целом может быть рассмотрена как одна большая программа. Наиболее спорным моментом концепции Л. остался вопрос о принципиальной воможности рационального сопоставления конкурирующих программ на основе предложенных нормативных критериев и оправданности самих этих критериев. А.Ю. Бабайцев ЛАМАРК (Lamark), шевалье де (Жан Батист Пьер Ан-туан Моне) (1744-1829) французский мыслитель и натуралист, профессор зоологии в Ботаническом саду в Париже (с 1793). Создатель первого целостного учения об эволюции органического мира, работал также в области геологии, метеорологии, физики, химии, автор термина "биология". Л. - один из главных предшественников Дарвина. Основные сочинения: "Философия зоологии" (1809), "Естественная история беспозвоночных. Тт. 1-7" (1815- 1822), "Аналитическая система положительных знаний человека" (1820) и др. Адъюнкт ботаники Парижской академии наук (с 1779), член академии (с 1783), хранитель гербария Королевского ботанического сада (с 1784), в течение 25 лет читал курс зоологии беспозвоночных в Музее естественной истории. Умер в бедности, место захоронения неизвестно. Л. на большом эмпирическом материале обосновал невозможность жестокого разграничения видов (друг от друга и разновидностей), что явилось впоследствии важнейшим аргументом, использованным Дарвином для обоснования теории эволюции; осуществил первое систематическое изложение трансформизма, выявил наличие в природе градаций, т.е. серии постепенно усложняющихся групп организмов, выдвинул положение о всеобщей распространенности явлений приспособленности организма к среде. Л. разработал новую картину биологической реальности путем "прививки", апплицирования на материал, ранее накопленный в биологии, принципов и образцов научного объяснения, транслируемых из механики. Природа, по Л., является ареной постоянного движения флюидов, среди которых электрический флюид и теплород являются главными "возбудителями жизни". Развитие жизни, по Л., выступает как нарастающее влияние движения флюидов, в результате чего происходит усложнение организмов. Постоянный обмен флюидами со средой вызывает мелкие изменения в каждом органе. В свою очередь такие изменения наследуются, что, согласно Л., может привести при длительном накоплении изменений к довольно сильной перестройке органов и появлению новых видов. Факторами эволюции Л. считал также внутреннее "стремление организмов к совершенствованию" и развитие психики животных и человека. Л. подчеркивал, что приток флюидов из внешней среды составляет лишь начальное звено эволюции. Последующие звенья причинной цепи модифицируют действие начального звена и сами становятся факторами трансформаций. Картина биологической реальности Л. раскрывала единство всего живого, наличие общих механизмов взаимодействия в неорганической и живой природе (обмен флюидами) и делала излишней теологическую гипотезу о творении мира. Концепция Л. ориентировала на поликаузальное объяснение эволюционного процесса и одновременно сохраняла традиционно-механистические представления об исходных формах взаимодействия организмов с окружающей средой, благодаря чему она согласовывалась с механической картиной мира и соответствовала эталонам научного объяснения начала 19 в. Представления, развитые Л., оказали большое влияние не только на последующую историю биологии, но и на др. естественные науки. Е.В. Петушкова ЛАМБЕРТ (Lambert) Иоганн Генрих (1728-1777) - немецкий философ, математик, физик, астроном, логик, последователь Лейбница, один из родоначальников современной математической логики. В шестнадцатилетнем возрасте занял место школьного писаря, которое вскоре сменил на место секретаря у проф. Изелина из Базеля. Это дало возможность заняться собственным математическим образованием. Читал "О критериях человеческого рассудка" Вольфа, "О критериях истины" Мальбранша, "Опыт о человеческом разуме" Локка, изучал математику и естественные науки. Размышляя в духе рационализма над этими проблемами, Л. приходит к выводу, что совершенствование нравов невозможно без беспристрастного суда интеллекта. В 1748 по рекомендации проф. Изелина Л. становится домашним учителем в семье графа Салиса в Хюре, где продолжает свои занятия философией, математикой и естественными науками. В 1759 Л. едет в Аугсбург, где в 1760 издает физический трактат "Фотометрия". После переезда в Мюнхен избирается действительным членом местной академии наук. В изданных в 1761 "Космологических письмах" Л. предстает как типичный мыслитель школы Лейбница - Вольфа. В своей переписке с Кантом настаивал на необходимости дополнить рационализм Вольфа эмпиризмом Локка. В 1765 избирается действительным членом академии наук в Берлине. В 1766, опираясь на некоторые результаты Л.Эйлера, впервые показал, что число я, обозначающее отношение длины окружности к длине диаметра, выражается бесконечной непериодической дробью. С 1763 и до своей кончины в 1777 Л. жил в Берлине на положении академического пенсионера. Как философ Л. обладал ярко выраженным синтетическим складом мышления. В "Новом Органоне" (1764) он попытался систематизировать философию. Л. разделил ее на четыре совершенно различные, но все же взаимосвязанные части: 1) дианойлогия - учение о законах, по которым разум направляется в мышлении от истины к истине, о принципах человеческого понимания; 2) алефиология - учение о формировании элементарных понятий и законах построения сложных понятий из элементарных, что можно рассматривать как идею семиотики в значении общей теории знаков; 3) семиотика - учение об отношении мышления и мира вещей, т.е. о связях обозначающего и обозначаемого. Данный раздел философии в интерпретации Л. коррелирует с современной логической семантикой; 4) феноменология - учение о являющемся, данности, которое должно указывать средства как избегать метафизически ограниченной сферы явлений и постигать истину. Л. называл данные четыре раздела философии инструментальными и утверждал разум в роли пользователя ими при реализации научно-исследовательских программ. Компетенция этих разделов распространяется на соответственно четыре интеррогативные сферы: 1) В состоянии ли человеческий разум идти по пути истины точно и уверенно, не отступая? 2) Может ли истина быть доступной и известной разуму? Не нужно ли самой истине выделяться, чтобы не быть спутанной с заблуждением, ибо само это истинное знание должно служить разуму критерием того, не ошибается ли он? 3) Не делает ли язык, в котором материализуется истина, непонятной и сомнительной саму истину вследствие недопонимания, неопределенности и их многообразия? 4) Не может ли разум, ослепленный видимостью на феноменальном уровне, заблуждаться на пути к истине? Л. был последователем Лейбница в экстраполяции алгебраических методов в область формальной логики. Л. была известна процедура структурирования логических выражений на конституен-ты (единицы) - элементарные составляющие. Он различал два вида символов: 1) для логических классов (или понятий); 2) для логических операций. Исчисление Л. основано на четырёх операциях: 1) комбинирование, или логическое сложение; 2) изоляция, или логическое вычитание; 3) определение, или логическое умножение; 4) абстрагирование, или логическое деление. Л. построил оригинальную обобщенную силлогистическую теорию. Квантифицируя предикат в посылках и заключении силлогизма, он предопределил ряд черт учения о дедукции в английской логике 19 в. Теория квантификации Л. фактически содержит в себе основные результаты квантификационного учения Гамильтона. Осознавая ограниченность силлогистической теории, не способной охватить все возможные виды научных умозаключений, Л. вводит в свою логическую систему понятие отношения, именуемое иногда "метафизическим признаком", и анализирует проблемы, связанные с ним. Л. специально выделяет группу особых отношений с предельным объемом (категорий) - причина, действие, средство, цель, основание, вид, род, и анализирует их методологическое значение. По своим результатам логическое исчисление Л., при всей сложности его интерпретации, стоит ближе к современной формальной логике, булевой логике, чем исчисление Лейбница. С.В. Воробьева ЛАМЕТРИ (Lammetrie) Жюльен Офре де (1709- 1751) - французский мыслитель, философ и врач. Подвергался преследованиям за атеистическо-материалистические взгляды во Франции и Голландии. Эмигрировал в Пруссию (1748) по приглашению Фридриха Великого, был избран членом Прусской академии наук. Умер во время испытания на себе нового метода лечения. Основные работы: "Естественная история души" (1745), "Человек-машина" (1747), "Человек-растение" (1748), "Система Эпикура" (1751), "Искусство наслаждения и школа сладострастия" (1751) и др. Сторонник радикального материализма и механицизма. Мир рассматривался Л. как совокупность проявлений протяженной, внутренне активной, ощущающей (впервые в философии просветительства материя наделялась качествами не только протяженности и движения, но и чувствительностью) материальной субстанции, видами которой выступают неорганическое, растительное и животное (включающее человека) царства. Между растениями и животными, по Л., могут существовать промежуточные существа - зоофиты (как, впрочем, и между животными и людьми). Изображая картину эволюции природы, доказывая ее единство наряду с изменчивостью всего живого, опровергая преформизм, Л. писал: "Какое чудное зрелище представляет собой эта лестница с незаметными ступенями, которые природа проходит последовательно одну за другой, никогда не перепрыгивая ни через одну ступеньку во всех своих многообразных созданиях". Человек ("чувствующая", самозаводящаяся машина) отличен от животного лишь большим количеством потребностей и, соответственно, ума, мерилом которого они являются: "Гордые и тщеславные существа, гораздо более отличающиеся от животных своей спесью, чем именем людей, в сущности являются животными и перпендикулярно ползающими машинами... Быть машиной, чувствовать, мыслить, уметь отличать добро от зла так же, как голубое от желтого - в этом заключается не больше противоречия, чем в том, что можно быть обезьяной или попугаем и уметь предаваться наслаждениям". Согласно Л., человек - "просвещенная машина", "искусный часовой механизм"; человеческое тело - "живое олицетворение беспрерывного движения". Функционирование разума и чувств людей Л. явно редукционистски и не весьма удачно видел обусловленными механическим движением "животных-духов" от периферийных нервов к головному мозгу и обратно. Кто же построил эти чудесные машины? По убеждению Л., сама природа посредством принципа выживания наиболее приспособленных организмов. Процесс мышления Л. понимал как сравнение и комбинирование представлениями, возникающими па основе памяти и ощущений. Разделяя концепцию Локка, Л. сделал акцент на том, что в процессе познания значимы конституция человека, унаследованная телесная организация, жизненный опыт и привычки. Критику религии Л. сочетал с постулированием ее необходимости для народа. По Л., атеизм вполне моральная система взглядов, путь к счастью - принятие атеизма. Телесные формы мимолетны, все исчезает и ничего не погибает: наслаждение настоящим вполне оправданно - подлинная мораль призвана быть жизнерадостной и сенсуалистической. А.А. Грицанов ЛАНДШАФТ - термин географической и искусствоведческой традиции, используемый постмодернистской философией (см. Постмодернизм, Метафизика, Деконструкция, Деррида, Делез) в контексте конституирования философской парадигмы многомерности структур бытия и человеческого мышления, а также задающий рамку знания для функционирования сопряженных словоформ, ангажированных в середине - второй половине 20 в. в качестве собственно философских понятий (плоскость, поверхность, глубина и т.д.). Конституирование и легитимация "Л." как определенной структурной позиции постижения мира выступило результатом осмысления как умозрительного, так и конкретного человеческого опыта, согласно которому стили и формы интеллектуального дискурса необходимо коррелируются с соответствующими телесными практиками (см. Тело), самоутверждающимися в границах экспрессивно-коммуникативной составляющей текста. (См. у Барта: "...стиль обладает лишь вертикальным измерением, он погружен в глухие тайники личностной памяти, сама его непроницаемость возникает из жизненного опыта тела... Вот почему стиль - это неизменная тайна, однако его безмолвствующая сторона вовсе не связана с подвижной, чреватой постоянными отсрочками природной речью... Тайна стиля - это то, о чем помнит само тело писателя".) Текст при этом формирует собственное - текстовое пространство, ибо язык (по Гумбольдту, "сплетающийся из пространства") в значимой степени складывается как способ фиксации и воспроизведения именно пространственно-временных отношений. Такие мыслители, как Кьеркегор, Ницше, Хайдеггер, в существенно значимой степени задавшие архитектонику философской мысли 20 в., с особой тщательностью относились к определению "месторасположения" собственного взгляда на мир и сопряженных с ним ("месторасположением") пространственных образов. (Ср. у Новалиса: "Любой ландшафт - идеальное тело для выражения определенного строя мысли".) Структурированность Л. в качестве рамки, организующей постижение космоса, хаоса и осмоса, может видеться (В.Подорога) в нескольких измерениях: 1) Визуальный, "оптически достоверный" Л. ("физически, исторически и биологически локализуемый образ ландшафтного пространства") - как надъиндивидуальная "вселенная" творческой лаборатории тех или иных философов в определенный момент их профессиональной деятельности. 2) Вербальный Л. ("переживание конкретного ландшафта в словесных образах, его описание, интерпретация, введение в чуждый ему контекст", сопровождающиеся заменой "физики" образа его эстетизированной риторикой): "морские пейзажи" Кьеркегора, преимущественно подземные пространства стихий Ницше, "горное пространство" Хайдеггера - "складка" или "зона субъективации" Делёза - как предпочитаемые метафорические "сферы" или "уделы" (см. Плоскость) их философствования. 3) Телесный (все более незримый и безобразный) Л. ("психомоторные эффекты", побуждающие начальные движения письма и линию события, рождающую своим движением произведение) - как задающий особые "направления" мысли ("широта" "линия Веры" Кьеркегора; "восхождение к глубинам" - "линия танцевальная, дионисическая" Ницше; "вздымание" - "линия Складки/Сгиба" Хайдеггера). 4) Л. "ряд философского письма" - как особая форма объективации всех предыдущих измерений и задающий: коммуникативную направленность философствования; выбор доминирующей стилистической формы, образующей текст произведения и открывающей пространство для чтения (пунктуационное, "точечное" письмо Кьеркегора - афористическое письмо Ницше - этимологическое, "дефисное" письмо Хайдеггера). Формирование в 1980-1990-е ряда "метафизик Л." являет собой результат определенной переориентации философии на постижение топологических структур бытия, а также выступает отражением процесса значимого количественного разрастания и качественной иерархизации понятийных комплексов, характеризующих эти структуры. "Ландшафтно-реконструирующие" познавательные стратегии знаменуют существенный сдвиг в традиционных схемах иерархии существенных принципов понимания мира и построения его моделей. (См. Складка, Тело, Плоть, Плоть мира, Кожа, Плоскость, Differance, Касание, След.) А.А. Грицанов ЛАО-ЦЗЫ (6-5 вв. до н.э.) - полулегендарный основатель даосизма, одного из наиболее значительных течений в философской мысли Китая; традиция называет его автором "Дао дэ цзин" - "Книги о дао-пути и благой си-ле-дэ". В фокусе даосской мысли (как и конфуцианства) находится тема "дао-пути", которым следует идеальный человек, накапливая тем самым силу-добродетель "дэ", упорядочивающую Поднебесную (общество). Однако конфуцианскому культуроцентризму даосизм противопоставляет "следование естественности" ("цзы жань"): если основной отличительной чертой "благородного мужа", рисуемого Конфуцием, выступает деятельная активность, организуемая церемониальными правилами "ли", то "совершенно-мудрый" у Л. исповедует принцип "недеяния" ("у вэй"), означающий отказ от всякого мобилизующего усилия, целенаправленного действия, нарушающего естественное течение дел. Соответственно, в отличие от преимущественно этико-политической трактовки "дао" у Конфуция, Л. вел речь о вселенском "дао" как общемировом естественном ритме событий. "Дао" "глубочайшие врата рождения, корень Неба и Земли" - предшествует миру оформленных вещей ("ю") и относится Л. к непроявленному бытию ("у"). Не имеющее никакой внешней определенности, оно отождествляется с пустотой, но это именно рождающая пустота, неисчерпаемая потенция любой конкретной формы. Понимание неизначальности всякой определенности инициирует диалектические идеи спонтанного изменения ("все сущее изменяется само собой") и взаимоперехода противоположностей ("превращение в противоположность - движение дао"). Порождающее действие "дао" изображено в "Дао дэ цзин" в виде следующей последовательности: "дао" рождает одно (частицы-"ци" как общемировой субстрат), одно рождает два (полярные начала "инь" и "ян"), два рождают три (великую триаду Небо - Человек - Земля), а три рождают все вещи. "Дао" и "дэ" в концепции Л. неразрывно связаны: "дао" рождает вещи, "дэ" взращивает-совершенствует их. При этом в "Дао дэ цзин" различаются высшее и низшее "дэ". Последнее связывается с конфуцианской стратегией культуро-творческого усилия и совершения добрых дел на основе церемониальных предписаний "ли"; в противоположность этому "совершенномудрый", содержащий в себе высшее "дэ", естественностью и гармоничностью подобен новорожденному. Совершенномудрый, как и "дао", "действует недеянием", все создавая, ничего не присваивает и ни над чем не властвует. Только "добродетель-дэ", основанная на дао, обладает гармонизирующей силой: если отступление от "дао" ведет к смуте и гибели, то при сохранении "дао" Небо и Земля сливаются в гармонии, а народ и без приказов успокаивается, возвращаясь к простоте и естественности жизни. Совершенномудрый, делая свое сердце бесстрастным и сохраняя покой, уподобляется вечному "дао" вплоть до отождествления ("кто служит дао, тот тождествен дао"); с этим аспектом концепции "Дао дэ цзин" связаны более поздние даосские поиски практических средств достижения физического бессмертия. В.Н. Фурс ЛАПЛАС (Laplace) Пьер Симон (1749-1827) - французский ученый, астроном, физик, математик, основоположник теории вероятности. Сын нормандского крестьянина. С 1785 - член Парижской академии наук, с 1790 - председатель Палаты мер и весов. Л. разработал (1796) гипотезу о происхождении Солнечной системы из "первичной" туманности, находившейся в медленном равномерном вращении и распространявшейся за пределы возникшей из нее позднее Солнечной системы. Обоснование космогонической гипотезы в трудах Л. сопровождалось перестройкой оснований науки: статичная ньютонианская картина мира заменялась эволюционной механической картиной мира ("Изложение системы мира", тт. 1-2, 1795-1796). Вводились новые вероятностно-статистические методы исследования эволюционных процессов и массовых событий ("Аналитическая теория вероятностей", 1812). Формировался новый категориальный аппарат для описания смены состояний больших систем ("вероятность", "смена состояний", "детерминация" и т.д.) ("Опыт философии теории вероятностей", 1814). Перестраивая основания науки, Л. опирался на философские идеи Лейбница и французских материалистов 18 в., в частности, на концепцию Гольбаха о всеобщей причинной связи тел во Вселенной. В истории науки концепция причинного объяснения эволюции и изменения больших систем по жестким однолинейно направленным динамическим законам получила наименование лапласовского детерминизма. Историческое значение лапласовского детерминизма состояло в том, что он стал логическим средством научного объяснения эволюционных процессов и массовых событий в механической картине мира, заменив аналитическую поэлементную форму причинного объяснения синтетическим видением переплетающихся причинных рядов в универсуме. Лапласовский детерминизм стал нарицательным обозначением механистической методологии классической физики. Е.В. Петушкова ЛАПШИН Иван Иванович (1870-1952) - русский философ, психолог, ученик и последователь Введенского. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, по окончании которого был командирован за границу. Работал в Британском музее, специализировался по кантианству в английской философии, с 1897 - приват-доцент, с 1913 - экстраординарный профессор Петербургского университета, преподавал логику в Александровском лицее. В 1906, минуя степень магистра, защитил докторскую диссертацию ("Законы мышления и формы познания"). В 1922 выслан из России. Был профессором Русского юридического факультета в Праге. Главный труд - "Законы мышления и формы познания" (1906). Л. также автор работ: "Проблема "чужого я" в новейшей философии" (1910); "Гносеологические исследования. Вып. 1. Логика отношений и силлогизм" (1917); "Философия изобретения и изобретение в философии" (тт. 1-2, 1922); "Художественное творчество" (1922); "Философские взгляды Радищева" (1922); "Эстетика Достоевского" (1923); "Феноменология" (1937) и др. Обосновывая систему абсолютного имманентизма, Л. полностью отрекается от метафизики, стесняющей своими догматами свободу мысли. Обладая обширной эрудицией, Л. в своих работах систематично разобрал основные метафизические построения западной и российской философий, показав, что во всех них речь идет о "проблематических объектах мысли". Метафизический дуализм "вещей в себе" и "познающего субъекта" Л. называет "фальшивым", "фикцией" и т.п., за ним стоит "мышление в несобственном смысле слова". Гармония духа как цель критической философии недостижима на почве метафизики. Познаваемы только те предметы, которые обладают чувственным содержанием, будучи оформлены временем, пространством и другими категориями, т.е. даны в опыте. За "вещь в себе", считает Л., принимают неисчерпаемость явлений. Показать это и призвана философия, которая должна первоначально доказать изначальную слитость и взаимопроникновение форм познания и законов мышления. Законы познания - суть законы мира, "потому, что самый мир мне дан как представление и, следовательно, a priori подчинен логическим условиям представимости - категориям". В свою очередь, субъективность сводима к логическому единству сознания. Основной закон - закон противоречия, который (как и другие законы мышления) не обладает онтологическим статусом, не применим вне опыта, а следовательно, и к "вещам в себе", о которых нельзя сказать, существуют они или нет. Л. вводит понятие сплошного опыта, в котором неразличимы ощущения, формы созерцания и категории. Только те или иные интенции сознания актуализируют определенные сегменты опыта, перадресовывая на них внимание. Ощущения, созерцание, опыт в целом даются нам через акты суждения, обусловлены ими в силу единства самосознания. С этих позиций Л. дана критика баденского неокантианства (Виндельбанда) за его попытку разделения законов природы и законов истории. Познание идет через постепенную выработку в сознательном понятии апостериорным путем априорных форм, которые, хотя и присущи человеческому сознанию извечно, раскрываются ему не сразу. В ходе познания будут вскрываться понятия, уже заданные самой структурой сознания (важно их "усмотреть"). Таким образом, законы мышления находятся "виртуально" в тесной связи с материалом чувственного познания. Отсюда определение Л. своей позиции как "виртуального априоризма" и тезис об оправданности для имманентизма эмпирического реализма. Метафизике в этих построениях нет места, и ее появление свидетельствует, согласно Л., о редукции философии к мифологии (в этом ключе Л. был проделан анализ гносеологического символизма, рассматривающего явление как символ "вещи в себе"). Однако в этом пункте размышлений для него встает проблема реальности "чужого я", так как чужая душа и "дана" и "не дана нам". Будучи имманентна нашему сознанию, она всегда и запредельна ему, что противоречит исходным принципам Л., - "чужое я" есть тогда лишь гипотетическая конструкция: мы постоянно переживаем иллюзию непосредственной данности "чужого я", в основе которой - склонность к "эстетической перевоплощаемости". Фактически же я познаю лишь непрерывные подстановки душевных состояний в "чужом я". Трансцендентное "чужое я" заменяется имманентным представлением о плюрализме сознаний. Во многом сложность этой проблемы для философии Л. объясняется невыраженностью у него традиционной для кантианства моральной проблематики (его интересы смещены в эстетическую сферу) и его активным неприятием того, что он называл "интеллектуальной трусостью". Под последней он имел в виду непоследовательность в мышлении, возникающую из-за боязни утратить такие ценности, как, например, вера в Бога, что вытекает из последовательного отрицания метафизики. Последние работы Л. (пражского периода) были посвящены главным образом вопросам творчества в области философии, науки и, в первую очередь, искусства, а также изучению русской и чешской культур (прежде всего музыки). В.Л. Абушенко ЛАРОШФУКО (La Rochefoucauld) Франсуа де, герцог (1613-1680) (до смерти отца носил титул принц де Марсийяк) - французский философ, мыслитель-моралист. Может считаться (несмотря на значимую конкуренцию) создателем афоризма как жанра современной европейской словесности. Основные сочинения: "Размышления, или Моральные изречения и максимы" (в 1664 - общее число максим - 188, в 1678 504; переведены на все культурные языки; первый рус. перевод - 1788); "Апология принца де Марсийяка" (1649); "Портрет Ларошфуко, написанный им самим" (1658); "Мемуары" (1662) и др. В своих истоках афоризмы Л. являли собой сюжеты салонного фольклора Парижа. Основной мыслью афоризмов Л. выступало его мнение, согласно которому основанием всех поступков людей выступает человеческий эгоизм ("все добродетели теряются в расчете, как реки в море"; "люди делают добро часто лишь для того, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло"). Многие афоризмы и максимы Л. в соответствующей форме очерчивали исторические судьбы философии и философов, а также некоторые перспективные стратегии исследования и собственно философских проблем: "философия торжествует над бедствиями прошлого и будущего, тогда как бедствия настоящего торжествуют над философией"; "не так благотворна истина, как зловредна ее видимость"; "презрение философов к богатству было вызвано их сокровенным желанием отомстить несправедливой судьбе за то, что она не наградила их по достоинству жизненными благами; оно было тайным средством, спасающим от унижений бедности, и окольным путем к почету, обычно доставляемому богатством"; "как бы ни кичились люди величием своих деяний, последние часто бывают следствием не великих замыслов, а простой случайности"; "люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос" и др. Согласно Л.Н. Толстому, "собрание мыслей Ларошфуко была одна из тех книг, которые более всего содействовали образованию вкуса во французском народе и развитию в нем ясности ума и точности его выражений. Хотя во всей этой книге и есть только одна истина, - та, что самолюбие есть главный двигатель человеческих поступков, мысль эта представляется со столь разных сторон, что она всегда нова и поразительна. Книга эта была прочитана с жадностью. Она приучила людей не только думать, но и заключать свои мысли в живые, точные, сжатые и утонченные обороты. Со времени Возрождения никто, кроме Ларошфуко, не сделал этого". Одной из наиболее высокоэвристичных максим философского творчества Л. выступает его изречение, характеризующее основную часть спектра общественных отношений и процедур социальной мобильности в обществах авторитарного и тоталитарного типа: "короли чеканят людей как монету: они назначают им цену, какую заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу". А.А. Грицанов, A.M. Бобр ЛЕВИНАС (Levinas) Эммануэль (12.01.1906-25.12.1995; точные даты жизни указаны в связи с распространенностью ошибок в русскоязычной справочной литературе - С.В.) - французский философ-диалогист, этический феноменолог, культуролог, постмодернист. Родился в Каунасе. В 1916-1920 жил в Харькове, в 1920-1923 - во вновь образованном литовском государстве, откуда эмигрировал во Францию. С 1923 Л. изучал философию в Страсбурге, где познакомился с Бланшо, ставшим его другом на долгие годы. Ученик Э.Гуссерля, испытал также влияние Хайдеггера, Розенцвейга, Бубера. В 1928-1929 Л. слушал во Фрайбурге лекции Гуссерля, посещал семинары Хайдеггера. Первая работа Л. "Теория интуиции в феноменологии Гуссерля", опубликованная в 1930, стала первой фундаментальной интерпретацией феноменологии Гуссерля на французском языке. В 1936 была опубликована книга "О бегстве", пронизанная пафосом "предчувствия нацистского ужаса". В 1939 призван на военную службу. С 1940 по 1945 был в плену в концентрационном лагере для офицеров в Германии. Как последователь взглядов Гуссерля и Хайдеггера Л. издает соответственно в 1947 и в 1949 две работы в апологетическом духе - "От существования к существующему" и "Открывая существование с Гуссерлем и Хайдеггером". В 1948 выходит "Время и Другой" изложение четырех лекций, прочитанных Л. в философском колледже Ж.Валя. Данная работа знаменует начало второго периода творчества Л.: выработку собственной оригинальной концепции феноменологии диалога. Она возникает, с одной стороны, как оппозиция некоторым положениям философии Хайдеггера и других экзистенциалистов, с другой - под влиянием характерного стиля философствования Гуссерля и диалогики Розенцвейга. С 1957 Л. участвовал в работе Семинара франкоязычной еврейской интеллигенции, в рамках которого ежегодно читал лекции по проблеме толкования Талмуда. Широкую известность Л. обрел после выхода в 1961 книги "Тотальность и Бесконечное. Эссе на тему экстериорности" - монографии докторской диссертации. Немалый резонанс в философских и религиозных кругах вызвала дискуссия о сущности диалога, развернувшаяся в первой половине 1960-х между Л. и Бубером. Началась она после опубликования Л. статьи "Мартин Бубер и теория познания" (1963), завершавшейся определенными критическими замечаниями в адрес Бубера. Это вызвало соответствующую реакцию со стороны последнего в виде комментария, помещенного в той же самой книге. В ответ на комментарий Л. 11 марта 1963 направил Буберу письмо, в котором разъяснил свою точку зрения. Годом позже дискуссия между ними обрела новую форму. Американский философ М.Ф.Фридман предложил высказаться относительно концепций Бубера и Л. другим мыслителям, результатом чего явился сборник "Философские вопросы" (1964). В 1961 Л. стал профессором университета в Пуатье. В 1967 назначен на должность профессора университета в Нанторе, а с 1973 по 1976, до отставки и назначения почетным профессором, был профессором в Сорбонне. Л. были опубликованы работы "Гуманизм другого человека" (1973), "Иначе, чем быть, или По ту сторону сущности" (1974), "Трудная свобода" (1976), "Потусторонность библейской строфы" (1982), "Этика и Бесконечное. Диалоги с Ф.Немо" (1982), "Диахрония и репрезентация" (1983), "Иначе, чем знать" (1988), "Между нами. Эссе на тему мысли, направленной к Другому" (1991) и др. В прощальной речи, произнесенной в память о Л. утром 27 декабря 1995, Деррида сказал: "Очень долго я боялся того момента, когда мне придется сказать "Прощай" Эммануэлю Левинасу. Я знал, что мой голос будет дрожать при этом, и вот сейчас я скажу громко, здесь, рядом с ним, близко-близко от него, это слово "Прощай", знаменующее начало его восхождения к Богу, которое, в некоторой степени, я перенял от него, и о смысле и значении которого он учил меня размышлять и высказываться. В размышлениях о том, что Эммануэль Левинас написал о слове "Прощай", и которое я вот-вот произнесу, я надеюсь почерпнуть силу для того, чтобы говорить в этот момент. Я хотел бы делать это и в отношении этих простых слов, столь же искренних и безоружных, как мое горе...". В настоящее время создан международный научно-исследовательский центр по изучению наследия Л. в Университете Северной Каролины в Шарлотте (США). Одной из задач Центра является оказание содействия в осмыслении и понимании философии Л. В Центре собраны публикации Л., книги, диссертации, статьи, а также аудио- и видеозаписи о нем, о его творчестве. Кроме того, Центр занимается распространением информации о готовящихся к публикации трудах и предстоящих конференциях по философии Л. Большую помощь в формировании базы данных Центра оказали родные Л.: сын Мишель Л., дочь Симона Хансель и зять Джордж Хансель, предоставившие в его распоряжение 27 книг на французском языке, написанных Л., а также большое количество неопубликованных рукописей, заметок, набросков статей и текстов лекций. Руководителем проекта является профессор Ричард А.Коэн. Финитарная программа Л. по преодолению модернистских установок, осуществленная средствами его этической феноменологии как философии диалога (диалогики), включает три основных пункта: 1) деструкцию разума - с его основной интенцией "я мыслю" и трансформациями данной интенции "я властвую", "я самовыражаюсь", "я потребляю", - с одновременным постулированием в качестве базисного отношения к Другому; 2) переосмысление принципа тотальности, непременным условием которого является разграничение монологического и диалогического мышления; 3) поворот от принципа субъективности к принципу интерсубъективности и постулирование этического приоритета в решении проблем коммуникации. Основные жесты концептуального мышления Л. детерминированы спецификой его модели философии, в которой базисными являются категории трансцендентность и время , а не имманентность и "пространство". Центральной проблемой философии диалога Л. является экспликация трансцендентальности бинарной оппозиции "Я-Другой" и утверждение статуса инаковости Другого. "Движение к смыслу" со своей системой регулятивов, тактическими схемами, методами, общими критериями методологического обоснования и опровержения созидает аргументативный контекст трансцендентальной философии интерсубъективности и позволяет раскрыть сущность основной ее идеи трансцендентальным может быть только диалог, но не сознание. Трансцендентализм левинасовской диалогики редуцируется к поиску эйдетической формы коммуникации, локализующей в себе трансценденцию как уровень бытия, в котором субъект не принимает участие, но где имплицитно содержится его основа. Л. отвергает онтологические проблемы, ибо, согласно его убеждению, они связаны с философией наличного бытия как завершенного смысла бытия (такова, например, фундаментальная идея Хайдеггера). Аутентичные коннотаты (смыслы) складываются, согласно его мнению, только в тотальной системе. Целостность не допускает развитие культа фрагмента, выделенного из континуума любого из возможных миров. Но, с другой стороны, Л. осознает опасность тотального подхода, не исключающего исчезновения ценностной иерархии явлений и возможности их качественной дифференциации. Выступая против тотального логического дискурса с его культом эпистемической структуры "ego" и "Другого" как предмета рефлексивного познания человека, Л. принимает в качестве "действительно философского" этический метафизический анализ. Этика должна восполнить то, что "логика чистого разума" и "физика природы" оставляют на произвол судьбы. Конкретный индивид, а не "человек вообще", "человеческий род", должен быть представлен не как часть природы, а как субъект морального мира, способный к деонтическому мышлению. Критическая способность человека позволяет понять "неразумность" природы, заботящейся о роде, но не об индивиде. Подчиняясь природе и не будучи в силах преодолеть ее, человек создал свой собственный мир - мир культуры, морального долженствования. Методология Л., основополагающаяся на значимости этического отношения как одного из основных структур бытия, "рассматривает лицом-к-лицу в качестве последней ситуации". Данная структура - это структура чистой возможности. Средствами онтологии нельзя разрешить проблемы, связанные с исследованием диалогического пространства, где разворачиваются этические отношения. Структурирование диалогического пространства сопряжено с выявлением метафизических уровней человеческого бытия, единственно возможная связь между которыми осуществляется в форме трансцендирования - преодоления собственного эгоизма, сосредоточенности на Другом. В результате смещения проблемного поля диалог из способа передачи смысла (в обычном понимании) трансформируется в способ смыслообразования, что, собственно, и открывает перспективы "онтологизации" трансцендентальной коммуникации, каждый из участников которой "имеет значение другого", "обусловлен другим", "является значащим для другого", где преодолеваются буберовская интерпретация Другого исключительно как субъекта отношения "Я-Ты" и хайдеггеровское толкование "других-любых", вовлекающих в неподлинность. Философию диалога Л. можно рассматривать как деструкцию интенциональнои модели сознания через диалогическую модель. В интенциональнои модели сознания существенной особенностью его актов является то, что сознание есть всегда сознание чего-то, что сознание всегда направлено на какой-то предмет. Этот предмет является предметом для субъекта и выражается формулой "Ego cogito cogitatum". Трансцендентальная философия, анализируя сознание, описывает пространство, выражаемое через интенциональные субъектобъектные отношения. В пределах данного отношения Гуссерль, например, определяет истину как исполнение интенции наглядности, убедительности. В этих же рамках он рассматривает проблему интерсубъективности, следствием чего является признание логического первенства Я перед Ты. В силу интенциональной модели Ты имеет характер "другого" Я, оказывается производным в отношении Я. Л. стремится отказаться от гуссерлевского аксиоматического принципа беспредпосылочности как принципа независимости от исходного пункта и свободы направлений. Левинасовскую беспредпосылочность отличает еще большая строгость. Если в понимании Гуссерля феномен - это значение предмета, никогда не тождественное предмету, то для Л. значение феномена принципиально не-предметно, более того, он не допускает никаких, даже самых отдаленных, корреляций с предметным миром. Аргументативный дискурс определяет стратегию поиска и понимания смысла диалога через оппозицию "Я-Другой", "распредмечиваемую" посредством дихотомий "тотальное-бесконечное", "трансцендентальное-трансцендентное", "я-зык-речь", "означаемое-означающее", "диахрония- синхрония". Исходной точкой философских размышлений Л. является понятие "тождество личности" ("Самость"). Феномен, репрезентуемый данным понятием, конституируется исключительно в интериорном измерении. Интуитивное определение тождества личности как бытия подобия к самой личности Л. не принимает, ибо видит тождество личности "в бытии того же самого - в бытии себя самого, в идентификации интериорного мира". Понятие субъективности не сводится Л. ни к структурным связям, ни к системе рефлексов, ни к внутреннему миру трансцендентального сознания. Базовые понятия философской аргументации Л. - "тотальность" и "бесконечное" - являются дихотомическими, т.е. взаимоисключающими. Построение самой системы возможно только на основе конституирования трансцендентного по форме и по содержанию метафизического движения к Другому и пребывания Другого вне всякой возможности тотализации (образования трансцендентальной целостности) сознания и реальности, субъекта и объекта, субъекта и субъекта. Трансцендентальная сущность дискурса препятствует их полному слиянию в тотальную систему, в которой они утратили бы свою автономию вследствие аберрации интериорного и экстериорного измерений. "Семантической областью" метафизического движения является Метафизическое Желание, интенция которого направлена непосредственно к Другому, категориально определяемому как "отсутствующий": "Отсутствующий является истиной жизни". Метафизика присутствия специфицируется Л. обращенностью к "другому месту". Метафизически желаемое Другое не является качественно различимым, не становится атрибутивным модусом его существования, "не растворяется в тождественности субъекта" мыслящего, "о-бустраивающегося во времени", владеющего и т.д. "В этом опыте Другого, - утверждал Деррида, - логика непротиворечивости, все то, что Л. понимает под "формальной логикой", становится спорным". Преодолевая точку зрения традиционного рационализма, Л. стремится понять основы коммуникативного опыта "Я" в отношении Другого. Трансформируя нереверсивность отношений интериорной и экстериорной сфер, т.е. "Самости" и "Другого", в асимметричность интерсубъектных отношений, понимаемых как фундаментальная способность субъективности к моральной ответственности, Л. создает собственную концепцию ответственности. Способность к трансцендированию как выходу за рамки "у себя", "для себя" он описывает категориями этического дискурса. При этом "этика не оказывается приложением к прежней экзистенциальной основе; в этике, понимаемой как ответственность, завязывается сам узел субъективности". В начале встречи "для меня маловажным представляется то, кем другой является по отношению ко мне - это его дело; для меня он прежде всего тот, за кого я несу ответственность". Взаимность, по убеждению Л., - исключительная прерогатива ближнего. При разработке собственной концепции Л. опирается на русскую традицию в понимании ответственности, идущую от Достоевского: все люди несут ответственность друг за друга, а я в большей степени, чем другие, "моя ответственность всегда превышает ответственность других". Открывается источник смысла бытия: отношение один-через-другого возможно исключительно благодаря отношению один-для-друго-го, императив которого заключается в беспредельной ответственности. "Встреча Другого есть сразу моя ответственность за него, - пишет Л. - Ответственность за ближнего, которая, несомненно, является высоким именем того, что называют любовью ближнего, любовью без Эроса, милосердием, любовью, в которой этический момент превосходит момент, внушаемый страстью, любовью без вожделения". Л. концептуализирует практические регулятивы диалога. "Встреча является первоначальной и необходимой конъюнктурой значения языка: кто-нибудь, говорящий "я", направляется к другому человеку". Этический и акцентировано трансцендентный модус встречи не ограничивает ее повествованием собеседнику какого-либо факта. Событие встречи, интерпретируемое мыслителем как движение трансцендентности от одной личности к другой, олицетворяет непреодолимое отделение - переходную ступень к тишине либо к интерпелляции, а значит, к языку. Язык как метод "семиотического освоения" коммуникативной реальности функционально опосредован ("означен") временем. Временной интервал, разделяющий знак и обозначаемое им явление, с течением времени (в процессе применения знака в системе других знаков, т.е. в языке) трансформирует знак в "след" этого явления. В результате слово теряет свою непосредственную связь с обозначаемым, с референтом, или со своим "происхождением", с причиной, вызвавшей его порождение. Таким образом, знак обозначает не столько сам предмет, сколько его отсутствие ("отсутствие присутствия") и свое "принципиальное отличие" от самого себя. Повествовательное направление отношения-с-другим "клишируется" традиционной формальной логикой, а значит, подчиняется правилам этой логики, "логики тождества", поглощающей трансцендентность данного отношения. Коммуникативная сторона этого отношения в аспекте ipso facto (сам делаю) будет восстанавливать трансцендентность самого повествования, предназначенного для Другого. Л. гипостазирует невидимое трансцендентное движение даже за "языковой вуалью" встречи. Задача конструирования ги-постазиса (в истории философии данный термин означает придание статуса существующего действию, выраженному глаголом) как аналога отношения к анонимному "имеется" редуцируется Л. к обретению своего "лица" в Другом, в отличие от экзистенциализма, формулирующего гипостазис "существовать". Существенной стороной языка, с помощью которого реализуется требование познать и постичь Другого, является интерпелляция, т.е. обращение с вопросом. Но почему необходимо отвечать на вопрос? Данную проблему, как считает Л., рационалистический монологический разум решить не в состоянии. Это способен совершить лишь разум диалогический, сущность которого необходимо понимать как силу суждения. Центр приложения этой силы философ находит именно во встрече с человеком, благодаря которой открывается истинная тайна бытия - ответственность как единственный путь приобщения к трансценденции. Ответственность - как определитель силы суждения указывает на необходимость ответа на поставленный Другим вопрос, а также на способ ответа - при помощи слов или действий. Человек лишь частично повелевает собственной силой суждения. В сущности, полагает Л., она овладевает им, так как над субъектом постоянно довлеет трансцендентальный опыт этоса как совокупности нравственных императивов, имплицитно присущих интерсубъективному пространству. В соответствии с этим опытом человек, по своей природе открытый и устремленный к трансцендентности, оказывается способным к установлению коммуникации. В основание коммуникативных связей положено принципиально отличное от онтологического понимание добра и зла, что позволяет философу конкретизировать диалогическую связь ответственности, разъяснить совершенно непроницаемую для рационалистических категорий метафизическую сферу фундаментальную структуру диалога. В противоположность монологическому мышлению, берущему начало в метафоре Гегеза как "условии, возможности несправедливости и эгоизма", как "возможности принятия правил игры, но невыполнение их", Л. выдвигает мышление, исходящее из другой метафоры метафоры Мессии, с помощью которой развивается идея заложника. Мессия осуществляет двойственную роль: открытый для вопросов других, он постоянно предоставляет им ответы. Заложник, являющийся Мессией, становится, тем самым, учителем, философом, пророком. Быть заложником - значит уметь задерживаться до конца на месте Другого, отягощенного бедой. "Быть собой как условие существования заложника" - это "иначе, чем просто быть", это "принимать на себя беду и падение другого, даже ту ответственность, которую другой несет за меня". Объектом добродетельного поступка должен быть прежде всего другой, а не я сам, так как, согласно Л., именно в этом заключается разница между любовью к ближнему, предполагающей предпочтение другого, и правосудием, исходящим из категории "справедливость" и не предполагающим никаких предпочтений. Единственную альтернативу образу мышления Гегеза Л. находит в Мессии. Человек выбирает судьбу Гегеза лишь потому, что не хочет быть Мессией. Напротив, человек, не замыкающийся в круге "трансцендентального Я", становится Мессией. Возможность стать на путь Мессии, сделать себя заложником, что предполагает замещение одной личности другой, является основополагающим условием ответственности в диалогике Л. Но чтобы детерминированность Другим не могла называться рабским состоянием, необходимо, чтобы детерминируемое не оставалось другим относительно детерминирующего. "Изгнанный из себя" и "загнанный в ответственность" детерминируется Благом, ценностью, которая никогда не опредмечивается и имя которой Бог. Парадокс постмодерна - отсутствие присутствующего и присутствие отсутствующего, проявляется в творчестве Л. в Богоявленности человеческого лика. Конструируемая Л. логика предпочтений, уходящая корнями в христианскую традицию, в числе основных постулатов содержит тезис о том, что истинная трансцендирующая активность требует увидеть в обращении ближнего богоявленность лица. В сущности, именно благодаря доступу к идее Бога трансцендирующей активности свойственен так называемый экспоненциальный рост, результатом которого перманентно выступает феномен "сейчас вы это не ощущаете, а через мгновение - будете ощущать". Это есть не что иное как приобщение к идее Бога, приобщение к идее "соборного" творчества, актуализирующего лишь абсолютно ценное содержание бытия. Но Л. не питает никаких иллюзий относительно реальной жизни. Он понимает, что представленная концепция диалога далека от реалий межчеловеческих отношений. За пределами метафизической диалогики "каждый является другим каждому. Каждый исключает всех других и существует отдельно". Часто это ведет к непредвиденным последствиям. Создавая теорию диалога с ее главной парадигмой об асимметричности отношений Я - Другой, философ не идеализирует данное соотношение. Он не отрицает, что "человеческий Индивид может проявлять негативность по отношению к собственной свободе", выражающуюся в "исключении свободы других", пренебрежении "новой взаимностью". Это означает "возможную войну всех против всех". Но метафизика, согласно Л., с необходимостью должна предшествовать онтологии. Это нашло отражение в задаче, которую поставил себе философ, - не создавать этику, а отыскать ее глубинный смысл. Поэтому можно оправдать его стремление отыскать смысл человеческой экзистенции в общении с другой личностью. Таким образом, Л. пытается вернуть в лоно философии и возрождаемой им христианской логики человека, бывшего когда-то, в силу определенных условий, лишь досадной помехой объективности как идеалу рационализма. Конфликтность не становится основополагающим принципом диалогики Л. (как, например, в философии Сартра). Очевидна попытка исследователя показать собственное видение идеальной основы личности как гаранта бесконфликтности в общении. Прежде всего, это свобода от чрезмерной сосредоточенности на собственном "я", идентичная чувству ответственности. Ответственность, как естественная идея обязанности, приложима, в первую очередь, к ситуации появления другого человека. Исключительная роль последнего в диалогическом пространстве определяет модальность "обращенности" Я к Другому, даже теоретически не допускающей возможность конфликта, определяет основной социальный ориентир. Такого рода интенция предполагает развертывание аргументативного дискурса в контексте апофантического, т.е. с элементами пожелания, размышления. Истоки левинасовской рефлексии органично связаны с сегодняшними проблемами гуманитарологии. Как влияет тоталитарный режим в государстве на человеческое бытие? Где искать истоки и смысл зла, царящего в мире? Насилие, смысловая бинарность (двусмысленность) - две реалии, которые не всегда объединены с философской перспективой, не всегда ее реферируют, но присутствуют в мире, часто правят им. Для французского мыслителя событиямисимволами стали Колыма, Аушвиц. Исходя из таких экзистенциальных, моральных аномалий человеческого мира, Л. создает свою метафизику свободы, которая является философией ответственности. Этическое измерение интерсубъективного Л. стремится возвратить в культуру в целом. В постмодернистском пространстве культуры 20 ст. актуализирован феномен "Другого" как радикально чужого, противопоставленного "своему". В диалогике Л. также обрисовывается одна из центральных контроверз в "диагнозе нашего времени" - контроверза "свой-чужой". Культурная традиция, признаваемая западным обществом "своей", морально предосудительна, поскольку за ее пределами остаются "чужие". Постмодернистское переживание Л. дихотомии "свой-чужой" редуцируется к необходимости табуировать понятие "чужой". Но понятия "свой" и "чужой" соотносительны как единичность и множественность, как свет и тьма, как одиночество и люди (можно ощутить себя одиноким лишь зная, что людей много). Утрата апперцепции (понятийного осознания) и перцепции (ощущения) статуса "чужой" упраздняет апперцепцию и перцепцию статуса "свой", что ведет к утверждению исходной основы всякой либеральности и любого гуманизма. Оппозицией "свой-чужой" Л. дополняет оппозицию "Я-Другой". Классический философский и культурологический дискурс базируется на платоновской диалектике собственного и собственного "иного", но не радикального чуждого. "Другое" идентифицируется не более чем мое собственное "и-ное", поддающееся снятию и тотализации со стороны разума. Элементы такой системы полностью взаимозаменимы, а сама система прозрачна и проницаема для разума. Онтологию, фундированную такой интерпретацией Другого, Л. называет "онтологией света-разума". Ее базис был инспирирован элейским пониманием бытия как тотальности, где множественность подчинена Единому. Отношение "Я- Другой" в рамках этой традиции осмысливается в категориях власти: господства и подчинения. Одной из возможных форм данности Другого как чужого является "ускользание". Именно в процессе "ускользания", согласно Л., Другое впервые актуализируется в модусе "чужого", "доступного недоступного", "присутствующего отсутствующего". Актуализируя, на первый взгляд, противоречивые феномены "пребывание здесь и не здесь", "пребывание там и не там", "принадлежность миру там", "пребывание здесь и неданность остаться здесь", Левинас рассматривает оппозиции типа "локальное- глобальное" в современной культуре. Локальность замыкается на пребывание "здесь" и предполагает осознание данного положения. "Там и везде" генерирует идею глобального. Темпераментное разоблачение Л. европоцентризма, всех видов иерархизации (расовой, национальной, культурной и др.), признание первоначалом истории и культуры человеческого индивида свидетельствуют о его отказе от прежнего модернистского конфликтно-репрессивного типа решения проблемы "свойчужой". В статье "Философское определение идеи культуры" Л. пишет о "конце европоцентризма" как, возможно, "последней мудрости Европы", заключающейся в отказе от "все-миссийства". Рассуждая о культуре как о "местопребывании мира, который характеризуется не просто пространственной присущностью, но созданием в бытии выразительных и воспринимаемых форм нетематизирующей мудростью плоти, которое и есть искусство или поэзия", Л. противопоставляет подразумеваемому в данной дефиниции преодолению противостояния субъекта и объекта собственный параметр культуры - этическое измерение интерсубъективного. Только через нормы морали возможно любое значение, любое "означивание". "Смыслонаправленность" предшествует "знаковости культуры". Системы знаков есть лишь схемы конъюнктурных культурологических кодов человечества, по отношению к которым приоритетны исключительно этические "первоисточники". Если воспринимающему сознанию дан только "след" знака, обозначающего предмет, а не непосредственное обозначение этого предмета, то, согласно Л., получить о нем четкое представление в принципе невозможно. Вся система языка в таком случае предстает как платоновская "тень тени", как система следов, т.е. вторичных знаков, опосредованных, в свою очередь, конвенциальными схемами конъюнктурных культурных кодов реципиента. Ассимиляция инокультурного опыта не может рассматриваться как единственное содержание исторического бытия. Л. считает порочной практику насильственного "овладения" культурой и ее достижениями как некоторой замкнутой в себе ценности ("самоценности") без "означивания" метазнаков. Значение, то есть постижимое, сводится для бытия к тому, чтобы явить себя вне истории, в своей "обнаженности", к тому, что предшествует культуре и истории - причастность к другому как "акт-существование в существующем", что Л. называет гипостазисом. Диалог между культурами осуществляется в форме "скольжения" между "своим" и "чужим", в процессе которого соприкосновение с "чужим" обеспечивает иннервацию генезиса "своего", своей собственной культуры. Поиск новых социальных ориентиров сопряжен у Л. с построением, в известной степени, умозрительно-антропоморфной "конструкции" интерсубъектных отношений. Но идейная программа Л. есть нечто большее, чем отвлеченные метафизические рассуждения, сопровождающиеся определенной долей скепсиса по отношению к онтологии. Основные информационные файлы (ассоциаты) выстраиваются Л. по взаимоисключающим направлениям: Я - Другой, тотальное - бесконечное, трансцендентальное - трансцендентное, образ мышления Гегеза - образ мышления Мессии, эгоизм - ответственность за другого, обычное желание - Метафизическое Желание, локальное - глобальное, здесь - там, свое - чужое и др. Контекстуально определяя и уточняя их смысл, Л. инспирирует их значения и распространяет на многие области гуманитарного знания, прямо или косвенно причастных к выработке определенных стереотипов сознания, норм поведения, механизмов регулирования межсубъектных отношений, пространственных и временных модусов коммуникации. Поэтому непосредственно методологическая парадигма философской аргументации в диалогике Л. вырастает из анализа концептов диалога как смысловых квантов межличностной коммуникации, которые в зависимости от условий трансформируются в различные "гештальты" диалогического пространства нарративные практики. Риторика манифестации смысловых квантов межличностной коммуникации и их дальнейшая динамика являются акцентировано артикулируемыми в антиконвен-циально-плюралистическом контексте. Левинасовская постмодернистская реконструкция коммуникации, исчисляемая не параметрами "формулы" логосферы интерсубъективного пространства, а процедурой нарративно привносимого смысла, ризоматично организуется в самореферентную систему, которая находит критерии собственной адекватности, предметного соотнесения и смыслополагания внутри себя. Для "обретения" человека необходимо прибегнуть к ценностям "трансцендентального", к Единому. Сущность человека, согласно Л., не должна зависеть от возникновения сущего. Зависимость от порождающей матрицы опасна возвратом к философии субстанции и "овеществлением" человека. Бесконечное в долженствовании является индикатором гуманизма. Опыт "Другого", включая опыт "чужого", в концепции диалога Левинаса представляет собой непреодолимое отсутствие. Возвращение опыта "Другого" в опыт самого себя есть постмодернистское генерирование ницшеанского "графика времени" Вечного Возвращения как высшей формы утверждения. Проповедь чуткости к другому превращается в культ "инаковости" как признание морального превосходства других (людей, традиций, культур и др.). С.В. Воробьева ЛЕВИ-СТРОСС (Levi-Strauss) Клод (р. в 1908) - французский этнолог и социолог, положивший начало структуралистским исследованиям в области культурологии. Профессор университета в Сан-Паулу (1935- 1938), советник по культуре французского посольства в США (1946-1947), зам. директора Антропологического музея в Париже (1949-1950), профессор Коллеж де Франс (с 1959). Член Французской академии (1973). Основные сочинения: "Структурная антропология" (1958), "Мифологии. Тт. 1-4" (1964-1971), "Структурная антропология - 2" (1973), "Структура мифов" (1970), "Колдун и его магия" (1974) и др. Согласно Л.-С, философия являет собой "временного заместителя науки", ибо последняя достаточно оперативно осуществляет экспансию в сферу традиционных философских проблем. Рассматривая философскую составляющую аутентичного структурализма в виде "кантианства без трансцендентального субъекта", Л.-С. предполагал, что именно такой подход делает осуществимым непосредственный доступ к реальности объективированного мышления. Неудовлетворенный субъективизмом господствовавшей в середине 20 в. во Франции экзистенциальной философии, Л.-С. обращается к этнографии и антропологии. Его интерес к изучению объективированных форм и внесознательных детерминант человеческой психики предопределили теоретические установки, с одной стороны, Маркса и Фрейда, с другой - Дюркгейма, американской (Боас, Кребер) и английской (Малиновский, Рэдклифф-Браун) школ антропологии. Непосредственный методологический импульс новаторские изыскания Л.-С. получили из структурной лингвистики (Якобсон и др.) - прежде всего в виде фонологического метода. Значение последнего Л.-С. видел в: 1) переходе от изучения сознательных явлений к исследованию бессознательного их базиса; 2) отказе рассматривать члены отношения в качестве автономных независимых сущностей и преимущественном анализе отношений между ними; 3) введении понятия системы; 4) выявлении - впервые - социальной наукой "необходимых" отношений. Преодолевая узкоэмпирический подход, Л.-С. делает два базисных допущения: о существовании "другого плана" действительности, лежащего в основании наблюдаемой в опыте реальности, и типологического сходства феноменов культуры и явлений языка. Специфика складывающейся на этой основе концепции универсальной структуры заключается в понимании бессознательного как формальной матрицы (по типу двоичного кода), элиминирующей содержательные моменты его классической психоаналитической версии, а также в предположении всеобщности такой пустотной формы для организации различных уровней социальной жизни. Общество, в соответствии с этим, рассматривается с позиций семиотики и теории информации, как полиморфная система коммуникаций (противоположных полов, имуществ, лингвистических знаков), имеющих инвариантом фундаментальное означаемое в форме бинарных оппозиций. Задачей структурного анализа, таким образом, является считка разнообразных символических культурных форм (искусство, религия и т.д.) как кодов этого архетипического языка. Проблематика кодирования столкнулась с новым подходом Л.-С. к оценке первобытного мышления. В отличие от "теории пре-логизма" ЛевиБрюля, выделявшего коллективные формы мышления архаических народов в качестве "дологического мышления", Л.-С. полагает, что "человек всегда мыслил одинаково хорошо". В результате применения особых процедур поиска и моделирования единиц мифа ("мифем") Л.-С. делается вывод о присутствии в нем позитивной логики в форме структуры мифов, функционирующей в режиме медиации (опосредования) основных жизненных противоречий. Разрыв между мыслью о предметах и самими предметами, по Л.-С, заполняется магическим мышлением, что обеспечивает слитность чувственного и рационального в опыте первобытного коллектива. Поэтому сам факт звучания слова воспринимается "в качестве немедленно предлагаемой ценности", благодаря чему сама речь на равных правах включается в обменные процессы первобытного коллектива, организма, выступая специфической естественной идеологией. Современные же рациональные идеологии выполняют функции поставщиков чувства безопасности и гармонии для социальных групп гораздо менее эффективно. В итоге у Л.-С. складывается идеал своеобразного первобытного "сверхрационализма". Несмотря на исключительное воздействие на интеллектуальную ситуацию во Франции и за ее пределами, а также большой вклад во многие конкретно-научные области знания, работы Л.-С. получали очень неоднозначную оценку. (Так, по мысли Рикёра, структурализм Л.-С. - это "кантианство без трансцендентального субъекта".) Подвергались обширной и аргументированной критике его попытки возвести выявляемые структуры человеческого интеллекта в ранг универсального объяснительного принципа, компьютерная утопия исчисления социальных закономерностей, ограниченность исследований закрытыми и внеисторичными системами устойчивого значения. А.А. Горных ЛЕВИЦКИЙ Сергей Александрович (1908- 1983) - русский философ, публицист, писатель. После революции вместе с родителями оказался в Эстонии. Окончил Карлов университет в Праге, где учился под руководством Н.О. Лосского. С 1941 доктор философии (диссертация: "Свобода как условие возможности объективного познания"). Во время войны вступил в ряды Национально-трудового союза, одним из идеологов которого и стал ("солидаризм"). После войны, покинув Прагу, оказался в числе перемещенных лиц в Германии, где в 1947 в издательстве "Посев" вышла его работа "Основы органического мировоззрения". С 1949 - в США, где работал преподавателем русского языка, а затем (1955) - редактором на радиостанции "Свобода". В 1958 издательством "Посев" выпущена его книга "Трагедия свободы". С 1965 по 1974 (до пенсии) преподавал в университете Джорджтауна. В 1968 вышли его "Очерки истории русской философской и общественной мысли". Печатался в изданиях "Мосты", "Новое русское слово", "Грани" и др. Наибольшее влияние на творчество Л. оказали идеи персонализма и интуитивизма (Н.О. Лосский, Франк), а также морально-социальная теория солидаризма. Л. онтологизировал и социологизировал категорию "солидарность" в ее приложении как к личности, так и к социальному бытию, которое рассматривал как особую область бытия, не редуцируемую к биоорганике и (или) к психике. Считал, что оно конститурируется в межиндивидуальном и межгрупповом взаимодействии людей, наряду с психическим бытием. Психическое и социальное взаимно координируются друг с другом, возникают на биоорганическом базисе, но оба подчинены высшему - духовному бытию. Многофакторность социальной жизни должна быть понята из нее самой, т.е. из социальных актов (действий). Центральная ее проблема - взаимоотношения личности и общества, а в них - условия и возможности человеческой свободы (что предполагает также отношения человека и Бога). Свободу Л. рассматривает как условие солидарности, которую он считает первичным фактором развития (борющиеся включаются в объемлющее их единство, приобретение борьбой самостоятельного значения редуцирует общественную жизнь к низшим его проявлениям). Но свобода - это и проблема для самой себя. Л. последовательно анализирует "составляющие" свободы: свободу действия (техническая проблема), свободу выбора (можно выбрать и рабство), свободу хотения (предполагает выход в метафизику). Еще более подробно и критически Л. рассматривает различные концепции детерминизма, показывая их несостоятельность: материалистического (ведет к признанию пассивности психики), психологического (где как центральную рассматривает проблему соотношения мотивов и воли), теологического (порождает неразрешимые антиномии), логического (ведущего свое начало от Лейбница и проанализированного Шестовым - его тезис о познании сердцем, а не только разумом). Различные виды ограничений нельзя не признавать (свобода есть условие самой себя, но и одновременно несвободы). Так, отрицание Бога ведет, показывает Л., либо к онтологизации атеизма (Бакунин), либо к обожествлению человека (Н. Гартман). Детерминизм присутствует в бытии, его нельзя лишь редуцировать к какому-либо конечному основанию и универсализировать, так как основным (объемлющим) атрибутом социального бытия и личности является свобода. Свобода - внутренняя природа "я", его сущность. Сознание "я" есть самосознание свободы. Она есть "такое отношение субъекта к его актам, при котором акты эти определяются в качестве решающей причины самим субъектом". Субъект суть арбитр, дающий согласие на акт и определяющий его целенаправленность. Таким образом, свобода не может быть определена негативно как отсутствие детерминизма, тогда она будет атрибутом или Бога, или небытия, признание чего равно неприемлемо. Ее следует локализовывать между сущим и небытием в возможностях бытия. Сам субъект есть индивидуализированная сфера бесконечных возможностей. Свобода предшествует бытию, которое свободно лишь в той мере, в какой оно может быть иным. Частное бытие детерминировано предшествующим развитием событий и мировым целым, но оно же и полагается в будущем как одна из возможных реализаций. В связи с этим Л. дает развернутый критический анализ "патологий свободы": ее искажение страхом (фобиями) у Фрейда и "идолократию свободы" в экзистенциализме Сартра, Хайдеггера, Ясперса и Бердяева. Свобода суть "шанс и риск творческого пути человека". Только через творчество (полагание "нового") и служение высшим ценностям свобода исполняет себя и предохраняет от рабства, прикрывающегося масками свободы, выступает как необходимое условие критического отношения к суждению, помимо которого истина является недостижимой. Творчество же связано с воображением, направленным не на "ставшее" бытие (как память), не на "становящееся" бытие (как восприятие), а на потенции бытия - на мир сущего (не на вещи, а на образы вещей). Воображение вещей уже есть начало их воплощения в бытии (по крайней мере - личностном). Далее, рассмотрев проблематику гносеологии свободы, Л. переходит к ее онтологии как к процессу "овозможивания" свободы к бытию, а не от бытия. Реализация свободы через воображение связана с целесообразностью, способной блокировать (как высшее) причинность (как низшее). Целесообразность подразделяется им на два вида: трансцендентную (как следование замыслу Творца) и имманентную (как целенаправленность, проявляющуюся в самоактуализации тел). Причинность ограничивается субстанциальностью субъекта. При этом Л. блокирует понимание субстанциальности как субстрата изменений и говорит о субстанциальности как реакции субъекта на воздействия согласно его собственной природе, как творческом источнике собственных изменений. Главное условие свободы - потенциальная бесконечность перспектив. Субъект (деятель) всегда сверхбытийственен, он не сводится к данности, и, следовательно, его свобода не ограничена лишь выбором из наличного. Возможность реализуется только в одеянии должного. Это единственный путь преодоления действительности. Возможность умирает реализуясь (воплощаясь в действительность) и не реализуясь (обезреализовывание возможности). Поэтому свобода есть всегда самоопределение воли, т.е. самозаконность (случайность есть вторжение из иного ряда законности). Она необъективируема, неотделима от "я". Сознание имманентно "я" (сознание "я" есть самосознание свободы и основа самопознания). "Я" дано само себе, "для себя", а не "от себя" (очередной блок, ставимый Л. на пути несвободы). Предел самосознанию и самопознанию человека кладется лишь осознанием своей зависимости от Абсолюта. К последнему мы движемся по пути свободы, реализуя установку "для себя", следуя "влечению души", постигая собственное "я" в особой мистической (согласно Н.О. Лосскому) интуиции, онтологизируя смыслы в будущем посредством творческого воображения. Так онтологически, как ранее гносеологически, Л. утверждает тезис о предшествовании свободы бытию. Соответственно основным принципам своей философии Л. строит и концепцию личности. Структура личности интегрирует в себе подсознание, сознание "я", сознание "мы" и сверхсознание (категории добра и совести). В своей реконструкции истории русской философии Л. видит основную идею последней в разработке проблемы добра и считает это "залогом оправдания и возрождения русской культуры". В.Л. Абушенко ЛЕВКИПП (5 в. до н.э.) - древнегреческий философ (из Милета или Абдер или Элеи). О жизни Л. практически ничего неизвестно. Еще Эпикур (по Диогену Лаэртскому) утверждал, что Л. - вымышленная личность. В 19-20 вв. эту мысль разделяли немецкий филолог Э. Роде, Наторп и др. Эта гипотеза неприемлема для большинства исследователей. Л. - современник и предполагаемый учитель Демокрита. Считается создателем античной атомистики. Упоминаются его сочинения "Большой диакосмос" и "О разуме". Согласно Аристотелю, Л. стремился сблизить и примирить утверждения элеатов о невозможности движения материальных тел с чувственным опытом. Допускал существование небытия, т.е. пустоты. Атомизм Л. был настолько созвучен учению Демокрита, что уже в античности их взгляды излагались в общем сочинении. Л. полагал, что множества атомов порождают вихри и затем - миры. Более крупные атомы собираются в середине космоса и формируют плоскую землю. Этот процесс - равно как и образование небесных светил из воспламенившихся атомов - закономерен и необходим. А.А. Грицанов ЛЕГО (лат. lego - собирать, конструировать) - игровой феномен (а именно - тип детского конструктора), выражающий переориентацию современной культуры с презумпции конструирования как воспроизведения канона на презумпцию конструирования как свободного варьирования предметности. Для западной культуры классического типа было характерно понимание игры как ролевой или как игры по правилам (см. Игра), а детского конструктора - как средства обучения канону (конструкторы типа Меккано, мозаики-паззлы, наборы технических модулей и т.п.), - в данном случае складывание картинки из кубиков, несущих ее фрагменты на своих плоскостях, или моделирование из технических деталей изображенных на схемеинструкции автомобиля или аэроплана, семантически являются деятельностью по алгоритму, а сам процесс конструирования гештальтно воспроизводит классическое понимание ремесленного производства как процесса воплощения в материале образца, аналогичного абсолютному образцу - идее, эйдосу предмета - в классическом платонизме (см. Гилеморфизм, Эйдос, Платон). В отличие от этого, современная культура характеризуется видением производства как квазидеятельности по созданию гиперреальности (см. Симуляция, Гиперреальность): постмодерн ориентирован не на произведение в традиционном его понимании, а на конструкцию как свободное и подвижное соединение разнородных элементов в единое целое, причем в принципиально произвольном порядке (см. Конструкция, Интертекстуальность), - символом культуры постмодерна становится коллаж, понятый в предельно широком значении этого термина (см. Коллаж). В свою очередь, акценты в восприятии феномена игры современная культура расставляет таким образом, что на передний план выдвигается не игра по правилам (game), но свободная игра-play, правила которой конституируются в процессе разворачивания последней. Соответственно этому, конструирование как феномен детской игры осмысливается современной культурой как свободное моделирование предметности - вне нормативных канонов и жестких правил: free style как базовый стиль Л. не только позволяет, но и предполагает произвольное варьирование элементов, исключая инструкцию как таковую, - последняя обретает специфический статус инициирующего призыва к вольному фантазированию, предлагая картинки слонов с открывающимися в боку дверцами или человечков с растущими на головах цветущими кустами, которые воспринимаются не как образцы для подражания, но именно как констатация отмены канона и разрешение свободного творчества. Конструкции, составленные ребенком, каждый раз получаются разными, хотя создаются из одних и тех же блоков, - данная фигура гештальтно изоморфна такой фигуре постмодернистского философствования, как интерпретация смыслогенеза, предполагающая безгранично релятивные варианты семантико-аксиологической центрации текста (как вербального, так и невербального) в условиях отказа от идеи референции: смысл конституируется не в процессе понимания (см. Понимание, Герменевтика), но в процессе его конструирования (см. Означивание, Деконструкция, Пустой знак, Интертекстуальность). Вместе с тем, наряду с базовым free style, Л. предлагает и тематические серии (мир средневекового рыцарства, мир вестерна, мир пиратов, первобытный мир туземцев, мир современного города, космические миры и многие другие), что в сочетании с презумпцией free style предполагает возможность конструирования как конституирования новых миров (см. Возможные миры) хаос деталей, исходно принадлежащих к различным и, более того, разнородным сериям, может быть организован в семантически принципиально новое игровое пространство, организованное по правилам, принимаемым в режиме ad-hoc гипотезы и не являющимися каноническими, ибо с тем же успехом игровому пространству могут быть заданы и совершенно иные правила и характеристики (по принципу, аналогичному античному принципу исономии: не более так, чем иначе - см. Античная философия). В этом отношении Л. моделирует творчество не только как продуктивную деятельность без алгоритма, но и более фундаментально - как конституирование из хаоса все новых и новых вариантов космического устройства игрового пространства: мировое древо каждый раз вырастает заново, задавая принципиально новые версии мироустройства (см. Космос, Хаос). Ребенок обучается не канону, но, напротив, презумпции относительности последнего и способам вариативного конституирования различных канонов. В этом отношении Л. как феномен современной культуры выражает такие фундаментальные презумпции постмодерна, как презумпция "заката метанарраций" (см. Закат метанарраций) и презумпция принципиальной плюральности картины мира (см. Постмодернистская чувствительность), и может быть рассмотрен как вызванная постмодернистским поворотом современной культуры трансформация процесса социализации (см. Социализация). В.А. Можейко ЛЕ ГОФФ (Le Goff) Жак (р. в 1924) - французский историк-мидиевист, со второй половины 1980-х - глава школы "Анналов". Основные сочинения: "Купцы и банкиры средневековья" (1956), "Средневековые интеллектуалы" (1957), "Цивилизация средневекового Запада" (1965), "За новое изучение средневековья" (1977), "Рождение чистилища" (1981), "Средневековый мир воображения" (1985), "История и память" (1986), "Кошелек и жизнь: экономика и религия в средневековье" (1986), "Аппетит к истории" (1987), "Человек Средневековья" (коллективный труд, под ред. Л., 1987) и др. Профессор Школы высших исследований в области социальных наук (Париж), ее президент (1972-1977, третий после Февра и Броделя). Член редакционной коллегии "Анналов" (с 1969). Разделяя базовые эпистемологические ценности школы "Анналов", Л. в своем творчестве уделил особое внимание изучению истории ментальностей. По Л., ментальности - это не четко сформулированные и не вполне (иногда совсем не) осознаваемые стереотипные процедуры мышления, а также лишенные логики умственные образы, которые присущи конкретной эпохе или определенной социальной группе. Ментальности как способы ориентации в социальном и природном мире выступают своебычными автоматизмами. Согласно Л., данные совокупности шаблонов и ценностей, как правило, не артикулируются проводниками официальной морали и идеологии - они имплицитно обусловливают поведение людей, не будучи конституированы в системный нравственный или мировоззренческий кодекс. (Культура тем самым трактуется Л. не как система духовных достижений индивидуального творчества, а как способ духовного существования людей, как система мировосприятия и совокупность картин мира, явно или латентно присутствующие в сознании индивидов и продуцирующие программы и модели поведения последних.) С точки зрения Л., эти традиционно консервативные и (по сути своей) внеличные установки сознания имеют тем более принудительный характер, поскольку не осознаются индивидами. Реконструкция эволюции ментальностей являет собой в таком контексте историю различных "замедлений в истории". Социальная история идей в ракурсе схемы Л. высокопротиворечивый процесс: с одной стороны, будучи выработаны интеллектуальной элитой, они, внедряясь в массы и взаимодействуя с ментальными установками среды, существенно трансформируются - иногда до неузнаваемости. С другой стороны, по наблюдениям Л., культурные традиции народа и фольклорное творчество в исторической ретроспективе блокируются "ученой культурой" и письменной традицией, что существенно осложняет процедуры адекватной реконструкции народной культуры ушедших эпох. В целом, по схеме Л., историческая реальность "представляет собой единство материальных условий и мира воображения, в которых живут члены всякого общества: земля и небо, лес, поляна, сухопутные и морские дороги, множественность социальных времен, грезы о конце света и о потустороннем существовании...". Концепция тотальной истории в качестве собственного предметного поля должна, с точки зрения Л., включать в себя "не только то, что другие традиции мысли именуют культурой и цивилизацией", она подразумевает также изучение "материальной культуры - техники, экономики, повседневной жизни... равно как и интеллектуальной и художественной культуры, не устанавливая между ними ни отношений детерминизма, ни даже иерархии". В особенности важно,- утверждает Л. - избегать понятий "базиса" и "надстройки", которые "насилуют постижение исторических структур и их взаимодействие". Отказывая моделям жесткого экономического детерминизма в праве на истинность, Л. выражает явное предпочтение полифакторным подходам исторического объяснения, преодолевая пагубный волюнтаристский потенциал человекоцентрированных методологических схем: "Я неизменно предпочитал человеческие существа абстракциям, но историк не в состоянии их понять иначе, чем в недрах исторических систем, в которых они жили. Вся история заключается в этом взаимодействии структур с людьми во времени". Так, в частности, Л. осуществляет анализ эволюции феномена социального времени в средние века. Эмоционально подавляющий человека догмат о Вечности вкупе с доминированием естественноприродных ритмов сельскохозяйственной деятельности продуцировали безразличие средневековых людей ко времени повседневности. Диктуя все основные ритмы последнего (включая санкционирование периодов для сексуальных контактов между индивидами), церковь использовала контроль над времясчислением в качестве инструмента социального контроля. В этом же контексте осуществлялось осуждение ростовщичества как сферы извлечения дохода: полагание времени достоянием Бога не допускало таких деяний. Тем самым монополия на времясчисление обусловливала возможность контроля как производственной, так и семейной жизни верующих. Напротив, ереси, проповедовавшие скорое второе пришествие Иисуса Христа, по Л., "торопили время", "вырывая" его у церкви, и таким образом выступали разновидностью социальной борьбы в обществе. Неудивительно поэтому, согласно Л., что обитатели городов, купцы и предприниматели в качестве одного из ведущих репертуаров пафосного провозглашения собственной автономии считали легитимацию собственного времени в противовес времени церкви: башенные механические часы на рубеже 13-14 вв. стали атрибутами городов Европы. Историческая концепция Л. не только сыграла заметную роль в модернизации "Анналов" Школы в конце 20 ст., но и (наряду с более "экономически мотивированной" моделью понимания и реконструкции истории, принадлежащей Броделю) выступила удачной альтернативой одномерным объяснениям истории ортодоксального марксистского толка. А.А. Грицанов ЛЕЙБНИЦ (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646- 1716) - немецкий философ, математик, физик, юрист, историк, языковед. Основные философские сочинения: "Рассуждения о метафизике" (1685), "Новая система природы" (1695), "Новые опыты о человеческом разуме" (1704), "Теодицея" (1710), "Монадология" (1714). Л. завершает развитие рационалистически ориентированной философии 17 в. Отстаивая собственную позицию в споре об источниках познания (полемика рационалистов и эмпиристов), о категории субстанции (монизм Спинозы или дуализм Декарта), Л. предлагает оригинальную, синтетическую философскую систему. Утверждая суверенитет метафизики по отношению к теологии и математике (их различают метод и предмет), Л. тем не менее требует от суждений философов строгости и обоснованности научных выводов естествознания. Принято выделять две составляющие программы Л.: рационалистический метод и учение о Боге и субстанции. Если Декарт формулирует основное положение рационалистического метода - возможность установить ясные, несомненные, интуитивные утверждения, то Л. исследует их логическую природу. Первичные истины выражают аналитические суждения, в которых предикат раскрывает признаки, уже заключенные в понятии субъекта. Иначе, они отвечают требованиям законов логики: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего. В качестве априорных принципов метода Л. выдвигает положения о непротиворечивости всякого возможного бытия и о возможности бесчисленного множества непротиворечивых миров. Возможное - это то, что логически непротиворечиво, тождественно-истинные утверждения; это область вечных истин или истин разума, логических сущностей; возможное противополагается действительному, случайному в сфере индивидуального чувственного опыта. Л., однако, критикует окказионализм Мальбранша. По Л., закон достаточного основания (согласно которому существование и изменение всякой вещи, истинность или ложность утверждения могут иметь место только на определенном основании), а также принцип каузальности в естествознании и принцип предустановленной гармонии в онтологии позволяют сделать опыт источником необходимых положений - законов (так как случайное, фактическое с точки зрения относительной истины, логически необходимо с точки зрения абсолютной - "бесконечного интеллекта", гносеологического и онтологического основания). Два других методологических постулата утверждают, что существование данного мира имеет достаточное основание и таковым выступает оптимальность, полнота, совершенство его устройства. Сущность мира исчерпывается принципом предустановленной гармонии - в нем нет случайных элементов и присутствует всеобщая их взаимосвязь и согласованность. Иначе, предустановленная гармония обозначает соответствие истин разума истинам факта. Совершенство, разумность выражаются в ряде законов, которым подчиняется мир и познание. Л. утверждает всеобщий характер различения и принцип тождественности неразличимых, принцип дискретности и непрерывности, принцип минимума и максимума. Субстанциальное единство мира на уровне истин разума, т.е. порядок и полнота иерархии идеального мира, обозначается категорией Бога. В понимании Л., Бог - актуальная бесконечность человеческого духа, полная реализация чистого познания, которое не осуществимо для индивида. Учением, дополняющим положения метафизики божественного, выступает монадология - плюралистическая онтологическая концепция, описывающая разнообразие действительного мира. Монады - простые, неделимые, непространственные субстанции. Они выступают в качестве исходного начала всего сущего; обладают способностью беспрерывного действия. Они не могут изменяться, вступая во взаимодействие, но имеют внутренний импульс к действию, подобно живым организмам. Единство и согласованность монад обеспечены предустановленной гармонией. Монады проявляют себя в перцепции - смене восприятий - и аппетиции - стремлении монады к новым восприятиям. Л. различает три вида монад: простые, отличающиеся смутными представлениями; души, обладающие ощущением и сложными представлениями; духи или разумные существа. Бог - творческая монада, обладающая свойством актуального абсолютного мышления. Материя - сложная субстанция, в основе которой лежит простая - монада, поэтому Л. относит материю к миру явлений. Мыслитель различает первую и вторую материи. Одна характеризуется простыми качествами протяженность, непроницаемость, масса, другая - обладает силой, производной от первичной силы простой субстанции. Л. отрицает абсолютный характер пространства и времени, а следовательно, и пустое пространство. Они являются атрибутами мира явлений. Л. настаивает на различении монадологии и атомизма. Прототипом монады выступает биологическая клетка, а не точка геометрического пространства. В контексте принципиального для 17 в. противостояния эмпиризма и рационализма Л. полагает, что врожденные идеи и принципы могут существовать и существуют в потенциальном, неосознанном виде (врождены привычки, "природная логика", способности и склонности, "преформация"). Внешнее воздействие на душу - монаду инспирирует выявление изначальных потенций разума. Далее, к аргументам против концепции "пустого" сознания - tabula rasa Л. добавляет факты рефлексии (некоторые продукты деятельности разума могут существовать независимо от чувственности), подвижности внимания и существования психически бессознательного в виде бесконечно малых перцепций. Излагая свой взгляд на проблему первичных качеств (простых идей), Л. утверждает, что идеи первичных качеств формируются в нашем сознании при непрерывном участии деятельности разума, тогда как в рефлексии, наоборот, процесс образования простых идей не обходится без соучастия чувственности. Л. затрагивает роль языка в познании. Толкуя его как один из главных инструментов мышления, он полагает, что развитие языка не происходило исключительно дедуктивно, - сначала возникли словауниверсалии, а затем слова, имеющие частные значения, - но и индуктивно, то есть в обратном направлении. В теории науки Л. указывает на ошибочность отрицания роли аксиоматик в ней. Он отстаивает значимость соблюдения законов формальной логики в естественно-научном исследовании. Истину Л. понимал как соответствие между идеями и как соответствие простых идей адекватно воспринимаемым фактам. Он ввел различение истин на истины разума и истины факта: первые отличает необходимость, вторые - случайность. Как следствие, Л. первым обратил внимание на необходимость разработки теории вероятностей и теории игр, комбинаторику. Значительны достижения Л. и в логике. Он стремился синтезировать логику и математику в единую дисциплину, реализуя две идеи. Во-первых, идею истолкования мышления как оперирования знаками, которое должно приобрести вид исчисления точного описания элементов мышления, позволяющее сконструировать упорядоченную его аксиоматику. Во-вторых, идею всестороннего применения логических исчислений. Л. является автором современной формулировки закона тождества, закона достаточного основания, оригинальной логической символики. Введенные Л. философские постулаты: а) непрерывность разнообразных форм и состояний мира ввиду его завершенности и его завершенности ввиду его непрерывности; б) существование универсума в виде неразрывной лестницы, благодаря чему все живые существа призваны постоянно трансформироваться из одной формы в другую; в) существование предустановленной гармонии, позволяющей всем фрагментам сущего вступать между собой в телесные и внетелесные гармонии, резонансы, лады, а также обретать единые тональности сыграли значимую роль в эволюции западноевропейского интеллектуализма. Распространению идей Л. в Германии способствовал его ученик Вольф. Многие идеи были восприняты немецкой трансцендентально-критической философией и персонализмом, а также оказали существенное содержательное влияние на формирование философской парадигмы современного постмодернизма. (См. также Монада, Складка.) М.В. Подручный ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - теоретик большевизма, создатель большевистской партии и организатор Октябрьского большевистского (1917) переворота в России. Юрист. В 1891 сдал экстерном экзамены за юридический факультет Петербургского университета. Как профессиональный политик и мыслитель, спорадически касавшийся собственно философских проблем, Л. являет собой представителя того направления общественной мысли России, которое связывало как постановку философских проблем, так и процедуры их разрешения с задачами российского освободительного движения. Философским изысканиям изначально придавался прагматический социальный характер. Являясь безусловным сторонником идей революционизма и позитивности социального насилия, Л. как марксист, в первую очередь, выступал теоретиком и приверженцем учения о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. При этом особый акцент Л. делал на признании гражданской войны в качестве необходимого и неизбежного этапа разрешения классовых противоречий в обществе. По сути, классовая борьба трактовалась Л. лишь как эмбриональная стадия гражданской войны. Круг философских интересов Л. был сосредоточен на проблемах философии истории, рассматриваемых с ортодоксальных марксистских позиций. В тех случаях, когда в сфере внимания Л. оказывались гносеологические вопросы, он придавал им статус интеллектуального орудия во внутрипартийной (или даже внутрифракционной) борьбе. Последняя, как правило, характеризовалась Л. как форма разрешения антагонистического классового противоречия. Гносеология для Л. являлась по сути чисто "партийной" дисциплиной: "Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически, т.е. выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идею". Хотя необходимо отдать должное тому факту, что Л. одним из первых обратил внимание на революционные процессы, происходившие в естествознании рубежа 19-20 вв.: "кризис физики", "неисчерпаемость электрона" ("Материализм и эмпириокритицизм", 1909). Выступая последовательным сторонником целостного, тотального мировоззрения и миропонимания (в том числе и профессиональных), Л. считал, что любая философская школа, допускающая позитивный характер существования религии, в принципе, не является научной ("О значении воинствующего материализма", 1922). Будучи приверженцем функционирования большевистской партии на харизматически-вождистских принципах при соблюдении жесткого кадрового отбора, Л. трансформировал учение Маркса о диктатуре пролетариата в идею диктатуры партии - организации революционеровпрофессионалов - от имени пролетариата. Апологетика этого тезиса достигала у Л. степени социального расизма. Осознав в процессе катастрофического провала преобразований в русле "военного коммунизма" полную непригодность классического марксизма в деле создания реально функционирующей экономической системы социалистического типа, Л. отметил: "В работах Маркса вряд ли вообще можно найти хотя бы одно слово об экономике социализма - за исключением таких бесполезных лозунгов, как "каждый - по способности, каждому по потребностям!". В ходе разработки сценариев реализации большевистских программ в рамках экономической и политической практики Л. выступал приверженцем волюнтаристских, насильственных методов управления обществом, сочетавших открытый вооруженный и идеологический террор с культивированием и эксплуатацией массового энтузиазма населения при помощи популистских методов. По меткому выражению Бердяева, "Л. не верил в человека. Но он бесконечно верил в общественную муштровку человека". В контексте историко-философского процесса приходится однозначно констатировать, что как интеллектуальная, так и практическая деятельность Л. в России объективно привела к формированию догматизированной, жестко ограниченной рамками ортодоксально трактуемого марксизма философской традиции, постепенно эволюционировавшей в разновидность насаждаемой тоталитарным режимом ангажированной социальной мифологии. (См. Ленинизм, Марксизм-ленинизм.) А.А. Грицанов ЛЕНИНИЗМ - идейное течение социологии, политологии и общественной практики 20 в., характерное для официальных идеологических систем государств социалистического типа, а также для оппозиционно-радикальных движений, ориентированных на силовые процедуры захвата политической власти. Смысловым ядром Л. выступают сценарии и репертуары установления контроля над ключевыми структурами государственной организации общества в момент наиболее значимого противоборства разно-векторных политических сил (см., например, работы Ленина "Марксизм и восстание", "Советы постороннего" и т.п.). В философской ипостаси Л. сводит глубину теоретических дискуссий к чисто политическим измерениям данных вопросов. Так, полемика Ленина против Богданова в главе 6 книги "Материализм и эмпириокритицизм" являет собой типичный случай Л. Гносеологический анализ Богдановым соотношения и субординации элементов системы "общественное бытие - общественное сознание" ("может ли быть общественное бытие без и вне общественного сознания" - по Богданову) Ленин свел к чисто идеологическому ракурсу проблемы, обвиняя Богданова в идеализме, несовместимом с материализмом диалектического толка, с социал-демократизмом и с преданностью идеалам освобождения России. А.А. Грицанов ЛЕССИНГ (Lessing) Готхольд Эфраим (1729-1781) - немецкий философпросветитель, писатель, критик, основатель национального немецкого театра. Общим направлением эстетики Л., статус которой в культуре Германии аналогичен высокому статусу эстетики Дидро во французской культуре, стало требование реализма, отказ от подражания чужим образцам, отражение жизни своей страны. Но самым важным в интеллектуальной реформе Л. явилось его новое понимание литературы и искусства вообще. В своей знаменитой "Гамбургской драматургии" (1767- 1768) Л. обосновал право третьего сословия быть предметом художественного изображения. Такими стали его драмы: "Сарра Сампсон", "Эмилия Галотти", "Линна фон Барнхельм". Вершиной драматического творчества Л. стала драма "Натан мудрый", главным героем которой явился даже не немец, а еврей, отрицающий все положительные религии и проповедующий свободу совести и братской любви к людям. Театр был главной сферой деятельности Л., но и в других областях искусства он стал подлинным реформатором. В своем эстетическом трактате "Лаокоон, или о границах живописи и поэзии" Л. выступил ярким противником классицизма и феодально-придворной поэзии, сторонником реалистического изображения действительности. Л. не изложил своих философских взглядов в целостном и систематическом виде, уделяя главное внимание все же сфере искусства: его художественные произведения и литературная критика позволяли ему высказывать свои довольно радикальные взгляды. Судя по сохранившимся фрагментам, философское мировоззрение Л. представляло собой соединение философии Лейбница со взглядами Спинозы. Л. считал, что "предопределенная" гармония Лейбница есть не что иное, как искаженное учение Спинозы о единстве души и тела, которые суть одно и то же, но представляющееся то в качестве мышления, то в качестве протяженности. В найденном после его смерти фрагменте под названием "О действительности вещей вне Бога" Л. говорит, что между Богом и вещами нет и не может быть никакого разрыва. Бог существует не вне мира, а в нем самом. Хотя Л. и иронизировал над лейбницевской гармонией, он принял из его системы принцип развития, подчеркивая действенное начало и непрерывное движение в природе. Все в мире, по Л., находится в движении, в движении к совершенству. Л. стал основателем пантеизма в Германии. Он говорил о единстве окружающего мира, о том, что природа и дух - проявления одной и той же субстанции; закономерности мира вытекают из него самого; мир несотворим и неуничтожим. Однако известен этот спинозизм Л. стал лишь после его смерти благодаря Якоби, опубликовавшему в 1785 в "Письмах Мендельсону об учении Спинозы" свою беседу с Л., в которой последний признает себя спинозистом и говорит, что для него нет лучше философии, нежели философия Спинозы. Мендельсон не поверил Якоби, завязалась переписка, она была опубликована, вызвала многочисленные отклики, ибо Спиноза в Германии был тогда запрещен. О Спинозе заговорили открыто, возник так называемый "спор о пантеизме", вылившийся в дискуссию по главным философским вопросам. После спора Л. стал знаменит. Проблема совершенствования человека и человечества стала основополагающей идеей полемики Л. с пастором Геце, а также трактата "Воспитание человеческого рода" (1780), ставшего своего рода духовным завещанием Л. По словам Чернышевского, "если был в Германии, от Спинозы до Канта, человек не менее их одаренный природою для философии, то это, без сомнения, был Л. - крупнейший представитель радикального крыла немецкого Просвещения". Т.Г. Румянцева ЛИБИДО (лат. libido - желание, влечение, стремление) - понятие, употребляемое для обозначения полового влечения, полового инстинкта, энергии сексуального влечения и др. 1) Половое влечение. В развитии и функционировании Л. человека обычно выделяются пять стадий: а) понятийная, когда у детей формируются общие первоначальные представления о двуполости людей, собственной половой принадлежности и возникают элементы сексуального поведения; б) романтическая (платоническая), когда появляются эротические чувства и первые идеализируемые объекты влюбленности; в) эротическая, когда проявляется определенный интерес к ухаживанию, ласкам, прикосновениям и сексуальной разрядке; г) собственно сексуальная, когда проявляются стремление к половой близости и способность к переживанию оргазма, и д) зрелая, когда проявления полового влечения характеризуются наличием совокупности физиологических, эмоциональных, рациональных и ценностных компонентов, селективностью, относительно полноценной реализацией и определенным контролем половой активности и полового поведения в связи с обстоятельствами места и времени. 2) Половой инстинкт, половое стремление, сексуальное желание. В этих значениях понятие Л. было введено в научный оборот в конце 19 в. немецким психиатром А. Моллем и др. 3) Энергия сексуального влечения, детерминирующая психическую жизнь и поведение человека в норме и патологии; движущая сила сексуальной жизни и всего связанного с любовью, проявляющаяся в непосредственных и символических формах; сексуальная энергия и движущая сила психики и жизни вообще. В основном в этих значениях понятие Л. употреблялось в классическом психоанализе Фрейда, благодаря которому оно вошло в лексикон современной науки и язык обыденной жизни. Согласно концепции Л. у Фрейда, являющейся одним из краеугольных оснований психоанализа, Л., как энергия (энергетическая основа) эроса, присутствует во всех субстанциях организма и психики человека, но наиболее определенно проявляется в его гениталиях и эрогенных зонах. Основными формами существования Л., как сексуальной энергетической и динамической силы, по Фрейду, являются противоположные по направленности Объект-Л. (объектное Л.), т.е. Л., ориентированное на какой-либо внешний объект и "привязанное" к нему, и СубъектЛ. (Л.-Я, Эго-Л., Я-Л., нарциссическое Л.), ориентированное на собственное "Я" и "привязанное" к нему. Выступая как доминирующий мотив сексуальных ориентаций и всего поведения, Л. может преобразовываться из одной формы в другую, хотя в сексуальной жизни человека одна из данных форм, как правило, преобладает. Трансформация и переориентация Л. как количественно измеряемой энергии осуществляются, по Фрейду, вследствие действия различных "защитных механизмов", главным образом вытеснения и сублимации, обеспечивающих чрезвычайно широкий диапазон проявлений Л.: от элементарных физиологических актов до творчества. 4) В аналитической психологии Юнга понятие Л. употреблялось преимущественно для обозначения психической энергии вообще (т.е. энергии психики как таковой). В современной научной и популярной литературе понятие Л. употребляется в различных значениях, смысл которых, за исключением специально оговариваемых случаев, определяется по контексту. В.И. Овчаренко ЛИДЕРСТВО - понятие для обозначения существенного параметра процесса структурации социальной группы или общественного класса. Л. выступает как один из базовых механизмов дифференциации социальной деятельности и предполагает достижение особого (лидирующего) положения определенным лицом (индивидуальное Л.) или определенной частью группы (групповое Л.) по отношению к остальным членам группы (класса). В контексте отношений власти (см. Власть) Л. подразумевает продолжительное, а не спорадическое осуществление власти, как правило, сопряженное с личностными характеристиками субъекта-лидера. Феномен Л. в истории философии рассматривался, как правило, в аспекте политического или духовно-религиозного Л. По мысли Платона, у идеального правителя власть соединяется "с разумением и рассудительностью". Для Конфуция благородный правитель "в доброте не расточителен; принуждая к труду, не вызывает гнева; в желании не алчен; в величии не горд; вызывая почтение, не жесток". Перспективная типология Л. была предложена Лао-цзы, по мнению которого лучший вождь - тот, которого "народ не замечает", на втором месте - тот, которого "народ обожает", на третьем месте - тот, которого "народ боится" и на последнем - тот, кого "ненавидят". Макиавелли рисовал образ государя, для которого его личная власть - не благо само по себе, а средство достижения определенной политической цели (например, объединение и усиление государства). Правитель, согласно Макиавелли, должен учитывать главные стимулы человеческой активности (стремление к имущественным благам) и - "благодаря умению отгадывать сокровенные желания человеческой души" - господствовать над людьми. В соответствии с философией истории Гегеля, в деяниях великих лидеров "субстанционально содержится" историческая необходимость; они - "доверенные лица мирового духа". По Ницше стремление к Л. естественное стремление человека, помехой которому видится мораль, это "оружие слабых", истинный лидер вправе ее третировать, чтобы она "не висела у него гирей на ногах" (см. Сверхчеловек). У Фрейда "вытесненное" может сублимироваться в стремление к Л. Согласно схеме Фрейда, человеческие массы нуждаются в лидере, аналогичном авторитарному отцу в семействе, "в отцеподобии" - тайна Л. По Адлеру, стремление к Л. - компенсация "чувства неполноценности" личности. Многие современные исследователи Л. опираются на идею харизматического Л., возникающего, по идее М.Вебера, на изломах истории. Термин "харизма" применяется к лидеру, который наделен исключительными способностями. Если рационально-легальное Л. предельно безлично, то харизматическое Л. носит, как правило, акцентированно личностный характер. Как правило, принято выделять авторитарный и демократический стили Л. В первом случае - социальнопространственная позиция лидера - вне группы; на нем центрирована вся групповая информация; авторитарный лидер располагает монополией на власть, лично определяет цели группы и средства их достижения, его главные аргументы требовательность, страх, угроза наказания. Демократический стиль Л. не унижает ведомых, а, напротив, пробуждает в них чувство собственного достоинства, индуцирует активность "снизу - вверх". Социально-пространственное положение такого лидера - внутри группы, он делегирует ответственность, распределяя ее среди членов группы. Согласно известной модели, когда член группы А стремится изменить поведение В, - это попытка Л.; когда В изменяет свое поведение под влиянием А - это успешное Л.; когда изменение поведения В приносит удовлетворение ему самому - это эффективное Л. Е.Н. Вежновец ЛИНГВИСТИКА (языкознание, языковедение) - наука о языке, о его строении, функционировании и развитии: "проявление упорядочивающей, систематизирующей деятельности человеческого ума в применении к явлениям языка и составляет языковедение" (И.А.Бодуэн де Куртенэ). Л. выделилась из философии в начале 19 в., когда у нее появились собственные методы исследования, и первый среди них сравнительно-исторический метод, объясняющий сходство языков общностью их предыдущего развития (Ф.Бопп, Р.Раск, Я.Гримм и др.). В современном мире языкознание подразделяется на частное (изучающее структуру, функционирование и развитие какого-либо конкретного языка) и общее (изучающее язык как общечеловеческий феномен). По другому основанию Л. делится на диахроническую Л. (изучение языка в историческом развитии, в эволюции) и синхроническую Л. (изучение языка на определенном хронологическом срезе). Третья представленная в сегодняшней Л. оппозиция - это противопоставление языкознания описательного (отражающего реальное функционирование языка) и нормативного (предписывающего употребление одних языковых фактов и не рекомендующего употребление других). Четвертое деление Л. - на внутреннюю (исследующую собственные законы устройства и функционирования языка) и внешнюю (исследующую взаимодействие языка с иными общественными и природными феноменами). К области внешней Л. относятся, в частности, бурно развивающиеся в последнее время психолингвистика, социолингвистика, нейролингвистика, лингвокультурология и др. В состав Л. входит ряд частных наук: фонетика и фонология, изучающие звуковой строй языка; семасиология, изучающая значение языковых единиц; лексикология и лексикография, занимающиеся словом и его представлением в словаре; этимология, исследующая происхождение слов и их частей; грамматика, традиционно распадающаяся на морфологию (науку о строении слов) и синтаксис (науку о строении предложения), и др. Философские аспекты языка изучались еще в древней Индии (Яска, Панини, Бхартхари), Китае (Сюй Шень), античной Греции и Риме (Демокрит, Платон, Аристотель, Донат и др. - см. Язык). В рамках новейшей европейской традиции основателем философского подхода к языку считается В.Гумбольдт. Гумбольдтовское понятие "народного духа", а также присущий ему психологизм в трактовке духовной и культурной жизни общества легли в основу таких современных научных течений, как этнопсихология и лингвистическое неогумбольдтианство. К числу наиболее важных философских проблем современной Л. относятся, в частности: 1) проблема формирования (становления) языка - как в плане филогенеза (возникновения человеческого средства общения, в связи с глобальной проблемой происхождения человечества, определения его прародины, особенностей древнейшего этапа развития, общих законов эволюции и т.п.), так и в плане онтогенеза (языкового развития личности, особенностей языка ребенка, социальной значимости обучения языку и т.п.); 2) гносеологические и когнитивные аспекты использования языка, а именно: свойства языка как знаковой системы, соотношение языкового знака с денотатом (обозначаемым), тождество знака самому себе (что приобретает особую актуальность в связи с явлениями полисемии и омонимии в языке), функция знака как инструмента познания (на фоне общей философской проблемы познаваемости/непознаваемости мира), определение истинностного значения высказывания и т.п. (см. Знак, Семиотика, Познание); 3) комплекс проблем "язык и общество": социальные функции языка (в том числе коммуникативная, регулятивная, этническая и др.), соотношение категорий языка и национально-культурного менталитета, классификация речевых актов, жанров и стилей речи (в связи с коммуникативными интенциями и ролевой структурой общения), структура и место текстов в рамках различных цивилизаций и т.п. (см. Дискурс, Коммуникация, Автокоммуникация). Многие современные концепции Л. послужили фактическим основанием для оригинальных философских теорий, либо восходят своими корнями к конкретным философским учениям (см. Язык). Так, теория лингвистической относительности, разработанная американскими лингвистами Э.Сепиром и Б.Л.Уорфом, трактует язык как своеобразную рамку, через которую человек воспринимает действительность. Основой для такого сравнения послужили прежде всего наблюдения над структурой языков американских индейцев, коренным образом отличающихся от языков европейского стандарта. (Эти различия, касающиеся, в частности, особенностей счета, периодизации времени, лексических классификаций и т.д., находят, по свидетельству ученых, отражение и в особенностях поведения аборигенов.) Окончательный вывод из данных посылок имеет глобальный характер: язык оказывает непосредственное влияние на деятельность человека. Гипотеза Сепира - У орфа и сегодня продолжает вызывать активные дискуссии среди языковедов (см. Лингвистической относительности концепция). В то же время гиперболизация или абсолютизация роли языка в процессе познания свойственна различным ответвлениям логического позитивизма и аналитической философии (см. Аналитическая философия). Широкую известность получил постулат Витгенштейна: "Границы моего языка означают границы моего мира" (см. Витгенштейн). В этом пункте с позитивистами смыкаются представители экзистенциализма и иррационализма (см. Экзистенциализм, Иррационализм, Хайдеггер, Гадамер). Многие философы видят в тексте и отношениях между его единицами своего рода образец, модель для систематизации мира культуры в его развитии: "Язык заставляет выстроиться в линейный порядок представленные вразброс элементы" (Фуко). Сходные предпосылки определяют теоретические положения еще одного "лингвистического" ответвления в современной философии общей семантики (получившей наибольшую распространенность в США). Здесь обращается особое внимание на конвенциональный характер языкового знака. С.Хаякава, один из наиболее ярких представителей данного направления, утверждает: общественная жизнь - это сеть взаимных соглашений, и ее протекание зависит от успешности кооперации посредством языка. При этом определяющим критерием в классификации реалий является не объективная истина, а общественная целесообразность и языковой опыт: "Мы бессознательно вкладываем в мир структуру нашего собственного языка" (А.Кожибский). Языкознание 20 в. развивалось под сильнейшим влиянием идей структурализма (см. Структурализм, Постструктурализм). Значительную роль в этом сыграл "Курс общей лингвистики" Соссюра. Принципы структурализма, получившие дальнейшее развитие в лингвистических трудах Н.С.Трубецкого, Якобсона, Л.Ельмслева, Р.Барта, Хомского и др., в частности, таковы: "свойства отдельного знака выводятся из свойств целой системы"; "отличия знака от других знаков и есть все то, что его составляет"; "состояние системы (синхрония) принципиально противопоставлено ее развитию (диахронии)" и т.д. В Л. конца 20 в. структурализм принимает формы порождающей (генеративной) грамматики и логической семантики, его принципы используются также в функциональной грамматике, структурной типологии языков, Л. универсалий. В целом современная ситуация в гуманитарных науках характеризуется теснейшим сращением, взаимопроникновением отдельных дисциплин. Многие лингвистические концепты, - например, "слово", "имя", "высказывание", "дискурс", - становятся ключевыми для разнообразных философских, психологических, теологических построений. Так, по словам Джемса, "имя вещи в большей мере характеризует говорящего субъекта, чем саму вещь". Для Рассела имя - лишь определенная или же неоднозначная "дескрипция объекта". Витгенштейн писал: "Имя не разлагается далее никаким определением; оно - первичный знак". Лосев характеризовал имя как "орудие общения с предметами и арену интимной и сознательной встречи с их внутренней жизнью". Реализацией философских концепций в современной Л. можно считать исследование лингвистических аспектов теории возможных миров (см. Возможные миры, Хинтикка), создание теории речевых актов, выделение прагматических пресуппозиций и постулатов речевого общения (Остин, Дж.Р.Серль, П.Грайс и др.), разработку нечетко-множественной и вероятностной моделей языка (Л.Заде, В.В.Налимов и др.), логико-философское обоснование природы языковых категорий (Ю.С.Степанов, Н.Д.Арутюнова и др.), исследования в области семантических примитивов, универсального семантического кода, международных (вспомогательных) языков (А.Вежбицка, В.В.Мартынов) и т.д. К числу общепризнанных достижений языкознания новейшего времени, имеющих общеметодологическое значение, относятся основы генеалогической и типологической классификации языков (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Дж.Гринберг, А.Исаченко, Б.А.Успенский, В.М.Иллич-Свитыч), представление об уровневой структуре языка, дополненное принципом изоморфизма уровней (Якобсон, Э.Бенвенист, В.А.Звегинцев, В.М.Солнцев), разграничение языка, речи и речевой деятельности (восходящее к Соссюру), понимание принципиальной многофункциональности языка (К.Бюлер, Якобсон), учение о двух сторонах языкового знака и о соотношении основных компонентов его плана содержания (Моррис, С.Карцевский, Г.Клаус и др.), учение об оппозициях и их типах (Н.С.Трубецкой, Якобсон, Е.Курилович, А.Мартине), применение к языковому материалу теории поля (Й.Трир, Г.Ипсен, В.Порциг, А.В.Бондарко) и др. Верификация данных теоретических положений происходит при решении разнообразных прикладных задач Л., в том числе при разработке программ автоматического анализа/синтеза речи и машинного перевода, лингвистического обеспечения компьютерных операций, новых моделей обучения языку и т.п. Показательным для современного этапа развития гуманитарных наук является также представленное в литературе стремление объединить все "лингвистические" ответвления философских исследований под общим именем философской герменевтики (см. Герменевтика) и философии языка. (См. также Текст, Интертекстуальность, Постмодернизм, Язык, Метаязык.) Б.Ю. Норман ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ - термин, описывающий ситуацию, сложившуюся в философии в первой трети - середине 20 в. и обозначающий момент перехода от классической философии, которая рассматривала сознание в качестве исходного пункта философствования, к философии неклассической, которая выступает с критикой метафизики сознания и обращается к языку как альтернативе картезианского cogito. Л.П., или языковая революция, нашел выражение в лингвистической философии Витгенштейна ("Логико-философский трактат"), феноменологии Э.Гуссерля ("Логические исследования"), фундаментальной онтологии Хайдеггера, неопозитивизме. (Уже в "Логико-философском трактате" Витгенштейна подчеркивалось: "Границы моего мира суть границы моего языка".) Основными чертами Л.П. являются отказ от гносеологической и психологической проблематики, критика понятия субъекта, обращение к исследованию смысла и значения, замена понятия истинности понятием осмысленности, стремление рассматривать язык как предельное онтологическое основание мышления и деятельности, релятивизм и историцизм. Первая волна Л.П. приходится на 1920-е и представляет собой разнообразные попытки прояснения и реформирования языка в соответствии с законами логики, которая трактуется как единая структура действительности. Гуссерль, Витгенштейн, Хайдеггер рассматривают обыденный язык как источник заблуждений и философских проблем, как нечто не подлинное и противопоставляют ему язык, упорядоченный в соответствии с законами логики, верифицированный в соответствии с фактами, или язык, как язык искусства. Первоначально Л.П. осуществлялся в границах синтактико-семантического подхода, ориентировавшегося на анализ ассерторических предложений, абстрагируясь от рассмотрения прагматических аспектов языкового значения, связанных с реальным использованием языка. В рамках логического позитивизма осуществлялась явная абсолютизация репрезентативной функции языка, имплицировавшая анализ воплощенного в языке знания по образу и подобию отношения субъекта (депсихологизирован-ного сознания) к внешнему миру. Подобный подход может быть описан как метафизика языка, т.к. он сохраняет основные установки эпохи Нового Времени, которая со времен Декарта выдвигала разнообразные проекты улучшения языка. Вторая волна Л.П. приходится на 1940-1950-е, когда проекты улучшения языка заменяются исследованием и описанием различных типов языка в его обыденном функционировании. Структурализм, герменевтика, лингвистическая философия акцентируют свое внимание на контекстах и предпосылках высказываний, на объективированных структурах языка вне связи с субъектом. Идея единого совершенного языка заменяется понятиями различия, многозначности, историчности оснований языка, описанием его политических и социальных функций. Поздний Витгенштейн, а также Селларс и Куайн разработали прагматическую концепцию значения, в соответствии с которой коммуникативной функции языка придавалось главное значение, функция же репрезентации понималась лишь как производная от нее. Квази-субъектом познания выступала в таком контексте надындивидуальная языковая игра, производящая "картину мира" - эпистемическую очевидность, предпосылочную и первичную по отношению ко всем рациональным представлениям индивидуального сознания. А.В. Филиппович ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕПЦИЯ (в узком смысле концепция Э.Сепира - Б.Ли Уорфа) - теория зависимости стиля мышления и фундаментальных мировоззренческих парадигм коллективного носителя языка от специфики последнего. Сыграла значительную роль в становлении современной философии языка, предельно актуализировавшись в философии постмодерна. Философские идеи, отводящие языку детерминирующую роль в отношении специфики форм духовной деятельности, были высказаны еще в рамках предромантической философии 18 в.: язык как перманентная процессуальность духовного творчества (Гумбольдт), строй языка как форма развития человеческого духа (Гердер). На базе этого был эксплицитно сформулирован тезис о том, что "язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык", и в этом смысле "каждый язык есть своего рода мировоззрение" (Гумбольдт). Близкие идеи были высказаны также и в классическом языкознании: "в лингвистике предмет вовсе не предопределяет точек зрения; напротив - можно сказать, что здесь точка зрения создает самый предмет" (Соссюр); младограмматиками был сформулирован радикальный тезис о том, что "на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов" (Г. Пауль). В системном виде Л.О.К. была конституирована в рамках американской школы этнолингвистики, идеи которой, будучи основанными на компаративной традиции и, в частности, на сравнительно-исторической парадигме в языкознании, во многом были инициированы практикой изучения языка и культуры североамериканских индейцев (прежде всего, языка индейцев племени такелма из штата Орегон и др.). На основе подхода к языку как к одному из компонентов культуры Сепиром была зафиксирована прямая связь и типологическая гомогенность языковой и соответствующей ей (с точки зрения носителя языка) социокультурной среды. На этом фундаменте Сепир высказал мысль о том, что "...реальный мир" в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы". Последующая аппликация этой идеи Ли Уорфом на проблему детерминации нормативных структур культуры, определяющих базовые для культуры поведенческие программы, придала гипотезе Сепира характер универсальной социально-психологической объяснительной парадигмы. Язык выступает в ее рамках как медиатор между индивидуальным мышлением и социальной процессуальностью, задающий не только мыслительные гештальты и генеральные горизонты мироинтерпретации, но и нормативные структуры поведения. Таким образом, типология общественной жизни может и должна быть объяснена, исходя из вариативности культур, выражающих себя на различных языках. В этой связи в рамках Л.О.К. оформляется гипотетическая модель развития мировой культуры, базирующаяся на том допущении, что в основу ее развития могла бы быть положена не индо-европейская языковая матрица и соответствующий ей европейский рационально-логический дедуктивизм и линейная концепция необратимого времени, а радикально иной языковой материал: предполагается, что это привело бы к формированию мировой культуры принципиально иного типа (ср. с неокантианской трактовкой языка как фундаментальной смыслополагающей "символической системы культуры" у Кассирера, в узловых пунктах своего содержания изоморфной концепции Л.О.К.). Идеи Л.О.К. были развиты в структурно-функциональном направлении современной лингвистики, в рамках которого язык рассматривается в качестве детерминанты способов организации коллективного и индивидуального опыта, понятого не только в когнитивном, но - прежде всего - в коммуникативном плане: "каждому языку соответствует своя особая организация данных опыта. Изучить чужой язык не значит привесить новые ярлычки к знакомым объектам. Овладеть языком - значит научиться по-иному анализировать то, что составляет предмет языковой коммуникации" (А.Мартине). В неогумбольдтианстве также культивировалась идея об определяющей роли языковых факторов в процессе формирования смысловой картины мира у носителя языка - как индивида, так и языкового коллектива (структуры родного языка как априорные формы организации индивидуального опыта в "содержательной грамматике" Л.Вайсгербера, критериальность "внутренних форм" языка в "типологии семантических полей" В.Порцига и И.Трира). Лежащая в основе Л.О.К. презумпция смысло-образующего потенциала языковых феноменов сыграла значительную роль в становлении современной парадигмы в философии языка, рассматривающей языковую форму самовыражения человека как фундаментальную ("сущность человека покоится в языке", по Хайдеггеру); идеи Л.О.К. были адаптированы и содержательно продвинуты в современной философской герменевтике (в качестве извечной загадки, "которую язык задает человеческому мышлению", Гадамер фиксирует факт "мировидения, содержащегося в языках"); в контексте философии постмодерна оформляются комплексные трактовки мира как "текста" (Деррида), "словаря" или "энциклопедии" (Эко), "космической библиотеки" (В.Лейч); в структурном психоанализе бессознательное артикулируется в качестве текста, и векторы "означающих", т.е. материальных структур языка, очерчивают горизонт индивидуальной судьбы (Лакан); теория языковых игр фундирована "трансцендентально-герменевтическим" истолкованием возможности коммуникативного взаимопонимания (Апель). М.А. Можейко языка как условия ЛИОТАР (Lyotard) Жан-Франсуа (р. в 1924) - французский философ, теоретик "нерепрезентативной эстетики", создатель концепции "нарратологии", обосновывающей ситуацию постмодернизма в философии. С 1959 преподавал философию в университетах Парижа (Нантер, Сорбонна), с 1972 по 1987 профессор университета Сент-Дени, соучредитель (вместе с Деррида) Международного философского колледжа. На его творчество заметно повлияло неокантианство, философия жизни, экзистенциализм, аналитическая традиция и "философия власти" Фуко. Основные сочинения: "Феноменология" (1954), "Отклонение исходя из Маркса и Фрейда" (1968), "Либидинальная экономия" (1974), "Состояние постмодерна" (1979), "Спор" (1983), "Склеп интеллигенции" (1984) и др. Отражая в одной из своих ранних работ ("Феноменология") главные тенденции этого философского течения в 1950-х, Л. зафиксировал перемещение интересов его представителей от математики к наукам о человеке, от полемики против историцизма к поискам возможных компромиссов с марксизмом. Так, классическая установка феноменологов - сделать "я воспринимаю" основанием "я мыслю" (здесь cogito являет собой аналог "я оцениваю" предикативного высказывания) - была ориентирована на фундацию предикативной деятельности деятельностью "допредикативной". Но поскольку реальным измерением данной процедуры выступало описание в дискурсе предшествующего дискурсу, постольку до-предикативное не могло быть восстановлено таким, каким оно существовало до того, как было озвучено и эксплицировано. По мысли Л., отношение "я воспринимаю" к миру видимому суть то, что именуется у Гуссерля "жизненным миром": "ввиду того, что этот исходный жизненный мир является до-предикативным, любое предсказание, любой дискурс, конечно же, его подразумевают, но им его и недостает, и о нем, собственно говоря, нечего сказать. [...] Гуссерлианское описание [...] есть борьба языка против него самого для достижения изначального. [...] В этой борьбе поражение философа, логоса, не вызывает сомнений, поскольку изначальное, будучи описанным, не является более изначальным как описанным". При этом резюмируя споры о природе "вечных истин", осуществляемые в рамках феноменологической парадигмы, Л. отмечал: "... не существует абсолютной истины, этого постулата, объединяющего догматизм и скептицизм; истина определяется в процессе становления как ревизия, коррекция и преодоление самой себя, и этот диалектический процесс всегда протекает в лоне живого настоящего". Факт истинности по сути становится уделом истории. Собственную концепцию "нерепрезентативной эстетики" Л. посвятил преодолению моделей репрезентации, утвердившихся в искусствоведении после эстетической системы Гегеля. "Событие" (см. Событие, Событийность), по Л., в принципе неопределимо и "несхватываемо": любое изображение всего только указывает на принципиально непредставимое. При этом, согласно Л., "событийность" (не могущая быть подведена под какое-либо универсальное правило) имманентно содержится в любом высказывании: "распря", "несогласие" в этом контексте очевидно приоритетны перед "согласием". Тем самым Л. стремился разрешить наиблагороднейшую задачу: "спасти честь мышления после Освенцима". По его мнению, трагедия тоталитаризма в Европе неразрывно связана с самой сутью европейского мышления, ориентированного на поиск безальтернативной истины. Такие притязания, по Л., в первую очередь характерны идеологиям модернистского типа или "метанаррациям". Ход рассуждений Л. в данном контексте был таким. Ницше диагностировал приход нового нигилизма, подразумевающего в данном конкретном случае следующее: революционеры воображают, будто бы их оппозиция существующему социальному порядку фундирована истиной. Данная истина, выступающая в облике "революционной теории", постулирует, что современный способ производства и обусловленная им надстройка обречены вследствие имманентного противоречия, что будущее наличного настоящего идет к катастрофе (всемирная война, планетарное утверждение фашизма). Избежать этого можно якобы только в том случае, если человечество сумеет посредством радикально-силового решения найти путь к иному способу производства. И тут революционер, по мысли Л. ("Либидинальная экономия"), осознает следующее. Он полагал себя вещающим от имени истины и выражающим нравственный идеал. Революционные ожидания не сбылись. Как следствие - крах революционных ценностей, определяемых ныне как ценности религиозные (поиск спасения людей путем отмщения всем виновным) и клерикальные (просвещенный интеллектуал выступает ныне в ипостаси доброго пастыря масс). Социализм, по Л., оказывается несомненно менее революционен нежели капиталистическая реальность, причинами тому - религиозность социализма и - напротив - циничность вкупе с абсолютным неверием мира капитала. Таким образом, согласно Л., истина революционной теории - не более чем идеал, она являет собой лишь выражение желания истины. "Революционная истина" обусловлена той же верой в истину, что и религия. Согласно Л., капитализм нет надобности упрекать в цинизме и безверии: поскольку капитализм ликвидирует все, что человечество почитало святым, постольку эту тенденцию нужно сделать "еще более ликвидирующей". Согласно Л., "конец истории" в этом контексте необходимо понимать как выход человечества из исторического времени с целью очутиться во "времени мифов". Потому философия и должна снять былую маску критики, которую она носила при господстве единственной истины (например, монотеизма), ей теперь пригодится маска политеистического типа. Л. пишет ("Либидинальная экономия"): "Значит, после этого вы отвергаете спинозистскую или ницшеанскую этику, разделяющую движения, обладающие большим бытием, и движения, обладающие меньшим бытием, действие и противодействие? - Да, мы опасаемся, что под покровом этих дихотомий вновь возникнет целая мораль и целая политика, их мудрецы, их борцы, их суды и их тюрьмы. [...] Мы говорим не как освободители желания". Согласно Л., мир не может пониматься иначе как в конечном счете выдуманное повествование. В лоне истории, исторического времени мир являл собой истину, открытую единственному логосу. Пришло время совершить обратный переход: в этом главный смысл идеи Л. о "закате метанарраций" (см. Закат метанарраций). Как же возможен скачок от logos к muthos? Только демонстрацией того, что сам логос был мифом. Философия жестко разделяла дискурс теоретический и нарративный: в первом содержится утверждение того, что есть всегда и везде. Во втором все сомневаются, он гласит: "некогда...". Всеобщее и особенное противоположены. Это необходимо преодолеть. Л. пишет: "теории сами представляют собой повествования, только в скрытом виде, и не следует позволять вводить себя в заблуждение их претензией на всевременность". Л. фундирует данный тезис "логикой случая" древнегреческих софистов. Указанная логика сводила всеобщую логику к логике частной, частную логику к логике отдельного события; тем не менее она не становилась в итоге ни более истинной истиной, ни более универсальной логикой. Придание любому дискурсу статуса нарративного отказывает абсолютному дискурсу в праве на существование: "...фактически мы всегда находимся под влиянием какого-либо повествования, нам уже всегда что-то сказано, и о нас всегда уже что-то сказано". Нарративное повествование никогда не ссылается на стерильный факт, на безмолвное событие, его основа - история, грохот многочисленных слов; оно никогда не заканчивается: повествующий обращается к слушателю, который сам некогда станет повествующим, само же повествование обратится в пересказываемое. Не более и не менее этого. В работе "Состояние постмодерна" Л. выявляет доминирующую роль в европейской культуре тенденций формализации знания. Основной формой "употребления" знания являются "нарративы" - повествовательные структуры, характеризующие определенный тип дискурса в различные исторические периоды. Л. выделяет "легитимирующие" макронарративы, цель которых - обосновать господство существующего политического строя, законов, моральных норм, присущего им образа мышления и структуры социальных институтов. Наряду с макронаррациями существуют также и "языческие" микронарративы, которые обеспечивают целостность обыденной жизни в ее повседневном опыте на уровне отдельных первичных коллективов (например, семьи), и не претендуют на позиции власти. Сам дискурс, по Л., является метанаррацией и создает "социальную мифологию", которая поддерживает функционирование всех механизмов управления. Специфика же нашего времени как "послесовременного" ("постмодерна") заключается, согласно Л., в утрате макронарративами своей легитимирующей силы после катастрофических событий 20 в. Постоянная смена идеологий подтверждает, что вера в господство разума, правовую свободу и социальный прогресс подорвана. Кризис ценностей и идеалов Просвещения, синтезированных в спекулятивной философии Гегеля, означает, с точки зрения Л., отход от тотальности всеобщего и возврат к самоценности индивидуального опыта на микроуровне. "Проект современности", таким образом, ориентирован на автономию морального закона и с необходимостью обращается к метафизике Канта. Право на индивидуальный выбор в своей реализации приводит к практике сосуществования множества различных языков, гетерогенных "языковых игр", полное тождество которых невозможно ввиду различия их целей ("денотативные", означивающие игры) и стратегий ("прескриптивные", действующие языковые игры). Задачей социальной политики становится не насильственная унификация множественности в единое "коллективное тело" социума и даже не поиск универсального языка для возможности диалога между ними, но сохранение именно этой разнородности, поддержка практики различных "языковых игр". (Тем не менее Л. составил, видимо, первый список языковых монстров 20 в.: "рабочий-стахановец, руководитель пролетарского предприятия, красный маршал, ядерная бомба левых, полицейский член профсоюза, коммунистический трудовой лагерь, социалистический реализм".) В работах 1980-х Л. приступает к конкретному рассмотрению терминологии языка власти, отталкиваясь от структуралистской модели соотношения "синхронии" и "диахронии". С точки зрения практического использования языка в качестве инструмента власти, существуют различные методы обработки языкового материала: начиная с минимальных нарративных единиц слов, из которых строятся предложения, и заканчивая специальными типами дискурса, подчиненными конкретной цели. Так появляются "режимы" предложений и "жанры" дискурса как методологические процедуры и "правила пользования" языком, посредством которых власть манипулирует им, присваивая себе его содержание различными способами словоупотребления. Несмотря на зависимость таких правил от контекста истории, "проигравшим" всегда неизбежно оказывается референт, потребитель, подчиненный. В сфере коммуникации власть реализуется как технология удержания выгодного для нее "баланса сил": производимый посредством риторики дискурс власти захватывает позицию "центра" в коммуникативной среде и стремится подчинить себе все остальные дискурсивные практики, не допуская их смешения в распределении полномочий и ускользания из-под контроля в сферу "языковых игр". Современная ситуация представлена Л. как онтологическая экстраполяция "языковой игры", в которой преобладание "проскрипции" приводит к подавляющему доминированию экономического дискурса. Оппозиция по отношению к этой ситуации выражает радикализм Л. в его стремлении довести "разоблачение" практики центрирования власти до утопического предела ее полного исчерпания. В результате, наделяя только один дискурс всеми властными полномочиями и придавая ему статус господствующего, Л. тем самым продолжает традиционную линию метафизики. (См. также Закат метанарраций, Метанаррация, Нарратив, Постмодернистская чувствительность, Modern.) А.А. Грицанов ЛИЦО - философское понятие, посредством которого в границах ряда концепций философии постмодернизма обозначается один из потенциально мыслимых содержательных компонентов многомерных категорий "тело", "плоть", "кожа" и др. Л. являет собой уникальное в своей универсальности означающее, маркирующее весь феномен телесности: оно - знак, который не нуждается ни в каком теле и самодостаточен. (Ср. у Гвардини: возможность существования "человека без личности, но с Л."; у Флоренского: "Л. - предмет истории".) В истории философии и культуры, а также в искусстве - феномен "множественности" Л., никогда не совпадающего с собой, общепризнан: так, согласно М.Прусту, "...мы стареем не от того, что действительно состарились, а от того, что более не в силах удерживать дистанции жизни, которыми мы защищаемся от взглядов других - образ лица, приносимый во взгляде другого, не должен стать нашим лицом". Диапазон возможных символов и смыслов, закодированных в "выражении Л." как означающего, безгранично широк: от посмертной маски, символизирующей ситуацию наличия у человека единственного Л. (исчезновение дистанции между Л. и его выражением или образом - одна из ипостасей смерти индивида) до феномена беспредельной "многоликости" образа Л. (Ср. у В.Подороги: "То, что не может быть стерто, изменено, трансформировано - не является Л... Л., выбеленное до пятна, - лик".) Вуалирование, заштриховыва-ние телесности (либо отказ от таковой процедуры) суть основа для формирования как архаических, так и "цивилизационных" трактовок Л. В тех культурах, где нагота не фетишизируется как объективная "антропо-истина", тело не противопоставляется Л. (Л. рассматривается как только и обладающее богатством выражения исключительно в условиях цивилизации.) В архаичных культурах тело наделяется способностью взгляда, оно (как и Л.) "глядит" и, следовательно, располагается вне смысло-символического поля непристойности. В такой системе нравственно-эстетических и философских координат тело "само есть Л.", и оно тоже нас рассматривает. (Известный пример: на вопрос, заданный индейцу только открытой европейцами Америки о его наготе, тот ответил, что у него - все есть Л.) В тотальной культуре господства видимостей Л. и тело неразличимы. Тело в культурах такого типа в принципе не может быть "увидено" нагим, как у нас не может быть "увидено" таковым Л. [Ср. у Гегеля: "Подобно тому, как на поверхности человеческого тела, в противоположность телу животного, везде раскрывается присутствие и биение сердца, так и об искусстве можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех точках его (тела) видимой поверхности в глаз, образующий вместилище души". По Гегелю, никогда не бывает просто наготы; никогда не бывает нагого тела, которое было бы только нагим; соответственно, никогда не бывает - просто тела.] В тотальных же культурах репрессивного смысла Л. и тело теряют первозданное единство, они жестко различимы: тело (в отличие от Л., выступающего некой символической занавесью) пугающе зримо, оно - метка монструозного желания. В порнографии Л. стирается полностью: актеры порнофильмов не имеют Л. Напротив, становление техники владения и игры Л. конституировало важнейший элемент развития европейской культуры, искусства, философии и антропологии. В работе Ш.Лебрена "Об общем и частном выражении" (1698) предполагается, что "производство выражения страсти в организме" должно осуществляться за счет "внутреннего движения крови и духов, которые устремляются в некую часть тела, как будто напрягая, натягивая, надувая ее изнутри"; "растущая степень страсти" находит свое воплощение в "акцентировке черт, их усилении - их раздувании и деформации телесного чехла". "Крайними масками", по Лебрену, выступают состояния, когда тело или Л. напряжены до пароксизма (как "телесные тупики") и вселяют ужас возможностью еще большей своей деформации - вплоть до "разрыва телесных покровов". Страсть у Лебрена обнаруживает себя в неожиданном обездвиживании и проявляет себя как "маска, охватывающая все тело, мгновенная и всеохватывающая маска, которой ничто не может избежать и чья экспрессивная неподвижность стремится наложить на лицо знаки смерти... как - посмертная и смертоносная маска". В контексте мысли Сартра о том, что "плоть" - это не "тело", а "клеевая прослойка" между двумя телами в результате обмена касаниями: глаз становится "взглядом", когда желает "плоти" Другого, возникновение "маски" может интерпретироваться как рельефное самообозначение окостеневших структур Л. посредством его пластичной плоти (процедура "взаимоналожения" двух тел или "прорыва" одного тела "изнутри" иного). Такое рельефное "проступание" полагается постмодернизмом как адекватный образ классической модели генерации смысла, вздымающегося из глубины на поверхность: затвердение (кристаллизация) в финале отображает актуализацию смысла в фиксирующих его структурах (например, в текстах). Понятие "Л.", таким образом, может репрезентировать в философии постмодерна также и классическую семантическую модель: "глубина перестает существовать, растекаясь по поверхности... теперь все поднимается на поверхность... неограниченное поднимается. Становление-безумным, становление-неограниченным - это отныне не грохочущая глубина, оно поднимается на поверхность вещей и становится бесстрастным" (Делез). (См. Тело, Плоть, Касание.) А.А. Грицанов "ЛОГИКА ПЕР-НОЭЛЯ" ("логика Деда Мороза") - понятие, введенное Бодрийяром ("Система вещей", 1968) для обозначения суггестивного приема, фундирующего феномен рекламы в контексте характеризующей современную культуру симуляции. Согласно Бодрийяру, в условиях всеобщей симуляции (см. Симулякр) отсутствие тех или иных реалий, выступающих для человека в качестве ценности, замещается символизирующей ("кодирующей") их вещью (ср. с идеей Э.Дихтера о "вещи" как средстве разрешения любых социологически или психологически артикулированных - конфликтов). По мнению Бодрийяра, сложившаяся ситуация (в режиме автокатализа) усугубляет сама себя: "в... вещах обозначается идея отношения, она в них "потребляется", а тем самым и отменяется как реально переживаемое отношение" (классическим примером Бодрийяр считает меблировку семейной квартиры в условиях, когда формально наличная семья на уровне подлинности отношений уже не является таковой: посредством вещей псевдосупруги "потребляют" супружеские отношения, тем самым вынося таковым окончательный приговор). В этом контексте реклама, будучи эксплицитно анонсом вещи, имплицитно анонсирует определенный тип социальных отношений (желаемых или предпочтительных - в диапазоне от защищенности до престижа). Именно эти отношения (соответствующие им состояния) и выступают, по Бодрийяру, подлинным предметом желания у потребителя товара. И наряду с навязанными со стороны официальных аксиологических шкал в ряду этих желаний могут иметь место и преформированные социальной мифологией исконно присущие человеку желания, в том числе - желание чьей-то заботы в свой адрес, причем чем более значим (социально силен) субъект этой заботы, тем более желанной она оказывается. Апеллируя именно к этим вожделениям, реклама фактически дает возможность увидеть, "что именно мы потребляем через вещи" (Бодрийяр). Не делая эти вожделения до конца эксплицитными, реклама, тем не менее, как бы легитимирует их, словно говоря "не бойтесь желать!" (Бодрийяр). Подобным образом ориентированная реклама оказывается - при всей своей массовидности и массовости - предельно интимизированной по механизму восприятия (ср. у Д.Рисмена: "наибольшим спросом пользуется ныне не сырье и не машины, а личность"). В этих условиях реальным товаром становится именно возможность удовлетворения указанных вожделений, а отнюдь не анонсируемое рекламой непосредственное удовлетворение потребностей с помощью рекламируемой вещи. В этом отношении реклама - "это мир... чистой коннотации" (Бодрийяр), в силу чего сама реклама как предметный или процессуальный феномен, вызывающий эти коннотации, может, по мнению Бодрийяра, сама "становиться предметом потребления". Таким образом, логика рекламы - это. по определению Бодрийяра, "Л.П.-Н.", ибо "это не логика тезиса и доказательства, но логика легенды и вовлеченности в нее. Мы в нее не верим, и однако она нам дорога". (Типичным примером может служить рекламный слоган "Tefal - ты всегда думаешь о нас".) Бодрийяр выделяет, по меньшей мере, две ситуации, где действует аналогичный суггестивный механизм. Первая - это ситуация детской веры в рождественские подарки Деда Мороза, которая, соответственно, и дала название "Л.П.-Н.". По Бодрийяру, вера ребенка в Пер-Ноэля - "это рационализирующая выдумка, позволяющая ребенку во втором детстве сохранить волшебную связь с родительскими (а именно материнскими) дарами, которая была у него в первом детстве. Эта волшебная связь, фактически уже оставшаяся в прошлом, интериоризируется в веровании, которое служит ее идеальным продолжением. В этом вымысле нет ничего надуманного, он основан на обоюдном интересе обеих сторон поддерживать подобные отношения. Дед Мороз здесь не важен, и ребенок верит в него именно потому, что по сути он уже не важен. Через посредство этой фигуры, этой выдумки, этого алиби... он усваивает игру в чудесную родительскую заботу и старание родителей способствовать сказке. Подарки Деда Мороза лишь скрепляют собой это соглашение". Вторая, приводимая Бодрийяром ситуация, где работает аналогичный тип суггестивности, - исцеление психосоматических больных после приема так называемого "плацебо", т.е. биологически нейтрального вещества. Эффект достигается в данном случае благодаря совпадению ожиданий больного и предлагаемого (обеспеченного) ему комплекса "вера в медицину + присутствие врача" (Бодрийяр), что, по Бодрийяру, фактически символизирует и замещает для человека с психической травмой фигуру родителей. Однако, в условиях всеобщей симуляции "Л.П.-Н." становится тотально довлеющим типом рационалыюсти массового сознания, культивирующим универсальный инфантилизм и патерналистские установки. Именно в силу этого обстоятельства Бодрийяр формулирует свой тезис оценки всевозрастающего распространения сферы действия "Л.П.-Н." посредством образа "личность в беде". М.А. Можейко, В.А. Можейко ЛОГОМАХИЯ - методологическая стратегия философии постмодернизма, фундированная радикальным отказом от логоцентризма (см. Логоцентризм) и ориентирующая на десакрализующее переосмысление феномена логоса в игровом контексте. Общая парадигмальная установка постмодернистской философии на тотальную логотомию (см. Логотомия) может быть функционально дифференцирована на собственно "иссечение логоса", понятое как содержательный процесс, и "дезавуирование логоса" - как процесс аксиологический. Последнее и реализует себя в контексте предложенной Деррида стратегии Л., основанной на игровом отношении к логосу, размывающем самые основоположения классического европейского рационализма (см. Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм). На смену традиционной "непротиворечивой логике философов" постмодернизм, по оценке Деррида, выдвигает принципиально игровую квази-логическую систему отсчета, в рамках которой то, что в классической традиции воспринималось в качестве "прочного и устойчивого логоса", на самом деле носит принципиально алогичный характер, "скрывает игру" в самих своих основаниях. В смысловом горизонте концепции "заката мета-нарраций" (Лиотар) дискурс легитимации, задающий феномен лингвистической нормы, сменяется дискурсивным плюрализмом, открывающим возможности для конституирования релятивных и вариативных языковых стратегий (см. Закат метанарраций), - базовая для постмодернизма идея пародии (см. Пастиш) "фундирована финальной дискредитацией самого понятия "лингвистическая норма" (Джеймисон). Таким образом, программа Л. заставляет философию, в целом, переосмыслить феномены логоса (см. Логос), истины (см. Истина), рациональности (см. Рационализм) и языка (см. Язык) в игровом ключе: постмодернизм конституирует игровую стратегию дискурсивных практик (см. Дискурс); придает универсальный и базисный статус языковым играм, фактически постулируя их как единственную и исчерпывающую форму языкового процесса (см. Языковые игры); формулирует идею "игр истины" ("что заставляет нас полагать, что истина существует? Назовем философией ту форму мысли, которая пытается не столько распознать, где истина, а где ложь, сколько постичь, что заставляет нас считать, будто истина и ложь существуют и могут существовать" - у Фуко). (См. также Логоцентризм, Логотомия, Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм, Неодетерминизм.) М.А. Можейко ЛОГОС (греч. logos) - философский термин, фиксирующий единство понятия, слова и смысла, причем слово понимается в данном случае не столько в фонетическом, сколько в семантическом плане, а понятие - как выраженное вербально. В значении данного термина имеется также не столь явно выраженный, но важный оттенок рефлексивности: "отдавать себе отчет". Исходная семантика понятия "Л." была существенно модифицирована и обогащена в ходе развития историко-философской традиции. В силу богатства своего содержания понятие "Л." прочно вошло в категориальный аппарат философии различных направлений и использовалось в разнообразных контекстах (Фихте, Гегель, Флоренский, Эрн и др.). Р.Бартом развита идея "логосферы" как вербально-дискурсивной сферы культуры, фиксирующей в языковом строе специфику ментальной и коммуникативной парадигм той или иной традиции, конституирующихся в зависимости от различного статуса по отношению к власти (энкратические и акратические языки). Феномен Л. в рационалистическом своем истолковании фактически стал символом культуры западного типа, воплотив в себе фундаментальные установки западной ментальности. Именно поэтому концепт "Л." становится первым адресатом постмодернистской критики классического типа философствования и стиля мышления в целом. Феномен Л. в культуре постмодерна десакрализуется (см. Логомахия) и становится объектом решительной негации (см. Логотомия). Выступая с позиций нелинейного рассмотрения своего предмета (см. Нелинейных динамик теория), постмодернизм решительно порывает с презумпцией "линеарности" (Деррида), неизменно сопрягая последнюю с идеей Л. В этом контексте постмодернизм ставит целью "освобождение означающего от его зависимости или происхождения от Логоса и связанного с ним понятия "истины" или первичного означаемого" (Деррида). В этом отношении, по самооценке постмодернизма, "перенесение внимания на полисемию или на политематизацию представляет, наверное, прогресс по сравнению с линейностью письма или моносемантического прочтения, озабоченного привязкой к смыслу-опекуну, к главному означающему текста или к его основному референту" (Деррида). Фактически выступая с программой создания методологии нелинейных динамик, постмодернизм осуществляет радикальный отказ от идеи линейности и традиционно сопрягаемой с ней идеи единозначной, прозрачной в смысловом отношении и предсказуемой рациональности, выраженной в понятии Л. М.А. Можейко ЛОГОТОМИЯ - одна из парадигмально значимых методологических презумпций философии постмодернизма, фиксирующая отказ от характерной для классической культуры установки на усмотрение глубинного смысла и имманентной логики в бытии и сущности как любого феномена, так и мира в целом (см. Логос). Подобную установку постмодернизм интерпретирует как присущий классической метафизике (см.) логоцентризм (см. Логоцентризм) и усматривает ее корни в фундаментальной для культуры западного образца презумпции Автора как внешней причины любого явления, вносящей - посредством процедуры целеполагания - смысл и логику в процесс его бытия (см. Автор). В противоположность этому культура постмодерна, по оценке современной философии, ориентирована на новое понимание детерминизма (см. Неодетерминизм), а именно - на отказ от презумпции внешней причины (см. "Смерть Бога") и рассмотрение бытия как хаотичного (см. Постмодернистская чувствительность) и находящегося в процессе самоорганизации, не предполагающем внешнего причиняющего воздействия как несущего в себе (в виде рефлексивно осознаваемой цели либо в виде объективных факторов будущих вариантов конфигурирования той или иной предметности) "логику" процесса (см. Событийность, Номадология, Генеалогия, Шизоанализ, Машины желания). Таким образом, постмодернистская парадигма в философии, фундированная стратегией радикальной Л. как "деконструкции Логоса" (Деррида), принципиально альтернативна парадигме модернистской, фундированной глубинным идеалом "логократии", восходящим к платоновской модели миро- и социоустройства (немецкий экспрессионизм, например). Программная установка Л. формулируется Деррида следующим образом: "прослеживать и консолидировать то, что в научной практике всегда уже начинало выходить за логоцентристское закрытие". Подобный негативизм связан с тем, что в европейской традиции логоцентризм неразрывно сопряжен с основоположениями метафизики (см. Метафизика), линейной детерминационной схемы и вытекающими отсюда идеями стабильности структуры, наличия центра, факта языковой референции и определенности текстовой семантики. Однако именно против этого блока культурных смыслов (см. Ацентризм, Бинаризм, Логоцентризм, Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм, Неодетерминизм) и нацелено острие постмодернистской критики. По оценке последней, процедуры Л. по отношению к культуре логоцентристского типа должны быть реализованы, по меньшей мере, по двум фундаментальным для этой культуры векторам: вектор метафизического истолкования бытия (т.е. негация логоцентристской картины реальности) и вектор герменевтического истолкования познания (т.е. негация логоцентристской когнитивной программы). Так, применительно к онтологии (см. Онтология, Метафизика), Фуко постулирует тотальное отсутствие исходного "смысла" бытия мироздания: "за вещами находится... не столько их сущностная и вневременная тайна, но тайна, заключающаяся в том, что у них нет сути, или что суть их была выстроена по частицам из чуждых им образов". Соответственно этому, гносеологическая стратегия постмодернизма не может быть конституирована как герменевтическая процедура дешифровки скрытого смысла феноменологического ряда бытия, и любая форма дискурса в этом контексте артикулируется "как насилие, которое мы совершаем над вещами, во всяком случае - как некую практику, которую мы им навязываем" (Фуко). Однако в условиях отказа от референциальной концепции знака вербальная сфера также предстает ни чем иным, как спонтанной игрой означающего, находящегося, в свою очередь, в процессе имманентной самоорганизации. Начертанный на знаменах постмодернизма отказ от логоцентристской парадигмы проявляет себя и в данной области: как констатирует Р.Барт, "нет больше логической ячейки языка - фразы". Классическая презумпция наличия "латентного смысла" истории подвергается критике со стороны Деррида, который эксплицитно провозглашает "освобождение означающего от его зависимости или происхождения от логоса и связанного с ним понятия "истины", или первичного означаемого". С учетом контекста историко-философской традиции Дж.Р.Серль интерпретирует процедуру деконструкции (см. Деконструкция) как конституирующую "некое множество текстуальных значений, направленных по преимуществу на подрыв логоцентристских тенденций". По оценке Дж.Д.Аткинса, язык "никогда не был, не может быть и наконец перестает считаться "нейтральным вместилищем смысла". - Таким образом, постмодернистская программа Л. реализует себя в максимально полном объеме. В данной своей парадигмальной фигуре философия постмодернизма выражает глубинные интенции современной культуры на переориентацию с исследования систем кибернетического порядка - к исследованию систем анти-кибернетических, т.е. не реализующих в своей эволюции глобального "плана", исходящего от структурного, семантического или аксиологического "центра" системы (см. Синергетика). Важнейшим аспектом современного понимания детерминизма в качестве нелинейного (см. Неодетерминизм) выступает отказ от идеи принудительной каузальности, собственно, именно этот параметр и выступает критериальным при различении синергетических (децентрированных - см. Ацентризм) и кибернетических систем, управляемых посредством команд центра. Согласно синергетическому видению мира, "тот факт, что из многих возможностей реализуется некоторый конкретный исторический вариант, совсем не обязательно является отражением усилий некоторого составителя глобального плана, пытающегося оптимизировать какую-то всеобщую функцию, - это может быть простым следствием устойчивости и жизненности данного конкретного типа поведения" (Г.Николис и Пригожин). В современном естествознании "материя стала рассматриваться не как инертный объект, изменяющийся в результате внешних воздействий, а, наоборот, как объект, способный к самоорганизации, проявляющий при этом как бы свою "волю" и многосторонность", - иными словами, "организация материи... проявляется самопроизвольно как неотъемлемое свойство любой данной химической реакции в отсутствие каких бы то ни было организующих факторов" (А.Баблоянц). (См. также Логомахия, Логоцентризм, Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм, Метафизика.) М.А. Можейко ЛОГОФИЛИЯ - понятие, введенное философией постмодернизма для обозначения специфики социокультурного статуса дискурса (см. Дискурс) в западной традиции и фиксирующее аксиологическую приоритетность феноменов рациональности, дискурсивности и логоса в контексте европейской культуры. В понятии "Л.", таким образом, отражается культурная парадигма "видимого глубокого почтения" (Фуко) к дискурсу со стороны классического стиля мышления западного образца. Типологической характеристикой культуры западного типа выступает в этом контексте ее логоцентризм (см. Логос, Логоцентризм), рационализм и метафизическая ориентация (см. Метафизика). Фактически логос и дискурс связываются западным типом рациональности в единый и неразрывный комплекс (см. Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм), фундирующий собой систему оснований классической европейской культуры (см. Универсалии). Вместе с тем, применительно к европейской (и вообще - западной) традиции можно говорить об амбивалентности восприятия культурой самого феномена дискурса. С одной стороны, акцентированный западный рационализм обеспечивает дискурсу очевидно почетное место в системе ценностей культуры западного типа: по оценке Фуко, "казалось бы, какая цивилизация более уважительно, чем наша, относилась к дискурсу?..". Однако на деле за фасадом Л. европейской культуры может быть обнаружено далеко не однозначное к нему отношение. Прежде всего, по мнению Фуко, за декларируемой и внешне демонстрируемой Л. европейской классики скрывается "своего рода страх" перед дискурсом, то есть реальная "логофобия" (см. Логофобия), вызванная имманентным противоречием между линейностью классического стиля мышления и принципиально нелинейной природой процессуальности дискурса (см. Дискурсивность). М.А. Можейко ЛОГОФОБИЯ - понятие постмодернистской философии, фиксирующее феномен неприятия классической европейской культурой той особенности дискурса (см. Дискурс), которая связана с безграничностью его креативного потенциала по отношению к производству смысла. Это неприятие вызвано той особенностью процессуальности дискурса, что эта процессуальность практически не знает границ (см. Дискурсивность), - в то время как презумпция ограничивающего упорядочивания выступает одной из фундаментальных в контексте европейской классики. По оценке Фуко, страх перед дискурсом есть не что иное, как страх перед бесконтрольным и, следовательно, чреватым непредсказуемыми случайностями разворачиванием креативного потенциала дискурса, страх перед хаосом, разверзающимся за упорядоченным вековой традицией метафизики Космосом (см. Хаос, Метафизика) и не регламентируемым универсальной необходимостью (см. Неодетерминизм), фактически "страх... перед лицом всего, что тут может быть неудержимого, прерывистого, воинственного, а также беспорядочного и гибельного, перед лицом этого грандиозного, нескончаемого и необузданного бурления дискурса" (см. Хюбрис). Не обладая в своем тезаурусе достаточными методологическими средствами для овладения этой стихией дискурса (ибо нелинейные процессы неизбежно воспринимаются как стихийные через призму линейного способа мышления), классическая культура, по мнению Фуко, если не рефлексивно осмысливает, то, по крайней мере, имплицитно чувствует свою уязвимость и беспомощность "перед лицом... грандиозного, неконтролируемого и необузданного бурления дискурса". Именно это обстоятельство вызывает сколь глубокую, столь же и тайную Л. европейской классики по отношению к дискурсу, т.е. характеризующий западный тип ментальности фундаментальный "страх... перед лицом внезапного /в случайности флуктуации - M.M./ появления... высказываний, перед лицом всего, что тут может быть неудержимого, прерывистого, воинственного, а также беспорядочного и гибельного". Феномен Л., характерный для культуры западного образца, порожден, таким образом, глубинным противоречием между имманентной рациональностью и дискурсивностью европейской культурной традиции, с одной стороны, и невозможностью описания в рамках ее классического канона тех свойств дискурса, которые не укладываются в пространство линейной логики. Указанное противоречие делает европейскую классику беззащитной перед лицом своих собственных мировоззренческих оснований, в силу чего за маской "логофилии" (см. Логофилия) европейской классики реально "прячется... страх" перед семантической безграничностью дискурсивной среды (Фуко). Именно этот страх за неприкосновенность собственных рационально организованных оснований (и рефлексивно осмысленных как линейно организованные) лежит в основе интенций европейской классики на ограничение дискурсивной сферы: "все происходит так, как если бы запреты, запруды, пороги и пределы располагались таким образом, чтобы хоть частично овладеть стремительным разрастанием дискурса" (Фуко). Таким образом, именно Л. классической культуры западного типа лежит в основе ее стремления тщательно регламентировать дискурсивные практики, взять под контроль и, в конечном итоге, ограничить дискурсивную сферу (см. Порядок дискурса). М.А. Можейко ЛОГОЦЕНТРИЗМ - понятие, введенное постмодернистской философией (в контексте парадигмы "постмодернистской чувствительности" - см. Постмодернистская чувствительность) для характеристики классической культурной традиции, установки которой критически оцениваются в качестве имплицитно фундированных идеей всепроникающего Логоса, что влечет за собой неадекватное, с точки зрения постмодернизма, осмысление бытия в качестве имеющего имманентную "логику" и подчиненного линейному детерминизму. Феномен логоса в рационалистическом своем истолковании, по оценке постмодернистской философии, фактически стал символом культуры западного типа, воплотив в себе фундаментальные установки западной ментальности, выражающиеся в акцентировании активизма властного, формального, мужского начала, т.е. фактически фигуры внешнего причинения (критика "онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризма" у Деррида - см. Онто-теотелео-фалло-фоно-логоцентризм). Именно в этом своем качестве понятие логоса как краеугольный камень культуры западного образца подвергается рефлексивному осмыслению в философии постмодернизма: семантико-аксиологическая доминанта европейского рационализма фиксируется Деррида как "империализм Логоса", базовая структура европейского менталитета оценена Кристевой через "Л. европейского предложения", налагающий запрет на свободную ассоциативность мышления и др. Кроме того, согласно позиции Л.Сиксус, "логоцентризм подчиняет мысль - все концепции, коды и ценности - бинарной системе". Вся западная культурная традиция рассматривается постмодернизмом как тотально логоцентристская, т.е. основанная на презумпции наличия универсальной закономерности мироздания, понятой в духе линейного детерминизма. (Фуко, правда, усматривает также за видимой и культивируемой "логофилией" западной культуры скрытый страх перед непредсказуемыми возможностями дискурса, его потенциальной неограниченной креативностью, т.е. латентную "логофобию" - "своего рода смутный страх перед лицом... внезапного проявления... неудержимого, прерывного... а также беспорядочного".) При тематическом разворачивании содержания культуры такого типа для нее оказываются характерны, по оценке Фуко, как минимум, две "темы": в онтологическом аспекте - "тема универсальной медиации", в гносеологическом - "тема изначального опыта". Первая из названных "тем" аксиоматически полагает в качестве наличного "смысл, изначально содержащийся в сущностях вещей". Подобная посылка инспирирует такое построение философской онтологии, "когда повсюду обнаруживается движение логоса, возводящего единичные особенности до понятия и позволяющего непосредственному опыту сознания развернуть, в конечном счете, всю рациональность мира". На этой основе формируется образ мира как книги и соответственная интерпретация когнитивных процессов: "если и наличествует дискурс, то чем еще он может быть, как не скромным чтением?" (Фуко). Линейная версия детерминизма оценивается философией постмодернизма сугубо негативно, и прежде всего - в аспекте усмотрения в ее основании идеи преформизма (разворачивания исходно наличной имманентной "логики" процесса). Согласно Лиотару, линейный "детерминизм есть гипотеза, на которой основывается легитимация через производительность: ...последняя определяется соотношением "на входе" / "на выходе"... что позволяет достаточно точно предсказать "выход". В противоположность этому, постмодернистская философия фундирована той презумпцией, что закономерности, которым подчинена рассматриваемая ею предметность, принадлежат принципиально нелинейному типу детерминизма (см. Неодетерминизм). Процессуальное бытие моделируется постмодернизмом как автохтонное и спонтанное - вне того, что Т.Д'ан называет "однолинейным функционализмом". Обрисованная позиция постмодернистской философии влечет за собой и радикальную критику классической картины мира как основанной на идеях исходной упорядоченности бытия, наличия у него имманентного смысла (см. Метафизика, Постметафизическое мышление), который последовательно развертывается в эволюции мира и может быть (в силу своей рациональной природы) реконструирован в интеллектуальном когнитивном усилии (см. Рационализм). Попытка преодоления Л. осуществляется постмодернистской философией по обеим названным "темам". Так, применительно к онтологии, Фуко постулирует тотальное отсутствие исходного "смысла" бытия мироздания: "если генеалогист стремится скорее к тому, чтобы слушать историю, нежели к тому, чтобы верить в метафизику, что он узнает? Что за вещами находится... не столько их сущностная и вневременная тайна, но тайна, заключающаяся в том, что у них нет сути, или что суть их была выстроена по частицам из чуждых им образов". Критике подвергается и классическая презумпция наличия "латентного смысла" истории (см. Постистория). Соответственно, стратегией гносеологических практик оказывается для философии эпохи постмодерна: "не полагать, что мир поворачивает к нам свое легко поддающееся чтению лицо, которое нам якобы остается лишь дешифровать: мир - не сообщник нашего познания, и не существует никакого предискурсивного провидения, которое делало бы его благосклонным к нам". Любая форма дискурса в этом контексте выступает "как насилие, которое мы совершаем над вещами, во всяком случае - как некая практика, которую мы им навязываем". В рамках подобной стратегии философствования центральным предметом философии оказывается дискурс, понятый в аспекте своей формы, а это значит, что центральное внимание философия постмодернизма уделяет не содержательным, а сугубо языковым моментам. Однако, в условиях отказа от референциальной концепции знака вербальная сфера также предстает ни чем иным, как спонтанной игрой означающего, находящегося, в свою очередь, в процессе имманентной самоорганизации. Начертанный на знаменах постмодернизма отказ от логоцентристской парадигмы проявляет себя и в данной области: как констатирует Р.Барт, "нет больше логической ячейки языка - фразы". Деррида эксплицитно провозглашает "освобождение означающего от его зависимости или происхождения от логоса и связанного с ним понятия "истины", или первичного означаемого". С учетом контекста историкофилософской традиции Дж.Р.Серль интерпретирует процедуру деконструкции как конституирующую "некое множество текстуальных значений, направленных по преимуществу на подрыв логоцентристских тенденций". На этой основе феномен Л. дасакрализуется в культуре постмодерна (см. Логотомия) и оценивается как подлежащий логомахии (см. Логомахия). Постмодернизм осуществляет радикальный отказ от идеи линейности и традиционно сопряженной с ней идеи однозначной, прозрачной в смысловом отношении и предсказуемой рациональности, выраженной в понятии логоса: как пишет Деррида, "что до линеарности, то я ее всегда ассоциировал с логоцентризмом". Фундированная философией постмодернизма концепция трансгрессии, предполагающая выход за пределы регулируемой логосом сферы традиционно понятой рациональности ("...по ту сторону знания, власти, сексуальности" у Фуко) также ориентирует на "демонтаж Л.", который, однако, при своей семантически исчерпывающей тотальности мыслится постмодернизмом (в силу того, что затрагивает самые основоположения западной культуры) как "дело деликатное" (Деррида). (См. также Логотомия, Логомахия, Онто-тео-телео-фаллофоно-логоцентризм, Центризм.) М.А. Можейко ЛОКК (Locke) Джон (1632-1704) - английский философ-просветитель, политический деятель, основоположник социально-политической доктрины либерализма. Работы Л. относятся к эпохе Реставрации в Англии. Он стал непосредственным участником политической жизни и борьбы против феодального абсолютизма, занимал некоторое время высокие административные должности. В процессе этой борьбы неоднократно был вынужден покидать Англию, эмигрируя на континент (во Францию и Нидерланды). Вскоре после "славной революции" 1688 Л. возвращается в Англию и выпускает один за другим свои философские и политические труды, написанные им ранее. Важнейший из них - "Опыт о человеческом разуме" (1690), написанию которого он посвятил в общей сложности около 20 лет. Почти одновременно были опубликованы "Письма о веротерпимости", "Трактаты о государственном правлении" и др. К названным примыкают следующие значительные произведения: "О пользовании разумом" (1706), "Исследования мнения отца Мальбранша о видении всех вещей и Боге" (1694). В своем основном труде Л. развил теорию познания, базирующуюся на принципах эмпиризма и сенсуализма, осложненных влиянием номинализма Гоббса и рационализмом Декарта. Исходный пункт учения Л. о познании и его концепции человека - отрицание теории врожденных идей, включая идею Бога. Все знание приобретается нами из опыта, который понимается философом как сугубо индивидуальный, а не результирующий из социального взаимодействия. Опыт по своей структуре состоит из идей, которыми Л. обозначает ощущения и чувственные образы памяти. Эти составляющие - т.наз. "простые идеи", которые входят в состав либо внешнего (external), либо обращенного внутрь (inward) опыта. Внешний опыт состоит из ощущений свойств и восприятий тел, а опыт внутренний, который Л. называет рефлексией, представляет собой познания души о своей собственной деятельности, получаемые через самонаблюдение. Приобретенные из опыта идеи - еще не само знание, а только материал для него. Чтобы стать знанием, все это должно быть переработано деятельностью рассудка (абстракции). Посредством данной деятельности простые идеи преобразуются в сложные. Процесс познания, по Л., и характеризуется как восхождение от простых идей к сложным. Простые идеи внешнего опыта делятся на две группы, различные по их содержанию, - идеи первичных и идеи вторичных качеств. Только идеи первичных качеств, с т.зр. Л., дают нам истинное познание реальных сущностей, а идеи вторичных качеств, если их группировать соответствующим образом, позволяют нам, самое большее, различать в настоящем вещи по их номинальным сущностям. Познание истинно лишь постольку, поскольку идеи сообразны с действительностью. Реальная сущность вещей, с его т.зр., остается неизвестной, а ум имеет дело с номинальными сущностями. Однако Л. нельзя считать агностиком. По Л., наша задача - знать не все, а только то, что важно для нашего поведения и практической жизни, а такое знание вполне обеспечено нашими способностями. Он обратил также внимание на активность субъекта в познавательном процессе. Познание делится, по Л., на интуитивное (высшее), демонстративное и сенситивное, последнее при этом оценивается им как наименее достоверное (низшее), что вносит в концепцию Л. рационалистический элемент. В основе социальной философии Л. лежит учение, во многом предвосхищающее просветительские идеи о "естественном праве" и "общественном договоре", согласующееся с его теорией познания. Политическая теория, изложенная им в "Двух трактатах о государственном правлении" (1690), направлена против патриархального абсолютизма и рассматривает социально-политический процесс как развитие человеческого общежития от естественного состояния до гражданского самоуправления. В изначальном естественном состоянии люди взаимно доброжелательны, свободны и равны между собой и перед Богом. Следование разумным естественным законам позволяет достичь согласия при сохранении индивидуальной свободы. Данная концепция подводит Л. к созданию теории разделения властей, где власть делится на: 1) законодательную, 2) исполнительную и 3) федеральную. Отсюда вытекает, что основной целью правительства является защита естественного права граждан на жизнь, свободу и собственность. Правительство не имеет права действовать произвольным образом, оно само обязано подчиняться законам, по сути дела, не им первоначально сформулированным. Народ остается при этом безусловным сувереном и имеет право не поддерживать и даже ниспровергать безответственное правительство. Однако сопротивление также ограничивается разумными пределами и заканчивается с установлением прочного политического баланса. Л. развивает идею буржуазного конституционного правления. Конституционная парламентская монархия, с его т.зр., выступает как наиболее оптимальная форма такого баланса. Он отрицал абсолютный политический приоритет королевской власти. Л. не создал последовательного этического учения. Его этика имеет своим отправным пунктом отрицание существования каких-либо врожденных моральных принципов. На этой основе он развивает концепцию буржуазного здравого смысла. Морально благим он именует то, что ведет к длительному, непреходящему удовольствию человека, т.е. то, что полезно. Морально злым является, наоборот, то, что ведет к длительным страданиям, т.е. вредно. Всеобщий закон нравственности, считал Л., должен иметь основание в Божественном откровении. Представление о Боге у каждого сугубо индивидуально и уникально. Отсюда следует, что невозможно установить единых норм морали и требовать единообразия в решении вопросов совести и вероисповедания. Поэтому веротерпимость - одно из условий законного правления. Защите религиозной свободы Л. посвятил четыре письма "о веротерпимости". Философия Л. была вершиной в развитии британского материализма нового времени. Его идеи положили начало эмпиризму как одному из направлений французского материализма и ассоцианизму в психологии; использовались в теориях Беркли и Юма. В различной степени, и подчас очень противоречиво, теория познания Л. оказала влияние на деиста А. Коллинза, моралистов Д. Шэфтсбери и Б. Мандевиля, естествоиспытателя Д. Гартли. Этические и политические взгляды Л. во многом были восприняты Толандом, Монтескье. Его политическая философия нашла отражение в политических декларациях французской и американской буржуазных революций. И.Н. Андреева ЛОПАТИН Лев Михайлович (1855-1920) - русский философ и психолог. Друг детства B.C. Соловьева. В 1875-1879 учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Там же в 1885 стал приват-доцентом, а в 1892 профессором. Параллельно преподавал философию на Высших женских курсах и в гимназиях. Совместно с Гротом реформировал Московское психологическое общество (с 1899 - его бессменный председатель до закрытия общества в 1918), был соредактором Грота (с 1894), В.П. Преображенского и С.Н. Трубецкого (с 1896) в основанном в 1889 журнале "Вопросы философии и психологии", с 1905 единственный его редактор, вплоть до закрытия журнала в 1918. Сам Л. после революции вынужден был уйти из университета. Умер от истощения. Основные работы: "Вопрос о свободе воли" (1889); "Положительные задачи философии", первый том которой ("Область умозрительных вопросов", 1886) составила его магистерская, а второй ("Закон причинной связи как основа умозрительного знания действительности", 1891) - докторская диссертации; "Вопрос о реальном единстве сознания" (1899); "Критика эмпиристических начал нравственности" (1890); "Николай Яковлевич Грот" (1900); "История древней философии" (1901); "Психология" (1902); "Метод самонаблюдения в психологии" (1902); "Научное мировоззрение и философия" (1903); "Князь Сергей Николаевич Трубецкой" (1906); "Настоящее и будущее философии" (1910); "Философские характеристики и речи" (1911); "Спиритуализм как моническая система философии" (1912); "Лекции по истории новой философии" (вып. 1, 1914); "Неотложные задачи современной мысли" (1917); "Странное завершение забытого спора" (1917) и др. В творчестве Л. можно обнаружить влияние идей Соловьева, Лейбница, Лотце, Шопенгауэра, сам же он по праву считается одним из основоположников персоналистской традиции в русской философии. Сам Л. определял свою философию как "систему конкретного спиритуализма", или "монический спиритуализм". Осознание состояния современной философии как кризисного, в силу ее догматизации, нерефлексивности, утраты способности к постановке и решению подлинных онтологических проблем, ее замыкания в геоцентризме (когда все цели и смыслы усматриваются в земном существовании), привело Л. к убеждению о неизбежности (необходимости и возможности) метафизики как основанного на чистом разуме учения о существующем. Необходимо знание действительных вещей в их началах и конечном назначении, которое может дать только умозрительная философия. Передача функций последней науке и ввергла саму философию в кризис, а науку гипостазировала до уровня абсолютного знания, игнорирующего и не способного справиться с онтологической проблематикой, внося в нее дуалистические представления. Исходный же пункт подлинно философской онтологии - признание внутренней однородности мира и единства его происхождения, а ее основная задача - показать, как из единого возможно "живое многообразие сущего" (вечное единое раскрывается в вечном многом). "Философия утверждает реальность безусловного; но она утверждает также и реальность конечного мира. Отказавшись от какой-нибудь из этих истин, она одинаково уничтожает действительность...". Адекватным этой задаче может быть лишь "признание истинно сущего за дух", т.е. спиритуалистический монизм. Без признания такой субстанциальной основы мир раскладывается на кратковременные миры, не связанные друг с другом (все, что происходит во времени, - психическая жизнь, - носит характер "непрерывного исчезновения"). "Вся действительность - и в нас, и вне нас - в своем внутреннем существе духовна, во всех явлениях кругом нас реализуются духовные, идеальные силы...". Духовность действительности просто закрыта формами чувственного восприятия, настоящая реальность открывается во внутреннем "Я". "Я" остается идентичным самому себе, ибо оно относится к сверхвременной субстанции, не исчезающей, а переходящей из одного явления мира в другое (т.е. имеет "трансцендентные основы"), и являет собой первичную непроизводную данность познающего духа. Таким образом, мир есть совокупность сверхвременных активных монад (единств субстанции и творческой силы (воли), придающей всему определенность и сознательность), абсолютной причиной которых является Бог. Признание реальности, деятельности и сознательности нашего "Я" требует признания существования и "чужого сознания", а в конечном итоге - внутренней духовности всего мира, имманентности его субъективной жизни. В действительно едином мире "основное для нас должно быть основным и во всех других формах творения". Тезис о замкнутости монад на самих себя Лейбница и положение об их взаимодействии в персонализме Козлова Л. переинтерпретирует в духе Введенского в идею осознания "чужой одушевленности", взаимного отражения состояний в различных сознаниях. Поскольку же всякая духовная жизнь "насквозь качественна", мы можем адекватно понимать лишь те явления, которые были испытаны нами. В силу этого человек в большинстве случаев созерцает не объективную действительность, а лишь ее подобие. Мы можем понимать друг друга лишь постольку, поскольку нас объединяет общее субстанциальное начало - дух, присутствующий во всех формах жизни, и телеологические действования в творческом самоопределении, оформляющие в совокупности и реальность в целом. Вся соотнесенность и иерархизированность духовных субстанций (монад) содержит в себе имманентную устремленность к идеалу, как "внутреннему оправданию бытия", выступающему по отношению к нему как абсолютная норма - гарант нравственного миропорядка и основа свободных нравственных исканий личности. Л. снимает антитезу имманентного и трансцендентного, утверждая тезис о том, что все реально ровно настолько, насколько оно духовно. Подлинное действование, следовательно, не может быть механистичным, т.е. порождающим "моральную невменяемость индивида", другим источником которой является абсолютный произвол. Человек ответственен, что требует творческих осмысленных проявлений душевной жизни. Отсюда учение Л. о первичной "творческой причинности" (деятельность всегда предполагает деятеля, последняя основа бытия - духовные сущности, так как остальное нам непосредственно не дано). Сознанию индивида не противостоит ничего внешнего, он вынужден лишь соотноситься с не тождественными ему такими же изначально свободными духовными субстанциями. Поэтому ориентация естествознания на познание объектов есть квази-деятельность, так как исследователь всегда имеет дело лишь со своим объективированным и отчужденным от творческой деятельности самоопределения сознанием. Цель познания - другие духовные субстанции и собственное взаимоотношение с ними. В силу своей сложности последнее никогда до конца не постижимо. Мы, следовательно, можем стремиться к истине, асимптотически приближаться к ней на основе собственного морального усовершенствования. Отсюда интерес Л. к методу интроспекции. По Л., наш внутренний опыт, данный в интроспекции, есть точка, в которой подлинная действительность раскрывается для нашего прямого усмотрения. Волевой импульс ("творческое стремление") "темен", иррационален, но он направлен не против законов разума и осуществляется не вне их, а сообразно с ними. Задача философии как раз и заключается в рациональном развертывании этого мистического предугадывания истины. Истинное знание может быть только рациональным, но вера всегда опосредует отношения опыта и знания, всегда присутствует во всех умственных актах. Как полагал Л., абсолютное знание (истина) всегда есть понятие религиозное, и человек, вдохновленный идеей познания, находится на пути к Богу. Свободная творческая деятельность предшествует в бытии всякой необходимости. Тезис свободы воли обосновывается в этике Л. через тезис о нравственной разумности мировой жизни, субстанциональное обоснование природы человеческого духа. Эстетически окрашенное духовное творчество, "задаваемое" моральной установкой, устремленностью к нравственному идеалу, предопределяет смысл человеческого бытия - выполнение того, что нельзя выполнить, достижение того, чего нельзя достичь. Когда же мы попадаем в очередной тупик на пути познания и действования, из него есть только один выход: "принципиальное сомнение, которое уже спасло философию в эпоху Декарта". В.Л. Абушенко ЛОСЕВ Алексей Федорович (1893-1988) - русский философ 20 в. Учился на историкофилологическом факультете Московского университета. В 1920-е активно входит в философскую жизнь послереволюционной России, продолжая традиции русской религиозной философии, но уже с учетом открытий и достижений философии и науки 20 в. Миросозерцание Л. формируется на основе глубокого овладения философским учением Платона, сквозь призму которого он воспринимал и интерпретировал самые различные проявления духовной культуры. Результатом явился выход в конце 1920-х цикла философских сочинений Л. (8 книг), центральное место среди которых занимают "Философия имени" и "Диалектика мифа". Итогом публикации стала разносная критика Л., его арест и "трудовое перевоспитание" на Беломорканале. После освобождения в 1933 Л. в течение почти 20 лет занимался исключительно педагогической деятельностью в области классической филологии и не имел возможности публиковаться. Новый этап в его жизни начался с конца 1950-х. Итогом стала публикация ок. 400 научных работ, выдающееся место среди которых занимает фундаментальная 8-томная "История античной эстетики". В поздних работах Л. предпринимает попытку сблизить свое философское учение с марксизмом, однако органического синтеза в итоге не получилось. Л. фактически перестал "существовать" как оригинальный мыслитель ("Я только подошел к большим философским работам, по отношению к которым все, что я написал, только предисловие"). Правда, публикация в последние годы рукописей Л. позволяет сделать вывод, что философ продолжал развивать свою систему. Соответственно, актуальной становится задача адекватной интерпретации его творчества как целостности, включая и "марксистский" этап. Философский поиск Л. был изначально ориентирован на создание оригинальной системы диалектико-феноменологической философии, имеющей в своей основе новые концепции имени, символа и мифа, генетически связанные с имеславием и доктриной православного энергетизма, понимаемой в духе исихазма. Именно в символически интерпретированном энергетизме Л. видел единственно возможный путь разрешения предельно значимой для религиозного философствования антиномии дуализма и монизма. Для решения поставленных задач Л. разрабатывает собственный метод (которому он останется верен на протяжении всего своего творчества) - метод логико-смыслового конструирования философского предмета на основе синтеза феноменологии и диалектики. Результатом применения данного метода является "платоновскогуссерлианский эйдос" - совершенное единство умственного и чувственного содержания, что есть не что иное, как символ: необходимым продолжением эйдологии оказывается симвология ("символ... есть эйдос, воспроизводимый на ином"). Лосевская трактовка символа открывает широкие пути для конкретных приложений: феноменологическая компонента метода дает возможность зафиксировать живое своеобразие каждого конкретного рода символов; диалектическая компонента обеспечивает эффективный и единообразный их анализ в рамках целостной философской системы. В итоге обнаруживается грандиозный замысел Л. - создание качественно нового типа философии как всеохватного символистского синтеза, в котором вместо традиционного членения (онтология, гносеология и т.д.) философия организуется по видам символов и сферам их применения. В духе имеславия такая система строится Л. на основании тщательного анализа природы "имени" или "слова". Понятое онтологически имя является особым местом встречи смысла человеческой мысли и имманентного смысла предметного бытия, что в законченном выражении делает имя "идеей", улавливающей и очерчивающей "эйдос", существо исследуемого предмета (символа, энергии). Наибольшую глубину и полноту имя обретает, охватывая сокровенный слой бытия и раскрываясь как миф, который есть не вымысел, но последняя полнота реальности, "непосредственно ощущаемая действительность", уже не эйдос, а "само бытие" в его самораскрытии. При этом миф всегда личностен, тогда как символ может быть только лишь статуарен: "тождество символа и мифа... есть личность", точнее, "миф не есть сам личность, но лик ее", т.е. "личность есть миф не потому, что она личность, но потому, что она осмыслена и оформлена с точки зрения мифического сознания". Результатом является оригинальная трактовка Л. истории. Исторический процесс имеет три слоя, высший из которых - самосознание истории, выражаемое в речи, слове; тем самым история становится ликом личности, т.е. мифом. В итоге "миф не есть историческое событие как таковое, но... всегда есть слово... миф есть в словах данная личностная история". Данная концепция дополняется Л. оригинальной интерпретацией понятия "чудо", что приводит к итоговой формуле лосевской философии: "...миф есть в словах данная чудесная личностная история". Очевидно движение символистского синтеза Л. к православно-персоналистскому синтезу, осуществить который до конца философу не было суждено. Основные сочинения: "Эрос у Платона" (1916); "Античный космос и современная наука" (1927); "Музыка как предмет логики" (1927); "Диалектика художественной формы" (1927); "Диалектика числа у Платона" (1928); "Критика платонизма у Аристотеля" (1929); "Очерки античного символизма и мифологии" (т. 1, 1930); "Диалектика мифа" (1930); "Олимпийская мифология в ее социально-историческом развитии" (1953); "Античная мифология в ее историческом развитии" (1957); "История античной эстетики" (т. 1-6, 1963-1980; "История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития". Кн. 1-2, 1992- 1994); "Античность как тип культуры" (1988); "Дерзание духа" (1989); "Владимир Соловьев и его время" (1990); "Жизнь. Повести. Рассказы. Письма" (1993) и др. Г.Я. Миненков ЛОССКИЙ Владимир Николаевич (1903-1958) - русский философ и богослов. Сын Н.О. Лосского. Учился в Петроградском (с 1920) и Пражском университетах, Сорбонне (закончил в 1927 и получил ученую степень по медиевистике). В 1922 в составе семьи отца выслан из Советской России (на знаменитом "философском пароходе"). С 1924 - в Париже. В юрисдикционных конфликтах русской эмиграции остался верен Московской патриархии. В 1939 получил французское гражданство. "Очерк мистического богословия Восточной Церкви" Л. (1944) признан классическим трудом, излагающим основные идеи восточно-христианской патристики и богословия в целом. Публикуемые Л. в течение жизни статьи по философской и богословской проблематике были собраны в посмертно изданных сборниках и курсах лекций "Боговидение" (1962), "Догматическое богословие" (1964-1965), "По образу и подобию Божиго" (1967). Согласно концепции Л., специфика восточно-христианского мистического богословия может быть выражена понятием "обожения". В отличие от классической восточной мистики, растворяющей самотождественность личности в Абсолюте (мокша в буддизме и индуизме, феномен "таухид" в суфизме и т.п.), и от классической западной мистики, сохраняющей дистанцию между человеком и Богом в акте откровения (принципиальная несочетаемость нетварного с тварным в католичестве), православная мистика есть "мистика обожения". Человек, по Л., соединяясь с Богом, не растворяется в Абсолюте, но сохраняет свою личность в преображенном виде, становится "богом по благодати". Однако Бог не сводится к своим "энергиям", т.е. к дарованной в откровении благодати, - он свободен по отношению к ним и потому личен. По оценке Л., православное богословие фундировано специфичной по отношению к католической теологии трактовкой Троицы: если для Запада характерна интенция "рассмотрения Сущности раньше Лиц", с чем связаны "мистика безличного божества" (например, у Экхарта) и "безличная объектная теология" (в схоластике), то в православном богословии, по Л., Троица предстает как "изначальный факт абсолютной реальности", в рамках которой ипостаси, не имея "своего" ("личные признаки Лиц" есть лишь условные знаки их различия), тем не менее являются абсолютно уникальными. Творение мира, по Л., есть свободное, не вызванное никакой необходимостью действие воли Бога (ср. креационный волюнтаризм Иоанна Дунса Скота): "Ничто, из которого мир", есть указание на небожественность мира, его принципиальную новизну по отношению к Богу. Бог, по Л., творит личные существа, наделенные свободой воли. В этом есть риск, ибо свобода включает в себя возможность отказа от Творца. Но "тот, кто не идет на риск, не любит; ... личная любовь есть любовь к иному, чем ты сам". В этом контексте Бог сознательно ставит себя в положение бессилия перед созданной им свободой: он подобен "нищему, просящему подаяния любви у дверей души и никогда не дерзающему их взломать". Применительно к онтологии, по Л., понятия типа "чистая природа" есть "метафизические фикции", ибо фиксируют незавершенное (необоженное) состояние бытия. По Л., каждая вещь обладает "логосом" (идеей) как "модусом причастия Божественным энергиям" (ср. платоновский мир идей и Софию в русской софиологии). Божественное целеполагание мира предполагает глобальный космический процесс его обожения: "мир должен стать вместилищем нетварной благодати". В общем контексте концепции Л. зло мыслится принципиально не онтологически - как личностная позиция "бунта против Бога" и стремления к иллюзорным целям, а грехопадение - как катастрофическая мутация человека и космоса. Смертность, по Л., "отрезвляет человека": смерть есть "помеха беспечному пребыванию в противоприродном положении". Нереализованность миссии Адама в обожении мира задает миссию Христа, который "принимает на себя миссию Адама". Согласно Л., в особой трактовке христологии также может быть усмотрена специфика православной традиции: если религии Востока ориентированы на презумпцию иллюзорности мирового бытия, а гуманистическая культура Запада рефлексивно замыкает "человеческое" на самом себе, то православная христология сохраняет ценность "человеческого", обогащая его "нетварным". Образ Божий в человеке есть "личность как свобода" (ср.: Христос как "свободный человек, воодушевляющий других быть свободными" (Ван Бурен) в протестантской этике). Человек открыт Божественному, Бог - встречно - открыт "человеческому", что позволяет Л. определить свою антропологию как "открытую" (ср. с принципом "открытой антропологии" К. Ранера). Путь обожения для личности лежит, по Л., через аскетику как "борьбу за любовь" в качестве финальной цели человечества восстановления и превосхождения исходного "райского единства". В этой связи человеческая любовь определяется Л. как "страстное стремление любящих к Абсолютному", которое в "самой фатальности своего поражения таит щемящую тоску по раю". Любовь задает отношение между Я и Другими, семантически изоморфное отношению Ликов Троицы ("личность совершается в отдаче себя"), однако, восстановление человеческой природы через отказ от себя в отношениях любви предполагает дальнейшее вертикальное восхождение, обеспечивающее достижение человеком полноты совершенства личности во взаимопроникновении человеческой и Божественной природы. По Л., "Церковь есть среда, в которой осуществляется соединение человека с Богом" как свободное сотрудничество (синергия) Божественного воления и воли человека - "благодати Духа и человеческой свободы" (ср. с противопоставлением воли и благодати в Западной теологии). Л. является одним из наиболее известных на Западе представителей православного богословия (наряду с И. Мейендорфом и Флоровским). По оценке Жильсона, "тайна Л." состояла в том, "чтобы быть среди нас самим воплощением христианского духа". Объективно творчество Л. в контексте западной культурной традиции может быть рассмотрено как феномен продуктивного диалога в контексте "Восток - Запад". Несмотря на то, что исходно произведения Л. были адресованы западному читателю, сегодня они становятся значимым явлением восточнославянской философской культуры. В.А. Бодяко, М.А. Можейко ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870-1965) - русский философ. Окончил Петербургский университет, где впоследствии стал профессором. Доктор философии (1907). В 1922 выслан из России. Профессор в Праге, Братиславе (с 1942), с 1946 живет в США (профессор Русской духовной академии в Нью-Йорке в 1947-1950). С 1955 - во Франции. Основные сочинения: "Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма" (1903), "Обоснование интуитивизма" (1906), "Введение в философию, ч. I" (1911), "Интуитивная философия Бергсона" (1914), "Материя в системе органического мировоззрения" (1916), "Мир как органическое целое" (1917), "Основные вопросы гносеологии" (1919), "Конкретный и отвлеченный идеал-реализм" (1922), "Современный витализм" (1922), "Логика" (1923), "О единстве церкви. Проблемы русского религиозного сознания" (1924), "Свобода воли" (1927), "Русская философия в XX веке" (1931), "Ценность и бытие" (1931), "Типы мировоззрений. Введение в метафизику" (1931), "Диалектический материализм в СССР" (1934), "Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция" (1938), "Условия абсолютного добра (основы этики)" (1949), "История русской философии" (1951), "Достоевский и его христианское миропонимание" (1953), "Общедоступное введение в философию" (1956), "Характер русского народа" (1957) и др. Начав работу в рамках чистой гносеологии (в контексте лейбницеанства), Л. в конечном счете вошел в русло русской религиозно-философской традиции, где ощущал себя наиболее близким к метафизике В. Соловьева. Свою философскую систему Л. называет идеал-реализмом. Признавая в духе Лейбница принципиальный плюрализм бытия и одновременно стремясь обосновать его единство, Л. кладет в основу своей метафизики принцип имманентности всего всему, снимающий, по его мнению, противоположность номинализма и реализма. Л. различает в составе мира реальное и идеальное бытие. Реальное бытие включает все явления, данные в форме времени или пространства. Идеальное бытие находится выше реального бытия и придает ему единство и осмысленность; оно включает отвлеченноидеальное бытие (совокупность идеальных форм) и более высокое конкретноидеальное бытие. Последнее есть субстанция или субстанциональный деятель центральное понятие философии Л. Будучи неповторимыми и незаменимыми индивидуумами (действительными или потенциальными личностями), бесконечно богатыми по содержанию, субстанциональные деятели являются сверхвременными и сверхпространственными носителями реальных процессов, их активной причиной. Сотворенные Абсолютом, деятели в своей жизни проявляют собственное творчество, переводя на основе совместной (соборной) деятельности и взаимопроникновения друг в друга (в этом их отличие от монад Лейбница) отвлеченное единосущие идеальных форм в конкретное единосущие (консубстанциальность) бесконечно многообразного мира. Следовательно, различие между психическим и физическим носит относительный характер, ибо всякий субстанциональный деятель изначально является носителем духовных основ своего бытия и деятельности и потому даже самые простейшие процессы в силу их телеологичности психо-материальны (психоидны). Это позволяет выявить в духе иерархического персонализма целостность эволюции мира, состоящей в том, что достигший высшей ступени развития деятель объединяет подчиненных ему деятелей в своем теле так, что возводит их низшие процессы на более высокую ступень. Каждый деятель вечен, и его опыт сохраняется даже при разрушении определенного тела. Основой единства системы мира является Бог как металогическое бытие, свободный от мира сверхкосмический принцип, всеобщая норма творчества деятелей. Онтологический имманентизм является основой гносеологии Л., названной им интуитивизмом (мистическим эмпиризмом), посредством которого устраняется разобщенность субъекта и объекта. Интуитивизм означает, что объекты знания даны сознанию не в виде копий, а непосредственно в подлиннике, т.е. имманентны процессу знания (хотя и могут быть трансцендентными по отношению к Я), и потому объект познается именно так, как он есть. Возможность познания дана, т.обр., гносеологической координацией, снимающей причинную теорию восприятия; координация есть такая связь субстанциональных деятелей, когда переживания одного деятеля существуют не только для него, но и для всех других деятелей всего мира. При этом только интенциональные познавательные акты субъекта есть его индивидуальные переживания, предмет же, данный в сознании, может принадлежать к любой области бытия; знание есть не копия, не символ, но сама действительность, сама жизнь. Онтологические и гносеологические построения Л. являются основой его практической философии - "христианской теономной этики любви", включающей и историософскую концепцию. Л. разработал онтологическую теорию ценностей. Ценность, по Л., есть органическое единство существования и смысла, определяющее наше отношение к абсолютной полноте жизни. Вершиной аксиологической пирамиды является абсолютная положительная ценность, имеющая характер безусловного добра в любом отношении и для любого субъекта и выступающая на двух уровнях: Бог как всеобъемлющая и первичная самоценность, абсолютная полнота бытия; тварная личность и необходимые аспекты полноты бытия (любовь, красота, истина и т.п.) как частичные абсолютные ценности. Субстанциональный деятель в своем выборе ценностей свободен, сам детерминирует события. Л. различает формальную и материальную свободу. В первом случае речь идет об абсолютной свободе выбора направления действий, во втором - о бесконечной творческой силе для осуществления абсолютных ценностей. Направление социальной эволюции определяется свободным нравственным выбором личности между душевно-материальным царством (царством вражды) и проникнутым любовью Царством Духа (Царством Божиим). В Царстве Божием преодолевается онтологическая пропасть между Богом и миром, деятели освобождаются от материальности, приобретают духоносное (преображенное) тело, совершенную свободу действий, достигается взаимопроникновение индивидуального и вселенского бытия в форме конкретного единосущия субстанциональных деятелей. Г.Я. Миненков ЛОТМАН Юрий Михайлович (1922-1993) - русский культуролог, семиотик, филолог. С 1939 - студент филологического факультета Ленинградского университета; с 1940 - в Советской армии, участник войны. В 1950- 1954 работал в Тартусском учительском институте, с 1954 - в Тартусском университете (в 1960-1977 - зав. кафедрой русской литературы). С 1951 - кандидат, с 1961 - доктор филологических наук. Членкорреспондент Британской, академик Норвежской, Шведской, Эстонской (1990) академий. Был вице-президентом Всемирной ассоциации семиотики. Лауреат Пушкинской премии РАН. Организатор серии "Труды по знаковым системам" в "Учебных записках Тартусского университета", руководитель регулярных "летних школ" (по вторичным моделирующим системам). Один из фигурантов "ТартусскоМосковской школы семиотики" (глава тартусской школы). Основные работы: "Лекции по структурной поэтике" (1964) "Структура художественного текста" (1970); "Анализ поэтического текста" (1972); "Статьи по типологии культуры" (Вып. 1-2, 1970-1973); "Семиотика кино и проблемы киноэстетики" (1973); "Сотворение Карамзина" (1987); "Культура и взрыв" (1992) и др. С начала 1960-х Л. разрабатывает структурносемиотический подход к изучению художественных произведений (опираясь на традиции русской "формальной школы", особенно Ю.Н. Тынянова, и учитывая опыт развития семиотического структурализма). За исходную точку любой семиотической системы Л. принят не отдельный знак (слово), но отношение минимально двух знаков, что позволило иначе взглянуть на фундаментальные основы семиозиса. Объектом анализа оказывается не единичная модель, а семиотическое пространство ("семиосфера"), внутри которого реализуются коммуникационные процессы и вырабатывается новая информация. Семиосфера строится как концентрическая система, в центре которой находятся наиболее очевидные и последовательные структуры, представляющие мир упорядоченным и наделенным высшим смыслом. Ядерная структура ("мифообразующий механизм") репрезентирует семиотическую систему с реализованными структурами всех уровней. Движение к периферии повышает степень неопределенности и дезинтеграции, свойственные внешнему по отношению к семиосфере миру, и подчеркивает значимость одного из главных понятий - границы. Граница семиосферы понимается Л. как сумма билингвинальных переводчиков-фильтров, обозначающих также тип социальных ролей и обеспечивающих семиотизацию поступающего извне и превращению его в сообщение. Ситуация, при которой пространство реальности не охватывается ни одним языком в отдельности, но только их совокупностью, есть не недостаток, а условие существования языка и культуры, т.к. диктует необходимость другого - человека, языка, культуры. Граница имеет и другую функцию - места ускоренных семиотических процессов, которые затем устремляются в ядерные структуры, чтобы вытеснить их. Введение противоположных и взаимно альтернативных структурных принципов придает динамизм семиотическому механизму культуры. Моделирование неопределенности связано с типологическим описанием различных культур и набором допустимых перекодировок, с теоретической проблемой переводимости-непереводимости. Заложенные в культуре альтернативные коды превращают семиотическое пространство в диалогическое: все уровни семиоферы, как бы вложенные друг в друга, являются одновременно и участниками диалога (частью семиосферы) и пространством диалога (целым семиосферы). Семиотика культуры не ограничивается представлением культуры в качестве знаковой системы, - само отношение к знаку и знаковости составляет одну из основных типологических характеристик культуры. Любая реальность, вовлекаемая в сферу культуры, начинает функционировать как знаковая, а если она уже имела знаковый (или квазизнаковый) характер, то становится знаком знака (вторичной моделирующей системой). В социальном отношении культура понимается как сумма ненаследственной информации или сверхиндивидуальный интеллект, восполняющий недостатки индивидуального сознания. Л. сопоставляет функционально и структурно близкие "интеллектуальные объекты" - естественное сознание человека как синтез деятельности двух полушарий и культуру как идею бии полиполярной структуры и делает вывод о изоморфизме процессов порождения языка, культуры и текста. Основная функция культуры заключается в структурной организации мира - создании вокруг человека социальной сферы, которая делает возможной общественную жизнь. Для нормального функционирования культура, как многофакторный семиотический механизм, должна понимать себя целостной и упорядоченной. Требование целостности (наличия единого принципа конструирования) реализуется в автодескриптивных образованиях метакультурного уровня, которые можно представить как совокупность текстов или грамматик ("культура текстов" и "культура грамматик"). Понятие текста дано не как метафизическая, отдельная от истории "реальность", а как определенное, исторически данное субъектно-объектное отношение. От понимания текста как манифестации языка Л. приходит к понятию текста, порождающего свой язык. Таким образом, в программу изучения культуры, по Л., входит различение субтекстовых (общеязыковых) значений, текстовых значений и функций текста в системе культуры. Культура есть сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию "текстов в тексте" и образующий их сложные переплетения. (См. также Автокоммуникация.) Д.М. Булынко, С.А. Радионова ЛОТЦЕ (Lotze) Рудольф Герман (1817-1881) - немецкий философ, врач, психолог, естествоиспытатель. Родился в Баутцене - той самой местности, откуда происходили Лессинг и Фихте. В Лейпцигском университете изучал медицину, физику и философию. Философия не была, впрочем, первой его специальностью, в университете он готовился к званию врача. Но, как говорил сам Л., "склонность к искусству и любовь к изящному" увлекли его занятиями философией. Л. с таким успехом занялся ею, что получил приглашение читать лекции на обоих факультетах: медицинском и философском (1842). В 1844 Л. был приглашен в Геттинген, где занял кафедру философии, сменив Гербарта. За год до смерти был приглашен в Берлин, где вскоре и умер от болезни. Л. вел тихую жизнь, посвященную науке, размышлениям и академическому преподаванию. От строго научных трудов Л. отдыхал в занятиях искусством и литературой. Так он перевел в стихах "Антигону" Софокла на латинский язык. Основные сочинения Л.: "Метафизика" (1841), "Общая патология и терапия как естественные науки" (1842), "Логика" (1843), "Общая физиология телесной жизни" (1851), "Медицинская психология, или психология души" (1852), "Микрокосм" (1856-1864, в 3-х томах), "История эстетики в Германии" (1868), "Система философии" (1874-1879, в двух частях: 1. Логика. 2. Метафизика). Кроме того, в разное время Л. были написаны небольшие по объему, но очень важные по содержанию сочинения: "О понятии прекрасного", "Условия прекрасного", "Полемические сочинения", статьи в "Физиологическом словаре": "Жизнь", "Жизненная сила", "Душа", "Душевная жизнь", "Инстинкты". Несмотря на обширную ученую деятельность, Л. не оставил особой философской школы (подобно Гегелю или Гербарту). Одна из причин состоит в том, что свои сочинения Л. предназначал или для врачей, которые не имели особых симпатий к метафизике, или для обыкновенной образованной публики, для которой было затруднительным усвоение высших философских понятий. Во-вторых, философская система Л., с точки зрения современников, не отличалась от систем, например, Гегеля или Гербарта. Это стало ясно только к концу 19 и в 20 в. В этой связи Л. долго считался последователем Гербарта и Гегеля. Хотя сам Л. неоднократно заявлял, что он не разделяет многие тезисы этих авторов. В свою очередь, ряд идей Л., не востребованных современниками, оказал влияние на представителей самых различных философских направлений. В методологии неокантианства значимую смысловую нагрузку несли термины философии Л. "жизнь" и "ценность". Такие мыслители 19-20 вв., как Вундт, Дильтей, Брентано, Джемс, Виндельбанд, Фреге, К.Штупф, Гуссерль, Э.Ласк, Хайдеггер и др., испытали значительное воздействие учения Л. Заметно воздействие идей Л. и на американскую философию первой половины 20 в. - Сантаяна, Уайтхед. Русские философы также благосклонно восприняли учение Л. Так, М.Каринский, будучи современником и исследователем творчества Л., признавал его "одним из самых замечательных (если не самым замечательным) мыслителей нашего времени в Германии: он и поныне состоит профессором Геттингенского университета и собирает в своей аудитории едва ли не столько же слушателей, сколько имеет в Йене Куно Фишер, хотя Л. и не отличается теми особенностями таланта преподавания, которые производит такой сильный эффект при чтении Куно Фишера". Философское развитие и образование Л. началось под влиянием трансцендентальной философии Фихте, Шеллинга и Гегеля. Они были первыми философами, к изучению которых обратился Л. И хотя рано, буквально в первые же годы своей философской деятельности, Л. стал независим по отношению к их идем, тем не менее влияние Гегеля на его убеждения весьма заметно. Это проявилось в первом философском произведении Л. - "Метафизике". Гегелевская логика здесь присутствует явно: за общими понятиями (или "основаниями", как их обозначал Л.) признавалось истинное бытие. Однако, признавая заслуги Гегеля в работе над понятиями, Л. в то же время видел недостатки как абсолютного метода Гегеля, так и его философской системы в целом. Во Введении к "Метафизике" Л. замечает: "Много говорят о какой-то особенной спекулятивной методе. Но как ни в ходу это слово, она такая же неясная мысль, как если бы кто-нибудь стал обещать такую методу действий, которая делала бы только хорошие дела, а не худые и посредственные. Она есть не что иное, как результат смутных разглагольствований о двойстве познания, по которым только важное спекулятивное познание может приближаться к высшим таинствам, а обыкновенное гражданское - не философской интеллигенции оставляется на всякого рода употребления". Уже тогда Л. отрицал возможность какого-либо исключительного метода, типа спекулятивного, который существенно отличался бы от общих форм и методов обыкновенного познания. А относительно способности понятий переходить в свою противоположность и примиряться затем в высшем единстве Л. замечал: "Чем более понятия общи, отвлеченны, тем более можно находить противоположные ему: следовательно, тем более может быть здесь произвола и тем менее имманентного движения понятий". Гегельянство оказало влияние на Л. более всего тем, что побудило его к умственной критической работе. Еще менее Л. обязан своему философскому развитию философии Гербарта, хотя самого Л. долгое время и считали его последователем. Во всех главных пунктах "Метафизики" - в учении о бытии и первичных качествах, субстанции, формах пространства и времени, движении, взглядах на материю, происхождение и значение категорий - Л. оказался в оппозиции Гербарту. Противоречие это позднее смягчилось, но лишь потому, что Л. подчинился влиянию Лейбница, который, в свою очередь, повлиял на гербартовскую систему. Положительное влияние на развитие взглядов Л. оказало "младогегельянство": Л. сам себя постоянно причислял именно к этой школе, называя ее "идеально-реальной". Развитие философских взглядов Л. показывает, что он являлся человеком, который воплотил в себе как идеальные мотивы, на которые опиралась философия романтизма, так и строгое проведение механистического миропонимания, выработанное наукой в середине 19 в. Его идеалом в философии было то же, что представлялось и романтикам: вывести развитие и смысл мира из вечной идеи, которая заключала бы в себе конечную основу как всех явлений, так и того значения, каким обладают эти явления. В целом у Л. художественный, естественно-научный и философский элементы творчества тесно соединены. Тем самым в его системе представлена попытка воссоздания идеалистической философии на реалистической основе. Одно из главных сочинений Л. - "Микрокосм". Оно имеет подзаголовок: "Мысли о естественной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии". Это богатое мыслями и увлекательно написанное сочинение достаточно оперативно было переведено и на русский язык (1870). Общая структура данного произведения выглядит следующим образом: Часть 1: Тело. Душа. Жизнь. Часть 2: Человек. Дух. Дух мира. Часть 3: История. Прогресс. Общая связь вещей между собой. Произведение задумано Л. наподобие произведений Гердера "Идеи к философии истории человечества" и Гумбольдта "Космос". В трехтомном произведении Л. прослеживается тесная связь психологии с физиологией и историей культуры и заканчивается изложением космологических и религиозно-философских идей. Проблемы, которые волнуют Л. в "Микрокосме", он формулирует следующим образом: "Какое значение имеют во Вселенной человек и его жизнь?", "Что грозит разложением самому человеку ("микрокосму")?". Общий ответ Л. на второй вопрос: это раздвоенность "микрокосма" между "сердцем и знанием и преданность чему-то". Поэтому Л. подвергает сомнению абсолютную ценность и науки, и души, не выступая при этом против них абсолютно: "Нельзя ублажаться верою в задушевный мир, не пользуясь на каждом шагу действительной жизни выгодами, предоставляемыми наукой, и, стало быть, не признавая втихомолку ее истины; точно так же нельзя жить и наукой, не ощущая радостей и бед существования и не чувствуя себя опутанным со всех сторон нитями иного миропорядка, на который наука едва дает нам только самые скудные пояснения". Л. хочет убедить читателя, что систематика положительного знания является всегда поздно, жизнь и история не ждет ее. Люди давно говорили, прежде чем сложилась грамматика, давно жили земледелием, прежде чем сложилась наука сельского хозяйства. Т.обр., по Л., наука только завершает жизненный подвиг, и будь это иначе, она бы не содействовала ему, а скорее перечила бы и мешала. Идея Л. подчиненность антропологическому вопросу всех тех проблем, которые предопределили программу трансцендентальной философии. Иначе говоря: все производно от целостности человеческой жизни, как высшей ценности бытия. В этом контексте специфично, по Л., и понимание сути природы: "Природа вовсе не какойнибудь сбор разных приспособлений и орудий, пригодных к удовлетворению тех или других требований идеального мира: она, прежде всего, связное в себе целое организм, домохозяйство в огромных размерах, готовое, правда, всею совокупностью своей служить и совокупности идей, принимать от них предначертание задач общей своей деятельности, но с тем, что распорядок выполнения представляет оно самому себе и удовлетворяет каждой отдельной потребности не вдруг и не особым мгновенным усилием или напряжением; напротив, события, по-видимому, совсем не помня своих задач, долго предаются разнообразной игре в свои собственные формы, часто проходят как бы неуказанным путем мимо предназначенных им целей, или даже наперекор тому направлению, какое, в интересе высших идеалов, хотела бы придать им наша торопливая фантазия. Кто вместо маленького лоскутка природы, доступного в пространстве и времени нашему наблюдению, мог бы окинуть одним взглядом все целое, только тот заметил бы окончательное согласие этой кажущейся сумятицы с великими целями, имеющими свою цену". Л. убежден, что механическое понимание природы - это основа мировоззрения. "Механизм", "организм", "целое" - вот основные понятия его понимания природы. Защита механического воззрения на природу и вытекающих из него следствий представляет значительную часть философии Л. Однако, по Л., наряду с механическим мировоззрением есть и другой взгляд на действительность. Он называет его "истолковательным" (а механическое - "разъяснительным"), мировоззрение же "идеальным". Согласно Л., "идеальное толкование" выдвигает всегда на первый план внутреннюю связность и последовательность, "разумный смысл" внешней природы. Л. замечает, что между двумя этими взглядами следует видеть не столько борьбу, сколько соответствие и взаимосвязь. "Эстетическое впечатление картины не зависит, конечно, от знания тех приемов, благодаря которым удалось художнику ее выполнить". Итак, мысль Л. имеет две исходные точки: он глубоко чувствует значение духовной жизни, чувствует, что самое высокое для нас связано с духовным развитием и его идеалами. И в то же время он убежден, что система механических причин и законов необходима для осуществления даже самых высоких идеалов. Система Л. имела своей задачей соединение двух направлений мысли середины 19 в.: механического объяснения и идеального истолкования мировой жизни "Метафизику" Л. заканчивает словами: "начало метафизики не в ней самой, а в этике". А позже Л. охотно пользовался для выражения своих убеждений формулой: мир ценностей есть ключ к пониманию мира форм. Истина познания заключается в том, что оно раскрывает смысл и назначение мира. То, что должно быть, является причиной всего существующего, а существующее служит для того, чтобы в нем реализовались ценности. Отсюда и своеобразное понимание человека у Л. Книга четвертая "Микрокосма" так и озаглавлена: "Человек". Основные главы этой книги таковы: Глава 1. Природа и идеи; Глава 2. Природа из хаоса; Глава 3. Единство природы; Глава 4. Человек и животные; Глава 5. Разности человеческого рода. "Определить человеку существенное его место в ряду созданий" - такова в этом плане цель философии Л. С его позиций, "...о человеке будем мы судить не иначе... как в своеобразности, в сравнительных выгодах и невыгодах той обстановки, с которой организации его назначено быть во взаимодействии". Т.е. Л. отказывается от сложившейся традиции ("сильно укоренившейся привычки"), когда все живые создания расположены на иерархической лестнице и каждое подчиняется распорядку и очерчивается кругом этой зависимости. Л. отрицает сложившийся философский предрассудок о том, что "будто нельзя познать хорошо человека, не изучив наперед всех низших членов животной череды, во главе которой стоять ему предназначено. Что за педантство воображать себе, будто человека поймет только тот, кто прежде понял инфузорию, насекомое и лягушку!.. Познание человеком самого себя есть, прежде всего, познание его предназначения; средств, данных ему для достижения последнего и перечащих тому препятствий; если же и помимо этого есть еще какой-нибудь интерес сравнивать человека... с жизнью тех окружающих нас созданий, которые идут каждые своим особенным путем, то это уже малоценное занятие..." Человечность (человек) возвышается над всяким животным развитием, по мысли Л., прежде всего потому, что она ставит вопрос о своем собственном существовании, своем существе и своем предназначении. Какова "значимость" человека? - вопрос, который мучает Л. Этим термином Л. стремился расширить содержание таких понятий, как "действительность", "данность". По Л., кроме того, что "действительность" дана ("события происходят"), они еще и что-то "значат" (Geltung). Иначе говоря, помимо "бытия", существует принципиально иной мир - мир постижения "смысла бытия". Размышления на данную тему Л. излагает в пятой книге "Микрокосма", которая называется "Дух". Отличительный дар человеческого духа, с точки зрения Л., - способность внутренне постигать бесконечное. Но закономерен вопрос: кто привил нам эту способность? По мнению Л., не опыт дал нам такую способность (не среда формирует человека). Эта способность непосредственно внедрена в природу нашего существа. Но для своего развития она ("способность человека постигать бесконечное") нуждается в благоприятных условиях опыта. Отсюда и те радикальные для своей эпохи выводы о роли личности, к которым приходит Л.: "Самость, существо всякой личности, основывается не на совершившемся или совершающемся противоположении между Я и не-Я, но состоит в непосредственном бытии-для-себя (Fursichsein), которое есть, наоборот, причина возможности этого противоположения там, где оно действительно наступает. Самосознание не что иное, как уяснение бытия-для-себя, состоявшееся с помощью средств познания, да и оно вовсе не необходимо связано с саморазличением Я от противоположного ему не-Я. Совершенная личность - в одном Боге, всем конечным духам дано... только слабое его подобие: конечность конечного - не порождающее условие личности, а, наоборот, предел, положенный ее выработке". В логике Л. считал, что всякое суждение есть отношение между содержаниями двух понятий или представлений. Такое понимание суждения было основано на предпосылке, утверждающей, что предмет суждения существует только в понятии или представлении (субъект суждения), но не объективно. Т.обр., соединенные в одном лице всесторонность и основательность сделали Л. одной из ключевых фигур истории философии 19 в. А.А. Легчилин ЛУКАЧ (Lukacs) Дьёрдь (Георг) (1885-1971) - венгерский философ, эстетик, политический деятель. Философское образование получил в Будапеште, Берлине, Гейдельберге. Находился под влиянием Зиммеля и М.Вебера. Затем изучает работы Гегеля и Маркса. В 1918 вступил в Коммунистическую партию Венгрии. Активно участвовал в создании Венгерской Советской республики, нарком по культуре. После ее падения жил в Вене (1919- 1929). В 1929 переехал в Москву, где жил по 1945 (в 1931- 1933 работал в Берлине). Был сотрудником Института Маркса - Энгельса Ленина, работал в журналах. Член Союза писателей СССР. В 1945 вернулся в Венгрию, был профессором эстетики и философии Будапештского университета. С 1949 член Венгерской академии наук. В 1956 вошел в состав правительства И.Надя, за что был обвинен в ревизионизме и исключен из партии (восстановлен во второй половине 1960-х). Основные сочинения: "Душа и формы" (1911), "Теория романа" (1914-1916), "История и классовое сознание" (1923), "Исторический роман" (1936), "Литературные теории и марксизм" (1937), "Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества" (1938, опубликована в 1948), "К истории реализма" (1939), "Экзистенциализм или марксизм" (1948), "Разрушение разума. Путь иррационализма от Шеллинга к Гитлеру" (1954), "Своеобразие эстетического" (т. 1-4, русск. изд. - 1985-1987), "Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей" (русск. изд. - 1990), "К онтологии общественого бытия" (русск. изд. - 1991) и др. Работа Л. "История и классовое сознание", содержащая его "теорию овеществления", по мнению Мерло-Понти, "долгое время была библией того, что можно назвать западным марксизмом". Теория овеществления Л. явилась первой комплексной попыткой философского осмысления марксовой диалектики в 20 в. В ней нашел отражение ряд принципиально важных характеристик современных общественных процессов: очевидная неспособность общество- и человековедения выработать осмысленное представление об эволюции социального целого; возрастающая и всеобъемлющая рационализация мира, делающая избыточными метафизику и онтологию классического типа; как следствие - диссонанс между иррациональным характером эволюции социума (нередко сопровождающейся экономическими катаклизмами) и достижением весьма изощренной степени рационализации при конструировании приватного мира "вещей, удобных для жизни". В интерпретации Л., аутентичный марксизм должен трактоваться и пониматься как определенная систематизированная совокупность критически интерпретированных феноменов отчуждения в мире вкупе с сопряженными диалектическими парафразами на эту тему. (Впоследствии Хабермас отмечал, что концепция Л. являет собой не что иное, как связующее звено между схемами рациональности М.Вебера и идеями "овеществления" Хоркхаймера и Адорно.) Л., введя и обосновав категорию "овеществление", вывел веберовский анализ социальной рационализации за пределы теории действия, связав его с безличными экономическими процессами. Сам Л. усматривал значимость этих разработок М.Вебера в том, что последний сумел продемонстрировать процесс распада метафизически осмысляемого Разума в его единстве на автономные ценностные сферы. Л. полагал, что отождествляя такие параметры общества, как социальность и тотальность, Маркс осознанно уделял особое внимание такому феномену, как предметность (в его ипостаси результата взаимодействия людей), овеществлению и отчуждению его. По мнению Л., особый статус "овеществления" в иерархии общественных процессов основан на том, что товарообмен в индустриальном обществе действительно стал господствующей социальной формой - универсальной категорией бытия социума. Современный рационализированный трудовой процесс, по Л., не должен интерпретироваться иначе, чем парциальный специализированный труд без индивидуальных качественных характеристик. Являя собой агрегат случайных друг по отношению к другу, чисто калькуляторски рационализированных трудовых операций различного уровня, современный труд, согласно Л., трансформируется из качественно определенного в чисто количественный феномен, когда любая потребительская стоимость становится товаром. В дополнение к закономерностям социальноприродного бытия, угнетающим индивида, по мнению Л., тем больше, чем глубже они познаны, "овеществление" вещей составляет угрозу собственно бытию человека, ибо вещами становятся самые интимные проявления духовной и душевной жизни людей. "Индивид встраивается в качестве механической части в механическую систему", личность "овеществляется" и "отоваривается". Сопряженный тип мышления - "овеществленный" - являет собой инструментарий господства над деятельностью человека, что одновременно результируется в стремлении людей дистанцироваться, самоустраниться от объекта порабощения (в данном контексте - от результатов своего труда). Так, наука более не выступает, по Л., в облике личного устремления ученых к постижению объективной истины, а, напротив, минимизируется познанием рационализированного, а не подлинного бытия предметов. Подчеркивая то, что эксперимент в современной науке воспроизводит характеристики предмета или явления в жестких рамках изначально заданных и калькулированных предпосылок предметности, Л. утверждал, что исследователь сводит материальный субстрат своего наблюдения к искусственной "интеллигибельной материи". Таким образом, согласно Л., в современной философии господствует принцип калькуляции, когда "предмет познания в такой мере и постольку может быть нами познан, в какой мере и поскольку он производится нами самими". По мнению Л., процесс овеществления человеческого особо "брутален" и унизителен. Применительно к историческим судьбам пролетариата ("экзистенциально потерянной" общественной группировки) лишь его "революционный порыв", его мессианская практика "рациональной гуманизации" "фактов и вещей" - практика в подлинном диалектическом и философском измерении - могут выступить средством радикального преодоления отчуждения людей вообще. А.А. Грицанов ЛЬЮИС (Lewis) Клайв Стейплз (1898-1963) - английский философ, историк культуры, писатель; в современных британских справочниках определяется как "выдающийся моралист", в христианских словарях - как "лучший апологет 20 в.". С 1917 по 1954 учеба и преподавание в Оксфордском (с перерывом в учебе на участие в I мировой войне), с 1954 по 1963 - в Кембриджском университетах. Член Британской Академии наук (1955). Основные сочинения: "Аллегория любви" (1936); "Страдание" (19391940); "Просто христианство" (1942-1943); "Человек отменяется, или мысли о просвещении и воспитании, особенно же о том, как учат английской словесности в старших классах" (1943); "Размышление о псалмах" (1958); "Любовь" ("Виды любви", 1958-1960); философские эссе, притчи и романы: "Письма Баламута" ("От беса к бесу", 1942), "Баламут предлагает тост" (1958), "Расторжение брака" ("Причина развода", 1943); перу Л. принадлежат также сказочно-фантастические "Хроники Нарнии" и трилогия, созданная на стыке нравственного трактата и космической fantasy (по самоопределению Л., "благая утопия"): "За пределами безмолвной планеты", "Переланд-ра", "Мерзейшая мощь"; работы по английской филологии и др. Творчество Л. может быть дифференцировано на два периода: ранний, центрированный на анализе семиотизма культуры, и зрелый, характеризующийся ориентацией на христианскую философию морали. Однако сквозной темой, определяющей проблематику как первого, так и второго названных периодов, выступает тема любви: если в 1930-е творческий интерес Л. был сосредоточен на аллегоризме трактовки любви в контексте медиевальной культуры (в вариациях от поэтики трубадуров до Чосера), то к 1950-м у него вызревает фундированная христианской аксиологией концепция любви как практического милосердия. Исходная позиция Л. по вопросу знакового механизма функционирования представлений о любви в контексте культуры может быть охарактеризована как аллегорический семиотизм: так, рассматривая куртуазную концепцию любви, Л. отмечает, что - наряду с парафразом христианской концепции брака как мистического участия в браке Христа с Церковью, с одной стороны, и "непонятного" (misunderstood) в контексте овидианского возрождения Овидия - с другой, представления трубадуров о любви могут быть рассмотрены в качестве игрового аллегорического парафраза феодального оммажа: "любовное служение изоморфно моделирует служение феодального вассала своему лорду. Общая тенденция может быть корректно описана как феодализация любви", формирующая своего рода дисциплинарно-нормативную систему поведенческих сценариев, отличающихся предельно высокой семиотичностью (см. "Веселая наука"). В фокусе научных интересов Л. этого периода находятся также античная, кельтская и скандинавская мифология, европейская средневековая и ренессансная литература (вплоть до 16 в.). Начало 1940-х знаменуется для Л. радикальным мировоззренческим поворотом к христианству, который им самим сопоставляется с "обращением", описанным Августином в "Исповеди", и осмысливается как обретение новой моральной истины, вне которой высшим достижением нравственного чувства является лишь "смутная неприязнь к жестокости и денежной нечестности": по самооценке Л., до обращения к христианству "о целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии". Вера, по Л., выступает основой личной духовной состоятельности, обеспечивая человеку и возможность остаться на высоте в тех ситуациях социального выбора, "когда приходится летать", и возможность утолить исконную эстетическую "тоску по прекрасному", и психологическую возможность обретения глубинного душевного покоя ("не успокоится сердце наше, пока не успокоится в Тебе"). Однако главным пафосом веры остается для Л. пафос моральный, задающий "добро и зло как ключ к пониманию Вселенной". Целью моральной эволюции в вере выступает в его трактовке "новое человечество", определяемое как "хорошие люди" - во всей исходной, стертой в обыденном языке и возвращаемой Л. глубине семантики этого понятия. "Порою мы попадаем в карман, в тупик мира - в училище, в полк, в контору, где нравы очень дурны. Одни вещи здесь считают обычными ("все так делают"), другие - глупым донкихотством. Но, вынырнув оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаем, что во внешнем мире "обычными вещами" гнушаются, а донкихотство входит в простую порядочность. То, что представлялось болезненной щепетильностью, оказывается признаком душевного здоровья". Так же, по Л., заблудился и 20 в.; и в этой связи Л. обращается к исконным и глубинным общечеловеческим нравственным ценностям, объявленным современной культурой "традиционными" в ретроспективном и, следовательно, упраздняющем смысле: "как ни печально, все мы видим, что лишь нежизненные добродетели в силах спасти наш род... Пусть принято считать все это прекраснодушным и невыполнимым... сама наша жизнь зависит от того, насколько мы этому следуем. И мы начинаем завидовать нудным, наивным людям, которые на деле, а не на словах научили себя и тех, кто с ними, мужеству, выдержке и жертве". (В этом контексте сам Л., называвший себя "образчиком былого" и "динозавром", в полной мере выступал носителем моральных ценностей традиционного - а значит, непреходящего - плана). Наличие зла Л. объясняет через феномен свободной воли человека: "именно свобода воли сделала возможным зло". Такая постановка вопроса с неизбежностью выдвигает и вопрос о том, "почему же тогда Бог дал созданиям своим свободу воли?". По Л., это не просто акт доверия и любви со стороны Бога, - наличие свободы есть единственная онтологическая возможность добра как такового: "счастье, которое Бог приготовил для своих созданий, - это счастье свободно соединиться с Ним и друг с другом в порыве любви и восхищения... Но для этого создания должны быть свободными", и в этой связи "без свободы воли, хотя она и обусловливает появление зла, невозможны истинная любовь, доброта, радость - все то, что представляет ценность в мире". Таким образом, наличие у человека свободы воли свидетельствует, по Л., что Бог "считал, что задуманное им стоит риска" (ср. с интерпретацией свободы воли в современной православной философии: прежде всего, В.Н. Лосский). Избрание зла в акте свободного морального выбора есть, по Л., не что иное, как страдание: "страдание - единственное на свете чистое, неосложненное зло". В этом отношении "врата ада заперты изнутри", т.е. желание избавления от страданий отнюдь не означает для избравшего зло желания делать конкретные шаги по направлению к добру (как желание быть счастливым, по сравнению Л., не означает для завистника сознательного избавления от зависти и обретения счастья). Избрание свободы как таковой феноменологически парадоксально, но глубоко закономерно оборачивается в этом отношении тотальной несвободой, в то время как самоотречение, напротив, - подлинным обретением себя: избравшие зло "обрели свою страшную свободу и стали рабами... тогда как спасенные, отрешившись от себя, становятся все свободнее". Аналогичным образом так называемая победа над природой, основанная на доминировании внешних цивилизационных ценностей, оборачивается для человека утратой глубинных изначальных ценностей культуры, т.е. фундаментальным стратегическим поражением: "природа играет с нами хитрую игру. Нам кажется, что она подняла руки вверх, тогда как она собирается схватить нас за горло", и, строго говоря, "победа над природой означает, что одни люди распоряжаются другими при помощи природы". Таким образом, "победив природу, человек отменил человека". Важнейшей сферой человеческого существования, где осуществляется разворачивание человеческого страдания (и где, собственно, оно только и может быть преодолено), выступает для Л. предельно акцентированная и экзистенциально понятая сфера повседневности: бытие реализует себя через быт, и то, что люди склонны считать мелочами, и есть пространство противостояния добра и зла (ср. с православной концепцией, отрицающей деление грехов на "малые" и "большие": грех есть грех, и "малый" страшен именно тем, что вроде бы незаметен; если "большому грешнику" легче увидеть в себе грех и раскаяться, то "малый грех" зачастую "не оплакивается"). В "Письмах Баламута" умудренный опытом бес наставляет новобранца: "набивай до отказа своего подопечного обычностью вещей", - добро же, напротив, дабы не дать ему укорениться в душе, следует сделать как можно более абстрактным; например, для беса существует возможность "обезвредить" молитвы его подопечного о матери, сделав так, чтобы он "всегда видел их "высокими и духовными"; чтобы он связывал их с состоянием ее души, а не с ее ревматизмом", - тем самым "внимание будет приковано к тому, что он почитает за ее грехи, т.е. тем ее особенностям, которые ему неудобны и его раздражают". Двигаясь в этом направлении, можно сделать сферу повседневности поистине убийственной во всей полноте смысла этого слова - вплоть до прямого его значения ("Причина развода"), но вместе с тем именно она открывает для человека безграничное поле возможностей превращения бытового ада в "подобие рая". По Л., если "Бог не дает нам спокойствия и счастья, к которым мы так стремимся" (иначе "уверенность благополучия обратит наше сердце к временному"), то он "очень щедр на радость, смех и отдых. Мы не знаем покоя, но знаем и веселье, и даже восторг". Сознательное и свободное избрание добра неизменно приводит человека к победе над страданием: "если вы не помешаете Богу, все в вас, кроме греха, достигнет радости". Понятие радости (joy) выступает для Л. ключевым в этом контексте, становясь основополагающим в его апологии ("Настигнут радостью"), косвенно сопрягаясь с осуществленной Л. в раннем периоде его творчества аналитикой нормативного требования радости (старопровансальск. - joi) как основоположения любви в куртуазном ее понимании, и неожиданно обретая для Л. глубокий личный символизм, оказавшись позднее именем его любимой и смертельно больной жены (Джой Давидмен; история их краткого супружеского счастья положена в основу до сих пор идущей в английских театрах пьесы). Тот единственный путь, который, по Л., может привести к преодолению зла, есть любовь в ее полном, действенном, максимально далеком от абстрактного понимании. (В этом контексте Л. четко очерчивает границу между двумя периодами своего творчества: "Когда я много лет назад писал о средневековой поэзии, я был так слеп, что счел культ любви литературной условностью"). Л. выделяет такие фундаментальные формы проявления любви, как: 1) "любовь-нужда", основанная на глубинной потребности ("удовольствии-нужде"). Эта любовь "совершенно верно отражает истинную нашу природу. Мы беззащитны от рождения. Как только мы поймем, что к чему, мы открываем одиночество. Другие люди нужны и чувствам нашим, и разуму; без них мы не узнаем ничего, даже самих себя". Любовь к Богу также, "по самой своей природе, состоит целиком или почти целиком из любви-нужды... Выходит, что любовь-нужда, в самом сильном своем виде, неотъемлема от высочайшего состояния духа... Человек ближе всего к Богу, когда он... меньше всего на него похож... Наше подражание Богу в той жизни должно быть подражанием Христу... Именно эта жизнь, так странно непохожая на жизнь Божественную, не только похожа на нее - это она и есть"; 2) "любовь-дар", основанная на желании и творении блага другому ("ее терпение, ее сила, ее блаженство, ее милость, ее желание, чтобы другому было хорошо, роднит ее с Божественной любовью... и чем она жертвенней, тем богоподобней"); 3) "другой вид любви, оценочный", основанный на "удовольствии-оценке", т.е. на удовольствии, которое не предварено потребностью или желанием: "скажем, вы идете утром по дороге, и вдруг до вас донесся запах с поля или из сада. Вы ничего не ждали, не хотели - и удовольствие явилось как дар". В удовольствии-оценке, по Л., "есть признание непреходящей ценности": "когда человек выпьет в жаркий день стакан воды, он скажет: "Да, хотелось мне пить". Пьяница, хлопнувший стаканчик, скажет: "Да, хотелось мне выпить!" Но тот, кто услышал утром запах цветов из сада, скажет скорее: "Как хорошо!"... В самом примитивном удовольствии-оценке есть неэгоистичное начало - ...мы просто любим...; мы произносим на секунду, как Бог, что это "хорошо весьма" (Быт. I, 31)". Таким образом, "всегда "любовь-нужда" взывает из глубин нашей немощи, "любовь-дар" дает от полноты, а эта, третья, любовь славит того, кого любит. К женщине это будет: "Я не могу без тебя жить", "Я защищу тебя" и "Как ты прекрасна!". В этом, третьем, случае любящий ничего не хочет, он просто дивится чуду, даже если оно не для него". Анализируя в этом контексте такие виды любви, как "привязанность", "дружба", "влюбленность" (см. Секс, Эрос) и "милосердие", и показывая причастность каждого из них Божественному началу, равно как и ограниченность, невозможность отождествления с Божественной любовью, Л. формулирует свое глубинное credo: "в Господе каждая душа узнает свою первую любовь, потому что он и есть ее первая любовь", - и если и привязанность, и дружба, и влюбленность, демонстрируя лучшие стороны человеческой натуры, тем не менее оставляют простор и для порока (раздражительность, ревность, глухота ко "внешнему", выходящему за пределы очерченного любовью круга), то любовь в подлинном ее понимании (т.е. будучи сопряженной с верой, позволяющей ей избегать означенных подводных камней), пронизывая бытие повседневности, выступает гарантом преодоления страдания и обретения счастья. Более двух десятилетий присутствовавший в советской культуре в статусе "самиздата", в последнее десятилетие (с 1989) Л. открывается отечественным читателям во всем многообразии своего творчества: от аналитики семиозиса культуры до нравственной проповеди. М.А. Можейко ЛЬЮИС (Lewis) Кларенс Ирвинг (1883-1964) - американский философ. Доктор философии (1911). Преподавал в Гарварде (1920-1953). Сторонник "концептуального прагматизма". Основные сочинения: "Очерк по символической логике" (1918), "Мышление и мировой порядок" (1929), "Символическая логика" (в соавторстве с К. Лэнгфордом, 1931), "Альтернативные логические системы" (1932), "Анализ знания и оценки" (1941), "Основание и природа права" (1955), "Наше социальное наследие" (1957) и др. Философия, по Л., являет собой "задачу для всех". Она ориентирует человека на постижение того, что такое ценность, справедливость, добро, зло, благо; выявляет соотношения средств и целей. Согласно Л., "мысль непрерывным образом связана с действием", "направляемое сознанием поведение есть не что иное, как высшая форма приспособительной реакции... без этой функции правильного руководства действием наши сложные способы познания не имели бы места". С точки зрения Л., "познание является прагматическим, утилитарным, и его ценность, как и ценность той деятельности, которую оно непосредственно обслуживает, является внешней". Хотя при этом любой оценке любого специалиста, предлагающего нам некий набор поведенческих решений, всегда предшествует наш личный целевой выбор. Философия же способствует его более ясному осознанию. Процесс философствования (по Л., постижения природы реального) включает в себя рефлексию над такими понятиями, например, как "материя", "мышление", "жизнь" и т.д. Философия (как "постижение априорного") не должна выходить за пределы установлений, коренящихся в практике разума, оставаясь тем самым в русле общего потока опыта людей. Л. считал, что поскольку философия ориентирована на индивидуацию и критический анализ категорий как тех априорных форм, из которых и состоит наш опыт, постольку в ее границах целесообразно разграничивать непосредственно чувственно данное, с одной стороны, и процедуру его мыслительной интерпретации - с другой. "Данное", по мнению Л., является непосредственно данным и не подлежащим исправлению; это - не объект, и не ощущение, и не нервный путь, поскольку каждое из этих понятий предполагает "данное" и в то же время содержит элементы интерпретации. "Данное" располагается в границах той сознательности, которой, по мысли Л., индивид бы обладал, если бы, лишенный интерпретационных способностей, "был ребенком или невежественным дикарем"; данное "не может быть создано или заменено никакой деятельностью мышления... неизменно независимо от наших интересов", составляя "элемент грубого факта в восприятиях, иллюзиях и снах". "Данное", согласно Л., необходимо отличать от "найденного", включающего в себя, помимо первого, также "все, что феноменологически может быть обнаружено непосредственно в опыте" ("зрительно наблюдаемую красоту", "тактильно ощущаемую твердость", "мое утреннее ощущение гнева или эйфории, или мое послеобеденное ощущение подавленности" и т.п.). "Данное" у Л., будучи непосредственным, является "невыразимым" и вводится посредством словоформ типа "звучит правдоподобно": "Я вижу то, что похоже на гранитные ступеньки". В итоге "данное" выступает "сухим остатком" следующей процедуры: "Вычти из того, что, по нашему мнению, мы видим, слышим или еще каким-то образом узнаем из непосредственного опыта, все, что мыслимо представить ошибочным; остатком будет данное содержание опыта, порождающее рассматриваемое мнение". Без безусловной непосредственности данного, по схеме Л., эмпирическое знание "исчезло бы" в "бесконечном регрессе вероятностей" и было бы фактически невозможным. Разводя собственное мировоззрение с феноменалистическими моделями, Л. подчеркивал, что "данное" всецело независимо от нашего мышления, внутренняя связность сама по себе (без "данного") не продуцирует знания. Связи, находимые между "данными", являются для них "реальными связями, совершенно независимыми от наших идей и продолжающими существовать независимо от того, сталкиваемся мы с ними фактически или нет". Именно мышление, согласно Л., наделяет априорными смыслоформирующими значениями познавательный опыт человека: "понятия являют собой то, что мышление привносит в опыт... мы устанавливаем реальность наблюдаемых вещей, узнаем, что реальные объекты существуют, и постигаем основные вероятности, на основе которых признается существование мира возможных объектов". Из этого следовало, что априорное как продукт мышления нечто относительное (хотя и не произвольное) и отнюдь не является чем-то неизбывно зафиксированным в умах людей. Важен процесс выбора "априорийных оснований" в контексте их корреляции с прагматическими критериями познавательной деятельности. По выводу Л., "...априори не столько продиктовано тем, что представлено в опыте, не столько сообщает человеческой природе надвременной компонент, сколько отвечает общим критериям прагматического характера... Это присуще как категориальному мышлению, так и иным видам практической деятельности. Здесь... результат достигается конкуренцией различных типов поведения, неудача в достижении определенных целей корректирует и удерживает определенные черты поведения". Л. полагал, что, хотя априорные суждения как своеобразные несущие конструкции познания принято полагать верными, любое эмпирическое обобщение всегда зависимо от будущего (и постольку лишь вероятного) опыта: эмпирические истины в процессе их изучения перманентно подвержены содержательной ревизии. Значимость научной практики обусловлена, по мысли Л., именно потенциальной неистинностью всех налично существующих обобщений. Концепция "данного" у Л., содержа достаточные критерии для опознания его конкретных случаев, подтвердила насущную необходимость уяснения этого "данного" для адекватного познания; одновременно Л. сумел ("Мышление и мировой порядок") продемонстрировать то, каким именно образом мы отбираем предпочтительные понятия и концептуальные схемы. Л. подчеркивал в работе "Анализ знания и оценки", - в тот период такой акцент выступал важной преградой на пути избыточного конвенционализма, - что, как только определены значения в дедуктивной системе, ее следствия уже не являются предметом выбора; что, несмотря на свободу выбора систем, следствия внутри систем определенным образом связаны и это существенно ограничивает дальнейший выбор; что основания для таких порядков располагаются в связях между значениями. А.А. Грицанов ЛЮБОВЬ - универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и объективирующееся в самодостаточном стремлении к нему. Л. называют также субъект-субъектное отношение, посредством которого реализуется данное чувство. Для носителя Л. она выступает в качестве максимальной ценности и важнейшей детерминанты жизненной стратегии, задавая специфическую сферу автономии: нельзя произвольно ни вызвать, ни прекратить Л., ни переадресовать ее на другой предмет. Атрибутивным аспектом Л. является особый эмоциональный ореол ее носителя, выражающийся в душевном подъеме и радостной окрашенности мировосприятия. Л. является сложным комплексным феноменом, поскольку возникает в пространстве соприкосновения противоположных начал: индивидуального и общесоциального, телесного и духовного, сугубо интимного и универсально значимого. Такой пограничный характер феномена Л. породил в истории культуры многочисленные типологии ее форм, построенные на основании различных критериев. Так, древнекитайская типология Л., основанная на критерии ее предмета, включает в себя широкий спектр видов Л. - от эротической влюбленности, чадолюбия и патриотизма до меломании и "Л. к небу, усеянному звездами". Классической типологией Л. по критерию формы ее проявления является античная типология, различающая такие виды Л., как филия, сторге, агапе и эрос. Из всех типологий Л., предложенных в историко-филофской и культурной традиции, наибольшую роль в развитии европейского самосознания сыграло дихотомическое разделение Л. на земную (грешную) и небесную (праведную и святую). Такое разделение характерно именно для западной культурной традиции и наложило на нее неизгладимый отпечаток. Исходно европейская культура в своей трактовке Л. не отличалась от других культурных традиций: Л. мыслилась как особая мировая сила, играющая важнейшую роль в организации мироздания. Проблема возникновения мира разрешается в креационных мифах посредством сюжета об изначальной (или возникшей из изначального Хаоса) божественной брачной паре, прародителях Вселенной. Богиня-мать в данном случае, как правило, отождествляется с землей (реже - с морем), супруг - с небом: Гея и Уран в древнегреческой мифологии, Герд и Фрейер в скандинавской и т.д. Сакральный брак неба и земли интерпретируется как порождение оформленного мира (пространства между ними). Богиня Л. (древнеиндийская Лакшми, древнегреческая Афродита и др.) возникает как персонификация этого процесса. Так, возникновение Афродиты из пены морской связывает ее с водной стихией, т.е. женскими силами плодородия и созидания; отнесенность же к мужскому началу (море вспенивается от крови оскопленного Урана) делает Афродиту причастной к животворной мужской силе. Афродита олицетворяет сам процесс сакрального брака, т.е. творения мира. В античном пантеоне она не просто персонификация Л., но Л., отнесенной к сакральной паре прародителей мира, мыслимой как креационная сила. Эрос в архаической мифологической традиции трактуется в качестве одной из космических протопотенций (наряду с Хаосом и Геей) и персонифицирует тот важный момент созидания, который мы сегодня назвали бы целеполаганием. Более поздняя мифологическая традиция делает Эроса сыном Афродиты, аналогично тому, как Кама, трактуемый в ведийской мифологии как "саморожденный", в более поздней традиции выступает как сын Лакшми. Подобно Эросу, он олицетворяет векторный аспект Л. как творчества (стремление, влечение, желание). Раздвоенность образа Эроса и Камы соответствует расслоению базовой мифологемы Афродиты и Лакшми. Как в Древней Греции наряду с богиней Л., возникшей в акте космогенеза, фигурирует и другая Афродита - дочь Зевса и Дионы, так же и в Древней Индии Лакшми, с одной стороны, всплывает из первозданного океана на цветке лотоса, а с другой - появляется гораздо позднее как дочь Бхригу и Кхьяти. Такой семантический сдвиг связан с интерпретацией мифологическим сознанием такого феномена, как время. Для архаической его трактовки было характерно разделение времени сакрального, отраженного в креационных мифах, и профанного, события которого проецируются на время сакральное. Это проецирование обусловлено рассмотрением мирового процесса как цепи сменяющих друг друга эпох: пройдя круг, мир оказывается перед лицом катастрофы, и поддержание сложившегося миропорядка требует реконструкции креационного акта. Такие реконструкции (сакральные даты календарных праздников) регулярно возвращают вектор из прошлого в будущее к мифологическому времени креационного акта. Таким образом, космический брак неба и земли периодически воспроизводится в календарную дату, а значит вновь и вновь возрождаются все его атрибуты и персонификации - в том числе и богиня Л. В результате наложения оформляющейся линейной временной схемы на этот циклический процесс повторяющиеся события сакральных циклов выстраиваются в хронологическую последовательность. В рамках античной философии происходит дальнейшее расслоение образа Афродиты, т.е. дифференциация понятия "Л.". Важнейшую роль сыграла в этом процессе философская концепция Платона. Основными компонентами креационного процесса выступают в его концепции "то, что рождается, то, внутри чего совершается рождение, и то, по образу чего возрастает рождающееся. Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец - отцу, а промежуточную природу - ребенку" (Тимей, 50). Однако мировоззренческие акценты позднеэпической культуры обусловили доминирование в креационной структуре мужского начала: креационный акт стал пониматься как деятельность, субъектом которой выступает мужское начало (активное, а значит - целеполагающее). Отцовский принцип выступает у Платона носителем цели генезиса, т.е. образа (идеи) будущего продукта, ибо оформляет вещи по своему образу и подобию. Мир идей-образцов тождественен с небом постольку, поскольку относится к мужскому началу; доминирование идеальных образцов над земными вещами выражает не идеалистические, но лишь патриархальные взгляды. Постичь мир совершенных идей, пребывая среди сотворенных подобий, можно лишь посредством приобщения к тем телесным предметам, где образы воплощены наиболее адекватно, т.е. к прекрасным. Подняться до царства нетленных образцов может лишь влекомый Эросом. Платон строит свою знаменитую лестницу Л. и красоты: от единичного прекрасного тела - к прекрасным телам вообще - затем к красоте души - затем к наукам и т.д. - "до самого прекрасного вверх" (Пир, 211с). Платоном поставлена последняя точка в семантическом расслоении понятия Л.: Л., ведущую человека по первым, доступным большинству ступеням означенного восхождения, он называет Афродитой Пандемос (Всенародной); поднимающую же на вершину упомянутой лестницы, к самой идее прекрасного, - Афродитой Уранией (Небесной). Аналогичные философские модели могут быть обнаружены и в других культурных традициях, как, например, полная семантическая параллель платонизму в учении о бхакти ("Бхагавад-марга"). Однако семантическая раздвоенность образа Лакшми в философском умозрении не породила в восточной культуре двух взаимоисключающих трактовок Л. В европейской культуре это тоже произошло не в хронологических рамках классической античности: эстетический идеал калокагатии, характерный для классического полиса, задавал установку на изначальное единство и имманентную гармонию тела и духа. Грек любил и - был он счастлив в своей Л. или нет - не терзался вопросом о ее природе и сущности (см. Сафо, Архилох, Гелиодор, Лукиан и др.). Греческий роман - это всегда история преодоления сугубо внешних препятствий (Харитон, Лонг, Гелиодор - ср. с личными письмами А. Блока или В. Соловьева, чье содержание центрировано проблемой интерпретации Л. как внутренним препятствием между любящими). Оформление двух взаимоисключающих аксиологических трактовок Л. в европейской культуре правомерно связывать с эволюцией неоплатонизма. Согласно Плотину, "всякая душа - Афродита", ибо причастна обоих (и дольнего, и горнего) миров. А поскольку речь идет о божественном восхождении, постольку - в платоновской терминологии - душа мыслится именно как Урания, небесная. Пандемос же, оказавшись отлученной от божественного восхождения, приобрела аксиологически негативную семантику: "при восхождении души к Богу она имеет небесный эрос... здесь же она становится низменной подобно блуднице" (Плотин), семантическая раздвоенность образа Л. дополняется раздвоением аксиологическим, что радикально трансформирует платоновскую лестницу Л. и красоты: эрос ведет по ней человека вниз. Понятийные структуры неоплатоников послужили фактически готовым инструментом для выражения идей христианской аскезы. Фома Аквинский окончательно расставляет "точки над i", полагая чувственную Л. несовместимой с добродетелью. Христианской ортодоксией жестко противопоставлена возвышенная жертвенная Л. к Господу (Л. небесная) и Л. земная, рассматриваемая лишь в аспекте греховности. Эта антитеза серьезно сказалась на дальнейшем развитии европейской культуры, задав попытки ее преодоления в качестве важнейшей доминанты эволюции европейского искусства, европейской морали и европейской философии. Все многообразные стратегические модели разрешения данной проблемы, предложенные европейской культурной традицией, могут быть объединены в четыре большие группы: 1. Модели, декларативно постулирующие гармоническое единство тела и духа и восполняющие концептуальную недостаточность пафосностью своего претворения в жизнь. К таким моделям может быть отнесена ренессансная парадигма истолкования Л., дерзнувшая в условиях христианского культурного контекста прокламировать тезис о безгрешии плоти в качестве аксиомы. 2. Модели, пытающиеся органично вписать в христианское мировоззрение идею одухотворенности земной Л. К таковым можно отнести позднее францисканство (в частности, его Провансальскую "книжную школу"), где феномен красоты рассматривался как свечение божественной благодати Творца в творении (своего рода "перевод" платоновского эстетизма на язык теологии). 3. Периферические (по отношению к ортодоксии) модели, пытающиеся с помощью сложных семиотических построений "легализовать" феномен телесности, задав ему особую, символическую интерпретацию. Сюда относятся: трактовка эротического вектора Л. как принципиально асимптотичного и незавершенного (куртуазная концепция "amor-entrave"), погружение эротических сюжетов в особое игровое пространство (поэзия трубадуров), корреляция Л. и ратной славы (Л. как награда за подвиг в северофранцузском рыцарском романе "артуровского цикла"), культивируемые в поэзии спекулятивные формы эротической лирики (монастырская литература Овидианского возрождения), а главное сопряжение Л. со стремлением к знанию истины и к истинному знанию (повсеместно - от ортодоксальных мистиков до сожженного ортодоксами Бруно). 4. Особое место среди рассматриваемых попыток преодолеть разорванность представлений о Л. в европейском менталитете (а стало быть, и разорванность самого этого менталитета) занимают модели, предлагающие отказаться от попыток такого преодоления. Подобная позиция может, на первый взгляд, показаться экстравагантной, на деле же она базируется на мужестве не закрывать глаза на наличие упомянутой разорванности, не уповать идиллически на беспроблемное исчезновение аксиологического дуализма в интерпретации Л., а пытаться выстроить стиль и образ жизни в условиях конфликтного миросозерцания. Формы таких моделей весьма различны: от интеллектуалистских концепций рафинированных философов (типа Декарта) до страстных воззваний пламенных проповедников (типа Савонаролы). Ни одна из названных программ не решает в полной мере задачи создания непротиворечивой и нетравмирующей концепции Л. как целостного феномена. Проблема противостояния телесного и духовного аспектов Л. дает о себе знать и в рамках философии 20 в. С одной стороны, в 20 в. широкое развитие получает натуралистическая традиция интерпретации Л.: пансексуализм классического психоанализа, концепция невротизма Райха, теория "биологической недостаточности" человека Гелена, трактовка Плеснером телесности как сферы реализации человеческой сущности, трактовка эроса как фундаментального феномена (наряду с властью, игрой и смертью) в феноменологической антропологии Э. Финка, концепция нейрофизиологического детерминизма Рорти и др. Однако столь же ярко представлены в философии 20 в. и альтернативные концепции, продолжающие традицию трансцендентализма в интерпретации Л. Так, в концепции Тиллиха Л. оценивается как связующее звено между сакральной и профанной историей: "вспышка" сакральной истории в профанную, открывающая подлинный смысл повседневных событий, требует кайроса, т.е. выдающегося, масштабного деяния, обнажающего сакральную подоплеку повседневной событийности. Большой кайрос - это грандиозный и радикальный исторический поворот; малый кайрос - это такое отношение человека к человеку, в котором сквозь ткань профанного отчетливо светится сакральная основа, по своему значению и роли в истории он равнозначен большому кайросу. Аналогично в рамках тенденции аджорнаменто Л. рассматривается как личностно-созидающая сила ("новая антропология" Гвардини, "философия интегральности" М.Ф. Шакка). Сюда же примыкает и концепция Шелера, в понимании которого Л. является тем инструментом, с помощью которого возможно постижение глубинных надвитальных ценностей, отличающих личность от так называемого "эмпирического индивида". Современная философия постмодерна предлагает радикально новую стратегию интерпретации Л. Прежде всего она включает в себя программу декогнитизации Л., основной пафос которой заключается в отказе от классических парадигм "Л. к знанию" и "знания посредством Л." (П. Слотердайк). Радикально новую ориентацию получает в постмодернизме и семиотический подход к феномену Л. Структурный психоанализ выявил языковую артикулированность бессознательной сферы, что было оценено в качестве обоснования символической природы желания (Лакан). На этой основе в постмодернизме оформляется философия "новой телесности": "телесность текста" (Р.Барт), "мышление интенсивностей" (Лиотар), "игра сингулярностей" (Батай). В рамках философии "новой телесности" бессознательное оказывается естественным, но не органическим, а желание - телесным, но вне физиологии. В терминологии А. Шеридана, если классика была культурой аппетита, то постмодерн - культура неутоленности (ср.: "мышление соблазна" у Бодрийара и "философию желания" Делеза и Гваттари). Контуры новой парадигмы интерпретации Л. очерчиваются в современной философии постмодернизма на стыке таких тенденций, как постмодернистское переосмысление феномена взаимопонимания в контексте субъект-субъектных отношений (Батай, Бланшо, Джеймисон, Эко), новая расширительная - трактовка дискурса как средства коммуникации (от Хабермаса к Гоулднеру), синтетическая тенденция в развитии экзистенциальной и психоаналитических программ в современной философии (концепция "бытия-друг-сдругом" как нераздельного и неслиянного у Бинсвангера), разработка игровых моделей человеческого существования в современной антропологической феноменологии (от Хейзинги и Ф. Финка к Р. Кайюа), развитие постструктуралистской концепции эстетических поведенческих практик ("история сексуальности" Фуко). (См. также Секс, Эрос, "Веселая наука", Соблазн.) М.А. Можейко ЛЮТЕР, Людер (Luther) Мартин (1483-1546) - немецкий мыслитель и теолог, идеолог Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Магистр "свободных искусств" Эрфуртского университета (1505). Возглавил кафедру моральной философии (с 1508), доктор теологии (1512) Виттенбергского университета. Осуществил перевод Библии на немецкий язык ("Библия, которая есть полное Священное писание на немецком", 1534), сыгравший важнейшую роль в конституировании немецкого литературного языка: при жизни Л. было продано более 100000 экземпляров этой книги. Основные сочинения: "Лекции о Послании к Римлянам" (1515-1516); "Девяносто пять тезисов" (1517); "Разговор об отпущениях и милости" (1518 - первое произведение, написанное Л. на немецком языке); "К христианскому дворянству немецкой нации" (1520); "О вавилонском пленении Церкви" (1520); "О свободе христианина" (1520); "О монашеском обете" (1521); "Верное предостережение всем христианам беречься мятежа и возмущения" (1522); "О светской власти, в какой мере мы обязаны ей повиноваться" (1523); "Против небесных пророков" (1524); "О рабстве воли" (1525) и др. Полное издание произведений Л. на немецком языке насчитывает 67 томов, на латыни издано 38 томов. В истории культуры и религии Западной Европы Л. инициировал возрождение пророчески-библейского, "израильско-христианского" типа религиозной веры: примитивно-чувственные культ и обрядность античного канона были им отвергнуты и замещены духовно-словесными репертуарами служения Богу. (Об учении Дионисия Ареопагита и его школы, согласно которой Бог - "жених" души, а душа - "невеста" Бога, Л. писал: "Это лишь собственные учения авторов, которые они принимают за высшую мудрость. И я когда-то этим занимался, конечно, не без большого вреда. Я говорю Вам: "Ненавидьте это "Мистическое богословие" Дионисия и подобные книги, в которых содержатся подобные басни, как чуму... Своим "Мистическим богословием", вокруг которого невежественные теологи поднимают так много шума, он принес самые большие неприятности. В нем больше платонизма, чем христианства, и я не хотел бы, чтобы чья-нибудь святая душа когда-нибудь знакомилась с этой книжицей". Как "пустую фантазию и мечтание" обозначил Л. представления Бонавентуры о мыслимых сценариях соединения души с Богом.) По мысли Хайлера, Л. не пытался (в духе сект первоначального христианства) слепо и механически подражать образцам павло-иоанновского Евангелия - он освободился от католической мистики, заменив ее набожностью, ориентированной на классическую библейскую, пророческо-евангелическую религию. 1) Л. поставил во главу угла религиозного мировоззрения утверждение мира и личности (ср. у Гёте: "высшее счастье для детей земли - это личность"). 2) Л. провозгласил в качестве подлинной веры собственную убежденность верующего. Христианство у Л. выступило как личный ответ грешной человеческой природы исполненному любви Богу, познаваемому из Библии благодаря вере: "Мы готовы доказать всему миру, что наше учение - не поэтический соблазн и не мечтание, но Писание и ясное Слово Бога. Мы не призываем следовать ничему другому, кроме спасения, и еще мы учим верить или быть твердыми". 3) Л. обратился к Богу как к личному господину и отцу, признав в качестве единственного мыслимого авторитета личность религиозного гения. Отвечая на новозаветный вопрос: "Что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?" (Лк. 10:25), Л. заявлял: "...Мы не обновили проповедь, а лишь возродили старое и твердое учение апостолов; мы не создали нового крещения и причастия, Отче наш, веры, мы ничего нового не хотели узнать или привнести в христианство, мы лишь поспорили и поговорили о старом (о том, что Христос и апостолы оставили и передали нам). Но это мы сделали: мы нашли все то, что Папа скрыл своим лишь человеческим учением. Все, что было скрыто толстым слоем пыли и оплетено паутиной, мы милостью Божией воскресили, очистили, стряхнули пыль и вымели сор, чтобы оно вновь засверкало и все смогли увидеть, что есть Евангелие, Крещение, Причастие, Таинство, Ключ, Молитва, - есть все, что дал Христос и как нужно для спасения". 4) Л. сформулировал цель спасения в милости Бога. По Л., Бог в справедливости своей мог осудить людей на гибель, но по любви своей, наиболее полно явившей себя в распятии Христа, Он избрал путь спасения грешников. (Эта идея Л. - плод т.наз. "Башенного переживания", или "Turmerlebnis", - впоследствии была обозначена как концепция "вмененной праведности", согласно которой все мыслимые грехи людские затмеваются заслугами Христа.) По мнению Л., неисповедимость Бога, являющая себя в нелепости креста, такова, что мера Его милосердия - милосердие без меры. В учении Л. любовь эта непосредственно связует человечество с Богом: такое предстояние Богу (Coram Deo) и именовалось Л. оправданием. (Ср. у апостола Павла: "Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его".) 5) Л. свел общественный религиозный культ к объединению личностей для лишенного жертвенности общения с Богом. По мнению Л., никакие нравственные и должные дела не могут гарантировать спасение. В труде "О рабстве воли" Л. писал: "...Величие Бога - всепожирающий огонь, Он неподвластен никакому воздействию человеческой воли или разума". Деяния (т.е. дела, изначально замышляемые как "добрые"), по Л., составляют самую суть греха, ибо их основание желание сделать себя, а не Бога центром Вселенной. Согласно Л., они /добрые дела. - А.Г./ даже не в состоянии создать высшую "предрасположенность" для спасительной милости: "Никаким другим трудом нельзя достичь Бога или потерять его, кроме как верой или безверием, доверием или сомнением; другие дела не доходят до Бога". Л. конституировал нравственно-теологические основания "чистой" религии милости: нравственная деятельность выступала лишь как само собой разумеющееся следствие сильного религиозного переживания. По мысли Л., "не следует спрашивать, нужно ли делать добрые дела, они должны твориться без каких-либо требований" (ср. с позднеиудейскими религиозными законами). Л. первым произнес добросердечные слова о священности и ценности честной профессиональной жизни ("повседневных добрых дел"), открыв тем самым "новую эпоху в отношениях между религией и культурой" (Хайлер и др.). 6) Л. усмотрел смысл откровения в осуществлении личности Иисуса Христа (лютеровская христология предельно акцентирована: "...и так софисты изобразили Христа, как будто бы он был человек и Бог; посчитали его ноги и руки, странным образом смешали обе его природы, что является лишь софистическим познанием Господа Иисуса Христа. Христос же был назван Христом не потому, что имел две природы. Как меня это касается? Он носит свое утешительное имя за свои дела, которые он принял на себя. То, что он по природе своей человек и Бог, касается только Его, но то, что он творит в мире, распространяет свою любовь на всех и на меня и становится моим спасителем и утешителем, - это происходит мне в утешение"). Главным пафосом "95 тезисов" Л. был отказ от организационной архитектоники католицизма, от лежащего в ее основании принципа незыблемого авторитета высших церковных иерархов, от ее догматики и теологии, фундированных мистическим приматом безличного. Согласно Л.: А) Подлинное покаяние правомерно понимать как исключительно внутренний процесс, осуществляющийся на протяжении всей жизни истинного христианина (тезисы 1-4). Б) Ни от каких небесных кар церковь освобождать не может (тезисы 5-7). В) Римский первосвященник не располагает какой-либо властью над чистилищем - к его отпущению грехов умершим Бог может и не прислушаться (тезисы 8-29). Г) Институт индульгенций греховен и богопротивен: раскаяние вплоть до готовности принять муку за грехи результируется для верующего в прощение безо всяких индульгенций (тезисы 30- 40). Д) Если и существует сокровищница заслуг, накопленных Иисусом Христом и всеми святыми во спасение грешного человечества, то она - как крест, смерть и ад - споспешествует грешнику отнюдь не по милости папы (тезис 58); "ключи от царства" (Мф. 16:19) принадлежат, по Л., не римскому первосвященнику, но всей общине верующих (ср.: где двое или трое соберутся во имя Его, там будет и Он среди них. - Мф. 18:19-20). Е) Уверенность в спасительной силе отпущения грехов не может замещать и заместить веру в спасительность креста (ср. с будущей формулой Л.: "sola fide" - лат. "только верой") (тезисы 53-55). Л. неоднократно подчеркивал и сформулировал в качестве своеобычного символа собственного мировоззрения тезис о том, что "церковь наличествует всюду, где проповедуется и исповедуется слово Божие /Священное Писание - А.Г./; церковь потому и именуется царством веры, что ее глава невидим и является объектом веры. Превращать церковь в видимое царство есть заблуждение... Вера не может терпеть иного главу, помимо Христа". Л. сумел сформулировать и ритуально очертить для верующих новое, принципиально нетрадиционное чувство жизненной основы, резко контрастирующее с ортодоксально-мистическим. Вера для Л. - как для героев и фигурантов Ветхого и Нового Заветов - "живая отважная надежда на милость Божью, надежда настолько определенная, что он не устает об этом повторять. Такая надежда и сознание милости Бога делает его радостным, упрямым и веселым по отношению к Творцу и сотворенному миру". По мысли Л., "верить в Бога ... значит в борьбе обрести такое сердце, которое станет сильным и не отчаивающимся по отношению ко всему, что могут черт и мир, к нищете, несчастью, грехам и стыду... Истинная вера - это доверие к Христу в сердце, и это доверие пробуждает в нас только Бог". Согласно учению Л., вера не может и не должна пониматься как экстатическое блаженство мистика в сфере сакрального бессознательного, она не есть опустошение естественной душевной жизни как итог ее религиозной сублимации - вера проявляема ежечасно, в повседневной, обыденной жизни, в привычных состояниях "посюстороннего" бодрствования. Если для католического мистика Бог - "сам в себе пребывающий и сам для себя достаточный", то для Л. Бог есть "открывшийся", "тот, Кто помогает в беде" и "тот, Кто внимает молитве", чья сущность - откровение и который проявляет свою волю и распахивает свое сердце в истории: "Бог - это не какой-то неизвестный и неопределенный Бог, но тот, который сам открыл себя в определенном месте и через свое собственное слово и посредством известных знамений и чудес отобразил себя, равно как возвестил, запечатлел и утвердил для того, чтобы можно было определенно узнать Его и достичь". Как утверждал Л.: "Во всем, посредством всего и над всем осуществляется Его власть, и более не действует ничего... Словечко "власть" не означает здесь покоящуюся силу, какой обычно обладают преходящие цари, о которых говорят: "он силен, хотя спокойно сидит и ничего не делает"; но силу действующую и деятельность постоянную, которая непрерывно встречает нас и воздействует. Поэтому Бог не покоится, а постоянно действует... Бог - огонь, который изнуряет, съедает и усердствует". Принципы, выдвинутые Л., - "sola fide, sola gratia, sola scriptura" (лат. "только верой, только милостью, только Писанием") - не только знаменовали восстановление в правах предельных форм выражения религиозного чувства ветхозаветного и новозаветного образца, но и провозгласили радикальнейший подход, в границах которого все крещеные христиане полагались священниками в силу самого их крещения. Была задана поворотная идея "священства всех верующих": каждый христианин был обязан не только с верой принимать слово Божие, но и служить ближнему своему. В конечном итоге Л. заместил католический принцип традиции и сопряженный с ним авторитет живой учительской службы личным авторитетом пророческих гениев Ветхого и Нового Заветов. Полемизируя с Августином, утверждавшим, что он "даже Евангелию верит лишь потому, что его побуждает верить авторитет католической церкви", Л. заявлял: "...это было бы ложно и не по-христиански. Каждый сам по себе должен верить потому, что это слово Бога, и потому, что он сам внутренне чувствует, что это истина... Ты должен сам в своей совести чувствовать Христа и непоколебимо верить, что это слово Бога". Л. не устрашился постулировать неодинаковую религиозную ценность различных фрагментов Ветхого и Нового Заветов, полагая, что исконное право каждого истинно верующего "четко выбрать из всех книг те, которые являются наилучшими". По сути, становление западноевропейской цивилизации как социума, поместившего в свои основания идеалы всестороннего раскрепощения человека и обретения им прав и свобод в полном мыслимом объеме, было инициировано последующими высокоэвристическими интерпретациями идей Л., внешне носившими "всего лишь реформаторский" характер. Горизонт радикальной личностной свободы был задан Л. как предельная ценность: для него оказалось принципиально допустимым истолкование Писания через призму "основной событийности" библейско-пророческой веры. Каждый верующий христианин обретал личный религиозно-нравственный индикатор: искренняя опора на учение Павла и Иоанна обусловливала, по Л., абсолютное право любого человека во Христе на собственный выбор, на тот "единственный пробный камень, позволяющий придирчиво рассмотреть все книги, чтобы увидеть, вращаются ли они вокруг Христа или нет". События Библии, как полагал Л., переживаются истинно верующим при его встрече с текстом как вновь и вновь происходящие - происходящие неизбывно, здесь и сейчас. С другой стороны, императив личной свободы исполнял в идейной системе Л. также и роль значимой парадигмы мышления. Л. был убежден в том, что человеческая природа слаба и эгоистична, подвержена воздействию пороков, способна восставать против Бога; род же человеческий "поражен неизлечимой проказой и несмываемой скверной". Тем не менее он считал (в отличие от Аристотеля, этические максимы которого воспроизводились в томистской и оккамистской теологии), что не все поступки людей изначально расчетливы: по мнению Л., фундированному мыслями Протагора, Парменида и Платона, самые важные решения человека не связаны с непосредственной выгодой, они спонтанны и "боговдохновенны". Л. признавал плодотворность и оправданность сочетания в душе человека естественного знания о Боге, с одной стороны, и моральных принципов, фундированных разумом, - с другой. По Л., разум может лишь непрестанно подготавливать веру, но никогда не может заменить ее или превзойти. (При этом Л. полагал, что первозаданная людям созерцательная сила естественного познания постепенно ослабевает.) Формулируя первые в Европе программные стратегии религиозного просвещения, Л. ратовал за формальное обучение мышлению посредством логики: по его мнению, человеку должно "раздельно и четко называть вещь короткими и ясными словами", причем на родном ему языке. Отстаивая на императорском рейхстаге в Вормсе (1521) принцип автономии совести, Л. подчеркивал, что совесть сопутствует "Божьему гласу в душе", она суть "действенность Бога в душе": "никто не может меня спросить, должен ли он делать то и другое; но он сам может видеть и спросить свою совесть, во что ему верить и что делать. Я не могу ему советовать и, тем более, приказывать" (Письмо Л. курфюрсту Иоганну от 25 мая 1529). Восстанавливая изначальное звучание библейской мудрости, Л. предвосхитил основной спектр концепций гражданских прав и свобод, впоследствии облагородивших западный мир: "Мысли и чаяния души не могут быть никому подвластны, кроме Бога; поэтому нелепо и невозможно повелениями принудить кого-либо верить так, а не иначе... И если светский владыка твой все же делает это, то скажи ему: "Не подобает Люциферу восседать вместе с Господом; тебе, государь, я обязан служить и телом, и добром своим... но если велишь мне верить иначе, чем я верю, то не послушаюсь я тебя; в этом случае ты тиран и слишком высоко заносишься, - повелеваешь там, где нет у тебя ни права, ни власти". В историю немецкой мысли Л. вошел также как реформатор образования, языка, музыки и т.д. Инициированный Л. синтез жестко-рефлексивных оснований классически-римского мировоззрения /читай: права. - А.Г./, его сакрализация повседневной хозяйственной деятельности вкупе с освящением данной интеллектуальной "амальгамы" пафосностью личного выбора индивида очертили условия возможности вовлечения в сценарии человеческой практики как научной (формально-рациональной) компоненты, так и стоического по сути начала, жизненно необходимого для пребывания в рамках стихии "юного" буржуазного строя: по Л., "Бог означает то, чем следует запастись, чтобы во всех несчастьях иметь прибежище и находить благо во всех страданиях". (См. также Протестантизм.) А.А. Грицанов Das MAN (нем. Man - неопределенно-личное местоимение) - понятие, введенное в "Бытии и Времени" Хайдеггера (1927) при анализе неподлинного существования человека. Хайдеггер отмечает, что существует такая озабоченность настоящим, которая превращает человеческую жизнь в "боязливые хлопоты", в прозябание повседневности. Основная черта подобной заботы - ее нацеленность (как практически-деятельного, так и теоретического моментов) на наличные предметы, на преобразование мира. С одной стороны, сама эта нацеленность анонимна и безлика, с другой - она погружает человека в безличный мир (М.), где все анонимно. В этом мире нет и не может быть субъектов действия, здесь никто ничего не решает, и поэтому не несет никакой ответственности. Анонимность М. "подсказывает" человеку отказаться от своей свободы (толпа как выразитель М. не принимает осмысленных решений и не несет ни за что ответственности) и перестать быть самим собой, стать "как все". Мир М. строится на практике отчуждения; в этом мире все - "другие", даже по отношению к самому себе человек является "другим"; личность умирает, индивидуальность растворяется в усредненности. "Мы наслаждаемся и забавляемся, как наслаждаются; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как видят и судят; мы удаляемся от "толпы", как удаляются; мы находим "возмутительным" то, что находят возмутительным". Главная характеристика мира повседневности - это стремление удержаться в наличном, в настоящем, избежать предстоящего, т.е. смерти. Сознан ие человека здесь не в состоянии отнести смерть (конечность, временность) к самому себе. Для повседневности смерть - это всегда смерть других, всегда отстранение от смерти. Это приводит к размытости сознания, к невозможности обнаружить и достичь своей собственной сущности (самости). Повседневный способ бытия характеризуется бессодержательным говорением, любопытством и двусмысленностью, которые формируют "обреченность миру", растворение в совместном бытии, в среднем. Попытка вырваться из беспочвенности М., прояснить условия и возможности своего существования, может осуществляться лишь благодаря совести, которая вызывает существо человека из потерянности в анонимном, призывает человека к "собственной способности быть самостью". В.Н. Семенова MODERN (нем. die Moderne, фр. Modernite) - современность. Проблема настоящего времени или современного мира трактуется в философии рубежа 20-21 вв. в русле двух основных версий: I) По Хабермасу, именно "Гегель - первый философ, развивший ясное понимание современного; поэтому мы должны вернуться именно к Гегелю, если хотим понять внутреннее отношение, связывающее современность и рациональность, отношение, которое вплоть до Макса Вебера казалось само собой разумеющимся и которое сегодня ставится под сомнение". (Ср. у Ш.Бодлера: современность - умонастроение, противостоящее академизму, продолжающему классическую традицию. По Бодлеру, принцип "die Neuzeit", или "нового времени", сформулировал Гегель.) По мысли Хабермаса, в гегелевской трактовке современность характеризуется: 1) индивидуализмом нравов; 2) правом на критику или свободой совести; 3) автономией поведения (то, кем я являюсь, зависит от того, что я делаю, а не от того, кем были мои предки); 4) идеалистической философией. Согласно Хабермасу, "проблема построения Современности, исходя из нее самой, возникает в сознании, прежде всего в области эстетической критики... Постепенный отказ от античной модели произошел в начале XVIII века благодаря знаменитому спору Древних и Современных. Сторонники последних восстают против понимания Я, свойственного французскому классицизму в той мере, в какой последний уподобляет аристотелевское понятие совершенствования понятию прогресса, при этом идея прогресса была подсказана современной естественной наукой". Проект модерна, сформулированный в 18 в. философами Просвещения, по версии Хабермаса, состоит в том, чтобы "неуклонно развивать объективирующие науки, универсалистские основы морали и права и автономное искусство с сохранением их своевольной природы, но одновременно и в том, чтобы высвобождать накопившиеся таким образом когнитивные потенциалы из их высших эзотерических форм и использовать их для практики, т.е. для разумной организации жизненных условий". Как итог, - утверждает Хабермас, - с тех пор "модерным, современным считается то, что способствует объективному выражению спонтанно обновляющейся актуальности духа времени". По убеждению Хабермаса, для осуществления М. как специфического "незавершенного проекта" необходимо направить "социальную модернизацию в другое некапиталистическое русло, когда жизненный мир сможет выработать в себе институты, которые ограничат собственную систематическую динамику экономической и управленческой системы деятельности". Постмодернизм в интерпретации Хабермаса оказывается покидающим "мир современности" течением "младоконсерваторов", присваивающих "ключевой опыт эстетического модерна, опыт совлечения покровов с децентрированной субъективности, освобожденной от всех ограничений когнитивного процесса и утилитарной деятельности, от всяческих императивов труда и полезности". II) В современной французской философии авторами концепта "Новое время" называются М.Ж.А.Кондорсе и Конт. По мысли Лиотара, М. суть эпоха господства метанарраций (см.). Философия Гегеля в таком контексте понимается как подводящая итог и представляющая в совокупности все эти повествования, концентрируя в себе "спекулятивную современность". Метанаррации, по Лиотару, ищут узаконенности в подлежащем наступлению будущем, в подлежащей реализации Идее (свободы, Просвещения, социализма и т.п.). Но, по мысли Лиотара, современный проект (реализации универсальности) разрушен (итог Освенцима и Холокоста): "победа капиталистической техно-науки над другими кандидатами на универсальное завершение человеческой истории - не что иное, как еще один способ разрушить современный проект, делая вид, что его реализуешь". Народоубийство Освенцима и открывает эпоху пост-М. (См. Модернизм, Постмодернизм, Настоящее.) А.А. Грицанов МАЙЕВТИКА (греч. maieutike - повивальное искусство) - метафора, с помощью которой Сократ прояснял сущность своего метода философствования, специфицирующего сократический диалог прежде всего по отношению к софистическому. М. базируется на отождествлении философа с носителем чистого сознания, функция которого - лишь вопрошать. Это фиксируется в принципе "знаю, что не знаю ничего". Вместе с тем полагается, что знание можно найти только через самопознание другого, но для этого необходимы процедуры очищения и уточнения, что осуществляется посредством постановки вопросов о сути тех или иных (прежде всего социальных) феноменов. Последнее выступает образцом для рассуждений Платона об эйдосах. (См. также Сократ.) Д. В. Майборода МАЙМОНИД (Maimonides), настоящее имя Моше бен Маймон, или сокращенно на иврите Рамбам (Раби Моше бен Маймон), (1135-1204) - еврейский мыслитель, врач лейб-медик египетского султана Саладина, философ и теолог. Один из наиболее авторитетных раввинов средневековья. Основные философские сочинения: "Наставник заблудших" ("Морэ неву-хим") (ок. 1190, написано на арабском языке, позже переведено на древнееврейский), "Книга заповедей" и др. Упорядочил, опираясь, в частности, на ряд подходов философии Аристотеля, труднопонимаемые до того времени предания Талмуда, осуществив оптимальное их истолкование. М. автор первого полного систематизированного кодекса еврейского права "Мишнэ Тора", позволявшего избегать утомительных поисков соответствующих тезисов в Талмуде. Автор символа веры иудаизма, выраженного в 13 пунктах, адаптированный текст которого помещен во многих еврейских молитвенниках (двенадцатый пункт гласит: "Я всем сердцем верую в приход Машиаха, и даже если он задерживается, я все равно буду ждать его"). Согласно М., высшие принципы Истины, отраженные в постулатах еврейской религии, нуждаются в строгом и рациональном обосновании. Аргументы М. оказали определенное влияние на организацию мышления Фомы Аквинского (неоднократно цитировавшего "Раби Моисея") и Спинозы. Неоднократно подвергался критике со стороны еврейских и мусульманских ортодоксов. М., видимо, единственный философ нашей эры, символизирующий единение четырех культур: греко-романской, западной, еврейской и арабской. А.А. Грицанов МАКИАВЕЛЛИ (Machiavelli) Никколо ди Бернардо (1469-1527) - итальянский мыслитель, политический деятель, историк и военный теоретик. Секретарь Совета десяти Флоренции (1498-1512), отвечавший за дипломатические связи республики. Основные сочинения: "Государь" (1513, впервые опубликован в 1532), "Рассуждения о первых десяти книгах Тита Ливия" (1516-1517), "О военном искусстве" (1519- 1521), "История Флоренции" (1520-1525) и др. Отдавая симпатии "народу" (активным и зажиточным горожанам) в отличие от нелюбимых им городских низов, плебса и церковно-клерикальных кругов папского Рима, М. разрабатывал правила политического поведения людей и превозносил этику и мощь "гордой" дохристианской Римской империи. С точки зрения М., наиболее жизнеспособными государствами в истории являлись те республики, граждане которых обладали максимально возможной степенью свободы, самостоятельно определяя собственную судьбу. М. характеризовал самостоятельность, величие и мощь государства как идеал, для достижения которого политики должны использовать всевозможные средства, не думая о моральной стороне своих поступков и о гражданских свободах. М. ввел понятие "государственный интерес" для выражения претензий государства на право не обращать внимания на законы, которые оно призвано гарантировать, в случае, если этого требуют т.наз. "высшие государственные интересы". Целью действий правителя безусловно, т.обр., является успех, а не добродетельность или порочность. (Согласно М., "правление заключается главным образом в том, чтобы твои подданные не могли и не желали причинить тебе вред, а это достигается тогда, когда ты лишишь их любой возможности как-нибудь тебе навредить или осыплешь их такими милостями, что с их стороны будет неразумием желать перемены участи".) "Государь" М. - это своеобычное технологическое руководство по захвату, удержанию и использованию государственной власти. Будучи сторонником республиканского устройства государства, М. не видел перспектив для него в масштабах всей Италии и советовал "новому государю" "по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла". Преступления, совершенные во имя Родины, по мнению М., - это "славные преступления". С точки зрения М., "ни один порядочный человек не упрекнет другого, если тот пытается защитить свою страну всеми возможными средствами". При этом М. призывал уделять особое внимание "общему благу" - общенациональным интересам, ибо широкие народные массы при известных условиях мудрее любого государственного лидера. (По М., истинная земная мудрость достижима посредством тщательного наблюдения за поступками людей и при помощи изучения истории.) Разделяя тезис христианства об изначальном зле человеческой природы, М. настаивал на целесообразности осуществления воспитательных функций в обществе государством, а не церковью. При этом М. был убежден, что максимам традиционных религии и морали не должно придаваться никакого значения, если они не в состоянии содействовать усилению потенциала благоустроенного социума. Выступая в Древнем Риме как "необходимейший инструмент поддержания цивилизованного государства", религия, согласно убеждению М., утратила эту функцию по мере насаждения христианством идеалов смирения и послушания: римскую этику самосохранения и самоутверждения М. ставил безусловно выше христианского идеала смирения. Основополагающей особенностью всякого общества М. полагал борьбу и жестокую конкуренцию между людьми. По М., именно человеческий эгоизм и потребность в его насильственном обуздании породили государство как особый социальный институт: "Добрые примеры порождаются добрым воспитанием, доброе воспитание - хорошими законами, а хорошие законы теми самыми смутами, которые многими безрассудно осуждаются". Стяжательство, по мнению М., - это не только атрибут природы современных ему людей, но и неизбывный человеческий жребий: человек у М. "скорее забудет убийство отца, нежели конфискацию наследуемого имущества". Рассудительный государь поэтому может позволять себе убивать, но отнюдь не грабить. Доблесть результативной преобразующей деятельности людей М. предлагал определять с помощью набора понятий virtu - основополагающего достоинства удачливого правителя - способности интеллекта и воли человека поступать бодро и динамично. М. считал, что одной частью собственной жизни мы можем распоряжаться самостоятельно, другая же удел факторов и сил, неподвластных нам. Итогом этого является то обстоятельство, что одинаковые действия, осуществленные в разные времена, результируются принципиально разнокачественно. Счастливая фортуна, т.обр., - гармония политического действия и окружающей эпохи. После замены республиканской администрации Флоренции тиранией Медичи М. был изгнан. М. испытал тюремное заключение, подвергался пыткам. Среди первых критиков М. были Кампанелла и Ж. Боден. В 1546 среди "отцов" Тридентского собора был распространен мемориал, в котором было сказано, что "Государь" написан рукой Сатаны". В 1559 все сочинения М. были включены в первый "Индекс запрещенных книг". М. писал: "Пусть судьба растопчет меня, я посмотрю, не станет ли ей стыдно". (Самой известной попыткой литературного опровержения М. было сочинение Фридриха Великого "Антимакиавелли", написанное в 1740; в нем отмечалось: "Я дерзаю ныне выступить на защиту человечества от чудовища, которое желает его уничтожить; вооружившись разумом и справедливостью, я осмеливаюсь бросить вызов софистике и преступлению; и я излагаю свои размышления о "Государе" Макиавелли - главу за главой, - чтобы после принятия отравы незамедлительно могло бы быть найдено и противоядие".) В церкви Санта Кроче на могильном памятнике М. находится надпись: "Никакая эпитафия не выразит всего величия этого имени". Труды М. знаменовали начало нового этапа развития политической философии Запада: рефлексия над проблемами политики, по убеждению М., должна была перестать кореллироваться нормами богословия либо максимами нравственной философии. Произошел окончательный разрыв с мировоззрением св. Августина: все помыслы и все творчество М. увязывались с пафосом Града Человеческого, а не Града Божьего. Политика тем самым утвердила себя самое как самостоятельный объект исследования - как искусство создания и усиления государственной власти. А.А. Грицанов МАКЛЕС Сильвия - актриса (снималась у Ренуара). Жена Батая, позднее - Лакана. МАК-ЛЮЭН (McLuhan) Херберт Маршалл (1911- 1980) - канадский философ и социолог, теоретик коммуникационных технологий, автор работ по истории философии и литературы, культурологии, психофизиологии. Профессор университета в Торонто (с 1952). Основные произведения: "Галактика Гутенберга" (1962), "Понимающая коммуникация" (1963), "Город как аудитория" (1977, в соавторстве). М.-Л. создана концептуальная модель исторической динамики общества, в центре которой лежит проблема типа и способа коммуникаций; смена коммуникационных технологий положена М.-Л. в основу социальной типологии и выступает критерием периодизации истории. Типологически может быть отнесен к методологической традиции технологического детерминизма, однако семантически философские идеи М.-Л. выходят далеко за рамки философии техники. Произведения М.-Л. характеризуются своеобразным метафорическим стилем, в рамках которого выстраивается своего рода аксиоматическая система "проб" (семантических срезов) проблемы, задающая одновременно всесторонне стереоскопическое и образно-ощутимое восприятие последней. Семантическим центром философской концепции общества выступает у М.-Л. способ и тип коммуникаций, который, с одной стороны, обеспечивает целостность и специфику социальной организации, а с другой - выступает механизмом ее понимания и культурной интерпретации. Определенный тип коммуникаций (коммуникационная технология) не просто задает, но создает социальный мир - "галактику", которая имеет свой ареал и, несмотря на возможность расширения или изменения конфигураций, наложения галактик друг на друга или взаимного прохождения сквозь, обладает тем не менее четко фиксированными границами. К "средствам общения" М.-Л. относит все культурные феномены, так или иначе могущие выполнять коммуникативные функции: язык (письмо и речь), печать, TV, компьютерные системы, а также дороги, транспорт, деньги, религию, науку и др. Формирование новых "средств общения", связи и информации инспирирует радикально новый "сенсорный баланс" общества, задавая новые мироощущение и мироуяснение, новый стиль мышления, новый образ жизни и, в конечном итоге, новые формы социальной организации. М.-Л. понимает коммуникацию как экстериоризацию чувственной способности человека к восприятию, выделяя на основе этого критерия аудио- (или речевую) коммуникацию и видео- (или зрительную) коммуникацию, что, в свою очередь, ложится в основу дифференциации аудио- и видео-культур, т.е. "культур слуха" и "культур зрения". Такое разделение является семантически весьма сильным и значимым. По подсчетам современных психологов, избирательность зрения на несколько порядков превышает избирательность слуха. Каждый видит свое, звуковой же ряд - один на всех. Более того, именно звук обладает суггестивным потенциалом: для того чтобы ввести пациента в гипнотическое состояние, врач должен устранить бдительный контроль зрительного анализатора (например, утомить его с помощью блестящего шарика перед глазами). Мы слушаемся, если не имеем своей точки зрения. Как показано М.-Л., исторически первой является эпоха устной речи (аудио-культура), в связи с чем "сенсорный баланс племенного человека" характеризуется синкретизмом и включенностью во взаиморезонируюшую речь членов общины, чему соответствует мифологический синкретизм сознания и растворенность индивида в родовом коллективе. Кроме того, "культура слуха" порождает стиль мышления, в выраженном виде демонстрирующий патерналистские установки массового сознания. (Уместно вспомнить, что Жанна д'Арк не только канонизирована католической церковью как покровительница Франции, - она считается также покровительницей радио и телеграфа: двигавшие Жанной патриотические чувства осознавались ею как внушение свыше, сакральная весть, переданная святыми "голосами". История мистики свидетельствует: видения нуждаются в истолковании, голоса же слушают и их слушаются. В Упанишадах откровение изначально обозначалось как "шрути" - букв. "услышанное", суфийский аналог - "шатх".) Именно общая зависимость от авторитета и выступает основой той сплоченности, которая отличает социальные группы в аудио-культуре. Формирование фонетического алфавита - как первый толчок - и изобретение наборного шрифта (И. Гутенберг, 15 в.) - как главный импульс - породили новый тип культуры - видео-культуру, "культуру зрения", которую М.-Л. называет "галактикой Гутенберга". Типографское тиражирование создает, по М.-Л., первый культурный образец стандарта как такового и образец стандартно воспроизводимого товара, задавая тем самым стандарт массового производства. Именно в изобретении печатного станка коренятся, по М.-Л., истоки и всеобщей грамотности и промышленной революции. Печать как "стандарт стандарта" выступает также и образцом стандартной (штатной) коммуникации, - "племенной человек" заменяется "типографским и индустриальным", племенной строй - индустриализмом. Кроме того, письменный текст, тиражируемый печатью, выступает в качестве основы рефлексии над языком (позволяет "увидеть язык"), что инспирирует формирование и дистанцирование наций. Все эти трансформации задают истории вектор, который М.Л. обозначает как "эмплозию" - мощную интенцию к механической технологии и механистическому фрагментарному псевдо-единству видео-культуры, пришедшему на смену аудио-органичному единству. Печатное слово, сделавшее письменность основой массовых коммуникаций, предоставило индивиду такие права, как селекция информации (в то время как от звучащего голоса не уйти, читать можно то, что угодно), свободная ее интерпретация (своя точка зрения в противоположность послушанию), критицизм и возможность поступать с этой информацией по своему усмотрению - собственно, право на индивидуальность. Человек заплатил за это право утратой чувства общности (общины), - исходное единение с родом сменилось неутолимым желанием преодоления разобщенности, задав культурную традицию поиска путей этого преодоления: от констатации Фроммом неадекватности традиционных средств (совместная принадлежность к экономической группе, общие знаки престижа, одновременно пережитые орги-астические состояния) до парадигмы "бытия-друг-с-другом" в экзистенциальном психоанализе Бинсвангера. Однако основная семантическая ось истории ориентирована, согласно модели М.-Л., как вектор от "эксплозии" к "имплозии", т.е. к новому синтетизму на основе компьютерных средств коммуникации. Если аудиои видео-культуры репрезентировали и объективировали в средствах массовой коммуникации соответственно - слуховые и зрительные анализаторы, то компьютерная техника объективирует ("выводит наружу") саму нервную систему, экстраполированную на все человечество. Наступающая "электронная эпоха", по М.-Л., будет характеризоваться "тотальным объятием": mass-media на новой технологической основе возвращают человеку утраченную включенность в общность, только теперь эта общность приобретает всечеловеческий масштаб, ибо предоставленная компьютерной техникой возможность мгновенной передачи информации и мгновенного же на нее реагирования фактически упраздняет пространство и время ("имплозия" как мгновенное сжатие информационного и пространственно-временного континуумов), позволяя человеку не только осознать, но и прочувствовать свое единство с человечеством. Кроме того, компьютерные возможности позволяют "обойти язык", т.е. устранить барьер перевода, сняв тем самым национальные перегородки между людьми. Более того, сенсорная комплексность компьютерной коммуникации ликвидирует доминирование тотального критицизма и мозаичной избирательности визу-альности, возвращая мировоззрению утраченные синтетизм и образность, а сознанию - цельность. Общество как единое человечество ("раскрепощенный и беззаботный мир") характеризуется М.-Л. в качестве "глобальной деревни" в силу ощутимо реального для каждого ее представителя единения со всеми и с целым, непосредственности коммуникации, синтетизма восприятия и стиля мышления. На общем мажорном фоне картины "электронного общества" М.-Л. фиксирует и некоторые тревожащие штрихи - интенцию компьютерной коммуникации в рамках mass-media к доминированию формальных средств коммуникации над ее содержанием. Очевидно, что компьютерный синтетизм порождает как большие возможности, так и связанные с ним большие проблемы, артикулируемые как проблемы коммуникационного и информационного порядков. Компьютеризация общества заставляет по-новому взглянуть на многие функции и аспекты коммуникаций, высвечивая ранее не фиксируемые моменты. Так, анализ когнитивной психологией того обстоятельства, что индекс генерации новых идей научными конференциями, проведенными на базе компьютерной техники вне непосредственного пространственно-временного контакта между их участниками, близок к нулю, позволил установить, что наибольшим креативным потенциалом обладает не "штатное", а "кулуарное" научное общение. Что же касается проблем информационного плана, то наложение звучащего текста на видеоряд создает весьма сильное (сколь и нередко обманчивое) впечатление полной достоверности информации, в то время как голос как был, так и остается авторитарным, с прежним успехом используя свой суггестивный потенциал. Диктор, разумеется, не становится диктатором, но факт наличия изображения создает иллюзию "демократичности" восприятия информации, усиливая возможности для социального манипулирования. М.А. Можейко МАЛЬБРАНШ (Malebranche) Никола' (1638-1715) - французский философ, главный представитель окказионализма. Основные произведения: "О разыскании истины" (1675), "Христианские размышления" (1683), "Беседы о метафизике" (1688) и др. Отправным пунктом учения М. стала неспособность картезианского дуализма объяснить проблему взаимодействия души и тела. Многие понятия Декарта, такие как субстанциальный дуализм, интеллектуальная интуиция и др., связанные с окказионалистской проблемой, приобретают в трактовке М. христианскоавгустинианское звучание. Утверждая принципиальную невозможность взаимодействия души и тела в силу их абсолютного разграничения, М. считал, что эти две субстанции имеют принципиально различную природу и потому под так называемой телесной причиной, или причиной волевого акта, следует понимать не что иное, как лишь "повод" для истинно "действующей" причины, т.е. Бога, с помощью которого только и возможно такое взаимодействие. Таким образом, взаимосвязь тела и духа может быть, по М., объяснена как результат непрерывного непосредственного вмешательства божественной воли, понятого как чудо. В своей идеалистической интерпретации основных идей Декарта М. дошел до утверждения о невозможности естественного влияния не только тела на душу, но и тела на тело. В гносеологии М. различает четыре вида или пути познания объектов: познание бытия Бога через посредство самих вещей; познание материальных тел через идеи вещей; познание своей собственной души через так называемое внутреннее чувство и познание душ других людей и чистых духов через познание по аналогии. Согласно М., знания людей о своей душе и душах других людей, а также о Боге являются все же областью веры, а не разума, поэтому к ним не могут быть применены критерии ясности и отчетливости, как это возможно в знании о материальных вещах. В толковании идей М. был близок к Платону, считая, что, созерцая последние, человек видит их в Боге; не Бог существует в мире, а мир в Боге. "Все существует в Боге", "Бог есть место духов" - эти и подобные им высказывания М. были близки к спиритуализму, в то время как признание им "материальных творений" придавало его учению пантеистическую окраску ("Бог находится повсюду в мире"). М. оказал большое влияние на Беркли, который довел до логического завершения ряд идей М., направив их на отрицание материальности как таковой. В 18 в. идеи М. были подвергнуты резкой критике со стороны английских материалистов-сенсуалистов, особенно Локка, и французских просветителей. Т.Г. Румянцева МАМАРДАШВИЛИ Мераб (1930-1990) - грузинский и российский философ. Работал в редакциях журналов "Вопросы философии" и "Проблемы мира и социализма" (Прага), в Институте международного рабочего движения. В 1968- 1974 - заместитель главного редактора журнала "Вопросы философии". В 1974 был уволен по идеологическим причинам. С 1980 - научный сотрудник Института философии АН Грузии (Тбилиси). Философская и публично-просветительская деятельность М. сыграли важную роль в становлении независимой философской мысли в Советском Союзе. Большое духовное и образовательное значение имели курсы лекций по философии, прочитанные им в 1970-1980-х в различных вузах страны, а также многочисленные интервью и беседы с ним, записанные и опубликованные в годы перестройки. Сквозная тема философии М. - феномен сознания и его значение для становления человека, культуры, познания. Сознание М. рассматривал как космологическое явление, связанное с самими основаниями бытия, а онтологию сознания он считал неустранимой структурой современной парадигмы рациональности (онтология рассматривалась М. конструктивно - как предельная форма мыслимости и практикования, а не репрезентативно). Ранние работы М. связаны с деятельностью Московского логического кружка, который сложился в начале 1950-х на философском факультете МГУ. Кружок стремился исследовать мышление как исторически развивающееся органичное целое. Средством такого исследования должна была стать особая содержательно-генетическая логика, разработка которой предполагалась в кружке. Первоначально такая логика разрабатывалась на пути экспликации и описания метода и логики "Капитала" Маркса. В этой связи М. исследовал процессы анализа и синтеза "диалектического целого" (системы), взаимосвязь формы и содержания мышления, соотношение логического и исторического в исследовании систем и др. Проблемы, поставленные логическим кружком и этими исследованиями, получили своеобразное отражение в более поздней работе М. "Формы и содержание мышления" (1968), где на материале немецкой трансцендентально-критической философии М. по существу воспроизводятся фрагменты актуальных дискуссий 1950-х о путях построения содержательно-генетической логики и демонстрируется собственный подход к этим проблемам. Однако вскоре логический кружок вплотную столкнулся с проблемой онтологии мышления, т.е. с проблемой выбора предельных объяснительных категорий по отношению к феноменам мышления. Результатом осознания этого стала формулировка участниками кружка различных подходов и исследовательских программ. М. занял последовательную картезианскую позицию, положив в основание трактовки мышления представление о нем как состоянии сознания. Эта позиция во многом определила стиль и направление его последующих исследований, а категория сознания стала центральной в его философии. Построение позитивной теории сознания М. полагал невозможным, поскольку сознание как таковое в силу своей интенциональности не может быть схвачено в категориях "предмета" или "вещи". Возможным решением он считал разработку метатеории, направленной на наличные языковые и символические формы, посредством которых могут схватываться те или иные структуры сознания. Эту задачу можно обозначить как задачу экспликации и вычленения фундаментальных философских допущений относительно структуры сознания или задачу историко-философского метаописания сознания. Таким образом, историко-философское самоопределение становится другой отличительной чертой подхода М. Саму философию он полагал принципиально открытой культурной формой, в которой происходит экспериментирование с самими предельными формами и условиями мыслимости. Результатом этого экспериметирования, производимого с наличным языком и мыслительным материалом, является изобретение форм, открывающих новые возможности мышления, человеческой самореализации, культуры. Реальное поле философии М. полагал единым как некоторый континуум философских актов, реализующих определенную мысленную неизбежность. Считал, что различия в философских системах возникают лишь на этапе языковой экспликации этих актов и их интерпретации. Таким образом, М. различал "реальную философию", которая едина, и "философии учений и систем", предметом которых является "реальная философия". Принципиальной чертой реальной философии как онтологической основы философии является предельная персоналистичность, экземплифицированность и индивидуальность. М. полагал, что только в точках индивидуации и экземплификации актов сознания как реальных философских актов происходит онтологическое "доопределение мира". За счет понятия реальной философии и принципа индивидуации осуществлял выход за рамки гносеологической трактовки сознания к онтологической постановке проблемы. Разработка метода истории философии как метатеории сознания осуществлялась М. на различном материале. Так, работа "Формы и содержание мышления" посвящена критике гегелевской теории познания и гегелевского метода истории (оппозиция гегельянству являлась общей установкой участников логического кружка). Вместе с тем, кантовская априорная форма, гегелевская содержательная форма рассматриваются М. в ней как методологические структуры мышления, посредством которых разрешались реальные гносеологические проблемы классической философии. Эта книга особенно важна в плане понимания последующих работ философа, поскольку категория "формы" занимает в них фактически одно из центральных мест. В дальнейшем под "формой" вообще М. понимал некоторую генеративную структуру или "орган" мысли, познания, культуры. Имея некоторое обобщенное, но вместе с тем до конца аналитически не прослеживаемое содержание, "форма" всегда предполагает некоторую неопределенность, преодолеваемую только в экземплифицированных актах сознания. Доопределяемое в актах сознания конкретное содержание формы всегда исторично и в этом смысле случайно, однако сама форма не сводима к этим содержаниям, поскольку обладает по отношению к ним порождающей функцией. Форма, по М., - это порождающая конструкция мыслей, смыслов, переживаний, человеческих состояний вообще. Это своеобразная искусственная приставка к естественным способностям человека и "машина", производящая предельные человеческие состояния. В 1960-х М. обращается к анализу сознания в работах Маркса, в ходе которого он показывает, что политэкономическая теория Маркса имплицитно содержит неклассическую концепцию сознания. Марксовы абстракции "практики", "превращенной формы", "идеологии", "надстройки" существенно трансформировали классическое поле онтологии и эпистемологии. М. показывает, как с помощью этих абстракций и особого метода мышления Маркс вышел за рамки рефлексивной конструкции самосознания, заданной Декартом и немецкими классиками. Особенно глубокую разработку у М. получает категория "превращенной формы". Эта категория указывает на те свойства и структуры сознания, которые не поддаются развертке на уровне актов рефлексии. Спецификой превращенной формы является действительно (а не в сознании наблюдателя) существующее извращение содержания или такая его переработка, при которой оно становится неузнаваемым прямо. В своих лекциях по античной философии, лекциях о Декарте ("Картезианские размышления") и Канте ("Кантианские вариации") М. анализирует аппарат философской мысли как язык "реальной философии", за которым стоят определенные феномены сознания и структуры мышления. С одной стороны, это всегда экземплифицированные акты сознания тех или иных мыслителей и философов, а с другой - акты, в которых выкристаллизовывались порождающие структуры европейского мышления. Теория припоминания Платона и его абстракция рациональной структуры вещи ("идея"), принцип cogito и теория непрерывного творения Декарта, априорные формы и принцип интеллигибельности Канта, Марксова концепция превращенных форм сознания и понятие "практики" - эти философские парадигмы, с точки зрения М., являясь определенной трактовкой феномена сознания, в значительной степени конституировали онтологическое поле философии и европейский тип рациональности. Отличия классического и неклассического типов рациональности становятся темой специальной работы философа. Область философских интересов М. не ограничивалась историей философии. Возможности исследования феномена сознания обсуждались им в рамках гносеологии, социальной философии, методологии психологии, на материале психоанализа и, наконец, на материале искусства. В лекциях о Прусте и его романе "В поисках утраченного времени" М. анализирует художественное произведение как "производящее произведение", в котором смыслы не предзаданы в авторском замысле, а устанавливаются по ходу создания самого произведения. Сама форма романа выступает здесь своеобразной "машиной", или "органом", сознания, позволяющей человеку отдать себе отчет в собственных чувствах и переживаниях, довести эти состояния до формы сознания. Исходную бытийную структуру сознания М. полагал символичной. Символ, в отличие от знака, не предполагает непосредственного референта, он указывает на бытийную структуру, а не на предметное содержание сознания. Символы - это своего рода "органы", или "орудия", сознания, структуры, изменяющие режимы сознательной жизни, то, с помощью чего организуются предельно когерированные состояния (например, символ смерти). Другим выделенным им принципом организации сознания является его иерархичность или полиструктурность. Сознание не гомогенно, его невозможно редуцировать к какой-то одной структуре. Различные структуры сознания накладываются друг на друга, переозначивают себя в семиотических процессах, а кроме того, еще и экранируются, т.е. проецируют себя на другие структуры как на экраны. Именно свойство экранирования создает иллюзию рефлексивной объективации сознания, когда вся сложная иерархическая структура сознания, включающая бытийно-символический уровень, процессы семиотизации и др., сводится к предметному содержанию. Вторичные структуры сознания, упаковывающие исходные структуры и несущие их в неузнаваемом, превращенном виде, становятся доступными для производства, технологизации, тиражирования, массовизации и т.д. Вместе с тем, ставшее массовым производство сознания создает опасность его фрагментаризации, разрыва с генеративными структурами. Ответственность интеллектуала, философа и ученого сегодня состоит в "обязательности формы", т.е. в постоянном усилии по выполнению полных и целостных актов мысли, воспроизводящих интеллигибельную форму мышления в целях воспроизводства и сохранения ее в культуре. Другой опасностью, которую обсуждал М. в последние годы, является антропологическая катастрофа, порождаемая разрушением интеллигибельных форм цивилизации, культуры, языка, онтологических структур сознания. М. рассматривал человека как некоторую возможность или потенциальность самоосуществления. Становление и самоосуществление человека в таком смысле невозможно вне интеллигибельного пространства, допускающего самореализацию, и вместе с тем, вне усилия самого человека по восстановлению достоверности сознания и усилия мысли на собственных основаниях. Ситуация антропологической катастрофы была описана М. с помощью принципа "трех К". Первые два "К": Картезий (установление достоверности знания и соразмерности человека миру в актах "Я есть", "Я могу"), Кант (принцип формальной интеллигибельности) задают онтологическую основу рациональности, а третье "К" (Кафка) - неописуемую ситуацию абсурда, когда при всех тех же знаках и предметных номинациях и наблюдаемости их натуральных референтов не выполняется все то, что задается первыми двумя принципами. Третье "К" порождает "зомби-ситуации", вполне человекоподобные, но в действительности для человека потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво. Продуктом их, в отличие от Homo sapiens, т.е. от знающего добро и зло, является "человек странный", "человек неописуемый". Проблема человеческого бытия, с точки зрения К-принципа, состоит в том, что ситуации, поддающиеся осмысленной оценке и решению (например, в терминах этики), не даны изначально, создание и воспроизводство таких ситуаций каждый раз требует человеческих усилий по осуществлению "актов мировой вместимости", относящихся к кантовским интеллигибилиям и декартовскому cogito ergo sum. Как философские идеи, так и политические взгляды М. (если народ пойдет за Гамсахурдия, я пойду против народа) не утратили своей остроты в современной культуре, - не случайно открытие в 2001 в Тбилиси памятника М. (работа Э.Неизвестного) вызвало идеологически окрашенные уличные столкновения. (См. также Сверх-Я.) А.Ю. Бабайцев МАНН (Mann) Томас (1875-1955) - немецкий писатель, работавший в жанре философского романа. За "Волшебную гору" М. в 1929 была присуждена Нобелевская премия. В 1933 М. был вынужден эмигрировать из Германии в Швейцарию, а в 1938 - в США. Основные произведения: "Будденброки" (т. 1- 2, 1901), "Тристан" (1903), "Волшебная гора" (1924), "Марио и волшебник" (1930), "Иосиф и его братья" (1933-1943), "Лотта в Веймаре" (1939), "Доктор Фаустус" (1947) и др. Вместе с Гессе М. является крупнейшим представителем немецкого философского романа, в котором тесно переплетается литература с философией. [Единственное отличие философии, как литературного жанра, от такого романа состоит в форме изображения "истории идеи". Если в философском трактате экспликация и разворачивание идеи всецело подчинены форме выражения абстрактной мысли, то в немецком философском романе раскрытие идеи отображается человеческим характером, его судьбой, его конкретными экзистенциальными переживаниями и размышлениями. Первой переходной ступенью между чистой литературой и чистой философией можно назвать произведения Ницше. Он первым стал рассматривать идею как своеобразную коммуникативную ситуацию, например, в "Так говорил Заратустра" идеи ("старые ценности", "новые ценности", "вечное возвращение", "сверхчеловек", "последний человек" и т.д.) - это конкретные встречи, диалог с вещами и людьми Заратустры. В соответствии уже только с этим, основоположником жанра немецкого философского романа, его провозвестником можно смело считать Ницше.] Именно поэтому М. и Гессе непосредственно обращаются к творческому наследию этого философа, хотя идейное наследие, имплицитно отразившееся у М., скорее принадлежит Канту, а у Гессе - Гегелю. Как же оказалось возможным такое совпадение мыслительного содержания литературы и философии? В свое время Гейне писал о том, что в Германии "философия стала национальным делом", при этом произошло совмещение теологического и философского знания: "со времен Лютера перестали различать истину теологическую и философскую". На выходе этого процесса, некогда заложенного протестантским движением, немецкая культура стала на удивление симметричной: одни феномены культуры могли быть с легкостью переведены на язык других феноменов. Представителем же, атомом этой культуры явился "немецкий человек", или, по словам того же Гейне, "абсолютный человек, в котором нераздельны дух и материя". Итак, своеобразие немецкого философского романа обусловлено уже самой возможностью перевода философии на язык литературы, которую предоставила постлютеровская культура. Принципиально общее мыслительное содержание с содержанием философии, такая же, по содержанию, экспликация и такое же разворачивание идей - это и есть узкий критерий выделения жанра чисто немецкого философского романа. Правомерность данного определения жанра можно подтвердить на примере интерпретации "Доктора Фаустуса" - центрального произведения М. В качестве поворотных моментов сюжета данного произведения автор использует, как прототип, действительно имевшие место события из биографии Ницше, даже выбор автором для главного героя, Адриана Леверкюна, призвания музыканта, а также связываемый М. с этим трагический конец героя, детерминированный философскими идеями Ницше. Под воздействием этих идей складывается общий характер произведения. Следуя утверждению Ницше, Манн соглашается с тем, что трагическая судьба есть оплотнившаяся в мифе музыка. "Способность музыки рождать миф... это как раз миф трагический, миф, говорящий языком аллегории о дионисийском познании, т.е. о таком познании эстетического закона, которое, уничтожая конкретных индивидов, растворяет нас в единой природе". Отсюда трагический конец Леверкюна, с учетом процитированной выше идеи, изначально закладывается в самом факте его призвания. Поэтапное раскрытие в нем музыкального таланта должно было сопровождаться становлением трагического мифа. Трагический характер мифа определяется тем, что в его истории фиксируется изоморфным образом замена старой "аполлоновской меры" (старого эстетического закона) на новую, - в итоге изображается "распад естества". Данная идея "самораспада естества", его самоизменения, идея перехода от одной "аполлоновской меры" через "дионисийское начало" к другой у позднего Ницше получила название "вечное возвращение". Итак, общее философско-эстетическое положение о единстве музыки, мифа и трагедии, почерпнутое из идей молодого Ницше, явилось основным мировоззренческим принципом "Доктора Фаустуса". Однако своеобразие немецкого философского романа заключается как раз в поверхностном значении произвольно выбранного общего положения, им детерминируется скорее литературная форма. Идеи Ницше только внешний контекст произведения, повлиявший исключительно на формальный характер сюжетной линии. Развитие основного ментального содержания образа главного героя увязывается Манном с тезисом, что "музыка" и "богословие" (в немецкой культуре богословием называлась философия, а философией - богословие), являются "родственными сферами". Этот тезис коррелирует с признанием ранним Ницше "таинственного единства немецкой музыки и немецкой философии". Музыкальное "образование" Леверкюна сопровождалось "образованием" философским, начала которого были посеяны еще его отцом. Прямая же связь леверкюновской музыки (ее реальный прототип - музыка Шенберга) и его теологических убеждений, его особой моральной позиции обнаруживается в университете, когда Леверкюн с особым интересом слушает лекции приват-доцента Шлепфуса. "Богословие этого мэтра больше напоминало "демонологию"... Он, если можно так выразиться, диалектически включал кощунственное отрицание в самое понятие божественного, преисподнюю - в эмпиреи, и признавал нечестивость неотъемлемым спутником святости, а святость - предметом неустанного сатанинского искушения, почти непреодолимым призывом к осквернению святыни". На этом этапе Леверкюн воплощает в себе идеал чистого разума (см. Трансцендентальный субъект), лекции Шлепфуса - пока только пример интеллектуальной игры; такая же игра - изучение, под руководством Кречмара, бетховенской композиции. Однако любое чистое сверхчеловеческое знание напоминает мудрость змеи-искусительницы, мудрость "маленькой приват-доцентки, за 6 тысяч лет до рождения Гегеля излагавшей всю гегелеву философию" (Гейне). В чем же заключается получившее впоследствии свое развитие особое теологическое убеждение Леверкюна? Для ответа на вопрос необходимо вспомнить одно противоречие этической системы Канта, вспомнить понятие радикального зла. Моральный закон выводится не из какого-либо предмета воли, а - в соответствии с кантовским требованием автономии морали - из самой "воли", т.е. из чистого сверхчеловеческого разума. По причине нравственной самотождественности идеального субъекта, все моральное поведение сводится исключительно к императиву, согласно которому необходимо поступать из максимы своей чистой воли так, чтобы она мыслилась для себя вечным законом. Ницше развивает мысль Канта следующим образом. - Всяческое долженствование, прививаемое от чего-то внешнего по отношению к воле, иначе говоря, как бы наследуемое от "Духа Тяжести", запечатлевает себя в тяжелых словах "добро" и "зло" и, отныне, должно быть заменено на положительное "хотение" идеального субъекта, который только и обладает действительным знанием (волением) добра и зла. Свобода "сверхчеловека" продуцирует из себя любую мораль и тем самым делает (благодаря императиву) из субъективного поступок необходимый. Данная свобода заключается в любви к самому себе, но эта любовь открывается перед миром лишь в качестве голого разума чистого субъекта, который принуждает быть "мыслимым всему сущему". Итак, тотальное доверие чистому разуму, чистой интеллектуальной игре таит в себе семя радикального зла, на что обратил внимание Кант. Ведь добродетель (следование императивам чистого разума) практически никогда не совпадает со счастьем. Между ощущением счастья и состоянием внутреннего бытия, достойным того, чтобы его испытать, зияет тьма, вдыхающая в мир всякое зло, поэтому выполнение требований долга всегда соприкасается с прямой зависимостью от природного стремления к счастью (от неморального мотива). Так изначальное отчуждение заслуженного воздаяния от морального поведения обращает автономию морали в автономию зла. Отсюда любое знание (от рождения несчастное) произрастает лишь в союзе со злой совестью (нежеланием быть счастливым): по словам Ницше, "для лучшего в Сверхчеловеке необходимо самое злое", ибо только "последние люди" могут лепетать о том, что они "открыли счастье". Леверкюн впервые "напустил" на себя радикальное зло, посетив публичный дом, куда его завел рассыльный, "здорово похожий на Шлепфуса". Этап интеллектуальных игр только подготовил Адриана, очистив его от всего человеческого. "Высокомерие духа болезненно столкнулось с бездушным инстинктом. Адриан не мог не вернуться туда, куда звал его обманщик". Другими словами, идеальный субъект (Цейтблом, автор повествования, называет Леверкюна чуть ли не святым) сталкивается с животным желанием быть счастливым, впервые он сталкивается с неморальным мотивом, чтобы навсегда затем оттолкнуть его от себя. Но теперь, идя на поводу этого мотива, он разыскивает "Эсмеральду" и, отклоняя ее же предостережения, заболевает венерическим менингитом. Так Леверкюн получает "хмельную инъекцию", нарушая субординацию между моральными и неморальными мотивами, радикальное зло ("союз с дьяволом") полностью овладевает душой и телом Адриана. По определению Канта, если субъект принимает неморальные мотивы ("мотивы чувственности") в свою максиму как сами по себе достаточные для определения произвола (позитивного хотения чистой воли), не обращая внимания на моральный закон, существующей в нем, то он будет радикально злым. Нарушение субординации мотивов, при котором неморальный мотив делается условием мотива морального и выражает состояние такого радикального зла. Отныне у Леверкюна переворачиваются все ценности, "целомудрие теперь идет не от этики чистоты, а от патетики скверны". - "Тот, кому от природы дано якшаться с искусителем, всегда не в ладу с людскими чувствами, его всегда подмывает смеяться, когда другие плачут, и плакать, когда они смеются". Дьявол запретил Леверкюну то, что не является ни моральным, ни неморальным мотивом. Благодаря этому чувству Адриан мог бы из ледяного чистого субъекта вновь стать человеком, в этом случае радикальное зло должно было бы его оставить. Итак, по М., радикальное зло пребывает там, где действует идеальный субъект. Осознание этого тезиса и явилось теологическим убеждением Леверкюна. Именно этот тезис оказался ключевым для понимания феномена леверкюновской музыки, ее "квазицерковный", "культовый" характер специфическое отражение извращенной субординации радикально злой воли. Музыкальные произведения "Чудеса Вселенной", "Apocalypsis cum figurus", "Плач доктора Фаустуса" - все это яркие свидетельства "союза с дьяволом". Например, в "Апокалипсисе" диссонанс выражает все высшее, благочестивое, духовное, тогда как гармоническое - мир ада, толкуемый как мир банальности и общепринятости (такое же толкование добра и зла как "тяжелых слов" у Ницше). Музыка Леверкюна соединяет "кровавое варварство" с "бескровной интеллектуальностью", т.е. постоянно вводит в горизонт чистого субъекта неправильно субординированные неморальные мотивы. Жизнь Леверкюна М., устами Цейтблома, называет "обобщением отечественного национального опыта". Любопытно, что дьявол говорит о себе как о "природном немце" с характером космополита. Только немцы обладают божественно глубоким содержанием и дьявольски точной формой одновременно. "У европейцев есть форма, у русских - содержание, а у немцев - и то, и другое", говорит один из героев произведения. Особый параллелизм судьбы Германии в период Второй мировой войны и творческой жизни Леверкюна не случаен. ("Фаустовская воля к власти", т.е. радикальное зло немецкой культуры, - это, по Шпенглеру, страшная "воля к мировому господству в военном, хозяйственном и интеллектуальном смысле".) Идея "немецкой Европы", проистекающая из лекверкюнова "одиночества", сверхчеловеческого интеллектуализма немецкого духа, есть особым образом трактуемый "космополитизм", а именно - желание слиться с Европой через ее подчинение - это как раз тот "космополитизм", который приписывает себе с долей иронии дьявол и который относится к Леверкюну. Трагический конец Адриана следует интерпретировать, исходя из параллели, - с точки зрения поражения Германии в войне. "Все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла". Рациональное утверждение, что власть должна принадлежать "целому" или, другими словами, что противоположностью буржуазной культуре и ее сменой является коллектив, не способно приносить плоды, т.к. в одночасье рожденный радикально злой идеальный субъект обречен на исчезновение. В "Докторе Фаустусе", кстати, идею о высшей миссии "коллектива" с явно национал-социалистическим смыслом поддерживают, помимо Леверкюна, также Фоглер, Унруэ, Хольцшуэр, Брейзахер и др. - "люди науки, ученые, профессора". Итак, фаустовская тема как тема радикального зла представляет собой основную идею, которую эксплицирует и разворачивает М. в "Докторе Фаустусе". Вся постлютеровская немецкая культура это монолит трансцендентальной сверхфилософии и трансцендентальной сверхкультуры, необозримое сооружение которого открывается в фаустовской теме М. А.Н. Шуман МАНХЕЙМ (Mannheim) Карл (1893-1947) - немецкий социолог и философ. Учился в университетах Будапешта, Фрейбурга, Гейдельберга, Парижа. В 1919 эмигрировал из Венгрии в Германию. С 1925 - приват-доцент философии в Гейдельбергском университете. С 1929 - профессор социологии и национальной экономики в университете Франкфурта-на-Майне. В 1933 эмигрировал в Великобританию, профессор Лондонской экономической школы. С 1941 - в Институте образования при Лондонском университете, в котором в 1945 стал профессором педагогики. Незадолго до смерти возглавил один из отделов ЮНЕСКО. Инициатор и редактор "Международной библиотеки по социологии и социальной реконструкции". Основные работы: "Историцизм" (1924); "Проблема социологии знания" (1925); "Идеология и утопия. Введение в социологию знания" (1929); "Человек и общество в эпоху преобразования" (1935); "Диагноз нашего времени" (1943); "Свобода, власть и демократическое планирование" (1950); "Система социологии" (1959); "Эссе о социологии и культуре" (1956) и др. Ориентируясь на создание синтетической концепции знания, М. был знатоком современных ему философских и социологических идей, многие из которых органически использовал в своем творчестве (прежде всего это относится к неокантианству, феноменологии и марксизму). Отмечается непосредственное влияние на М. со стороны Лукача, Э. Ласка, Риккерта, Гуссерля, М. Вебера, Шелера. Резкое неприятие у М. встретили натуралистическая установка и методологические принципы позитивизма, а критическому разбору у него подверглись практически все эпистемологические концепции и ориентации общественно-политической мысли (либерализм, консерватизм, социализм, фашизм, коммунизм). Специально занимался анализом религиозного (христианского в целом, анабаптистского - в особенности) сознания. В целом творчество М. носит достаточно цельный характер, но отмечено изменением (существенным) акцентов, которое произошло в эмигрантский период его жизни. С проблем собственно социологии знания его внимание перемещается на диагностику европейской социокультурной ситуации. Кроме того, в этот период М. активно занимался проблемами культуры и образования. Концепция М. может быть определена как культурологическая методология с предельно широкой сферой возможных аппликаций. Культурно-исторические эпохи отличаются, согласно М., кроме прочего, наличием жизненных доминант, определяющих общий их стиль и господствующие в них "стили мышления" ("мыслительные позиции"). В этом отношении современная эпоха, по М., - эпоха кризисная. По отношению к ней можно говорить об исчезновении единого интеллектуального мира с фиксированными и доминирующими ценностями и нормами. Более того, за рационально организованным мышлением обнаружилась его подоснова - "коллективное бессознательное". Обнаружилась несостоятельность одной из основных абстракций европейской культуры - наличие внеисторического субъекта познания, мыслящего "с точки зрения вечности", т.е. внешнего беспристрастного и объективного наблюдателя, выносящего окончательные истинные оценки. Мир, по М., - это мир разных частных интересов, разных типов и стилей мышления, требующих своего выражения в системах взглядов и претендующих на статус "единственно верных". Знание оказывается контекстуально и социально, а в конечном итоге - культурно обусловленным. История мысли у М. - это история столкновения классовых, групповых и иных миросозерцаний, стремящихся себя рационально оформить. Следовательно, необходимо различать различные когнитивные системы по механизмам их социального обусловливания. Если за естествознанием и математикой еще можно признать статус объективного знания, то знание социогуманитарное, по М., не может быть адекватно проанализировано без учета его социальной детерминации. В общекультурной же рамке обнаруживается обусловленность любого знания: его параметры зависят от занятой в социокультурном пространстве позиции, заданного видения ("перспективы"). Анализ возможных "перспектив" и их соотношения между собой - задача социологии знания. Однако научное знание, по мысли М., - не единственное духовное образование, продуцируемое в обществе. Следует выделять особые системы взглядов, которые обозначаются терминами "идеология" и "утопия" (по сути - негативный вариант той же идеологии). Изначальный критерий их выделения - непризнание тех или иных систем взглядов в качестве беспристрастных, оценка их как ангажированных и противопоставление им иной системы идей. Они не являются "диагнозами" ситуации, а, согласно М., "запускают" определенные системы деятельности. Идеология выражает такое состояние сознания, когда правящие группы в своем мышлении могут быть настолько сильно привязаны посредством интересов к определенной ситуации, что они просто не способны видеть те факты, которые могли бы подорвать их господство. Утопия же фиксирует то, что "определенные угнетенные группы столь сильно заинтересованы в разрушении и трансформации данных условий общества, что они помимо своей воли видят только те элементы в ситуации, которые имеют тенденцию отрицать ее". Любая идеология есть апология, она ориентирована на сохранение сложившегося статус-кво. Именно в этом ей противостоит утопия, ориентированная на будущее, на занятие доминантной позиции в обществе той группой, интересы которой в ней (утопии) представлены. Приход такой группы во власть превращает утопию в идеологию. М. различает два типа идеологий. Партикулярные идеологии отражают интересы отдельных человеческих сообществ с их специфическими интересами. Они представляют собой сознательные или несознаваемые фальсификации действительности, основанные на селекции нужных информационных фрагментов. Адекватное их понимание требует знания психологических механизмов коллективных действий и представлений. Тотальные идеологии предзадаются сложившейся социальной системой, естественно складывающейся расстановкой социальных сил и удерживаются общей рамкой культуры. Они синтезируют и представляют целостное видение перспектив и обеспечиваются соответствующим понятийным аппаратом, способами мышления (аналитическими или мифологическими), моделями (схемами) мышления, требованиями к степени конкретизации видения (универсализм или эмпиризм), онтологическим обоснованием (возможные способы существования и структурирования). В этом отношении они - предмет социологии знания. Конечная задача последней - через критическую работу по обнаружению различных идеологических искажений знания - реализовать позитивную задачу. Суть последней - удержав многообразие равноправных и правомерных перспектив (их "реляционность") - осуществить когнитивный синтез. Реализовать его (и то лишь потенциально) способна единственная, не вплетенная жестко в сеть социальных интересов и ресурсно (информационно) обеспеченная для решения подобной задачи, социальная группа - интеллигенция ("социально свободно парящие интеллектуалы"). Синтез предполагает и наличие реальных механизмов в обществе, позволяющих находить балланс интересов. Однако кризис системы традиционных западных демократических ценностей при отсутствии общекультурной доминанты разрушил, по М., этот складывавшийся баланс. Противостоять полной ценностной дезинтеграции (анархии) и в то же время не впасть в другую крайность - обеспечения интеграции ценностей через тотальную регламентацию (диктатуру) - в современном обществе можно, согласно М., лишь на основе внедрения социальных технологий, направленных на поддержание "достаточного уровня" рефлексии (критического сознания) и предполагающих целенаправленность организационных усилий для реализации этой цели. В.Л. Абушенко МАРБУРГСКАЯ ШКОЛА НЕОКАНТИАНСТВА - направление в русле неокантианства, предпринявшее попытку трансцендентально-логической интерпретации учения Канта. Свое название получила от имени города, в университете которого начал свою деятельность основатель школы - Коген, сплотивший вокруг себя группу последователей и единомышленников (Наторп, Кассирер и др.). Как и Кант, представители М.Ш. стремятся объяснить возможность научного знания (математического естествознания, главным образом) и обосновать его общезначимость. При этом их не устраивает широко распространенная в то время благодаря Ф. Ланге психо-физиологическая интерпретация кантовского трансцендентального субъекта, исходящая из его специфической структурной организации, тождественность которой якобы и обусловливает общезначимость научной картины мира. М.Ш. делает решающий акцент на само научное знание, существующее в форме математического естествознания, а в качестве решающей задачи философии провозглашает поиск логических оснований и предпосылок этого знания. Путь решения данной задачи идет, т.обр., от самого факта научного знания к его объективно-логическим предпосылкам. Аналогичная тенденция имела место уже в теоретической философии (трансцендентальной логике) Канта. Суть ее выражал сам трансцендентальный метод Канта. От факта научного знания он шел к выявлению его логических условий и предпосылок, в роли которых у него выступали априорные, присущие самой мысли логические основания, осуществлявшие синтез всего многообразия ощущений. В результате этого синтеза и получалась т.наз. картина природы как единственно возможная, т.е. построенная математическим естествознанием. Поэтому в качестве своей задачи Кант и ставил осуществление трансцендентальной дедукции этих априорно-логических форм - чистых понятий или категорий, которая доказывала бы, что они являются необходимым и достаточным логическим условием математического естествознания и природы вообще. Считая трансцендентальный метод наиболее сильной стороной ортодоксального кантианства, марбуржцы в то же время осознают, что не все части данного учения являются чистым выражением этого метода (имеются в виду субъективный характер кантовского трансцендентализма, когда предпосылки научного знания оказываются тесно связанными с организацией сознания познающего субъекта, а также метафизический принцип о реально-объективном существовании "вещей в себе"). Представители М.Ш. стремятся поэтому очистить трансцендентальный метод Канта от психологического и метафизического моментов и утвердить его в чисто логической форме. С этой целью они требовали, подобно Канту, для всякого философского положения какого-нибудь "трансцендентального" обоснования или оправдания. Это означает, что ничто не может быть принято просто как нечто данное, а должно быть сведено к имеющимся налицо исторически доказуемым фактам науки, этики, искусства, религии и т.д., т.е. культуры и всей ее творческой работы, в процессе которой человек строит себя и объективирует свою сущность. Более того, трансцендентальное обоснование предполагает, что такое объективирование не есть процесс произвольный; основой всякой работы объективирования является закон логоса, разума, ratio. Если установлены факты науки нравственности и т.п., то рядом с ними "должно быть доказано само основание их "возможности", и вместе с тем это должно быть "правовое основание" (Наторп). Необходимо, т.о., показать и сформулировать в чистом виде законосообразное основание, единство логоса во всякой творческой работе культуры, что в конечном счете означает сведение всех этих фактов к последней единой основе и источнику всякого познания, в роли которого у марбуржцев выступает само мышление. Методом философии, с этой точки зрения, становится творческая работа созидания культуры и вместе с тем познание этой работы в ее чистом законном основании и обоснование ее в этом познании. В деле оправдания научного знания марбуржцы идут даже дальше своего учителя, так как стремятся найти априорные логические основания всей человеческой культуры, включающей в себя, по их мнению, и познание природы, и морально-эстетические, и религиозные принципы. Другое дело, что все эти области культуры они жестко связывают с определенными науками, поэтому и сами логические основания культуры оказываются в конечном счете сведены опять-таки к основаниям науки. Таким образом, философия становится логикой всего культурного творчества человечества, логикой, которая, по словам Наторпа, "должна установить единство человеческих познаний через выяснение того общего последнего фундамента, на который все они опираются". В самой же этой логике доминирующее влияние приобретает "логика чистого познания", исследующая основания истинной объективированной науки, ее логическую структуру. Проблема поиска логической структуры науки оказывается тесно связанной у марбуржцев с обоснованием единого источника познания. Предполагается, что как бы ни отличались друг от друга научные дисциплины, их логическая структура, в принципе, должна быть тождественной, что, по Когену, является выражением систематического единства науки. Цель философии конкретизируется теперь следующим образом - установить и обосновать внутреннее систематическое единство знания через построение так называемой логики чистого познания, предметом которой (как собственно и философии в целом) становится вся система существенных закономерностей познания или чистое познание, осуществляемое трансцендентальным субъектом. Оно ограничивается исключительно сферой самого мышления, которое провозглашается началом всякого познания, а потому ничто не может и не должно попасть в него извне. Так, принцип внутреннего систематического единства задал тон всей последующей исследовательской работе М.Ш., обусловливая трансформацию ортодоксальной кантовской трактовки "вещи в себе", данности, ощущения, а также всю последующую реконструкцию процесса "построения предмета чистой мыслью", являющую собой яркий образец т.н. беспредпосылочной гносеологической философии. Кантовская вещь в себе теряет свою метафизическую основу, и хотя два неразрывно связанные между собой ее признака - объективность и полная независимость от сферы субъективного бытия - и здесь остаются неизменными, они ассоциируются у марбуржцев с искомым, вечным идеалом философии и науки - знанием, которое целиком складывается из определений самого объекта и не заключает в себе никаких посторонних субъективных элементов. В этом смысле "вещь в себе" превращается в объективную сторону регулятивной идеи разума, идею завершенной системы науки, что явно лежит за пределами эмпирического познания как трансцендентная цель, которая, хотя и направляет процесс познания, никогда не входит в его состав, оставаясь всегда заданным, пограничным понятием, с каждым шагом познания отодвигающимся вдаль, а потому его (познания) недостижимым идеалом. Так как чистое познание, по марбуржцам, может иметь дело только с тем, что оно само же и производит, то его предмет может быть только продуктом деятельности самого мышления. В этом смысле предмет познания трактуется в качестве своеобразной цели, результата познания, который, в принципе, не может быть данным. Он задан в качестве своеобразной проблемы, задачи, выдвигаемой опять же самим мышлением. Сутью процесса познания становится, т.о., решение этой задачи, где неизвестное - X, проблема - служит лишь импульсом для развертывания мышления, но не представляет собой никакого содержания. Так, параллельно с решением проблем "вещи в себе" и данности осуществляется своеобразная трансформация кантовского понятия ощущения, которое из основы познания превращается в форму самой же чистой мысли в виде неопределенного стремления, знака вопроса, проблемы, которая ставится и разрешается все тем же мышлением. Войдя, таким образом, в чистое познание в качестве вопроса, оно перестает быть противопоставленным мышлению фактором; более того, ощущение превращается в мышление, благодаря чему марбуржцы сохраняют единство происхождения знания и снимают противоречие двух уровней познания. Так процесс познания превращается в их философии в автономный, совершенно самостоятельный и бесконечно саморазвивающийся процесс построения предмета чистой мыслью. Чистая мысль с ее априорными принципами становится единственным источником познания, его первоначалом, причем и по форме, и по содержанию, так как она не только ничего не черпает извне, но и сама задает свой предмет познания. Мысль сама создает свой материал, а не обрабатывает материал, данный чувствами извне... все имеет свое начало и конец в мысли. Остается, таким образом, чистое мышление, которое в процессе познания конструирует свой предмет; знание и предмет познания становятся здесь тождественны. Сущность мышления состоит в построении предмета; это, по словам Когена, мышление, конструирующее предметы и само протекающее в форме предметов. Отрицая традиционное представление о данности, М.Ш. считает главным принципом деятельности чистого мышления не аналитическую переработку заранее данного вещного содержания, а связь, взаимное проникновение логических актов объединения и расчленения, синтеза и анализа, непрерывность переходов от одного акта к другому, в процессе чего и создается единство предмета и многообразие его определений. Эта т.н. связь-синтез представляет собой как бы начало, лежащее в основе мышления. По словам Наторпа, Коген "выковал" для него специальное понятие - Ursprung - нечто вроде первоначала древних философов (только в гносеологическом смысле). Универсальную модель такого "первоначала" марбуржцы усматривают в заимствованном из математики понятии бесконечно малой величины, в которой им видится своеобразное единство логической единицы мышления и элементарного "атома" бытия. Именно в этой точке соприкосновения мышления и бытия, не имеющей пока никакой определенности, и начинает формироваться мысленный объект как предмет познания, который постепенно определяется в серии актов категориального синтеза, протекающего по априорным законам мышления. Построенный таким образом предмет познания всегда остается незавершенным, ибо каждый синтез открывает бесконечные возможности для всех последующих, а сам процесс познания предмета выглядит как бесконечный процесс становления этого предмета. Речь здесь, разумеется, идет о не о созидании мышлением реального предмета объективной действительности, существующего вне и независимо от сознания (на манер гегельянства), а о конструировании человеческим мышлением науки в лице математического естествознания, бытия, как предмета этой науки, ее действительности и т.п. А эту действительность во многом созидает именно само научное мышление, которое всегда знает действительность науки такой, какой оно же ее и создало. Только в этом чисто гносеологическом смысле и следует трактовать сакраментальную фразу Когена о том, что подлинная действительность содержится лишь в науке, "напечатанных книгах". Это означает, что наука (соответствующая ей картина действительности) создается чистым мышлением. Что же касается объективного, реального мира и т.п., то логику все это вообще не должно волновать, ибо она, по марбуржцам, имеет дело лишь с познанием, осуществляемым в науке, с духом научности и т.д. Процесс построения предмета чистой мыслью - это, таким образом, построение мира, природы, как они построены наукой. Создав модель беспредпосылочной гносеологии, опирающейся исключительно на логически необходимые положения самого объективного знания, вне его связи с предметами объективного мира и социокультурной деятельностью людей, марбуржцы сумели выявить целый ряд существенных закономерностей функционирования научного знания, объяснить его систематичную связанность, целостность и т.д., оказав тем самым влияние на дальнейшее развитие науки и философии, хотя такая ориентация философии только на факт науки оказалась явно недостаточной для обоснования истинности научного знания, так как при решении этой проблемы была акцентирована гл. о. чисто формальная сторона дела, что привело к полному забвению содержательного момента. Работы основных представителей М.Ш. показывают их явную неудовлетворенность достигнутыми результатами, свидетельством чему служат более поздние попытки как Когена, так и Наторпа отыскать некий безусловный принцип оправдания науки. Эти поиски переносят философов из области теоретической философии и гносеологии сначала в область морали с ее регулятивной идеей блага, а затем и к запредельному опыту - сфере надприродного, метафизического абсолюта. Т.Г. Румянцева МАРГИНАЛЬНОСТЬ (лат. margo - край, граница) - понятие, традиционно используемое в социальной философии и социологии для анализа пограничного положения личности по отношению к какой-либо социальной общности, накладывающего при этом определенный отпечаток на ее психику и образ жизни. Категория М. была введена американским социологом Р.Парком с целью выявления социально-психологических последствий неадаптации мигрантов к условиям городской среды. В ситуации М. оказываются так называемые "культурные гибриды", балансирующие между доминирующей в обществе группой, полностью никогда их не принимающей, и группой, из которой они выделились. Философское понятие М. характеризует специфичность различных культурных феноменов, часто асоциальных или антисоциальных, развивающихся вне доминирующих в ту или иную эпоху правил рациональности, не вписывающихся в современную им господствующую парадигму мышления и, тем самым, довольно часто обнажающих противоречия и парадоксы магистрального направления развития культуры. К представителям культурной М. принято относить таких мыслителей как Ницше, маркиз де Сад, Л.фон Захер-Мазох, Арто, Батай, С.Малларме и др. Проблема культурной М. приобретает особое значение в философии постструктурализма и постмодернизма ("шизоанализ" Делеза и Гваттари, "генеалогия власти" Фуко, "деконструкция" Деррида и т.д.). Интерес к феномену М. обострил французский структурализм, использовавший понятия "маргинальный субъект", "маргинальное пространство", "маргинальное существование", возникающие в "просвете", "зазоре" между структурами и обнаруживающие свою пограничную природу при любом изменении, сдвиге или взаимопереходе структур. Однако их функция в синхроничной перспективе бинарных оппозиций минимальна, ибо их присутствие, а точнее заполнение пространства между последними является лишь индикатором нормального функционирования структурно упорядоченного универсума. В постструктурализме понятие М. претерпевает значительные изменения, подрывающие его самотождественность. Благодаря идее децентрации Деррида, не просто меняющей местами привилегированный и подчиненный объекты, а уничтожающей саму идею первичности, отстаивающей идею "различения", "инаковости", сосуществования множества не тождественных друг другу, но вполне равноправных инстанций, традиционное разграничение значимого и незначимого, обоснованного и эпифеноменального снимаются. Отсутствие центра структуры (по Деррида, мысль о структуре исключает мысль о центре) предполагает отсутствие и главного, трансцендентального априорного означаемого. Уничтожается также представление об абсолютном смысле. С исчезновением "центра", являвшегося средоточением и символом власти, исчезает и понятие господствующей, доминантной "высокой" культуры (эта установка "доминирует" в постмодернистском искусстве). Режим "деспотического означающего" уступает место принципу детерриториализации, в результате чего изменяется маргинальное положение "носителя желания" в территориализованном пространстве. Наиболее адекватно передает новый образ постмодернистского пространства понятие "ризома". Для Барта М. синонимична стремлению к новому на пути отрицания всевозможных культурных стереотипов и запретов, унифицирующих власть всеобщности, "безразличия" над единичностью и уникальностью, легитимации наслаждения и удовольствия, реабилитации культурной традицией субъекта желания, - и является важным моментом в борьбе с тиранией дискурса власти. Фуко полагает, что невозможно рассуждать о подлинной М. в рамках бинарной оппозиции, ибо идентифицировать ее как таковую можно лишь в отсутствии всякой нормы и авторитарного образца. Так, анализируя антитезу нормапатология и структуру властных отношений, он показывает, что аутсайдеры, "социальное дно", психически больные, иначе говоря, все девианты, не являются маргиналами в собственном смысле слова, поскольку их существование обусловлено наличием нормы, а опыт маргинального существования не может быть вписан внутрь институциональных стратегий. Таким образом, в плюралистичном, ризомном постмодернистском мире стираются границы структур, а маргинальное пространство, существующее вне этих структур, но между их границами, меняет свой пограничный статус, размывая семантику М. и утрачивая специфику своего паракультурного функционирования. А.Р. Усманова МАРИНЕТТИ (Marinetti) Филиппо Томмазо (1876- 1944) - итальянский поэт и писатель; основоположник, вождь и теоретик футуризма. Испытал влияние Бергсона, Кро-че и Ницше (в упрощенно-редуцированном варианте культурного функционирования их идей в массовом сознании); на уровне самооценки генетически возводил свою трактовку культуры и искусства к Данте и Э.По. Автор романа "Мафарка-футурист" (1910), сборника стихов "Зангтум-тум" (1914) и основополагающих манифестов футуризма: "Первый манифест футуризма" (1909, опубликован в "Фигаро"; по оценке М. вызванного им резонанса, "бешеной пулей просвистел над всей литературой"), "Убьем лунный свет" (1909), "Футуристический манифест по поводу Итало-Турецкой войны" (1911), "Технический манифест футуристской литературы" (1912), "Программа футуристской политики" (1913, совместно с У.Боччони и др.), "Великолепные геометрии и механики и новое численное восприятие" (1914), "Новая футуристическая живопись" (1930) и др. В 1909-1911 выступил организатором футуристических групп и массовых выступлений сторонников футуризма по всей Италии. Идейный вдохновитель создания практически всех манифестов футуризма, подписанных различными художниками, скульпторами, архитекторами, поэтами, музыкантами и др. В целях пропаганды футуризма посещал различные страны, в том числе - и Россию (1910, 1914). В отличие от экспрессионизма и кубизма, эмоционально локализующихся на "минорном регистре восприятия нового века", футуризм характеризуется предельным социальным оптимизмом, мажорным восприятием нового как будущего (по оценке М., "конец века" есть "начало нового"). В этой связи вдохновленный М. программный "Манифест футуристической живописи" 1910 (У.Боччони, Дж.Северини, К.Карра, Л.Руссоло, Дж.Балла) формулирует цель футуристического движения как тотальное новаторство: "нужно вымести все уже использованные сюжеты, чтобы выразить нашу вихревую жизнь стали, гордости, лихорадки и быстроты". Вектор отрицания предшествующей традиции эксплицируется в футуризме в принципах антиэстетизма и антифилософизма, артикулируя само движение как антикультурное: по словам М., "мы хотим разрушить музеи, библиотеки, сражаться с морализмом". Радикальное неприятие М. культурного наследия ("музеи и кладбища! Их не отличить друг от друга - мрачные скопища никому не известных и неразличимых трупов") конституирует в его программе не только общенигилистическую установку и экстраполирование пафоса обновления на позитивную оценку войны как "естественной гигиены мира" (агитировал за вступление Италии в Первую мировую войну и сам ушел добровольцем на фронт), но и идею "великого футуристического смеха", который "омолодит лицо мира" (ср. с тезисом Маркса о том, что "смеясь, человечество прощается со своим прошлым"; статусом смеха у Кафки; живописным воплощением аллегории смеха в художественной практике футуризма: например, "Смех" УБоччони). В означенном аксиологическом русле М. предлагает упразднить театр, заменив его мюзик-холлом, который противопоставляет морализму и психологизму классического театра "сумасброднофизическое"; в рамках этого же ценностного вектора футуризма формируется его программная установка на примитивизм как парадигму изобразительной техники (краски "краааасные, которые криииичат"), а также педалированная интенция М. на шокирующий эпатаж (известные формулировки: "без агрессии нет шедевра", следует "плевать на алтарь искусства" и т.п.). Продолжая линию дадаизма (см. Дадаизм), М. выдвигал идею освобождения сознания от логико-языкового диктата: "нужно восстать против слов", что возможно лишь посредством освобождения самих слов от выраженной в синтаксисе логики ("заговорим свободными словами"), ибо "старый синтаксис, отказанный нам еще Гомером, беспомощен и нелеп". - "Слова на свободе" М. (ср. со "словом-новшеством" в русском кубо-футуризме: Крученых и др.) - это слова, выпущенные "из клетки фразы-периода. Как у всякого придурка, у этой фразы есть крепкая голова, живот, ноги и две плоские ступни. Так еще можно разве что ходить, даже бежать, но тут же, запыхавшись, остановиться... А крыльев у нее не будет никогда". Следовательно, по М., необходимо уничтожение синтаксиса ("ставить" слова, "как они приходят на ум") и пунктуации ("сплетать образы нужно беспорядочно и вразнобой", забрасывая "частый невод ассоциаций... в темную пучину жизни" и не давая ему зацепиться "за рифы логики"). Согласно М., именно логика стоит между человеком и бытием, делая невозможной их гармонизацию; в силу этого, как только "поэт-освободитель выпустит на свободу слова", он "проникнет в суть явлений", и тогда "не будет больше вражды и непонимания между людьми и окружающей действительностью". Под последней М. понимает, в первую очередь, техническое окружение, негативно воспринимаемое, по его оценке, в рациональности традиционного сознания: "в человеке засела непреодолимая неприязнь к железному мотору". А поскольку преодолеть эту неприязнь, по М., может "только интуиция, но не разум", - он выдвигает программу преодоления разума: "Врожденная интуиция - ...я хотел разбудить ее в вас и вызвать отвращение к разуму", - "вырвемся из насквозь прогнившей скорлупы Здравого Смысла", и тогда, "когда будет покончено с логикой, возникнет интуитивная психология материи". - Результатом отказа от стереотипов старой рациональности должно стать осознание того, что на смену "господства человека" настанет "век техники". Техническая утопия М. предполагает финальный и непротиворечивый синтез человека и машины, находящий свое аксиологическое выражение в оформлении новой мифологии ("на наших глазах рождается новый кентавр - человек на мотоцикле, - а первые ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов"). В этом контексте машина понимается М. как "нужнейшее удлинение человеческого тела" (ср. с базовой идеей философии техники о технической эволюции как процессе объективации в технике функций человеческих органов). В соотношении "человек - машина" примат отдается М. машине, что задает в футуризме программу антипсихологизма. По формулировке М., необходимо "полностью и окончательно освободить литературу от собственного "я" автора", "заменить психологию человека, отныне исчерпанную", ориентацией на постижение "души неживой материи" (т.е. техники): "сквозь нервное биение моторов услышать дыхание металлов, камня, дерева" (ср. с идеей выражения сущности объектов в позднем экспрессионизме). В этом аксиологическом пространстве оформляются: парадигмальные тезисы М. относительно основоположения нового "машинного искусства" ("горячий металл и... деревянный брусок волнуют нас теперь больше, чем улыбка и слезы женщины"); предложенная М. программа создания "механического человека в комплекте с запчастями", резко воспринятая традицией как воплощение антигуманизма; получившая широкий культурный резонанс и распространение идея человека как "штифтика" или "винтика" в общей системе целерационального взаимодействия, понятой М. по аналогии с отлаженной машиной - "единственной учительницей одновременности действий" (ср. с образом мегамашины у Мэмфорда), - в отличие от воплощающей внеморальную силу новизны выдающейся личности, персонифицирующейся у М. в образе вымышленного восточного деспота - Мафарки (роман "Мафарка-футурист"), представляющего собой профанированный вариант ницшеанского Заратустры - вне рафинированной рефлексивности и литературностилевого изыска Ницше. Парадигма нивелировки индивида как "штифтика" в механизме "всеобщего счастья" оказала влияние на формирование идеологии всех ранних базовых форм тоталитаризма от социализма до фашизма. В 1914-1919 М. сблизился с Б.Муссолини; с приходом фашизма к власти М. получает от дуче звание академика, а футуризм становится официальным художественным выражением итальянского фашизма (тезис М. о доминировании "слова Италия" над "словом Свобода"; "брутальные" портреты Муссолини авторства У.Боччони; нашумевшая картина Дж.Северини "Бронепоезд", воплощающая идею человека как "штифтика" в военной машине; программная переориентация позднего футуризма на идеалы социальной стабильности, конструктивной идеологии и отказа от "ниспровергания основ": см. у М. в манифесте 1930 - "одна лишь радость динамична и способна изображать новые формы"). М. оказал значительное влияние на становление модернистской концепции художественного творчества: его программа презентации "интуитивной психологии материи" в "лирике состояний" находит свое воплощение в рамках футуризма - в динамизме и дивизионизме Дж.Балла и У.Боччони и в симультанизме Дж.Северини, позднее - в программе "деланья вещей" в искусстве pop-art и в традиции "ready made"; программное требование М. "вслушиваться в пульс материи" инспирирует в авангарде "новой волны" линию arte povera, ориентированную на моделирование "естественных сред". Выступления М. против станковой живописи (в частности, высказанная им идея фресок, создаваемых с помощью проектора на облаках) фундирует собой эстетическую программу и художественную технику "невозможного искусства". М.А. Можейко МАРИТЕН (Maritain) Жак (1882-1973) - французский философ, крупнейший представитель неотомизма. Получил воспитание в духе либерального протестантизма, в юности испытал влияние социалистических идей. С 1899 изучал естествознание и философию в Сорбонне. С 1901 под влиянием философа Ш. Пеги переходит на позиции христианского социализма. После принятия католичества в 1906 М. - приверженец системы Фомы Аквинского. В 1914 М. становится профессором философии католического института в Париже. В 1919 он организует кружок по изучению томизма, просуществовавший до 1939. В заседаниях кружка участвовали Ж. Кокто, М. Жакоб, М. Шагал, И. Стравинский, Бердяев. В 1940 М. эмигрирует в США, где живет до 1945, являясь профессором Принстонского и Колумбийского университетов. С 1945 по 1948 он выполняет обязанности посла Франции в Ватикане, в 1948-1960 вновь преподает в Принстонском университете, а с 1960 безвыездно живет во Франции, занимаясь написанием философских произведений (с 1994 М. - профессор Католического института в Париже). На II Ватиканском соборе его философия получает признание в связи с обновленческой политикой Иоанна XXIII и Павла VI. Основные философские произведения: "Интегральный гуманизм" (1936), "Символ веры" (1941), "Краткий трактат о существовании и существующем" (1947), "О философии истории" (1957), "Философ во граде" (1960), "О милосердии и гуманности Иисуса" (1967), "О церкви Христовой" (1970). Согласно М., деструктивность философии Нового времени выступила причиной утери ценностного фундамента средневековой культуры. Вслед за Лютером, по мысли М., эту разрушительную линию продолжил Декарт, инициировавший акцентированный антропоцентризм, культ разума и ориентацию на манипулирование окружающей реальностью. Бэконовско-локковская традиция, согласно М., фундировала установки на нравственный релятивизм и стремление к получению прибыли любой ценой. Искаженная же трактовка Руссо "естественной природы" людей результировалась в успехе буржуазно-демократического эгалитаризма. Причисляя себя к представителям "вечной философии", в наиболее полном виде изложенной Фомой Аквинским, М. тем не менее не является адептом средневекового томизма, стремясь дополнить его рядом тезисов Фрейда, Бергсона, Сартра, Камю и др. Задача неотомистского варианта "вечной философии" состоит, по М., в том, чтобы принять вызов своего времени, осветить с католической точки зрения культурные, исторические и социально-политические феномены 20 в., дать ответы на жгучие вопросы, поставленные эпохой революций, мировых войн, технических свершений и научных открытий. Основная проблема Фомы Аквинского, проблема гармонии веры и знания, соотношения религии и философии, разрешается М. в связи с тем глубочайшим переворотом в познании и социальной жизни, который преподнес человечеству 20 в. Именно христианство, по М., внушило людям, что любовь стоит большего, чем интеллект, как бы он ни был развит. Христианство выразило естественное стремление человека к высшей свободе и его истинное предназначение, заключающееся в труде, служении ближнему, создании ценностей культуры, совершенствовании, милосердии и искуплении грехов. В основе онтологии М. лежит учение о различии между бытием, сущностью и существованием. Бог не творит сущностей, не придает им окончательного вида бытия, чтобы затем заставить их существовать, - по М., - Бог наделяет бытие свободой становления. Бог творит существующие (экзистенциальные) субъекты, которые свободно, в соответствии со своей индивидуальной природой, в своем действии и взаимодействии, образуют реальное бытие. Бог знает все вещи и всех существ изнутри, в качестве субъектов. Люди познают все сущее извне, превращая эти субъекты в объекты. Лишь одно существо в целом мире мы знаем как субъект - самих себя, свое собственное "я". Для каждого из нас "я" - это как бы центр Вселенной, и в то же время если бы меня не было, во Вселенной почти ничего бы не изменилось. Философия, конечно, познает в объектах субъекты, но она объясняет их в качестве объектов. Это и определяет границу, отделяющую мир философии от мира религии. Только религия входит в отношения субъектов к субъектам, постигает таинственное бытие объектов в качестве субъектов. М. критикует Гегеля за тоталитаризм разума, за попытку включения религии в философское знание. Он критикует и экзистенциализм за представление о радикальной абсурдности существования. Оперируя понятиями "экзистенция" и "свобода", экзистенциализм, по мнению М., не дает истинного понятия ни о том, ни о другом. Религиозное видение мира христианством показывает, что осмысление мира приходит не извне, а изнутри, что существование человека не абсурдно, а имеет глубинный смысл, исходящий из основ творения, из его субъектов, а не только из существующих объектов. Не правы поэтому и те экзистенциалисты, которые унижают разум перед лицом Создателя. Разум достаточно хорошо познает субъекты созидания мира через созданные объекты. Этим и обусловлены возможности философии, когда она мыслит во взаимодействии с религией. Отвергая марксову идею о роли философии как средства радикального изменения мира, М. выдвигает и обосновывает свою собственную концепцию роли философа "во граде", т.е. в обществе. Философия есть, по существу, незаинтересованная деятельность, ориентированная на истину, а не на утилитарную активность для овладения вещами и общественными процессами. И только поэтому философия выступает как одна из тех сил, которые способствуют движению истории. "Философ во граде" - это человек, который напоминает людям об истине и свободе. Преодолевая привязанность к интересам политических и социальных групп, философ требует возврата к независимой и непоколебимой истине. Даже когда философ заблуждается, он приносит пользу, свободно критикуя то, к чему привязаны современники. Становясь же властелином дум, философ не имеет права навязывать свои рецепты решения социальных проблем, чтобы не стать диктатором от идеологии. Все диктаторы ненавидят философов, поскольку последние раскрывают людям глаза на то, что общественное благо без свободы всего лишь идеологическая фикция. Прогресс опытных наук идет путем вытеснения одной теории, которая объясняла меньше фактов и познанных явлений, другой, которая обладает большей объяснительной силой. Прогресс метафизики идет главным образом путем углубления. Различные философские системы составляют в своей совокупности становящуюся философию, поддерживаемую всем тем истинным, что они несут в себе. Люди получают возможность свободно отбирать из противоположных доктрин то, что в наибольшей степени соответствует их стремлению к добру и, таким образом, строить свою жизнь на верной основе. Прогресс философии отражает те горизонты истины и свободы, которые предстают человеческой цивилизации и культуре на пути ее никогда не завершающегося развития. М. считает необходимым четко различать свободу человеческую и свободу божественную. На уровне социальных и политических проблем проявляет себя стремление к человеческой свободе, являющейся необходимой предпосылкой для свободы божественной. Человеческая свобода - это свобода выбора каждого человека, необходимая для расцвета личностей, составляющих народ и объединяющихся во имя его блага. Достижение такой свободы позволяет личностям обрести ту степень независимости, которая обеспечивает экономические гарантии народа и собственности, политические права, гражданские добродетели и духовную культуру. Воззрения М. на человеческую свободу положены в основу многих программ современной христианской демократии. Фашизм и коммунизм, по мнению философа, пытаясь искоренить из общества человеческую свободу, преследуют конечную цель в виде искоренения свободы божественной. Развитие буржуазного либерализма, открывая возможности для человеческой свободы, в то же время поощряют эгоизм и индивидуализм, препятствующий достижению божественной гуманности. Коммунизм является отчасти реакцией на этот индивидуализм, но, претендуя на абсолютное освобождение коллективного человека, он освобождает человека от его индивидуальной свободы. Перед лицом буржуазного либерализма, коммунизма и фашизма необходимо новое решение проблемы свободы, учитывающее не только человеческие, но и божественные ценности. Такое решение призвана осуществить выдвинутая М. концепция интегрального гуманизма. Интегральный гуманизм рассматривает человека в целостности его природного и сверхприродного бытия, а его свободу - как органическое единство человеческой и божественной составляющей. Благо человека связано не только с уровнем материальной жизни, но и с уровнем жизни духовной, с торжеством божественных ценностей - истины, добра, красоты, милосердия, взаимопомощи. Драма современных демократий как раз и состоит в неспособности замкнувшегося в себе индивида прийти к чему-то хорошему, к гармонии и расцвету личности, к ценностям справедливости и сотрудничества, которые провозглашаются конечными целями демократического развития. Осуществление идеи интегрального гуманизма ведет к становлению нового, более высокого типа демократии, основанного на торжестве христианских ценностей, преодолении классовых антагонизмов, расцвету культуры. По М., это не означает установления порядка, при котором исчезло бы все зло и всякая несправедливость. Работа христианина состоит не в осуществлении утопии, в чем-то похожей на коммунистическую, а в постоянном поддержании и усилении в мире внутреннего напряжения, медленно и болезненно ведущего к освобождению. Интегральный гуманизм, в понимании М., есть в значительной степени новый гуманизм, базирующийся на новом понимании христианства, на новом христианстве, уже не чисто сакральном, а секуляризованном, земном, соединившем в себе божеское и человеческое. Этот неогуманизм возникает и как ответ на вызов марксистского понимания истории и советского тоталитаризма, поставившего своей целью формирование нового человека и торжество так называемого социалистического гуманизма. Анализ М. глубоко вскрывает религиозную подоплеку коммунистической веры, показывает, что коммунизм является в своих истоках именно религией, относящейся к числу наиболее властных и догматических. Это атеистическая религия, в которой диалектический материализм представляет собой догматику и в которой коммунизм как режим жизни имеет этическое и социальное содержание. Интегральный гуманизм, по М., соединяет в себе и органически сочетает все истинно гуманное, что содержалось в предшествующих, односторонних типах гуманизма, и в то же время отбрасывает все негативное, бесчеловечное. Если марксистский гуманизм связан с представлением о конце истории после победы коммунизма во всемирном масштабе и созданием коммунистического рая, то интегральный гуманизм утверждает себя в реально продолжающемся историческом процессе, в котором постоянно существует проблема преодоления зла. Из социалистического гуманизма он берет веру в силу взаимопомощи, но отвергает механический коллективизм. Из буржуазного либерализма он заимствует понимание важности индивидуального развития, но не доводит его до апологии индивидуализма и эгоизма. Новый гуманизм не требует самопожертвования людей ради лучшей, более праведной жизни людей и их сообществ. Он не навязывает истории чего-то абсолютно нового, а призывает к обновлению человека в рамках возможного, с восстановлением ценностей, уже достигнутых в прошлом. Он стремится органично сочетать осторожное обновленчество с консерватизмом, с новым консерватизмом в политике, который позволяет восстанавливать утерянные в чем-то традиционные ценности и идеалы. Таковы, по М., практические итоги современного прочтения томизма как "вечной философии". Л.В. Кривицкий МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИН (Markus Aurelius Antoninus) (121-180) - римский консул (с 140), римский император династии Антонинов (161-180), философ, представитель позднего стоицизма. Автор сочинения "Наедине с собой. Размышления". Бог у М.А.А. - первооснова всего сущего, мировой разум, в котором после смерти тела растворяется всякое индивидуальное сознание. Вселенная - тесно связанное целое, единое, живое существо, обладающее единой субстанцией и единой душой. В центре антиматериалистического учения М.А.А. стоит частичное обладание человека своим телом, душой и духом. Носитель последних - благочестивая, мужественная и руководимая разумом личность - воспитатель чувства долга и обитель испытующей совести. Посредством духа всякий человек сопричастен божественному и тем самым создает идейную общность, преодолевающую все ограничения. Бог дает каждому человеку особого доброго гения в руководители. Этике М.А.А. был присущ фатализм, проповедь смирения и аскетизма: "Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним. Самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой. Ведь настоящее для всех равно, а следовательно, равны и потери - и сводятся они всегонавсего к мгновению. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею?" Вопреки собственному высокому положению в римском государстве М.А.А. стоически верил в человеческий род как единое сообщество: "Для меня, как Антонина, град и отечество - Рим, как человека мир. И только полезное этим двум градам есть благо для меня". А.А. Грицанов МАРКЕС Габриэль Гарсиа (р. 1928) - колумбийский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1982). Учился в иезуитской школе (Сан-Хосе, 1940-1942) и на юридическом факультете Национального университета в Боготе (1947-1950). Основные произведения: "Сто лет одиночества" (1967), "Осень патриарха" (1975), "История одной смерти, о которой знали заранее" (1981), "Палая листва" (1955), "Полковнику никто не пишет" (1958), "Недобрый час" (1962) и др. Книга М. "Сто лет одиночества" характеризовалась критиками как "роман-миф", выступающий (в соответствии с рядом различных версий его интерпретации) в качестве: трагедии античного типа с сюжетными ходами рока (см. Судьба) и инцеста; библейского мифа с описанием сотворения мира, казнями и бедствиями египетскими, апокалипсисом; мифа психоаналитического типа; мифа, подчиненного культурным структуралистским кодам и т.д. В контексте трансформационных процессов на посткоммунистическом пространстве советского типа особый интерес приобретают сюжеты творчества М., связанные с реконструкцией образов "всенародно избранных" ("обожаемых-всемибез-исключения-простыми-людьми") авторитарных политических лидеров. Описывая судьбу последних, М. обращал особое внимание на: 1) их харизматическую аморальность ("когда его оставили наедине с отечеством и властью, он решил, что не стоит портить себе кровь крючкотворными писаными законами, требующими щепетильности, и стал править страной как Бог на душу положит, и стал вездесущ и непререкаем, проявляя на вершинах власти осмотрительность скалолаза и в то же время невероятную для своего возраста прыть, и вечно был осажден толпой прокаженных, слепых и паралитиков, которые вымаливали у него щепотку соли, ибо считалось, что в его руках она становится целительной, и был окружен сонмищем дипломированных политиканов, наглых пройдох и подхалимов, провозглашавших его коррехидором землетрясений, небесных знамений, високосных годов и прочих ошибок Господа..."); 2) присущую им ориентацию на процедуры удержания-любойценой власти в собственной стране, а не на отстраивание автономных и самодостаточных институтов гражданского общества ("...о том же свидетельствовали жестокие методы его правления, его постоянная мрачность и то злорадство, с которым он продал иностранной державе наше море и приговорил нас к жизни в этой бескрайней пустынной долине, покрытой шершавой пылью, подобной мертвой пыли Луны..."); 3) их принадлежность к деклассированным, маргинальным социальным слоям ("... что же касается его происхождения, то, хотя все печатные упоминания об этом были изъяты, люди были убеждены, что родом он с плоскогорья, о чем свидетельствовала его ненасытная жажда власти, отличавшая уроженцев плоскогорья"); 4) их атрибутивная склонность к антиправовым и силовым процедурам разрешения внутриполитических и общественных конфликтов - в том числе и внутри собственного окружения ("...так сподвижники и уходили один за другим, а он с грустью говорил о каждом: "Бедняга!" - и разве можно было подумать, что он имеет хоть малейшее отношение ко всем этим внезапным бесславным смертям?"); 5) их страсть к помпезности и гигантомании в рамках осуществления безудержной саморекламы ("...он ...построил самый большой в карибских странах крытый стадион с прекрасной гандбольной площадкой, обязав нашу команду играть под девизом "Победа или смерть"); 6) традиционная для них готовность разговаривать с низшими слоями общества на соответствующе-примитивном языке, реально результирующаяся в отторжении от себя и собственной системы личной власти подавляющего большинства образованных людей ("...столь же просто и скоро, как в делах житейских, вершил он суд и расправу в делах общественных, приказывая мяснику публично отрубить руку проворовавшемуся казначею, с видом знатока судил обо всем на свете, даже о помидорах и о почве, на которой они выросли; распробовав помидор с чьего-либо огорода, он авторитетно заявлял сопровождавшим его агрономам: "Этой почве недостает навоза, и не какого-нибудь там, а помета ослов. Не ослиц! Я распоряжусь, чтобы завезли за счет правительства!" И со смехом шел дальше"); 7) их неприязнь к независимым судебной и законодательной ветвям власти ("...сон оказался в руку, ибо на той же неделе было совершено бандитское нападение на сенат и на верховный суд при равнодушном попустительстве вооруженных сил; нападавшие разрушили до основания нашу национальную святыню - здание сената, в котором герои борьбы за независимость провозгласили некогда суверенитет нашей страны; пламя пожара бушевало до поздней ночи, его хорошо было видно с президентского балкона, однако президента нимало не опечалила весть, что от исторического здания не осталось даже фундамента, что саму память об этом здании кто-то постарался вырвать с корнем; нам было обещано примерно наказать преступников, которые так никогда и не были найдены... что же касается сенаторов и служителей правосудия, то он и не думал утаивать от них дурные предзнаменования своего сна, а, напротив, был рад случаю, оправдывая свои действия полученным во сне предостережением разогнать законодателей и разрушить судебный аппарат старой республики..."); 8) карнавализация ими публичной жизни, направленная трансформация последней в "спектакль одного актера" ("...жизнь превратилась в каждодневный праздник, который не нужно было подогревать искусственно, как в прежние времена, ибо все шло прекрасно: государственные дела разрешались сами собой, родина шагала вперед, правительством был он один, никто не мешал ни словом, ни делом осуществлению его замыслов; казалось, даже врагов не оставалось у него, пребывающего в одиночестве на вершине славы"). В социально-гражданственном измерении творчество М. репрезентирует извечное и пафосное противостояние носителей либерально-демократических ценностей, с одной стороны, и диктаторов, никогда не имеющих конкретной национальности и опирающихся на низменные инстинкты и непросвещенность разобщенных и искусственно расчеловеченных людей, - с другой. А.А. Грицанов, И.А. Белоус МАРКС (Marx) Карл (1818-1883) - немецкий социолог, философ, экономист. Изучал право, философию, историю, историю искусств в Бонне и Берлине (1835-1841). Докторская степень философского факультета Йенского университета (1841). Основные сочинения: "К критике гегелевской философии права. Введение" (1843), "К еврейскому вопросу" (1843), "Экономическо-философские рукописи" (условное название необработанных черновиков молодого М., написанных в 1844; опубликованы в 1932 одновременно Д.Розановым и на немецком языке под названием "Исторический материализм" С.Ландшутом и И.Майером), "Святое семейство" (1844- 1845), "Немецкая идеология" (1845-1846),"Нищета философии: реплика на книгу Прудона "Философия нищеты" (1847), "Манифест коммунистической партии" (совместно с Энгельсом, 1848), "Классовая борьба во Франции" (1850), "Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта" (1852), "К критике политической экономии. Предисловие" (1859), "Господин Фогт" (1860), "Капитал" (тт. 1-3: 1-й том опубликован в 1867, 2-й - в 1885, 3-й - в 1894), "Гражданская война во Франции" (1871), "Критика Готской программы" (1875) и др. (В 1905- 1910 Каутский отредактировал и издал под названием "Теории прибавочной стоимости" 4-томные заметки и черновые наброски М. - видимо, предполагавшийся им 4-й том "Капитала".) Адекватный анализ содержания работ М. затруднен рядом нетрадиционных (для процедур историкофилософских реконструкций) обстоятельств: 1) Десятки тысяч профессиональных ученых и просветителей конца 19-20 в. обозначали собственную философскосоциологическую и иногда даже профессиональную принадлежность как "марксист", тем самым стремясь присвоить себе исключительное право "аутентичной" трактовки концепции М. 2) Отсутствие объемлющего корпуса опубликованных произведений, ряд из которых (особенно в СССР) в процессе переизданий подвергались существенным трансформациям идеологического порядка. 3) Придание учению М. статуса одного из компонентов государственной идеологии, в одних случаях, и опорного элемента идеологий политических движений, в других, неизбежно результировалось, соответственно, либо в его упрощении и схематизации для усвоения народными массами, либо в его бесчисленных модернизациях и эстетизациях гурманами от политики. 4) "Разноадресность" работ М., могущих выступать и как предмет полемики в ученых кругах ("Капитал"), и как пропедевтические заметки для близких по устремлениям неофитов ("Критика Готской программы", статьи в периодической печати). Столь же условное, сколь и распространенное в неортодоксальной марксоведческой традиции вычленение творчества "молодого" (до "Немецкой идеологии" и "Манифеста...") и "зрелого" М. не может заретушировать то, что несущей конструкцией всей его интеллектуальной деятельности оставалась высокая философская проблема поиска и обретения человеческим сообществом самого себя через создание неантагонистического социального строя. (Хотя этот вопрос из проблемного поля философии истории М. нередко пытался решать неадекватным социологическим и экономическим инструментарием.) Как социолог основную задачу своего творчества М. видел в научном и объективном объяснении общества как целостной системы через теоретическую реконструкцию его экономической структуры в контексте деятельностного подхода. В отличие от Конта, исследовавшего индустриальные общества и трактовавшего противоречия между предпринимателем и рабочим как преходящие, М. изначально постулировал их значимость как центральных в социуме, более того - как ведущего фактора социальных изменений. Таким образом, по М., социально-философское исследование противоречий современного ему общества оказывалось неизбежно сопряженным с прогнозами об его исторических судьбах. (М. не употреблял в своих трудах понятия "капитализм", ставшего популярным на рубеже 19-20 вв.) Полагая человеческую историю историей борьбы между собой больших общественных групп ("Манифест..."), М. пришел к выводу о том, что эволюция производительных сил буржуазного общества сопровождается противоречивым в собственной основе процессом роста богатства немногих и обнищанием пролетарского большинства. Революция последнего, по мнению М., будет впервые в истории революцией большинства для всех, а не меньшинства ради себя самого. "Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть в собственном смысле слова - это организованное насилие одного класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, если путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и свое собственное господство как класса. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех". Сформулировав всеобщую теорию общества (см. Исторический материализм), М. не сумел корректно преодолеть заметный европоцентризм своей концепции, оставив открытым вопрос о соотношении "азиатского", с одной стороны, и античного, феодального и буржуазного способа производства, с другой. (Это позволило в дальнейшем некоторым критикам М. не без оснований проинтерпретировать главную особенность "азиатского" общественного устройства - зависимость всех без исключения трудящихся от государства, а не от класса эксплуататоров - как закономерный итог марксовой идеи обобществления средств производства и, следовательно, как реальную перспективу социальных экспериментов такого рода.) Исторический опыт показал, что в индустриальном обществе (тем более, планируемом) немыслима редукция политической организации к экономической системе. Даже в качестве экономических мечтаний идея "превращения пролетариата в господствующий класс" не может выступить моделью аналогичного переустройства властных и управленческих институтов, обязательно основанных на разделении труда. Революционный императивизм неизбежного саморазрушения буржуазного строя в границах своей философско-социологической доктрины М. выводил из концепции всевозрастающей пауперизации населения, сопряженной с ростом производительных сил общества. Эта идея, дополняемая тезисами о "технологической" безработице и росте "резервной армии" труда, оказалась не вполне корректной как в экономическом, так и в исторических аспектах. (Хотя, безусловно, ведущие "болевые точки" буржуазного общества именно 19 в. М. обозначил точно.) Сформулированный "молодым" М. вопрос путей и средств достижения человеком, искалеченным общественным разделением труда, гармоничной целостности, обрел более счастливую судьбу. Выступив в дальнейшем в облике проблемы человеческого отчуждения и самоотчуждения (предпосылку которых М. усматривал в частной собственности на средства производства и анархии рынка), эта идея спровоцировала появление весьма мощной интеллектуальной традиции, в значительной мере обусловившей состав доминирующих парадигм человековедения 20 ст. Не будучи особо влиятельными при жизни М., его идеи, пройдя региональную и национальную адаптацию и модернизацию (зачастую весьма кардинальную): Лабриола в Италии, Плеханов и Ленин в России, Каутский и Люксембург в Германии и др. - стали смысловым, доктринальным и моральным ядром идеологий, теорий и программ деятельности практически всех революционистских движений 20 в., провозглашавших собственные мессианизм и социальную исключительность. Организациям такого типа оказался более чем приемлем потаенный дискурс доктрины М.: мир людей атрибутивно делим на "своих" и "несвоих", находящихся в состоянии антагонистического конфликта; ситуация эта кардинально разрешима только через захват "своими" государственной власти. Достижим последний посредством "перманентной" революции, т.е. гражданской войны планетарного масштаба. В историко-философской ретроспективе наиболее удачным представляются тезисы М. о возможности конструирования измененных социальных онтологий ("Тезисы о Фейербахе"), а также трактовка человека не только как когнитивного субъекта, но и в качестве носителя социальности. А.А. Грицанов МАРКСИЗМ - идейное течение модернистского типа второй половины 19-20 в., традиционно связываемое с концепцией общество- и человековедения, сформулированной в работах Маркса. Центральной для М. самого Маркса выступала идея коммунизма - процедуры уничтожения частной собственности, в результате которой общество будущего возьмет в свои руки централизованное управление средствами производства; сопряженное упразднение капитала будет, согласно М., означать также упразднение наемного труда. Экспроприация буржуазии и национализация промышленности и сельского хозяйства приведут, по мысли Маркса, к окончательному освобождению человечества. В этом контексте М. осуществлял функцию религии - как доктрина, основанная на слепой вере в то, что рай абсолютного удовлетворения человеческих желаний принципиально достижим посредством силовых процедур социального переустройства. Унаследовав в своем творчестве романтический идеал "солидарного" общества, основанный на идеализированном образе небольшого древнегреческого города-государства, популярном в немецкой трансцендентально-критической философии, Маркс особо акцентировал перспективную значимость удовлетворения централизованно определяемых и регулируемых "истинных" или "насущных" потребностей индивидов. М. отказывал индивиду в праве принимать самостоятельные экономические решения, заклеймив эту сферу как "негативную свободу". Источник подобных теоретических иллюзий заключался, в частности, в том, что владение частной собственностью предполагалось единственным источником экономической власти. Становление олигархического класса номенклатуры в СССР, соединившего экономическую власть с политической, исторически опровергло этот догмат Маркса. М. приобретал распространенность повсюду, где артикулируемые властью несправедливость и неравенство воздвигали преграды на пути человеческих желаний, направляя недовольство и агрессию людей на "злоумышленников", которыми любая социальная группа могла оказаться практически в любой момент. В своей эволюции М. преодолел ряд разнокачественных этапов и состояний. 1) М. ортодоксального толка, адаптируемый различными мыслителями к региональным особенностям и условиям (Плеханов, Лабриола и др.). 2) М. "ревизионистского" толка, сохраняющий понятийный строй учения Маркса и, одновременно, отвергающий его революционистско-насильственный пафос (Каутский, Бернштейн и др.). [Не случайно, концепция М. в версии Каутского оказала весьма значимое, даже текстуальное воздействие на терминологический облик философского катехизиса временно стабилизировавшегося социализма конца 1930-х - например, сталинский "Краткий курс истории ВКП(б)" и его раздел "О диалектическом и историческом материализме".] 3) М. ленинского типа, доводящий до крайне радикальных форм те аспекты учения М., которые были посвящены проблеме активного субъекта исторического процесса (социальный класс, трудящиеся массы, образованное меньшинство и т.п.). Пролетарский мессианизм марксовой парадигмы представители этого направления замещали идеей об организации профессиональных революционеров, о революционной партии нового типа, способной возглавить и направить процессы радикального революционного общественного переустройства (Ленин, Троцкий, Сталин, Мао Цзэдун и др.). Персонально именно эти адепты М., придя к власти, трансформировали его в идеологию, основанную на национализме (Мао Цзэдун) и империализме (Ленин, Сталин). М. в данной версии практически реализовывался как источник обучения, финансирования и поддержки тоталитарно ориентированных террористических политических течений. (Революционноволюнтаристские амбиции этой категории теоретиков и практиков М. в значительной степени фундировались состоявшимся в 1870-1880-х отказом самого Маркса от традиционалистской для обществоведения 19 в. концепции социального прогресса в частности, от идеи, согласно которой передовая страна "показывает менее развитой лишь картину ее собственного будущего".) 4) М., стремящийся совместить категориально-понятийные комплексы Маркса с парадигмой деятельностного, практического подхода в его философском измерении (Лукач, Грамши, Корш и др.). 5) Версии М., связанные со стремлением их представителей, сохраняя марксову парадигму в ее классическом издании (материалистическая субординация системных элементов социальной жизни в их статике и динамике и т.п.), выйти за пределы проблемного поля, задаваемого ортодоксальной марксовой трактовкой сущности человека, которая якобы "в своей действительности" есть "совокупность всех общественных отношений". Выступая философией индустриализма, философией техногенной цивилизации, философией преобразующей человеческой практики, М. продемонстрировал уникальный потенциал самообновления в 20 в. ряд современных философских течений в той или иной мере фундируются идеями и подходами М.: структурализм (Гольдман, Альтюссер и др.); фрей-до- и лаканомарксизмы (С.Жижек и Люблянская школа психоанализа); "гуманистическая школа" (Блох, югославский журнал "Праксис" - Г.Петрович, М.Маркович, С.Стоянович и др., польская "философия человека" - Л.Колаковский, А.Шафф и др.); линия деконструктивизма (Джеймисон и др.). Высокая степень жизнеспособности М. обусловлена его (по сути чисто гегельянской) установкой на постижение интегрированным научным знанием общества и человека как целостной системы, а также его обликом особого вида знания "для посвященных". Доступ к истинным знаниям полагается в рамках М. зависимым от обладания некой подчеркнуто целостной и элитарной формой миропонимания (традиционно - "научным социализмом" и "научным коммунизмом"), которая и делает общественную группу, этими представлениями обладающую, выше всех остальных людей. Демократия, свобода индивида, процедуры убеждения и компромиссы как условия нормального существования общества и социальные максимы имманентно противопоставлены М., реально настаивающему на организованной коммунистической идейной индоктринации как центральному условию обретения людьми "царства свободы". (См. Неомарксизм.) А.А. Грицанов МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ - самообозначение правящих идеологий в странах социализма в 20 в. Первоначально характеризуемые в персонифицирующей стилистике (учение "Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина" и т.п.), эти конгломераты идей под воздействием процессов "преодоления культа личности и его последствий" начали описываться как продукт коллективного руководства правящих партий с акцентированным дистанцированием от любых признаков харизматической окрашенности. В структуру М.-Л. традиционно входили ортодоксальный марксизм, ленинизм и сопряженные учения региональных идеологических апостолов, постоянно трансформируемые в интересах властвующей в тот или иной момент элиты. А.А. Грицанов МАРКУЗЕ (Markuse) Герберт (1898-1979) - немецко-американский социолог и философ, представитель Франкфуртской школы. Сооснователь Франкфуртского института социальных исследований вместе с Адорно и Хоркхаймером (с 1933). В 1933 - эмигрировал в Женеву. В США - с 1934. В 1939-1950 работал на правительство США, в информационных органах Управления стратегической разведки. Преподавал в Колумбийском (1934-1941, 1951-1954), Калифорнийском (1955-1964) университетах и университете в Сан-Диего (1965-1976). Основные труды: "Онтология Гегеля и основание теории историчности" (1932), "Разум и революция. Гегель и становление социальной теории" (1940), "Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда" (1955), "Советский марксизм. Критическое исследование" (1958), "Одномерный человек: Исследование по идеологии развитого индустриального общества" (1964), "Конец утопии: Герберт Маркузе ведет дискуссию со студентами и профессорами Свободного университета в Западном Берлине" (1967), "Негации. Эссе по критической теории" (1968), "Психоанализ и политика" (1968), "Эссе об освобождении" (1969), "Идеи к критической теории общества" (1969), "Контрреволюция и восстание" (1972), "Эстетическое измерение: К критике марксистской эстетики" (1977) и др. На начальном этапе своего философского творчества, часто квалифицируемом как "хайдеггерианский марксизм" и совпавшем с пребыванием М. во Фрейбургском университете (1928-1932), мыслитель находился под влиянием идей Хайдеггера. К периоду знакомства с ним М. уже имел ученую степень доктора немецкой литературы (1922), серьезно штудировал тексты Маркса и располагал солидным политическим опытом участия в Ноябрьской (1918) революции в Германии, примыкая к СДПГ. Однако М. не устраивала ортодоксальная марксова доктрина социалдемократов, недооценивавшая философские аспекты этого учения. Испытывая настоятельную потребность в придании историческому материализму Маркса подлинно философского фундамента, М. обращается к хайдеггеровской аналитике Dasein, видя в ней радикально новую точку отсчета для современной социальной философии. В синтезе экзистенциальной онтологии и исторического материализма, осуществленном в контексте философской антропологии, М. усмотрел искомый идеал т.наз. "конкретной философии". Однако после знакомства с ранее не опубликованными "Философско-экономическими рукописями 1844 года" Маркса наметился радикальный разрыв М. с идеями Хайдеггера, которые кажутся ему крайне абстрактными и не способными охватить реально-исторические структуры современности. При этом влияние Хайдеггера будет иметь место и в более поздних работах М. Следующий период творчества М. характеризуется отходом от марксизма и переходом к философствованию без экономических категорий Маркса. В качестве объекта исследования у М. выступила новая квазиреальность в виде "технологической рациональности": на первый план выдвигалось уже не экономическое содержание социальности, не природа экономического господства и т.п., а сам тип западной цивилизации с имманентно присущим ему подчинением природы. Последнее обстоятельство, в свою очередь, согласно М., порождает и подчинение внутренней природы всего импульсивного, и, как результат, - господство человека над человеком. На данном этапе своего творчества М. активно применял категориально-понятийные ряды и некоторые гипотезы наиболее спорной части фрейдистского учения (идеи о неизбывном конфликте между природой человека и его общественной формой существования) в качестве методологического фундамента для критического рассмотрения и диагностики современного общества. Предлагая современное философское толкование взглядов Фрейда, М. признал психоаналитическую идею о детерминации культуры архаическим наследием, но утверждал, что прогресс все же возможен при самосублимации сексуальности в Эрос и установлении либидонозных трудовых отношений (социально полезной деятельности, не сопровождающейся репрессивной сублимацией). С точки зрения М., конфликт между инстинктами людей и цивилизацией не неизбывен, он присущ лишь "специфически исторической организации человеческого существования". "Влечение к жизни" (Эрос) и "влечение к смерти" (Танатос) несовместимы с "правилами игры" цивилизации. Они подавляются обществом и сублимируются (Эрос), либо переориентируются (Танатос) на внешний мир в форме труда покорения природы и на внутренний мир - в ипостаси совести. "Принцип реальности" Фрейда, в основе которого лежит факт нужды и который результирует в борьбе людей за существование, согласно М., в настоящее время трансформировался. Общественно значима не только и не столько сама нужда, сколько то, как она распределена между членами общества. В интересах привилегированных групп, по мнению М., на плечи большинства индивидов падает дополнительное социальное давление ("прибавочная репрессия"). Принцип реальности эволюционирует в "принцип производительности". По мнению М., достигнутый уровень науки и техники создает принципиально новую систему удовлетворения зачастую "ложных" материальных потребностей людей в высокоразвитых обществах. Становится возможным освободить инстинкты от ненужного подавления, тело может стать самодостаточной целью, труд в состоянии превратиться в свободную игру человеческих способностей. Но необходимость сохранения существующего социального порядка диктует, по М., всевозрастающее усиление репрессий в облике несоизмеримо выросшего общественного контроля. Результатом этого процесса в условиях современной индустриальной цивилизации выступило формирование "одномерного человека" - объекта духовного манипулирования с пониженным критическим отношением к социуму и включенного в потребительскую гонку. Общественные изменения в этих условиях могут осуществляться, по М., только через "Великий отказ" от господствующих ценностей как капитализма, так и тоталитарного социализма ("культурная революция"), а революционные инициативы становятся уделом социальных аутсайдеров (люмпенизированных слоев) вкупе с радикальной интеллигенцией и студентами. М. принадлежал к идеологам "новых левых", но позже отверг наиболее одиозные положения своего миропонимания и дистанцировался от леворадикального движения. В конце жизни М. безуспешно пытался осуществить разработку новых моделей и типов рациональности, призванных освободить чувственность из-под гнета культуры. В ряде поздних работ, в которых М. анализировал глубинные истоки человеческого бытия, вновь сказалось некоторое влияние взглядов Хайдеггера. В основании современной индустриальной цивилизации, по М., лежит определенный исторический проект в виде вполне конкретного отношения человека к миру, мышления - к деятельности в нем. Этот проект М. именовал "технологическим проектом" или технологической рациональностью, суть которой в том, чтобы поработить природу и приспособить ее к человеку. Но это стремление, согласно М., оборачивается против самого человека как части природы, в чем и заключается иррациональность репрессивной рациональности, глубоко укорененной в самом бытии. А.А. Грицанов, Т.Г. Румянцева МАРСЕЛЬ (Marcel) Габриэль Оноре (1889-1973) - французский философ, основоположник католического экзистенциализма, профессор в Сорбонне. В 1929, в 40-летнем возрасте, принял католическое вероисповедание. После осуждения экзистенциализма папской энцикликой 1950 как учения, несовместимого с католической догматикой, М. окрестил свое учение "христианским сократизмом, или неосократизмом". Основные философские произведения: "Метафизический дневник" (1925), "Быть и иметь" (1935), "Человек - скиталец" (1945), "Люди против человеческого" (1951), "Метафизика Ройса" (1945), "Таинство бытия" (в 2-х томах, 1951), "Эссе по конкретной философии" (1967) и др. Все сочинения М. состоят из фрагментарных размышлений, дневниковых записей. И это не просто стилистическая особенность формы, такой характер изложения обусловлен фундаментальными принципами его философии. Он связан прежде всего с традиционной для христианских мыслителей формой исповеди, откровенным раскрытием сомнений и метаний мысли на пути к Богу. Цель исповеди - передать интимную жизнь мысли, ее истинную экзистенцию, которая сегодня совсем другая, нежели та, что была вчера и что будет завтра. Философия существования, раскрывающая подлинную сущность экзистенции человека, должна, по М., излагаться не мертвым языком абстракций, а так, чтобы звучал "одинокий голос человека", слышимый "здесь" и "теперь". Будучи убежденным католиком, М. в то же время отрицал томизм как рационалистическое учение, пытающееся примирить веру с позитивной наукой. Существование Бога следует выводить из существования человека, тайны, которая заложена в человеческой психике. Если истина не совпадает с ортодоксальной верой - тем хуже для ортодоксии. М. построил свою собственную, оригинальную систему философских категорий, возведя в ранг категорий некоторые житейские понятия. Бытие и обладание, воплощение, трансцендентное и онтологическое, верность и предательство, мученичество и самоубийство, свобода и подчиненность, любовь и желание, надежда и отчаяние, свидетельство и доказательство, тайна и проблема - таковы словесные выражения тех обобщений, к которым мысль философа возвращается постоянно при всех бесчисленных поворотах ее свободного, принципиально недетерминированного движения. Почти все эти категории парные, но они выражают не единство противоположностей, как в диалектике Гегеля, а противопоставленность двух миров мира онтологического и мира трансцендентного. Первый из них образуется связями, ощущениями и чувствами человеческого тела и базирующимся на них сознанием. Вещи обладают непроницаемостью лишь по отношению к телу. Тело обладает качеством абсолютного посредника, помимо которого мы не имеем никакой информации об окружающем нас мире. Явленный через тело, этот мир выступает для нас как мир онтологический, как то, что существует независимо от нас. В акте трансцендирования, противоположном онтологическому, осуществляется соединение человека с иным миром, постигается зависимость души человека от Бога. Центральные понятия философии М. - бытие и обладание. Это тоже взаимно исключающие друг друга, вне-положенные друг другу категории. Центральное противоречие человеческой жизни - противоречие между "быть" и "иметь". Я имею значит, я целиком погружен в онтологический мир, отягощен материей, собственностью, телесной жизнью, заслоняющей для меня подлинное бытие, Бога, бытие в Боге. Наиболее ярким примером обладания является собственность. Наша собственность нас поглощает. Она поглощает наше бытие, отнимает у нас свободу, давая вместо нее лишь видимость свободы. Нам кажется, что собственность принадлежит нам, на самом деле мы принадлежим ей. Наши действия постоянно обременены собственностью, заботой о теле, его потребностях. Произвольное принятие решений в мире обладания еще не есть подлинная свобода. Истинная свобода как раз и заключается в том, чтобы стать самим собой, преодолеть подчинение обстоятельствам, а это значит - вернуться душой к Богу, частицей которого мы в действительности являемся. Противоположность между обладанием и бытием отчетливо проявляется в противоположности между желанием и любовью. Желание есть стремление обладать чем-то чуждым, отчужденным: чужим телом, чужими вещами, какими-то чужими качествами и т.д. Любовь преодолевает противоположность себя и другого, переносит нас в сферу собственного бытия. Примером стремления к обладанию является и жажда власти. Коммунизм попытался уйти от обладания в форме власти вещей, но погряз в стремлении к обладанию в виде почти неограниченной власти и государства над людьми. Одним из самых опасных типов обладания, по М., является идеология - власть над идеями и мыслями других людей. Идеолог - раб тирана, помогающий обладать мыслями и стремлениями других рабов. Даже обладание своим телом, рбладание собственным сознанием делает нас другими, не такими, каковы мы в себе. Первый объект, с которым человек себя отождествляет, - это его тело, образец принадлежности. Осознание своей воплощенности, т.е. мистической связи духа с телом, своей несводимости к телу и воплощенному в нем сознанию, - исходный пункт экзистенциональной рефлексии, благодаря которой человек выходит к осознанию своего истинного бытия. Экзистенциальный взгляд на реальность становится возможен только как осознание себя в качестве воплощенного. Телесность означает вписанность в пространство и время, она предполагает временность человека, его постоянное приближение к смерти. Неизбежность смерти и связанные с нею бесчисленные несчастья, подстерегающие человека на его жизненном пути, нередко повергают его в отчаяние. Но метафизические корни пессимизма и неспособности к преодолению отчаяния служением Богу, по мнению М., совпадают. Способом такого преодоления является надежда. Надежда возлагается на то, что не зависит от нас, что в реальности есть нечто, способное победить несчастье, что существует нечто трансцендентное, несущее нам спасение. Надежда возможна, по М., только в мире, где есть место чуду. Истоки "реки надежды" не находятся непосредственно в видимом мире. Нельзя указать ни на какую технику осуществления надежды. Надежда есть порыв, скачок, призыв к союзнику, который есть сама любовь. Потеря надежды приводит человека к самоубийству. Мысль о самоубийстве заложена в самом сердце человеческой жизни, которая в силу погруженности в обладание видится себе лишенной смысла. Условия, в которых возможна надежда, строго совпадают с условиями, приводящими в отчаяние. Во власти человека положить конец если не самой жизни в ее глубинном понимании, то, по крайней мере, ее конечному и материальному выражению, к которому, по мнению самоубийцы, эта жизнь сводится. На самом деле самоубийство представляет собой не отказ от обладания жизнью, а отступничество от подлинного бытия, его действенное отрицание, предательство Бога в себе. Абсолютной противоположностью самоубийству является мученичество. Если самоубийца действенно отрицает Бога и закрывается от него, то мученик действенно утверждает Бога и открывается ему. Христианская идея умерщвления плоти также должна быть понята как освобождающая смерть. Но самоотверженная душа совершает действия, коренным образом отличающиеся по своей сути от души, погрязшей в эгоизме. Она не только является самой свободной, но и несет свободу другим. Впадение в зло, грех, проявления эгоизма, насилие, убийство и самоубийство означают предательство подлинной сущности человека, предательство Бога внутри него. Верность Богу приводит человека на трудный путь служения ему, на путь добра. Кажется, сама структура нашего мира рекомендует нам отступничество от Бога. Теперь, когда рассеялись иллюзии 19 в. о взаимосвязи добра и прогресса, сами обстоятельства, по М., подстрекают к предательству. Но именно поэтому 20 в., с религиозной точки зрения, - привилегированная эпоха, в которую предательство, присущее этому миру, открыто проявляет себя. Тотальное насилие, распространившееся в мире, ставит человека в ситуацию постоянного испытания его верности самому себе. Испытания на верность, посылаемые каждому человеку в течение его жизни, предполагают невозможность рациональных доказательств бытия Бога, исходящих из анализа мира обладания. К Богу ведет не доказательство, а свидетельство, и в природе всякого свидетельства заложена возможность быть подвергнутым сомнению. Доказательства бытия Бога суть попытки превратить тайну этого бытия в рационально разрешимую проблему. Но между таинственным и проблематичным существует онтологическое различие, обусловленное тем, что они принадлежат разным мирам. Эпистемологи, как и позитивисты, вообще не замечают тайны познания, они попытаются трансформировать их в проблемы. Проблема - это то, с чем сталкивается познание, то, что преграждает ему путь. Напротив, тайна есть то, во что человек вовлечен сам. Зона природного совпадает с зоной проблем. Прогресс существует лишь в сфере проблем. Постоянная связь существует между проблемностью и техникой. Всякое же индивидуальное бытие есть символ и выражение трансцендентной тайны. Оно погружено в мир, который превосходит всякое понимание. Поэтому научная психология не дает подлинного постижения человека, она рассматривает каждого человека не как "я", а как "он", как живой объект, который функционирует определенным образом. Человек есть свобода, а не только природа; тайна, а не только совокупность проблем. Всегда можно логически и психологически свести тайну к проблеме, но это будет порочная процедура. Субъектом научного познания является мышление вообще, сознание как таковое. Но тайна человека может быть постигнута только всей полнотой существа, вовлеченного в драму, которая является его собственной. Тайна бытия может открываться существу только в состоянии сосредоточения. Это медитативное состояние глубинной сосредоточенности позволяет ощущать свою свободу и свою связь с Богом. Молитва Богу является единственным способом мыслить о нем. Конкретные подходы к онтологической тайне следует искать не в логическом мышлении, а в выявлении духовных данностей - таких как верность, надежда, любовь. Именно сосредоточенность на собственных духовных особенностях позволяет нам познавать самих себя. Л.В. Кривицкий МАРТИ-и-ПЕРЕС (Marti-y-Peres) Xoce Хулиан (1853- 1895) - кубинский мыслитель и поэт, революционер, национальный герой Кубы. Культовая фигура латиноамериканской философии 20 в., предтеча "философии латиноамериканской сущности", создатель ее основной мифологемы "нашей Америки" как "подлинной Америки" (впервые обозначенной С.Боливаром как "две Америки"). В литературном творчестве эволюционизировал от романтизма (ученик Р.Мендиве) к модернизму (наряду с Родо и Р.Дарио считается основоположником латиноамериканской версии последнего). Всю свою жизнь М.-и-П. подчинил борьбе за освобождение Кубы от колониальной зависимости (прожил жизнь под девизом: "Невозможное возможно. Безумцы, мы мыслим здраво") и в этом отношении считал своими духовными предтечами Боливара, X.Сан-Мартина и М.Идальго-и-Кастильо. "Прежде чем создать собрание моих стихов, я хотел бы создать собрание моих действий", - утверждал М.и-П. В философском плане определенное влияние на его становление оказали позитивизм (Г.Спенсер и эволюционистские доктрины в целом), эклектизм К.Краузе (1781-1832), Р.У.Эмерсон (1803-1882). В модернистский период он выступил с критикой натурализма (реалистической школы) в литературе и философской методологии (М.-и-П. отстаивал тезис о прямой связи литературы с философией "каждая философская система порождает, как следствие, и собственную литературу"). Его взгляды этого периода некоторые исследователи определяют как "практический идеализм". Он не был марксистом и не считал себя социалистом, что из идеологических соображений ему пытались приписать в 20 в. Среди опасностей, подстерегающих социализм, М.-и-П. указывал путанность и неполноту его канонических текстов и олицетворение его идей амбициозными людьми. Он указывал также на "невежество классов, на стороне которых справедливость", на "пагубное воздействие гнева", на угрозу "новой касты чиновников", которая возникнет при социализме. Критически отнесся М.-и-П. и к опыту Парижской коммуны. Важной составляющей его мировоззрения была христианская компонента (М.-и-П. вполне в духе последующей "теологии освобождения" совмещал революцию и религию). В его творчестве и деятельности переплелись мотивы эсхатологии и утопизма, а все оно понималось М.-и-П. как деяние, подвижничество, служение идее, невозможное без страдания. "Слова его - не слова, а деяния, творения...", - отмечал М.Унамуно. В 1869 М.-и-П. написал драму в стихах "Абдала" как отзыв на Кубинское восстание 1868, был арестован и приговорен к шести годам каторжной тюрьмы. В 1871 тюрьма была заменена высылкой в Испанию, где М.-и-П. учился на юридическом факультете Мадридского университета. В этом же году опубликовал свой первый очерк "Политическая тюрьма на Кубе". В 1873 переезжает из Мадрида в Сарагосу, где сдает экзамены на двух факультетах местного университета и получает в 1874 дипломы лиценциата гражданского и канонического права и лиценциата философских и филологических наук. С 1874 - в Мексике, с 1876 - в Гватемале, где преподавал в Центральной нормальной школе (в том числе и философию), участвовал в составлении нового свода законов государства, выпустил (в 1878) брошюру "Гватемала" (в которой обосновывал идеал независимой демократической республики мелких собственников). В 1878 вернулся по амнистии на Кубу, вошел в Кубинскую революционную хунту в Гаване. Арестован и выслан в Испанию, откуда в 1880 бежал в США, затем в Венесуэлу (где пытался издавать журнал, проповедующий американизм), затем снова в США (в 1881). Пережил личную драму жена (дочь богатого сахаропромышленника) с сыном вернулись на Кубу. Выпустил сборник стихотворений "Исмаэлильо" (1881), посвященный сыну (считается провозвестником латиноамериканского художественного модернизма). Другие поэтические сборники позднего М.-и-П.: "Свободные стихи" (1878-1882), "Цветы изгнания" (1885-1887), "Простые стихи" (1891). В эмиграции занимался журналистикой, был консулом Парагвая и Аргентины в США, делегатом Уругвая на валютной конференции 1891, председателем латиноамериканского литературного общества. В 1891 написал программную статью "Наша Америка", концептуализирующую "американизм" (т.е. "латиноамериканизм"). 10.10.1891 призвал к новой национально-освободительной борьбе, 26.10.1891 предложил ее лозунг: "Со всеми и для блага всех". В марте 1892 начинает издание газеты "Патриа", в которой помещает новую программную статью "Наши идеи", в апреле участвует в создании Кубинской революционной партии (избран "уполномоченным партии"). 7.02.1895 подписал с генералом М.Гомесом "Манифест Монтекристи" (название - по месту подписания; написан М.-и-П.; получил название "Евангелия кубинской революции"). 11.04.1895 произошла высадка повстанцев на Кубе, 19.05.1895 М.-и-П. был убит в бою [есть основания считать, что М.-и-П. (при его озабоченности танатологической проблематикой и стремлении к игровой театрализации собственной жизни) осуществил тем самым последний "акт подвига творчества" - он внезапно покинул отряд, оторвался от своего ординарца и поскакал навстречу огню противника]. М.-и-П. не оставил собственно философских произведений, исключение - черновые заметки "Философские идеи", которые он сделал в Гватемале при чтении лекций в 1877. В основном он интересен своими программными статьями, собственными деяниями (построенными на проигрываемых становящимся "Я" творческих актах как ответственных действиях, организующих действительность во времени и следующих-противостоящих судьбе, а в культурологическом плане выражающихся в "нарекании имен вещам", - интерпретация Ю.Н.Гирина), теми "культовыми" переинтерпретациями, которым были в последующем подвергнуты его жизнь и творчество. Свои идеи М.-и-П. часто облекал (в силу своего поэтического дара) в форму мифологизированных афоризмов и максим, предполагающих их развертывание в конкретных интерпретациях-прочтениях: "Свобода... это долг бороться за освобождение других"; "Под хоругвью Пресвятой Девы мы вышли на завоевание свободы"; "Свобода - окончательная религия!"; "...Нас научили верить в Бога, который не является настоящим"; "Любовь есть не более как потребность веры: существует таинственная сила, которая желает всегда во что-то верить и что-то уважать"; "Созидать - вот девиз нового поколения"; "Знать - значит решать"; "Сюртуки у нас еще французские, но мыслить мы начинаем по-американски"; "Мыслить значит служить человечеству"; "Человеческая душа не имеет цвета..."; "Будущее принадлежит миру"; "...Недостаточно родиться - необходимо создать себя"; "Есть лишь один способ жить после смерти: быть при жизни человеком всех времен или человеком своего времени"; "Страдать значит умереть для жалкой жизни внешней и возродиться для жизни во благе, единственной истинной жизни"; "Воспитывать на примере прекрасного - вот максима"; "Поэзия... не есть искусство, она - сама жизнесущность"; "...Нации должны жить своей жизнью, сами пропотеть в горячке"; "Америка не пойдет вперед, пока не научится ходить индеец"; "Раб всякий, кто работает на другого"; "Родина - это человечество"; Все творчество М.-и-П. объемлется рамкой антиколониализма (конкретное воплощение колониализма Испания) и антиимпериализма (конкретное воплощение империализма - США) и подчинено четко обозначенной цели - достижению независимости Кубой. Независимость - самоценность, но в последующем она должна быть обеспечена воплощением в жизнь социальной утопии М.-и-П. - построением основанной на принципах справедливости (уважении воли народа-нации и закона-права) демократической республики мелких собственников. Однако, по сути, это лишь внешние императивы, организующие ответственное личностное деяние во их исполнение, с одной стороны, и дающие возможность для завершения формирования национально-культурного самосознания Латинской Америки (воплощающей собой особую мировую цивилизацию) - с другой. Ведь проблема независимости, согласно М.-и-П., не есть просто смена политических и экономических форм, а есть проблема смены духа: от уровня личности до уровня народа-нации. Она есть точка совпадения действия закона исторической необходимости и закона непреклонной воли, который (в отличие от первого) есть результат организации и координации целенаправленно спланированных усилий отдельных людей. "Прогресс неизбежен, но он совершается в нас самих; мы являемся нашим критерием и нашим законом; все зависит от нас; человек является логикой и провидением человечества". Поэтому, утверждает М.-и-П.: "Сильные предвидят, люди более слабые ожидают бури со скрещенными руками". От "сильных" с необходимостью требуется жертвенность во имя реализации идеалов, но она должна мотивироваться не личными желаниями-капризами или фантазиями, а "пользой и необходимостью, оправданными разумом", "духом". Только этим и обосновано, согласно М.-и-П., обращение к философии, которая может дать обоснование реализуемому в деянии идеалу и помочь самоопределиться самому деятелю. "Я, - отмечает М.-и-П., - могу написать две книги: одну, из которой будет видно, что я знаю, о чем писали другие, - удовольствие, никому не нужное, и особенно для меня. И другую, в которой я буду изучать себя через самого себя: удовольствие оригинальное и самостоятельное". "Другая книга", отдавая должное слову как таковому, акцентирует, прежде всего, переживание индивидом самого себя в собственном деянии: "Мое искупление через меня, которое понравится тем, кто захочет искупления. Я, следовательно, оставляю в стороне то, что знаю, и вхожу в мое бытие". Таким образом, философия как "познание причин всех видов бытия, их различий, аналогий и связей", а также история как "познание того, каким образом эти причины развивались", оправданы лишь в той мере, в какой они дают ответы на вопросы: "Что мы такое? Чем мы были? Чем мы можем быть?". В поисках ответов на эти вопросы очень важно выполнение двух условий: 1) сохранить стереоскопичность видения, 2) исходить из личностно обозначаемой позиции. Первая перспектива предполагает избегание односторонности взгляда, догматичности, равно как и следования личностному пристрастию, предвзятому отношению к фактам ("факты следует брать такими, какими они являются на самом деле, не преувеличивая, не извращая и не замалчивая их"). Собственно на уровне философии это означает учет сильных сторон как физики (науки, опыта), так и метафизики (духа, трансцендентного), как материализма, так и спиритуализма ("хотя его и не следует так называть"). Каждая из этих позиций в отдельности - "только часть истины, которая погибает, если ей не помогает другая школа", лишь учет их обеих позволяет надеяться на целостность истины ("Исследование - глаз разума"). Точно так же, в свою очередь, физика (основанная на исследовании) и метафизика (в основе которой - рефлексия) комплексируются с поэзией (исходящей из интуиции) и подлинно религиозным отношением к жизни и познанию (вменяющем в обязанность "труд как средство достижения досуга, исследование как средство достижения истины, честность как средство достижения целомудрия"). Эту веру, согласно М.-иП., необходимо отличать от догматичной веры, которой нас научили: "С этой научной верой можно быть отличным христианином, любящим деистом, совершенным спиритуалистом. Чтобы верить в небо, в котором нуждается наша душа, нет необходимости верить в ад, который наш разум отвергает". Эти позиции не следует смешивать (например, пытаться строить метафизику на интуиции), но нельзя и проводить жесткую демаркацию между ними (например, если метафизика может опереться на результаты исследования, она должна сделать это, корректируя свою спекулятивность, "тобы знать, нужно исследовать"). Метафорически М.-и-П. обозначил эту позицию так: "Нет необходимости выдумывать Бога, раз его можно доказать". Другое дело, утверждает М.-и-П., что "гипотеза относительно духовного не поддается научной проверке" (и именно в этом - ошибка "физиков", доходящих в своих крайностях "до отрицания всякого духовного явления"). Следовательно, чтобы сохранять "стереоскопичность видения" философия "должна изучать человека, который наблюдает, средства, которыми он наблюдает, и то, что он наблюдает; а тем самым она делится на: философию внутреннюю, философию внешнюю и философию отношений. По сути, М.-и-П. во многом следует схеме Краузе (которого он считает философом "еще более великим, чем Гегель"), однако принципиально видоизменяет ее, вводя вторую перспективу (личностно обозначенной позиции) лучший вид исследования суть наше собственное исследование действием, в котором объединяются ипостаси борца ("арена"), творца ("мастерская"), служителя новой веры ("храм"). Великие люди тем и отличаются от остальных, что они являются "хозяевами своих собственных крыльев". Личностная задача человека состоит в том, чтобы исходя из практических доводов (экспериментально-личностных ситуаций), "постоянно думать с помощью элементов науки, рожденных из наблюдения, обо всем, что попадает в сферу нашего разума, и о причине всего этого - в этом и состоят элементы, нужные для того, чтобы стать философом". "Следовательно, мы сами являемся первым средством познания вещей, естественным средством исследования, естественным философским средством". Таким образом, в философском исследовании, которое сводится к выявлению того, как Я и не-Я связаны между собой, акцент с необходимостью должен делаться на том, что в Я "есть собственно индивидуальное и что приобретено и превнесено". Поэтому хорош только тот философский метод, "который, анализируя человека, берет его во всех проявлениях его бытия и при наблюдении не оставляет в стороне как нечто второстепенное такое, чем можно пренебречь, то, что в силу своей, быть может, неясной и сложной первоначальной сущности, не легко поддается наблюдению". Средство познания мира - разум (М.-и-П. соглашается с максимой Эмерсона: "Мир - это устремленный разум" и его же афоризмом: "Червь проходит через все изменения формы в своем стремлении стать человеком"), но разум действенный, а как таковой он организуется принципами творчества (как деяния), которое утешает, любви (как деяния), которая спасает и объединяет, и жизни (как деяния), которая начинается со смерти, как принимаемыми на веру принципами "высшего бытия". Смерть - высшая точка жизни, дающая ей законченную осмысленность и налагающая на человека ответственность, как обязанность творить и любить. Более того, порождая скорбь, она освящает подлинное "удовольствие". "И в последний час надо плакать от боли за любимых, которые остаются, от огромного счастья, доставляемого свободой, которой тот, кто умирает, начинает, быть может, наслаждаться". Однако самопознание, - согласно М.-и-П., - не есть самоцель, оно "не может дойти до того, чтобы лишить нас возможности познавать других". Тезис же о взаимодействии-взаимоотношении с другими контурно замыкается у М.-и-П. на объединяющий всех идеал. Таковым выступает у него идеал народа-нации, реализующей принципы социальной справедливости (по принципу: "Нельзя уважать волю, подавляющую другую волю"), внутри цивилизационной целостности. В этой перспективе М.-и-П., в оценке Сеа, выступает как автор проекта самообретения Латинской Америкой своей "латиноамериканской сущности", интегративно вобравшем в себя все проективные идеи, предложенные в латиноамериканской философии 19 в. Этот проект был направлен на выявление аутентичной сущности человека Латинской Америки и породившей его действительности, а также на самоидентификацию латиноамериканской цивилизации в ряду мировых человеческих цивилизаций. Любое проективное (основанное на должном, а не на сущем) отношение к себе и миру начинается с критики сущего для обретения перспективы видения. Следовательно, критика понимается не как порицание, а как аналитическое обоснование объективного (т.е. учитывающего, в интерпретации М.-иП., все многобразие возможных точек зрения) критерия: "Критика не порицание; даже в своем формальном значении, в этимологии, она является просто применением критерия". Таковым критерием и является "самообретение", с позиций которого критика направлена как вовне, так и вовнутрь по отношению к ситуации, которая осмысливается. Самообретение же, для М.-и-П., есть, прежде всего, самоосвобождение, которое только и дает "законное право" на последующее самостоятельное действие, так как выявляет самость субъекта самоосвобождения. "...Для испанской Америки пробил час вторично провозгласить свою независимость". Первое самообретение провел Боливар и его соратники, но оно оказалось в значительной степени внешним, так как сохранило все путы культурной и интеллектуальной зависимости от Европы как метрополии, добавив духовный империализм США. Направленная на самих себя, критика обнаруживает, согласно М.-и-П., что: "Мы были ряжеными в английских панталонах, в парижском жилете, в сюртуке янки и в испанском берете. Индеец с немым удивлением кружил вокруг нас и уходил в горы крестить своих детей. Негр, скрываясь от враждебного взора, пел в ночи песню, лившуюся из сердца... Крестьянин, творец, слепой от негодования, восставал против своего творения - надменного города. Мы принесли с собой эполеты и тогу в страны, которые появились на свет в альпаргатах и с индейской повязкой на голове". Латинская Америка культурно и духовно оказалась неадекватной и неаутентичной себе самой, более того, она оказалась внутренне расколотой. Попытки преодолеть эту расколотость и неадекватность породили в социально-политическом опыте Латинской Америки лишь презрение к народным массам, что привело к почти повсеместному установлению тирании (каудильизма) и, в свою очередь, блокировало возможность постичь подлинные начала национальной жизни ("Не может быть политической свободы, пока не будет свободы духовной"). Подлинность латиноамериканца возможна лишь при выявлении аутентичного смысла "нашей Америки" через: 1) самоопределение и обращение к самим себе; 2) выявление принципов культурной самобытности Латинской Америки и механизмов, позволивших бы ей, отграничив себя от "иной Америки", ассимилировать мировую культуру на собственной основе; 3) осознание единства нашей Америки. Цель установления собственной идентичности и аутентичности не есть изоляционизм и всяческое подчеркивание своей непохожести и исключительности. Она - прямо противоположна: обретя самость, равноправно включиться в мировой цивилизационный прогресс... Плохое следует ненавидеть, наше оно, или чужое. Хорошее не следует отвергать только потому, что оно не наше. Но неразумно и бесплодно стремление трусливых и неумелых людей прийти к величию, достигнутому чужим народом, иным путем, чем тот, который и привел этот народ к безопасности и порядку, - т.е. не своими собственными усилиями, не применением основ свободы к реальным условиям страны. Нельзя поклоняться чужим идолам, идеи имеют собственные корни (поэтому опасно не только копирование, но и недоверие к своему собственному). "Наше прошлое для нас дороже античности. Оно нам нужнее", - констатирует М.-и-П. Нельзя управлять народом, которого не знаешь, потому что смотришь на мир сквозь "заимствованные очки" ("Правительство есть не более чем равновесие естественных элементов страны"). "Знать страну и управлять ею со знанием дела - единственное средство освободить ее от всякой тирании". Это подразумевает использование двух взаимопредполагающих путей: 1) организация собственной ("американской") системы образования, позволяющей усваивать "абсолютные истины", но не в их "ложной" ("европейской") оболочке; 2) знание подлинных тенденций латиноамериканской жизни и действование в соответствии с ними. Тогда обнаруживается, что нет никакого противостояния между "варварством и цивилизацией" (оппозиция, заданная Д.Ф.Сармьенто), а есть борьба между "ложной ученостью и самобытностью", что нет расовой ненависти ("потому что не существует рас"), а есть единство Латинской Америки в многорасовой и поликультурной метисности. Именно в Латинской Америке выполняется, по М.-и-П., "закон аналогического развития": единства в разнообразии и разнообразия в едином. Человечество едино, ведь люди, различные по телосложению и цвету кожи, наделены одинаковой душой, однако это единство не в тождественности, а именно в разнообразии. ("Никогда еще в истории в такой короткий срок из столь неоднородных элементов не создавались такие передовые и сплоченные нации".) Можно, конечно, выбрать критерий, предполагающий различие рас, но с точки зрения действования эта теория оказывается ущербной, ведь тот, "кто возбуждает и распространяет расовую вражду и ненависть, совершает преступление против человечества". "Подлинная" же Америка обнаружилась, согласно М.-и-П., в тот день, когда мексиканские дворяне оплакивали смерть президента-индейца (по происхождению) Б.Хуареса (1806-1872). Подлинность народа-нации, во-первых, заключена в его духовном и культурном единстве (поэтому свержение диктатора не есть еще победа, а приказом можно управлять лишь войсками, ведь народ не создается по приказу). Для этого необходимо преодолеть разлад человека с самим собой и утвердить его аутентичную культурную идентичность. Несвобода - это, прежде всего, отсутствие веры в себя. При этом, считает М.-и-П., данная ситуация не есть чисто латиноамериканская: ее аналог можно обнаружить, например, в России, где также наблюдается разлад человека с самим собой (где в одном человеке два завоеватель и варвар, где жизненная сила соседствует со смятением духа, где также сказывается влияние чужой цивилизации и несформированность собственной). Подлинность народа-нации, во-вторых, никогда не дана в настоящем, а лишь в представлении бытия должного, т.е. в будущем, осуществление которого зависит от нас настоящих. Отсюда этика долга М.-и-П., основанная на необходимости утверждения ценностей патриотизма и гуманизма в борьбе за самоосвобождение себя и народа-нации. Исходя из этических принципов, ответственно действующая личность, организуя себя, способна организовать будущее народа-нации. Любой творческий акт является в этом отношении не просто деянием, но свершением, обретает культурностроительное значение. Если направленность на осознание своей субъективной ответственности в мире превращается в конституирование этого мира, то это дает надежду на то, что "над ржавым хламом старых доспехов, над землей возрождающихся к жизни индейцев уже брезжит в Америке лучезарное будущее". При этом "надо лишь верить в лучшее, что есть в человеке, и остерегаться худшего в нем. Нужно дать возможность добродетелям проявиться и возобладать над пороками". (См. также "Философия латиноамериканской сущности".) В.Л. Абушенко МАТЕРИАЛИЗМ (лат. materialis - вещественный) - философское миропонимание, мировоззрение, а также совокупность сопряженных идеалов, норм и ценностей человеческого познания, самопознания и практики, усматривающие в качестве основания и субстанции всех форм бытия материальное начало, материю. Включая в собственную структуру в качестве самостоятельных версий натурализм, эмпиризм, ряд школ аналитической философии и др., европейский М. восходит своими истоками еще к античному атомизму. Внеся значительный вклад в полемику с радикальными версиями философии идеализма, М. достигает пикового значения своего позитивного воздействия на жизнь общества в эпоху Просвещения (Дидро, Гольбах и др.), осуществляя уничтожающую критику реакционно-религиозной идеологии католицизма эпохи буржуазных революций. 19 в. в истории М. ознаменовался, с одной стороны, утратой им доминирующего положения в среде философской интеллигенции Западной Европы, с другой - приданием ему (усилиями ряда радикальных его представителей - Маркс, Энгельс, Дюринг и др.) статуса особой самоосознающей "магистральной линии", "партии" в истории философского знания, "от века" противостоящего идеализму (см. "Основной вопрос философии"). Вследствие избыточного акцента представителей философского М. конца 19 первой четверти 20 вв. на задачах теоретического обоснования беспрецедентно популярных в этот период идей революционизма и силовых сценариев макроэкономических трансформаций, М. 1920-х остановился в своем развитии на жестко замкнутой системе теоретических догматов и упрощенной онтологии. В дальнейшем усилиями мыслителей философского М. "новой волны" (Лукач, Грамши и др.) разрабатывается деятельностная парадигма М., сочетавшая в себе диалектико-материалистические подходы Маркса с категориально-понятийными изысками и поисками новейших философских систем 1920- 1930-х (Хайдеггер и др.). Определенный дополнительный импульс эволюции школ М. в 1930-1940-х придали теоретические реконструкции фрагментов ранних рукописей Маркса, посвященных проблеме отчуждения и самоотчуждения человека, объясняемые через философскую рефлексию над процессом отчуждения труда. В конце 20 ст. догматы философского М. нередко исполняют роль философско-идеологической пропедевтики для категорий социальных аутсайдеров, разделяющих идеалы позитивности массовых общественных деяний деструктивного типа. А.А. Грицанов МАТЕРИЯ (лат. materia - вещество) - философская категория, которая в материалистической традиции (см. Материализм) обозначает субстанцию, обладающую статусом первоначала (объективной реальностью) по отношению к сознанию (субъективной реальности). Данное понятие включает в себя два основных смысла: 1) категориальный, выражающий наиболее глубокую сущность мира (его объективное бытие); 2) некатегориальный, в пределах которого М. отождествляется со всем Универсумом. Историко-философский экскурс в генезис и развитие категории "М." осуществляется, как правило, путем анализа трех основных этапов ее эволюции, для которых характерна трактовка М. как: 1) вещи, 2) свойства, 3) отношения. Первый этап был связан с поиском некоторой конкретной, но всеобщей вещи, составляющей первооснову всех существующих явлений. Впервые такую попытку постижения мира предприняли ионийские философы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), которые тем самым внесли коренные изменения в мифологическую картину мира. Они пришли к знаменательному заключению, что за текучестью, изменчивостью и многообразием мира стоит некое рациональное единство и порядок, поэтому задача состоит в том, чтобы обнаружить этот основополагающий принцип, или начало, - arche, которое правит природой и составляет ее суть. Роль такой первоосновы М. как субстанции выполнял тот или иной субстрат (лат. sub - под и stratum - слой) - то, что является материальной основой единства всех процессов и явлений): у Фалеса вода ("Все есть вода, и мир полон богов"), у Анаксимандра "апейрон" (буквально "бесконечное"), у Анаксимена воздух. Каждое из первоначал указывает на вариативный ход рассуждений их авторов, стремящихся во многом обнаружить единое, но вместе с тем демонстрирующих разный уровень философствования. Так, позиции Фалеса и Анаксимена не выходят за пределы зримого мира, ибо и вода, и воздух - это субстанции, в первую очередь, близкие человеку в его повседневном опыте и широко распространенные в мире природы, хотя каждая из этих первосубстанций может в некотором смысле претендовать на статус метафизической сущности, исходного и определяющего все принципа бытия. В то же время попытка теоретического построения мира на подобной субстратной основе встретила серьезные трудности, поэтому Анаксимандр предложил на роль основы бытия некое бескачественное начало, способное выступить строительным материалом для мысленного проектирования Вселенной. Этим понятием Анаксимандр уводил мысль от зримых феноменов к более элементарной и недоступной прямому восприятию субстанции, чья природа хотя и была более неопределенной по сравнению с привычными субстанциями эмпирической реальности, зато потенциально была ближе к философской категории. В результате ионийские философы расширили контекст мифологического понимания за счет включения в него безличных и концептуальных объяснений, базирующихся на наблюдениях за природными явлениями. Таким образом, учение о стихиях явилось первой натурфилософской стратегией определения первоначала (arche) мира, которое представлялось недифференцированным и неструктурированным. В рамках субстанционального подхода новой стратегией интерпретации устройства Вселенной стал атомизм, как учение об особенном строении М. Эта концепция развивалась через учение Анаксагора о качественно различных гомеомериях к представлению Левкиппа и Демокрита, согласно которым мир состоит из несотворенных и неизменных материальных атомов - единой субстанции, где число их бесконечно. В отличие от недифференцированных стихий, атомы уже рассматриваются как дифференцированные, различающиеся между собой количественными характеристиками - величиной, формой, весом и пространственным расположением в пустоте. Позднее его учение развивалось Эпикуром и Лукрецием. Атомистическая версия строения материального мира развивалась на основе выявления общего в нем. В результате атомы стали тем рациональным средством, с помощью которого можно познать механизм Вселенной. Рациональный смысл вещного понимания М. усматривается: во-первых, в том, что существование природного мира в самом деле связано с наличием некоторых всеобщих первоначал (естественно, обладающих не абсолютным, а относительным характером), бесконечные комбинации которых составляют неисчерпаемое множество наблюдаемых объектов. Так, органическая химия выявила четыре органогенных элемента - (С) углерод, Н (водород), О (кислород) и N (азот), выступившие аналогами четырех "корней" Эмпедокла (огонь, воздух, вода, земля); во-вторых, в вещном подходе, несмотря на его нефилософский характер, видели большое мировоззренческое и методологическое значение, ибо он ориентировал человека на реальный поиск и изучение первичных элементарных структур, существующих в самой природе, а не в иллюзорном мире абсолютных идей. Второй этап становления категории М. связывают с эпохой Нового времени, периодом зарождения классической науки, цель которой состояла в том, чтобы дать истинную картину природы как таковой путем выявления очевидных, наглядных, вытекающих из опыта принципов бытия. Для познающего разума этого времени объекты природы представлялись в качестве малых систем как своеобразные механические устройства. Такие системы состояли из относительно небольшого количества элементов и характеризовались силовыми взаимодействиями и жестко детерминированными связями. В результате вещь стала представляться как относительно устойчивое тело, перемещающееся в пространстве с течением времени, поведение которого можно предсказать, зная его начальные условия (т.е. координаты и силы, действующие на тело). Таким образом, наука Нового времени качественно не изменила субстанционального представления о М., она его лишь несколько углубила, ибо М., равную субстанции, наделила атрибутивными свойствами, которые были выявлены в ходе научных исследований. В данном случае всеобщая сущность вещей видится не столько в наличии у них единого субстрата, сколько некоторых атрибутивных свойств - массы, протяженности, непроницаемости и т.д. Реальным же носителем этих атрибутов выступает та или иная структура первовещества ("начало", "элементы", "корпускулы", "атомы" и т.п.). В этот период было выработано представление о М., которая может быть количественно определена как масса. Такое понятие М. обнаруживается в работах у Галилея и в "Математических началах натуральной философии" Ньютона, где излагаются основы первой научной теории природы. Таким образом, особое механическое свойство макротел - масса - становится определяющим признаком М. В связи с этим особое значение приобретает вес как признак материальности тела, поскольку масса проявляется в виде веса. Отсюда и сформулированный впоследствии М.В. Ломоносовым и Лавуазье закон сохранения М. как закон сохранения массы, или веса, тел. В свою очередь Д.И. Менделеев в "Основах химии" выдвигает понятие вещества с его признаком весомости как тождественное категории М.: "Вещество, или М., есть то, что, наполняя пространство, имеет вес, то есть представляет массы, то - из чего состоят тела природы и с чем совершаются движения и явления природы". Таким образом, для второго этапа характерно то, что: во-первых, М. интерпретируется в границах механистического мышления как первичная субстанция, первооснова вещей; во-вторых, она определяется прежде всего "сама по себе" вне ее отношения к сознанию; в-третьих, понятие М. обозначает только природный мир, а социальный остается за скобками данного понимания. Вместе с тем и новоевропейская цивилизация была насыщена разнообразными взглядами, которые пытались преодолеть телесность как определяющий признак М. В результате это приводило к выходу за границы традиционного понимания М., в том случае, когда, например, Локк или Гольбах определяли М. на основе фиксации отношения субъекта и объекта. Подготовительным этапом новой трактовки категории М. может рассматриваться концепция марксизма, формирующаяся как рационалистическая теория, которая ассимилировала диалектический метод Гегеля, и как философская программа для метатеоретического обеспечения дисциплинарного естествознания (результат научной революции первой половины 19 в.). Поэтому Маркс и Энгельс подвергают ревизии концепцию первоматерии, указывая на ее конкретно-научный, а не философский смысл; трактуют М. уже как философскую абстракцию; определяют статус М. в рамках основного вопроса философии (об отношении мышления к бытию); вводят практику как критерий познания и образования понятий. В условиях фундаментальной революции в естествознании конца 19 - начала 20 вв., радикально меняющей представления человека о мироздании и его устройстве, вводится представление о М. как о том, "что, действуя на наши органы чувств, вызывает в нас те или другие ощущения" (Плеханов). Согласно позиции Ленина, М. - это философская категория, которая обозначает лишь единственное всеобщее свойство вещей и явлений - быть объективной реальностью; данное понятие может быть определено не иначе как только через отношение М. к сознанию: понятие М. "не означает гносеологически ничего иного, кроме как: объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им". В рамках современной философии проблема М. уходит на второй план; лишь некоторые философы и, в большей степени, естествоиспытатели продолжают использовать в своей деятельности понимание М. как субстратной первоосновы вещей, т.е. вещества. Предпринимались попытки осмыслить М. в границах диалектико-материалистического анализа практик означивания (статья Кристевой "Материя, смысл, диалектика") как то, что "не есть смысл", то, "что есть без него, вне его и вопреки ему". При этом данная радикальная гетерогенность (материя/смысл) определялась одновременно в качестве "поля противоречия". Современная философия ориентирована на построение принципиально новых онтологии (см. Онтология). А.В. Барковская MAX (Mach) Эрнст (183 8-1916) - австрийский физик и философ. Окончил Венский университет (1860). С 1861 приват-доцент Венского университета. Профессор физики университета в Граце (1864-1867). Профессор физики (с 1867) и ректор (с 1879) Пражского (с 1882 - Немецкого в Праге) университета. Профессор философии Венского университета (1895-1901). Автор книг "Принцип сохранения работы, история и корень его" (1871), "Механика. Историко-критический очерк ее развития" (1883), "Анализ ощущений и отношение физического к психическому" (1886), "Принципы учения о теплоте" (1896), "Научно-популярные лекции" (1896), "Познание и заблуждение" (1905), "Культура и механика" (1915) и др. Полагая необходимым для современного ему научного познания жестко отграничиться от спекулятивной метафизики, М. находил соответствующие подходы в неокантианстве. "Критика чистого разума", - отмечал М., - изгнала в царство теней ложные идеи старой метафизики". Собственную задачу М. усматривал в аналогичной процедуре по отношению к старой механике. По мнению М., наука суть попытка экономного обращения с опытом. "Задача науки - искать константу в естественных явлениях, способ их связи и взаимозависимости. Ясное и полное научное описание делает бесполезным повторный опыт, экономит тем самым на мышлении. При выявленной взаимозависимости двух феноменов, наблюдение одного делает ненужным наблюдение другого, определенного первым. Также и в описании может быть сэкономлен труд благодаря методам, позволяющим описывать один раз и кратчайшим путем наибольшее количество фактов... Всякая наука имеет целью заменить, т.е. сэкономить, опыт, мысленно репродуцируя и предвосхищая факты... И язык как средство общения есть инструмент экономии". В границах процедуры описания огромного количества различных опытов посредством одной краткой формулы с широкой областью применения, наука минимизирует для человека шанс оказаться в абсолютно нетривиальной ситуации. Наука "срывает волшебный покров с вещей", разрушая наши иллюзии: все незнакомое и необычное, по мысли М., оказывается в итоге всего лишь частным случаем хорошо знакомого способа связи между данными опыта. Вне такого сценария, был убежден М., "руководство жизнью" (Беркли) неосуществимо. Познание у М. - всего лишь процесс прогрессивной адаптации человека к среде. "Наука возникает всегда как процесс адаптации идей к определенной сфере опыта. Результаты процесса - элементы мышления, способные представить эту сферу как целое. Результаты, естественно, получаются разные, в зависимости от типа и широты опытной сферы. Если опытный сектор расширяется или объединяются до того разобщенные сферы, элементы привычного мышления показывают свою недостаточность, чтобы представить более широкую сферу. В борьбе между приобретенной привычкой и адаптивным усилием возникают проблемы, исчезающие после завершенной адаптации и через некоторое время возникающие вновь... Наибольшая часть концептуальной адаптации состоялась бессознательно и невольно, ведомая сенсорными фактами. Эта адаптация стала достаточно широкой и соответствует большей части представляемых фактов. Если мы встречаемся с фактом, значимо контрастирующим с обычным ходом нашего мышления, и не можем непосредственно ощутить его определяющий фактор (повод для новой дифференциации), то возникает проблема. Новое, непривычное, удивительное действует как стимул, притягивая к себе внимание. Практические мотивы, интеллектуальный дискомфорт вызывают желание избавиться от противоречия, и это ведет к новой концептуальной адаптации. Так возникает интенциональная понятийная адаптация, т.е. исследование". Источником проблем М. полагал "разногласие между мыслями и фактами или разногласие между мыслями". В таком контексте М. и проводит критическую линию по отношению к механике начала 20 в. Он полагает, что, хотя в качестве математической модели атомистическая теория и пригодна для оптимизации эмпирических исследований, признание за атомами реального существования заводит ученого в дебри метафизических спекуляций. По версии М., абсолютные пространство и время (пережитки средневекового миропонимания и "концептуальные чудовища") вкупе с причинностью и атомизмом дожны быть элиминированы из научного знания: бессмысленно рассуждать о пространственном и временном положении тела безотносительно к какому-либо другому телу. (Именно этот посыл М. оказал заметное воздействие на идеи А.Эйнштейна и логических позитивистов.) Природа не содержит "причин" и "следствий", в ней все просто "случается" - и это может быть зафиксировано формулами функциональных взаимоотношений. Согласно модели М., "остается один тип устойчивости - связь (или отношение). Ни субстанция, ни материя не могут быть чем-то безусловно устойчивым. То, что мы называем материей, есть определенная регулярная связь элементов (ощущений). Ощущения человека, так же как ощущения разных людей, обычно взаимным образом зависимы. В этом состоит материя". М. (и это впоследствии оказалось весьма интересной постановкой проблемы) жестко критиковал физиков за их чрезмерную приверженность к доказательству (в духе платоновско-картезианских трактовок). Такой выбор идеала ("строгость") был, по мнению М., "ложным и ошибочным". Научную гипотезу (по обозначению М., "новое правило") вовсе не обязательно искусственным образом дедуцировать из т.наз. "первопринципов"; вполне достаточно того, что она выдерживает соответствующую проверку. По мысли М., "главная роль гипотезы - вести к новым наблюдениям и новым исследованиям, способным подтвердить, опровергнуть или изменить наши построения... гипотезы суть усовершенствование инстинктивного мышления, в них можно найти все звенья цепочки... Короче, значение гипотезы - в расширении нашего опыта". "Если в течение приемлемого периода времени гипотеза достаточно часто подвергалась прямой проверке, то наука должна признать совершенно излишним любое другое доказательство". В основании явлений, по М., располагаются ощущения, факты чувственного мира, сопряженные с соответствующими настроениями и чувствами. Природа, о которой рассуждает наука, согласно мысли М., и не вещь в себе и не истинная объективная данность. "Мир, - писал М., - не заключается в таинственных сущностях, которые, также загадочно действуя одна на другую, порождают доступные нам ощущения. Цвета, звуки, пространство, время и т.п. связаны между собой, как по-разному связаны чувства и волевая предрасположенность. Из столь пестрой ткани выделяется то, что относительно стабильнее и продолжительнее, вследствие чего отпечатано в памяти и выражено в словах. Так, относительно устойчивые комплексы, функционально распределенные в пространстве и во времени, именно поэтому обретают специфические имена и обозначаются как тела (Korper). Но эти комплексы непродолжительны и неабсолютны... Относительно устойчивым представляется комплекс воспоминаний, чувственных предпочтений, связанных с определенным телом (Leib), который можно обозначить как Я". Именно комплексы неразложимых элементов (например, цвет и форма) и ощущений, согласно М., конституируют тела, а не наоборот. Отвергая как декартовский дуализм, так и претензии субстанции (как метафизической сущности) на действительное существование, М. трактовал "элементы" как не принадлежащие ни к сфере психического, ни к сфере физического. Ощущение, по схеме М., суть глобальный факт, форма приспособления живого организма к окружающей среде; настройка слуха и зрения, а в целом - итог эволюции видов. Как отмечал М., "становится понятным феномен памяти... которая выше индивида. Психология спенсеровского и дарвиновского типа, вдохновленная эволюционной теорией, но основанная на частных позитивных исследованиях, обещает результаты более богатые, чем все предыдущие спекуляции... Вещь, тело, материя суть не что иное, как связь элементов, цветов, звуков и т.п., не что иное, как так называемые знаки (Merkmale)". Заменяя "ощущения" элементами, М. стремился преодолеть интенцию мышления, согласно которой составляющие фактов создаются сознанием. "Элементы" призваны осуществить переход от физического к психическому в рамках единой системы знания. Базовые категории современной науки (атом, абсолютное пространство, время, причинность, масса, сила и т.п.) М. интерпретировал как метки комплексов ощущений, находящихся в функциональной взаимосвязи и фундированных биологическими потребностями. Осуществил ряд важных физических исследований в области механики, акустики, оптики и др. Широкая известность имени М. в границах советского философского ликбеза была обусловлена существенным воздействием его идей на ментальность российской социал-демократии начала 20 ст., за чем воспоследовала скандальная критика Ленина в издании парафилософского порядка книге "Материализм и эмпириокритицизм". На эти обвинения М. отвечал следующим образом: "В моих словах просто отражены общепринятые мнения, и если я превратился в идеалиста и берклианца, то в этих грехах вряд ли повинен". А.А. Грицанов МАШИНЫ ЖЕЛАНИЯ - базовое понятие концепции шизоанализа (см. Шизоанализ), фиксирующее в своем содержании самодостаточную спонтанную креативность субъективности (в контексте моделирования социальной процессуальности понятие "М.Ж." выступает парным по отношению к понятию "социальные машины"). Уже в "Логике смысла" Делез фиксирует то обстоятельство, что характерное для трансцендентализма понимание индивидуальности Я как детерминированной посредством трансцендентной абсолютной Индивидуальности (и необходимо укорененной в ней) в рамках классической европейской культуры уже не подвергается рефлексивному критическому осмыслению, выступая имплицитным основанием любой концепции личности: "для метафизики совершенно естественно, по-видимому, полагать высшее Эго". Однако, по мнению Делеза, с точки зрения мета-оценки "такое требование, по-видимому, вообще незаконно. Если и есть что общее у метафизики и трансцендентальной философии, так это альтернатива, перед которой ставит нас каждая из них: либо недифференцированное основание, безосновность, бесформенное небытие, бездна без различий и свойств - либо в высшей степени индивидуализированное Бытие и чрезвычайно персонализированная Форма". Фактически эта классическая модель рассмотрения индивидуальности основана на глубинной идее внешней каузальности как причинения, что бы ни понималось в каждом конкретном случае в качестве абсолютного Бытия - персонифицированный Бог религиозной философии, имперсональный Абсолют классического рационализма или Социум социологизированных философских концепций. Принципиальная новизна предлагаемой шизоанализом модели заключается в том, что Делез и Гваттари отказываются от идеи внешнего причинения (в русле общей постмодернистской презумпции отказа от идеи принудительной каузальности - см. "Смерть Бога"), акцентируя внимание на самопроизвольной и автохтонной процессуальности самоорганизации Я (сингулярные субъективности "не объясняются никакой целью, они сами - производители всех целей"), и первый шаг заключается в данном случае в том, чтобы принять за основу исходный хаос как имманентное состояние субъективности: "только ленты интенсивностей, пороги, потенциалы и перепады. Разрывающий, волнующий опыт". Исходное до-индивидуальное и до-персональное состояние субъективности фактически представляет собой лишь постоянно воспроизводящуюся процессуальность желания, отнесенного Делезом и Гваттари к наиболее "глубокому бессознательному пласту" и понятого не только и не столько в качестве переживаемой "недостачи" желаемого объекта (напротив, как раз "желанию ничего не недостает"), сколько в качестве потенциальной креативности (в терминологии Делеза и Гваттари - "производства"): по формулировке последних, "желание производит, оно производит реальное" и, собственно, самим "объективным бытием желания является Реальность как таковая". - Это значит, что бытие М.Ж. есть не что иное, как "постоянное производство самого производства, привития производства к продукту". В данной системе отсчета, например, "бред просто записывает процесс производства М.Ж. В целом, социальность мыслится в шизоанализе как процесс, причем не просто как процессуальный акт со своим началом и финалом, но как перманентная процессуальность, в рамках которой "нет изначального и производного, но есть общий дрейф". - Процессы конституирования как индивидуального Я, так и универсальной социальности (специфицируемой в так называемых "социальных машинах") есть в данном контексте результирующий продукт деятельности М.Ж. Оформление конкретных конфигураций социальности как на индивидуальном, так и на интегральном уровнях - моделируется в шизоанализе как принципиально нелинейное: в общем для постмодернизма контексте критики традиционного для классической культуры бинаризма, Делез и Гваттари отмечают, что исследуемая ими процессуальность реализуется вне линейного бинаризма - "в третьем времени бинарно-линейной серии", образуя "третий термин линейной серии" и тем самым нарушая (разрушая) самый принцип бинарной оппозиции. Креативный потенциал М.Ж. (неинтегрированных потоков сингулярностей) результируется в конкретных структурных конфигурациях этих потоков, что задает конституирование определенным образом структурированных социальных сред. Источником и условием возможности этого конфигурирования выступает для Делеза и Гваттари неравновесность состояния, атрибутивно характеризующего М.Ж. "неравновесие изначально" (ср. с фундаментальным статусом понятия "неравновесная система" в рамках современного естествознания: теория катастроф Р.Тома и парадигма синергетики). В системе принятой в шизоанализе метафорики, "в отличие от просто машин, машины желания работают только в испорченном виде", только и "исключительно в поврежденном состоянии, бесконечно ломаясь". Аналогично и "социальная машина", "чтобы работать... должна недостаточно хорошо работать". Собственно, только этим требованием исходной неравновесности как условия для своей актуализации и сходны между собой М.Ж. и "социальные машины", только "здесь возникает идентичность социальной машины и машины желания... последняя функционирует лишь скрипя, лишь разлаживаясь, лишь содрогаясь от мелких взрывов". Для шизоанализа существенно значимо, что М.Ж. и "социальные машины" выступают, с одной стороны (в функциональном своем аспекте), как неразрывно связанные и взаимно обусловленные, а с другой (в аспекте содержательном) - как принципиально альтернативные друг другу. Если "социальные машины" представляют собой константные структуры, характеризующиеся в своем функционировании интенцией на определенность, постоянство и - тем самым - на консервацию, то М.Ж., напротив, есть по самой своей природе источник перманентной креативности, стремящейся конституировать социальность в качестве процессуальной. Соотношение М.Ж. и "социальных машин" осмысливается Делезом и Гваттари как соотношение соответственно микро- и макроуровней социальности: в принципе "нет желающих машин, которые существовали бы вне социальных машин, которые они образуют на макроуровне; точно так же, как нет и социальных машин без желающих машин, которые населяют их на микроуровне". Делез и Гваттари в переносном смысле используют понятия молекулярности и молярности: так, согласно шизоаналитической модели, уровень определенным образом структурированных "социальных машин" есть уровень "молярных ансамблей" (или "стадных совокупностей"), т.е. характеризуется "теми молярными структурированными совокупностями, которые подавляют сингулярности, производят среди них отбор и регулируют те, которые они сохраняют в кодах и аксиоматиках", в то время как уровень неинтегрированных единичных индивидуальностей, напротив, характеризуется "молекулярными множествами сингулярностей, которые, наоборот, используют эти большие агрегаты как весьма полезный материал для своей деятельности". Таким образом, так называемый "микроуровень" или "молекулярный уровень" социальности определяется в шизоанализе посредством понятия "сингулярности" или "частичного объекта", т.е. сугубо индивидуальной неинтегрированной единичности, и в этом отношении данный уровень реально представляет собой потенциально креативный, но актуально не оформленный в стабильную структуру "хаос импульсов", где возможны только случайные и мгновенные ("алеаторные") комбинации последних. Именно в перманентности этих алеаторных событий и реализуется нестабильное и неравновесное бытие "молекулярного уровня" субъективности: "частичные объекты - это мир взрывов, ротаций, вибраций". В этом отношении, "молекулярная цепь желания не имеет кода, предполагающего: а) территориальность, б) деспотическое означающее. Поэтому аксиоматика противостоит коду как процесс детерриториализации... Молекулярная цепь - это чистая детерриториализация потоков, выведение их за пределы означающего, т.е. происходит разрушение кодов... Это - цепь ускользания, а не кода... Эта молекулярная цепь... состоит из знаков желания, но эти знаки совсем не являются значащими... Эти знаки представляют собой любого рода точки, абстрактные... фигуры, которые свободно играют... не образуя никакой структурированной конфигурации". - Таким образом, эти знаки ничего не означают и не являются означающим: "производить желание - во всех смыслах, в каких это только делается, - таково единственное призвание знака". Таким образом, источник социальной процессуальности коренится, по Делезу и Гваттари, "в лоне молекулярного производства желания". - В обрисованном контексте фактически можно говорить о микро- и макроуровнях разворачивания процессуальной социальности как о взаимодействии индивидуального (сингулярного, порождаемого М.Ж., т.е. - в терминологии шизоанализа - "шизофренического") и собственно социального. Последнее, хотя и порождается непосредственно "социальными машинами", но генетически восходит все к той же креативности желания, ибо собственной креативности в подлинном смысле этого слова "социальные машины" лишены, - как пишут Делез и Гваттари, "есть только желание и социальность, и ничего другого". В данной системе отсчета "социальные машины" интерпретируются шизоанализом как продукт определенной интеграции, конфигурирования друг относительно друга молекулярных "импульсов", т.е. тех индивидуальных сингулярностей, которые составляют микроуровень социальности. - В данном контексте "социальные машины" могут быть рассмотрены в качестве функционального аналога временных "плато" ризоморфной социальной среды (см. Ризома, Номадология): не случайно такие "социальные машины", как семья, государство и т.п. Делез и Гваттари рассматривают как "псевдоструктуры", подчеркивая их относительный и преходящий характер, хотя в своем актуальном функционировании они могут проявлять и проявляют интенции к жесткому доминированию и претензии на собственную консервацию. Возникновение "социальных машин" предполагает в качестве необходимого своего условия нарушение функционирования М.Ж. (то, что Делез и Гваттари называют "дисфункцией"): применительно к "производящим машинам" даже "сами сбои... функциональны", применительно к социальности "дисфункция составляет часть самого ее функционирования... Несоответствие и дисфункция никогда не были предвестниками гибели социальной машины, которая, напротив, приучена питаться вызываемыми ею противоречиями и кризисами, порождаемыми ею самой видами тревожности... Никто никогда не умер от противоречий. И чем это все больше разлаживается... тем лучше работает". В качестве конкретного приложения данного принципа креативности социальных дисфункций у Делеза и Гваттари фигурируют шизоаналитические интерпретации таких исторических феноменов, как христианство и капитализм: там, например, "чем меньше верят в капитализм, тем лучше: он, как и христианство, живет спадом веры в него". Механизм разворачивания социальности носит в шизоаналитическом истолковании принципиально нелинейный характер, что предполагает перманентно актуализирующуюся возможность версификации путей его разворачивания (разветвления эволюционных траекторий). В этом контексте классический тип рациональности критически оценивается шизоанализом как традиционно основанный на "признании первичности конденсации перед разделением". Более того, по мнению Делеза и Гваттари, классический стиль мышления всей своей нормативностью фактически "угрожает, что если мы не примем исключающую манеру разделять, то мы впадем в недифференцированный хаос; он грозит хаосом". - Разумеется, для шизоаналитика (которого хаосом никак не испугать, ибо идея хаоса изначально входит в число его парадигматических основоположений), ситуация видится радикально по-иному. Важнейшей презумпцией шизоанализа является презумпция "Полноты Бытия, из которой путем разделения следуют производные реальности". - Делез и Гваттари вводят в данном контексте понятие "дизъюнктивного силлогизма", фиксирующее универсальный принцип ветвления, заключающийся в том, что все теоретически возможные версии (перспективы) процесса являются и практически возможными, т.е. ни одна из них не может рассматриваться как исключенная каким-либо общим правилом (в этом отношении показательна шизоаналитическая интерпретация фигуры Бога: "не Бог, но божественное есть пронизывающая... энергия... Верите ли вы в Бога? - ... Да, конечно, но только в Бога как в хозяина дизъюнктивного силлогизма, как в априорный принцип этого силлогизма"). Многократное последовательное ветвление возможных путей эволюции системы выводит ее, согласно Делезу и Гваттари, к тому уровню, где диапазон возможного оказывается, в сущности, неограниченным: шизоанализ отмечает по этому поводу, что важнейшей характеристикой "мира желания" выступает то, что это мир, где "все возможно". В этом отношении "мир желания... приравнивается к миру шизофренического опыта... не тождественного клиническим формам шизофрении". Именно в рамках этого опыта и обнаруживают себя, в первую очередь, каскадные ветвления процесса: перманентно генерируемые М.Ж. детерриториализированные и детерриторилизирующие "прорывы или шизы, порождающие новые потоки, порождают свои собственные нефигуративные потоки или шизы, порождающие новые потоки", и т.д., безгранично - сквозь все ограничения и безо всяких границ. Между тем рассмотрению указанных ограничений шизоанализ уделяет серьезное внимание. Это связано с тем, что поскольку в реальном функционировании социальности М.Ж. встроены в социальные машины", постольку со стороны последних "машинам желания навязывается структурное единство, которое объединяет их в молярный ансамбль; частичные объекты сводят к тотальности", и это неизбежно "мешает производящим молекулярным элементам следовать линиям собственного ускользания", ибо по отношению к микропроцессам происходит их "насильственное подчинение... макросоциальности". В целом, процессуальность социума интерпретируется шизоанализом как реализующая себя в режиме последовательных смен организованных и неорганизованных (и по-иному организованных) состояний. - Так, согласно Делезу и Гваттари, эта процессуальность может быть описана как перманентные осцилляции между двумя взаимоисключающими полюсами: "один характеризуется порабощением производства и желающих машин стадными совокупностями, которые они образуют в больших масштабах в условиях данной формы власти или избирательной суверенности; другой - обратной формой и ниспровержением власти". В реальном функционировании конкретного социума описанный процесс обретает свою идеологическую и, в силу этого, аксиологическую размерность, - в этом контексте обозначенные векторы социальной процессуальности оценочно интерпретируются в рамках шизоанализа как соответственно "реакционный, фашистский" и "шизоидный, революционный". Реализация функционирования социальности, по Делезу и Гваттари, проявляет себя как перманентное взаимодействие двух указанных векторов: "первый идет по пути интеграции и территориализации, останавливая потоки, удушая их, обращая их вспять и расчленяя их в соответствии с внутренними ограничениями системы...; второй - по пути бегства (от системы), которым следуют декодированные и детерриториализированные прорывы или шизы... всегда находящие брешь в закодированной стене или территориализированном пределе, которые отделяют их от производства желания". Таким образом, "шизо-потоки" конституируют среду, отрицающую (разрушающую) сложившуюся макросоциальную структуру и в силу этого вновь открытую для нового конфигурирования (ср. с состоянием "вторичного" или "достигнутого хаоса" в синергетике). В этом контексте шизоанализ конституирует фундаментальную разницу между "шизофренией" как свободным излиянием креативности, ориентированным на новизну, изменение и, в конечном счете, свободу, и "паранойей" как доминантой стабильности, установкой на константное бытие сложившейся структуры, консервацию наличной данности (навязчивый образ паранойи как попытка остановить процессуальность, превратить социум как историю в социум как "мегафабрику"). В социальном контексте "паранойя" стремится аксиологически утвердить наличный порядок вещей, санкционировать его в качестве так называемой "нормы"; "шизофрения" же, напротив, предполагает стремление к инновациям, в том числе и идеологического плана: "желание не "желает" революцию, но революционно само по себе". Таким образом, при переводе на язык социальной практики, "шизофреник - не революционер, но шизофренический процесс (прерывом или продолжением которого в пустоте он является) составляет потенциал революции". Соответственно, если "паранойя" предполагает акцентуацию общего, универсального, т.е. инвариантной нормы, то "шизофрения", напротив, акцентирует неповторимое, индивидуальное, автохтонное, спонтанное (как не могущее быть выведенным из общих оснований) и "незакодированное" (как не следующее общеобязательной матрице). В этом отношении шизофреник может быть интерпретирован как носитель инновационного, не оглядывающегося на наличный опыт и сложившуюся традицию (а значит - нелинейного по своим установкам) сознания: как пишут Делез и Гваттари, "шизофреник... смешивает все коды, будучи декодированным потоком желания... Шизофреник - это производство желания как предел общественного производства". (В обрисованном контексте созвучность идеям шизоанализа может быть обнаружена в современных интерпретациях девиантного поведения: в настоящее время в социологии находят широкое распространение трактовки девиации не как аномального поведения индивида, а как результата стигмации, т.е. "клеймения" индивидуально нестандартного, неожиданного поведения со стороны носителей культурной традиции, понятой в качестве консервативной - Д.Силвермен, Д.Уолш, П.Филмер, М.Филлипсон, а также школы Г.П.Беккера, Ф.Таненбаума, Э.Лемерта, Г.Хофнагеля.) В противоположность этому, "социальные машины", "псевдоструктуры" социальности пытаются остановить эти потоки, внешним насильственным усилием санкционировать вынужденную интеграцию принципально неинтегрируемых (если понимать интеграцию как претендующую на финальность) шизопотоков, т.е. установить "поперечное единство элементов, которые остаются полностью различными в своих собственных измерениях". - Соответственно, "параноик" интерпретируется в шизоанализе как тот, кто "фабрикует массы, он - мастер больших молярных ансамблей, статистических, стадных образований, организованных толп... Он инвестирует все на основе больших чисел... он занимается макрофизикой. Шизофреник движется в противоположном, микрофизическом направлении, в направлении молекул, которые уже не подчиняются статистическим закономерностям; в направлении волн и корпускул, потоков и частичных объектов, которые перестают быть притоками больших чисел". Пафос шизоанализа заключается в высвобождении бессознательного из-под гнета "псевдоструктур", освобождении шизоидальных потоков желания от параноидальных ограничений: по словам Делеза и Гваттари, "позитивная задача шизоанализа: обнаружение у каждого машин желания, независимо от любой интерпретации". Шизоанализ постулирует не только возможность, но и необходимость конституирования субъективности (бессознательного) в качестве свободного, и в первую очередь это предполагает свободу от внешнего причинения, принудительной каузальности, т.е. фактически от линейно понятого детерминизма (см. Неодетерминизм). - Бессознательное трактуется шизоанализом в качестве самодетерминирующейся процессуальности, т.е. как "нечто, порождающее самого себя". В системе отсчета шизоанализа, именно "шизофреник сопротивляется невротизации", а потому он фактически персонифицирует собою свободу, выступая носителем бессознательного, прорвавшегося сквозь ограничения "социальных машин" и реализовавшего себя поперек жестких направляющих осей интегральных "псевдоструктур" социальности, включая семью - и, может быть, в первую очередь, семью (см. Анти-Эдип). Вместе с тем, поскольку в число "псевдоструктур" входят социальные институты идеологической ортодоксии (и прежде всего - государство), постольку Делез и Гваттари формулируют также тезис о необходимости "превратить шизоанализ в необходимую деталь революционного аппарата". Синтезируя изложенное выше, шизоанализ констатирует, что желание, фундирующее шизофреническое бессознательное, является фундаментально свободным свободным от любой силы, претендующей на внешнее причинение: "желание сирота, анархист и атеист". И в шизоаналитической системе отсчета это выступает условием возможности того, что несмотря на демонстрируемый "социальными машинами" мощный "параноидальный" потенциал интегративности, жесткой нормативности и линейного детерминизма, шизофренически ориентированное бессознательное посредством "М.Ж." способно реализовать свой потенциал свободы. (См. также Шизоанализ, Анти-Эдип, Тело без органов.) М.А. Можейко МЕГАМАШИНА - понятие, употребляемое для обозначения обезличенной, технократически оптимизимированной, предельно централизованной организации, сливающей в единое целое в качестве равнозначных компонентов машины (механизмы) и работающих при них людей (Мэмфорд). Только посредством сознательного изобретения таких высокомощных М., составленных из человеческих и орудийных частей, могли быть осуществлены, часто в течение жизни одного поколения, колоссальные инженерные сооружения наподобие пирамид в Древнем Египте. Такая М. представляет собой, по существу, изобретение социальной организации нового типа, иерархически соподчиняющейся единому тоталитарному центру, воплощенному в верховном правителе, которому абсолютно подчинены политические, экономические, военные и бюрократические компоненты. Технические средства, используемые такой М., становятся "мегатехникой" в отличие от обычной техники, используемой вплоть до последних десятилетий в промышленном и аграрном производстве. В отличие от машин индустриального общества, являющихся трудосберегающими устройствами, М. древности была трудоиспользующим устройством, ибо экономия труда в них не играла никакой роли. М. представляет невидимую структуру, социальную пирамиду, составленную из живых человеческих элементов, каждому из которых предназначается определенная должность, роль и задача, но все они подчинены бюрократизированной системе управления из единого центра, обладающего абсолютной властью. Такую антигуманную социальную организацию характеризуют два фактора: один негативный, принудительный и слишком часто разрушительный; другой позитивный, жизненный, конструктивный. И хотя архетипической моделью М. стало, по Мэмфорду, сооружение крупнейшей пирамиды Хеопса - первого и самого долговечного из семи чудес древнего мира, которое было осуществлено культурой, только выходящей из каменного века и долго еще пользовавшейся каменными орудиями наряду с бронзовыми, совершеннейшая точность ее размеров и пропорций, сами масштабы сооружения, равно как техническая виртуозность проекта и его исполнения не превзойдены ни в одном техническом сооружении нашего времени. Крупномасштабное разделение и специализация труда в современном индустриальном обществе, считает Мэмфорд, берут начало именно в этой точке. Оттуда же проистекает и свойственная индустриальному обществу бюрократизация как интегральная часть М. Хотя создание М. связано с многочисленными творческими начинаниями, наиболее значительный и разрушительный результат их использования был достигнут в военной сфере, в колоссальных актах разрушения городов, культуры, уничтожения людей (от разграбления Шумера до атомного взрыва над Хиросимой). Поэтому Мэмфорд считал своим долгом активно выступать против злоупотреблений М., приводящих к "интеллектуальному империализму". Изобретателей и руководителей М., начиная со времен пирамид и вплоть до сегодняшнего дня, по утверждению Мэмфорда, постоянно преследовали иллюзии всезнания и всемогущества, которые не стали менее иррациональными в наши дни, когда они имеют в своем распоряжении внушительные ресурсы точной науки и технологию больших энергий, но которые становятся все более опасными для человечества. Поэтому, согласно Мэмфорду, необходимо произвести обдуманное, широкомасштабное разрушение М. во всех ее институциональных формах, с перераспределением силы и власти к меньшим единицам - социальным общностям, более открытым прямому человеческому воздействию и социальному контролю. Только таким путем можно вновь обратить технику на службу человеческому развитию, ориентировать ее на сознательное культивирование тех частей органической и социальной среды, самой человеческой личности, которые были подавлены мегамашинным технократическим монстром. Многообразные требования гуманного и полного человеческого развития могут быть удовлетворены только тогда, считает Мэмфорд, когда игра и работа образуют часть органического культурного целого: нужна не столько трудо-, сколько жизне- и человекоориентированная технология, только тогда она станет выполнять важную роль в гуманизации общества и в человеческом развитии. Е.М. Бабосов МЕЙЕР Александр Александрович (1875-1939) - русский философ и культуролог. Родился в лютеранской семье, где домашним языком был немецкий, но в зрелые годы считал себя православным. Учился на историко-филологическом факультете Новороссийского университета. Увлекся революционной деятельностью, был арестован и выслан в Архангельскую губернию. В последующем еще не раз арестовывался и ссылался. В 1904 выслан из Баку в Среднюю Азию. Сотрудничал в газете "Русский Туркестан". Вернувшись, в 1906 сблизился в Петербурге с крутом писателей и философов, сотрудничавших в журналах "Новый путь" и "Вопросы жизни". Активно занимался переводческой деятельностью, которую начал еще в годы Архангельской ссылки (переводил Маха, П. Барта, Ф. Йодля, Р. Штаммлера и др.), читал лекции в Обществе народных университетов (с 1908), в Вольной высшей школе Лесгафта (с 1910). На эти годы приходится перелом в мировоззрении М., он отходит от революционной деятельности. В начале 1910-х сблизился с Мережковским и З.Н. Гиппиус. С 1914 по 1928 служил в публичной библиотеке. После Февральской революции вернулся к пропагандистской работе. В августе 1917 участвовал в работе Всероссийского Церковного Поместного Собора. С 1918 по 1928 работал на вновь открывшихся Высших научных курсах П.Ф. Лесгафта, преподавал в ряде других учебных заведений. К 1918 году вокруг М. образовался религиозный кружок петроградской интеллигенции, в который в разное время входили Федотов, А.С. Аскольдов-Алексеев, М.Бахтин, Н.П. Анциферов и др. Кружок просуществовал до 1929, регулярно собираясь по вторникам. В 1928 за деятельность в кружке М. арестован (в 1928-1929 арестованы и другие члены кружка, в частности Бахтин). В 1929 приговорен к расстрелу, замененному по ходатайству А.С. Енукидзе (с которым семья М. была знакома по подпольной работе в Баку) 10 годами заключения. Срок отбывал на Соловках, затем на Беломорканале. В 1935 амнистирован, жил в Калязине, активно писал. Умер в 1939. При жизни печатался мало (в основном статьи и доклады), значительная часть работ осталась в рукописях. Основные сочинения: "Бакунин и Маркс" (1907), "Прошлое и настоящее анархизма" (1907), "Религия и культура" (1909), "Религиозный смысл мессианизма" (1916), "Что такое свобода" (1917), последняя прижизненная публикация - "Принудительный труд как метод перевоспитания" (1929), написанная на Соловках. Среди неопубликованных при жизни работ: "Что такое религия?" (1926), "Эстетический подход" (1927), "Звон и слово в "Фаусте" Гете" (1931), "Revelatia (Об Откровении)" (1931-1935), "Жертва. Заметки о смысле мистерии" (1932-1933), "Gloria (О славе)" (1932- 1936), "Три истока. Мысли про себя" (1937) и др. В первый период творчества М. увлекался марксизмом, но выступил и его критиком с позиций анархизма. Однако последний истолковал через идею мистериального переживания действительности. В творчестве и жизни Бакунина М. увидел прежде всего творение новых элементов жизни, эстетику (артистизм) революционного дерзания, единство слова и поступка. Фактически раннее творчество М. - это нащупывание идей и тем собственного философствования, подступы к проблеме личности и ее предназначения. Складывание же собственной концепции связано с поворотом М. к христианству, которое он никогда не толковал институционально и конфессионально, а видел в нем истоки философии человека. Основные темы зрелого М. - универсальное общение и онтология поступка, актуализм и персонализм как исходные принципы философствования. М. создал собственную концепцию диалогического общения, перекликающуюся с концепцией М.Бахтина и близкую идеям Бубера. На пути к утверждению принципа личности как абсолютной ценности М. должен был решить как минимум две проблемы: переформулировать свою же позицию "революционного дерзания", закрепленную еще со времен Ницше идею своеволия индивида, и "укоренить" человека в мире. Поработив природу, человек ("будущий бог") впал в культуртрегерский соблазн - осознав свою силу, прельщенный властью, человек обрек себя на одиночество, т.е. на небытие (во всяком случае как личности). М. неоднократно в работах "переходного" периода предупреждает об опасности ложного самоутверждения "Я" в культурном идеале. В споре с Бердяевым М. отрицает возможность оправдания человека через творчество (творческую самореализацию), предполагая тезис о необходимости овнешнения человека через его разностороннее включение в общение как предпосылку внутренней свободы человека, как возможность самой идеи личности. В этом же ключе М. дан анализ философии Фихте (которая рассмотрена им как проекция протестантизма в вопросах личностной проблематики). Согласно М., чистое Я Фихте присутствует в акте, не становясь плотью, не воплощаясь, без чего не может быть личности. Фихтевское Я "пустое я" ("попрание личности в индивиде"), так как не предусматривает и встречи с другими "Я" (имеет дело только с "не-Я"). В этом же русле лежит и анализ языческого и вселенского начал в "душе нации", который может быть распространен и на отдельную конкретную человеческую душу. Преобладание "языческого" ведет через утверждение национализма к принципу мессианистского искупления чужой, но не своей души, т.е. ко лжи. Преобладание "вселенского" - путь христианский, ведущий к осознанию своей миссии (жертвенной) в жизни. Таким образом, согласно М., необходима гипотеза о Сущем, без которой человек не знает, кому адресовать свои запросы о личной судьбе, которая дает конечное основание для любых оценок и без которой человек впадает в ложный мессионизм, ведущий к краю бездны. Именно "Верховное Я" (Сущее) своей любовью рождает в нас личность, когда мы ему открыты, делает возможным общение с другими людьми. Человек, не покидая почвы конкретной истории и актуализируясь в современности, должен откликаться на голос Сущего. Однако люди не способны удержать полностью истины откровения. Это неизбежно ведет к превращению церкви в "механическую", закрывающуюся в своей институциональности и конфессиональности, догматизирует доктрину. В результате религиозные ценности уходят в культуру и требуется новое религиозное сознание, способное воспринять новое откровение. Для этого необходимо снять с Я присвоенную им атрибутику ложной божественности, не отрицая культуру, преодолеть ее во имя высших религиозных ценностей, признать мистериальный (жертвенный) характер культурного творчества. "Жертвенность" несет в себе онтологический (причинность жертвенного обмена), актуалистски-деятельностный (единство слова и поступка как условие устроения бытия по "мере правды") и символически-мифологический (встреча горнего с дольным) аспекты. Каждый в мире жертвенно предстоит каждому в сотворческом пространстве диалога "я" с "ты", "я" с "мы", Бога с миром. Диалог, как основа практической нравственной философии, проникнут "личностностью" и "тайностностью", дает жизнь любому содержанию и идее, но до конца не рационализируем. С темой диалога в философию М. вводится и проблематика "другого". Замкнутость отдельного "Я" преодолевается в интенциальной устремленности сознания его напряжением до степени Эроса. "Я" реализует себя лишь спасая "другого", вступая в диалог с чужой субъективностью "ты" (жертвенность по отношению к другому как структурирующий диалог признак). ("Другое Я", как противостоящее "чужое", М. фиксирует термином "он"). Находя "творческий отклик" друг в друге, "я" и "ты" способны структурировать "мы", породить новую "общественность", задаваемую не принципами государства и общества, а строимую по принципам церкви диалогической духовности. Пространство между "Я" и "другим" структурировано. Оно заложено "откликами", т.е. высказываниями и волевыми действиями, направленными на обнаружение смысла жизни, закрепленными в мифах, символах, мистериях, задающих предпосылки общения. Личность обретает себя, проходя "сквозь" культуру, "сквозь" всех "других", включаясь в переживание жертвенной встречи с Абсолютом. Так М. выходит на онтологизацию слова как поступка, как прорыва мысли к сущему, через превращение жизни в подвиг восхождения к правде о самом себе, через синхронизацию идеи и биографии. Сам М. этот путь прошел в полной мере, увлекая многогранностью своих идей и поражая "гениальностью самой своей личности" (Д.С. Лихачев). В.Л. Абушенко МЕЙЕРСОН (Meyerson) Эмиль (1859-1933) - французский философ и химик польского происхождения. Область интересов - эпистемология и история науки. Основные усилия приложил к реформированию кантианства в духе "нового рационализма" как философии науки, оппонирующей (нео)позитивистской методологии. Свою концепцию определял как "философию тождества". Испытал влияние идей А.Лаланда, П.Дюгема, Ж.-А.Пуанкаре, а также философии Бергсона. Молодым человеком М. уехал из Польши в Германию, где работал химиком в лаборатории Р.Бунзена. Затем (в 1882) переехал во Францию, где также сначала работал в химической лаборатории. Увлекся проблемами истории и методологии науки, что привело его в философию (которую он понимал прежде всего как эпистемологию, логику и методологию научного познания). Был секретарем Психологического института при Сорбонне. Предтеча неореализма. В 1908 выпустил свой основной труд "Тождественность и действительность. Опыт теории естествознания как введение в метафизику". Другие работы М.: "Об объяснении в науках" (т. 1-2, 1921); "Релятивистская дедукция" (1925, работа получила положительную рецензию А.Эйнштейна, который, в частности, писал: "Я считаю, что книга М. является лучшей из книг по теории познания"); "О движении мысли" (1931, основная работа "позднего" М.); "Реальность и детерминизм в квантовой физике" (1933, работа вышла в серии, редактируемой Л.де Бройлем). Исходные установки философии М. задавались "антиметафизической установкой", требующей ревизии классического рационализма, и антипозитивизмом в "негативной" части его философии науки и задачами методологической рефлексии науки, центрированной на проблематике смысла и содержания научной теории - в "позитивной" части. "Мы хотели... апостериорным путем познать те априорные начала, которые направляют наше мышление в его устремленности к реальности. С этой целью мы анализируем науку - не для того, чтобы извлечь из нее то, что рассматривается как ее результаты (как это часто делают материалисты и "натуралисты"), - еще меньше для того, чтобы вдохновиться ее методами (на что притязают позитивисты), - мы скорее рассматриваем ее как сырой материал для работы, как уловимый продукт - образчик человеческой мысли в ее развитии". По М., наука исторична, она предопределяется во многом своим "субъективным прибавлением", каждый раз связанным с социокультурным опытом эпохи. В то же время наука сохраняет единство, но наследует предшествующие достижения не столько как готовое знание, сколько как "фактичность", которая подлежит деструктурированию до исходного "материала", который переоформляется в новую схему на основе изменения перспективы видения и принципов упорядочивания материала во вновь продуцируемой теории (начинающей с исходной ситуации рассуждения, с нулевой точки отсчета, с данного момента, предстающего как относительное начало времени). Объединяя интенции, идущие от Канта и Бергсона, М. говорит об изначальной логической (методологической) организованности длительности опыта, в котором разум предрасположен фиксировать повторяющееся и тождественное в явлениях. Разум, стремясь отождествлять нетождественное, характеризуется: 1) своим соотнесением с реальностью (в своих работах М. часто пользуется термином "вещь-в-себе", репрезентирующим мир как объект (научного) (по)знания); 2) своим принципиально единым внутренним схематизмом - и на обыденном, и на научном уровнях он подчинен одним и тем же правилам (разница, хоть и существенная, лишь в том, что в науке разум ищет инварианты, конструируя понятия, а на уровне "здравого смысла" он создает идеализацию устойчивого объекта как совокупности устойчивых отношений); 3) своей собственной изменчивостью в познании и социокультурных контекстах. Эти тезисы и легли в основание "философии тождества" М., призванной за изменчивостью увидеть инвариантность соотносимого с реальностью (опытом) разума. В этом своем качестве философия не есть "строительные леса" (согласно известной позитивистской метафоре) научной теории, которые затем отбрасываются за ненадобностью, а условие возможности самой науки как таковой. Элементы "ошибки", неадекватности, неполноты, недостаточности и т.д., принципиально встроенные (присутствующие, наличенствующие) в любом научном знании, не говоря уже о необъяснимых (неэксплицированных, нерефлексируемых) внутри самой теории оснований, способно выявить только "объемлющее" знание, философская рефлексия, что только и позволяет открывать новые перспективы видения и горизонты, требующие своего познавательного "достижения". Наука в этом смысле, согласно М., несамодостаточна. Она несамодостаточна и в другом отношении только философия способна блокировать поспешные и необоснованные экстериоризации и онтологизации теоретических конструктов науки (чем "грешит", с точки зрения М., и философия, построенная на позитивистской методологии), что никоим образом не отрицает необходимости философского анализа этих процессов экстериоризации и онтологизации. Более того, одну из своих целей М. видел именно в том, чтобы показать, что нет никаких оснований для резкого противопоставления познавательных конструктов и действительности "самой по себе" ни на основе методологии философии, ни на основе фактического материала истории науки. Это возможно сделать, с одной стороны, через анализ выставляемых и удерживаемых наукой знаниевых рамок, внутри которых движется познание (внутри рамок природа может вести себя "как угодно", но подчиняться "выставленным" принципам и законам; "тождественность - это вечная рамка нашего ума"), и через вскрытие тех априорных начал мышления, которые задают и обеспечивают его устремленность к "тождественному" - с другой. В обоих случаях содержательный анализ знания заменяется его фориальным анализом - вскрытием самих условий возможности знания. Отсюда (историческая) реконструкция познания, по М., должна быть направлена не столько на различение "достижений" и "заблуждений", сколько на поиск алгоритмов мыслительной деятельности (если таковые обнаружатся), одинаково проявляющих себя как в "ошибках", так и в истинном (по)знании. Эта установка М. стала впоследствии одной из конституирующих для неорационализма как подхода в философии науки. В этой своей устремленности критический рефлексирующий разум последовательно "отделяет" от наличного знания: 1) непосредственно привносимое опытом, обнаруживая за эмпирическим знанием его логическую организованность, воплощение определенного "закона", что говорит о том, что эмпирическое знание невозможно по определению, так как исходит из круга в определении; 2) связанное с той или иной научной традицией, т.е.: (а) разделяемые внутри "сообщества" и (б) в определенное время схемы и представления о стандартах действования, предвзятые идеи (от которых "мы никогда не бываем вполне свободны"); 3) априорные образцы работы разума, его постоянно воспроизводимые (и в науке, и в обыденном мышлении) устойчивые структуры, собственно и предопределяющие стремление разума "отождествлять различное", замещать бесконечное разнообразие мира ощущений и восприятий тождественными (инвариантными) во времени и пространстве связями и отношениями. Между рациональной схемой тождества и реальностью постоянно существует "зазор", который и призвано заполнять и сужать усложняющееся в этом своем стремлении научное (по)знание, осознающее в философской саморефлексии, что кроме познанного всегда принципиально будет существовать непознанное (иррациональное в различных аспектах), что тождество всегда будет содержать различие-различение, а потому принципиально никогда не достижимо (примечательны в этом контексте отсылки М. к Брэдли и Б.Бозанкету представителям абсолютного идеализма). Согласно М., "всякое рассуждение, сводясь в сущности к отождествлению, имплицирует различное как исходный пункт и тождественное как конечный пункт. Отсюда необходимость содержания, которое устраняет возможность всякой подлинной тавтологии...". Всю эту конструкцию можно обозначить как "схему Мейерсона", сыгравшую значительную роль в рационалистических версиях философии науки, последовательно структурировавшей первый и второй ее уровни вплоть до представления о целостности сложноуровневой организованности знания и не менее последовательно критиковавшей ее третий уровень за априоризм (одним из первых эту критику предпринял Башляр, что, в том числе, и позволило ему вписать эту "схему" в неорационализм). Сам же М., хотя впоследствии и смягчил свою формулировку, все же исходил в своем творчестве из признания того, что "в науке есть нечто действительно априорное, а именно прежде всего ряд постулатов, в которых мы нуждаемся для построения эмпирической науки, т.е. для формулировки того положения, что природа закономерна и что мы можем познать ее течение". Однако его априоризм в отличие от кантовского настаивает на том, что разум не способен приписывать свои законы природе. Для понимания априорных оснований разума М. рассматривает понятие "закона" и "принцип причинности". Основной тезис, который М. пытается обосновать на материале истории науки (способность которой к реконструкции исторических фактов есть критерий ее ценности для философии науки), состоит в том, что конкретное содержание, вкладываемое в них исторически изменчиво, но сами они остаются основами познающего разума. Закон - это то, что неизбежно включается в теоретические конструкции, с помощью которых описывается реальность (он приложим к созданным понятиям, а не к единичным явлениям, - "закон природы, которого мы не знаем, в строгом смысле слова не существует"). "...Закон - это идеальное построение, которое выражает не то, что происходит, а то, что происходило бы, если бы были осуществлены соответствующие условия". Но при этом М. одновременно признает, что: "Без сомнения, если бы природа не была упорядочена, если бы в ней не было сходных объектов, из которых можно создавать обобщающие понятия, мы не могли бы формулировать законы". Таким образом, закон рассматривается М. как методологический принцип, как готовая эвристическая схема исследования все новых объектов. Эту же роль выполняет и принцип причинности, по сути эксплицирующий закон в конкретике изменяющихся условий: "согласно причинному принципу должно существовать равенство между причинами и действиями, т.е. первоначальные свойства плюс изменение условий должны равняться изменившимся свойствам". Другое их различие состоит в том, что понятие закона элиминирует время, не учитывает временную процессуальность, причинность же описывает процессы во времени, применяется к разделенным временными интервалами событиям. Она есть не что иное, как принцип тождества, примененный к существованию вещей во времени. Однако в обоих случаях, по М., имеет место отождествление как продукт разума, позволяющий ему "объяснять". Закон устанавливает вневременной порядок в многообразии существующего, причинность указывает на порядок в становлении. "Внешний мир, природа кажутся нам бесконечно и непрерывно изменяющимися во времени. Между тем принцип причинности убеждает нас в противоположном: мы имеем потребность понять, а понять мы можем только в том случае, если допустим тождество во времени". Отсюда: "Вопреки постулату Спинозы порядок природы не может вполне соответствовать порядку мысли. Если бы это было так, то получилось бы полное тождество во времени и пространстве, т.е. природа тогда не существовала бы". Тем самым открывается путь к своеобразной дереализации непосредственной данности в (по)знании - стремление свести все к пространственным отношениям, выразимым геометрически, что, далее, открывает путь к их выражению в математических формализмах. "...Мы приходим к законам, насилуя, так сказать, природу..." указывает М. Как примеры отождествления в физике он рассматривает принципы инерции и сохранения энергии, в химии - принцип сохранения массы. М. показывает их предысторию как цепь сменяющих друг друга различных по содержанию, но сходных по форме конструкций, непосредственно не выводимых из опыта, но ищущих в нем своего подтверждения (через согласование с ним). На каждый данный момент времени научное знание есть достигнутый компромисс двоякого рода. С одной стороны - между фактами (которые сами есть сложные познавательные конструкции, так как "конструкции факта и преобразования разума постоянно переплетаются") и теориями: "теории, конечно, не выводятся из фактов и не могут быть доказаны с помощью этих фактов", но задача теорий - "объяснить факты, согласовать их по мере возможности с требованиями нашего разума". С другой стороны - "практическое использование" понятия причинности также требует компромиссного консенсуса, вводящего ограничения на рассматриваемые условия, ограничивая их "ближайшими" причинами (снятие требования "полной причинности"). В этом отношении (по)знание принципиально динамично в своей "компромиссности" и "согласованности" в стремлении к "тождественности", которой к тому же, согласно М., противостоит "принцип Карно", выработанный в термодинамике (как ее второй принцип) и вводящий представление о действующей тенденции к изменению, к росту разнообразия, т.е. характеризующий становление, а не тождество. Иначе "принцип Карно" можно трактовать как вторжение в науку реальности, привносящей с собой представление о временной необратимости и несимметричности процессов и свидетельствующей о появлении иррационального как трансцендентного разуму как неподдающегося правилам "объяснения", свойственным этому разуму, как того, что не может быть сведено к тождеству: "Ни одно, даже самое незначительное, явление не может быть вполне объяснимо. Тщетно пытаемся мы "свести" одно какое-нибудь явление к другим, заменяя его все более и более простыми: каждое такое "сведение" является ущербом для тождества..." Только наличие хотя бы минимального содержания делает теорию нетавтологичной, но нетавтологичность рано или поздно раскроется как внутренняя противоречивость, т.е. иррациональность. В этом отношении иррациональны и основания любой теории в силу того, что они не могут быть объяснены внутри нее самой и ее собственными средствами. Отсюда (по)знание динамично и в своем стремлении "изжить" иррациональное, рационализировать его, сняв сложившиеся ограничения и расширив тем самым область своего применения (в этом ключе может быть проанализирован переход от ньютоновской к квантовой механике и создание теории относительности). Однако в своем динамизме, "переходя от теории к теории, от отождествления к отождествлению, мы совершенно уничтожили реальный мир. Сначала мы объяснили, т.е. отвергли, изменение, отождествив предшествовавшее с последующим, - и ход мира был приостановлен. У нас осталось пространство, наполненное телами. Мы образовали тела из пространства, свели тела к пространству - и тела, в свою очередь, исчезли. Это пустота, "ничто", как говорил Максвелл, небытие... Время и пространство растворились. Время, течение которого больше не влечет за собой изменения, неразличимо, не существует; и пространство, лишенное тел, уже ничем не отмеченное, тоже исчезает...". Отсюда осталось сделать лишь полшага к концептуализации тезиса о "дереализации реальности" и создании "реальности второй ступени" неорационализма. Так же как и последний, М. удерживает, но более отчетливо, представление о присутствии реальности хотя бы через "сопротивление материала". Сам же априорный принцип тождества ("истинная сущность логики", "форма, по которой человек отливает свою мысль", "интегрирующая часть нашего разума") трактуется у М. как проявляемая тенденция мышления, работающего в конкретном материале. В этом же ключе он говорит о "правдоподобности" знания, так или иначе выражающего "подготовленность" разума к восприятию тождества, что и составляет "единственный априорный элемент этих положений" - "все же остальное является эмпирическим". Однако научно организованный разум отличается от обыденного в том числе и в этом отношении именно тем, что он руководствуется "эвристической рефлексией, которую он должен быть готовым модифицировать или отбросить, если реальность... выказывает свою строптивость". Наука через философию критична по отношению к самой себе, она способна менять свои перспективы (а тем самым стиль и сам способ мышления) и перестраивать сам предмет своего (по)знания (строя новую теорию, способную увидеть "факты" в ином свете), осознавая, что что-то до сих пор "ускользало от ее внимания, и понимая, что такое "ускользание" будет обнаружено и в будущем. Отсюда и построение стратегии развития науки, ставшее впоследствии "общим местом" в методологии и логике науки: "Когда, следуя предположению касательно интимной природы явлений, ученый-исследователь наталкивается на констатацию, противоположную его ожиданиям, он, очевидно, тотчас пробует объяснить то, что обнаружил, как аномалию, возможную в результате действия привходящих факторов; он формирует то, что называют вспомогательными гипотезами. Разумеется, он эти гипотезы в свою очередь проверяет, он их будет подтверждать или разрушать посредством эксперимента, он будет подтверждать или изменять их или сразу отбрасывать, и это сможет в конце концов заставить его изменить или отбросить его первичное предположение". Постоянное же изменение гипотез, побуждаемое нарушающим инертность разума опытом, кроме всего прочего задает определенную векторность научному поиску, важно только, чтобы эти гипотезы формулировались максимально строго и жестко, иначе их трудно локализовать и верифицировать. И тем не менее "всякий реальный процесс, достигнутый в этой области, бесконечно ценен. Ясно поняв, где мышление приближается к тавтологии (которая не может быть никогда действительно и полностью реализована в нем, поскольку в этот момент мышление перестанет быть мышлением), мы более отчетливо распознаем модальности его движения, его прогресса, мы понимаем, до какой границы мышление было строго дедуктивным, априористическим, т.е. в чем оно приближается к тождеству, какой линии исследования мы должны следовать, чтобы проводить такую идентификацию, и каково также различие, которое мы отодвигаем в сторону в большинстве случаев совершенно бессознательно". Однако в любом случае мы находимся внутри рамки, задающей нам границы возможной рационализации материала и позволяющей нам строить предмет таким, а не иным образом. Кардинальное изменение в науке есть, таким образом, изменение самой этой рамки (которая по-прежнему будет удерживать априорность стремления к тождественности), т.е. принципов и возможности выводимости согласно строгим правилам теоретической конструкции. Все, что "не попадает" под действие этих правил, обречено оставаться иррациональным (как невыводимое таким способом) до следующего витка познания. Открытие же новой перспективы, т. е. выбор иного аспекта отождествления, поддерживается постоянной и принципиальной динамичностью (по)знания. Согласно М., "наука есть и остается (по крайней мере оставалась до сего времени) строго реалистичной создательницей онтологий. Как бы ни хотели непосредственно исходить из фактов, каких бы усилий не предпринимали, чтобы исключить всякую гипотезу, из физики во всяком случае не исключается эта метафизика". (См. также Неорационализм.) В.Л. Абушенко МЕЙНОНГ (Meinong) Алексиус фон (1853-1920) - австрийский философ и психолог, ученик Брентано. Профессор (1882). Преподавал философию в университетах Вены (1878- 1882) и Граца (с 1882), где им была основана первая в Австрии лаборатория экспериментальной психологии (1886-1887). Основные сочинения: "Исследования Юма" (в двух томах, 1877- 1882), "По поводу предположений" (1902), "Исследования по теории предметов и психологии" (1904) и др. Разделяя тезис британского эмпиризма, усматривавшего в "отношениях" и "универсалиях" "продукты сознания", М. полагал, что теории отношений, истины, значения, суждения принадлежат к сфере психологии. М. разделил выводы своего ученика, польского философа К.Твардовского ("К учению о содержании и предмете представлений" - 1894), вычленившего в структуре "психического феномена" три отдельных элемента: ментальный акт, содержание этого акта и его предмет. По мысли М., недопустимо считать содержание и предмет тождественными, ибо в этом случае то, что расположено перед сознанием (собственно предмет) непонятным образом оказывается частью (содержанием) схватывания этого предмета. Физические же тела не могут являться компонентом ментального акта. Даже в случае размышления о несуществующем предмете (гном или квадратный корень, например) ментальный акт мышления действительно существует. Соответственно, с точки зрения М., все, что является частью содержания последнего, тоже должно существовать: русалка не может быть содержанием ментального акта, но может выступать его предметом. Одновременно, по модели М., в ментальном акте присутствует нечто такое - его содержание, что обусловлено его направленностью на данный (а не какой-то иной) предмет. "Содержание" у М. не есть ни подобие предмета, ни разновидность ощущения, оно суть качество ментального акта, позволяющее ему быть направленным на определенный предмет. Амбивалентность человеческого познания, включающая психическую природу субъекта и предметность его восприятия, делает, по мысли М., атрибутивной частью гносеологии психологию познания и теорию предметов. Последняя, согласно М., являет собой "совершенно новую философскую дисциплину" - учение о чистом предмете как о таковом эмпирическое учение, не допускающее каких-либо ограничений на включение в свою сферу тех или иных предметов. По М., "все есть предмет". М. ориентировался на косвенное осмысление предмета, указывая на "схватывающие" его "переживания" (соответствующие психические события), основными классами которых выступают представление, суждение, чувствование и желание. Все они не способны конституировать либо модифицировать предмет: предмет всегда логически первичен по отношению к собственному "схватыванию". По версии М., всегда существует некоторое психическое "переживание", ответственное за презентацию мышлению того или иного предмета. М. выделил два типа предметов: 1) элементарные предметы, сенсорные данные (цвета, звуки и т.п.); 2) предметы более высокого порядка, к которым им причисляются формы или структуры. Простые предметы конституируются на основе функционирования периферийных органов чувств, предметы же высшего порядка - результат продуцирующей активности субъекта. Так, "желтый лист", по М., есть предмет существующий. Есть предметы "реальные", но "несуществующие": различие между "желтым" и "красным" реально, но оно "не существует" в том смысле, в каком существуют красная книга и красный лист. "Реальные несуществующие" (например, "число три") М. именует "логически существующими". Есть и иные варианты - "круглый квадрат" нельзя полагать ни существующим, ни логически существующим, его место "вне бытия". Согласно схеме М., правомерно говорить о "внебытии чистого предмета", т.е. о том, что "имеются" предметы, не имеющие бытия, но имеющие определенные характеристики. "Необоснованная благожелательность по отношению к действительности", предполагающая действительность всех предметов, по мысли М., не оправдана: по его мысли, имеются виды бытия, принципиально отличные от конкретных единичных сущностей. М. разграничивает предметы-"объективы" (objectives) и "предметы" ("объективное"), могущие существовать либо не существовать (алмазная гора, например), но о которых бессмысленно говорить являются ли они "фактами" или "событиями". И - наоборот - об "объективах" (существовании алмазных гор) недопустимо осмысленно утверждать, что они существуют, но в качестве предметов высшего порядка они "существуют логически", при этом они либо есть факт, либо не есть факт. По мысли М., мы можем "предполагать" "объектив", мыслить его существующим, но не утверждать и не отрицать его (что обязательно для суждения). Твердо настаивая на объективности (т.е. на том, что они не являются характеристикой утверждающего или созерцающего сознания) фактов, модальных различий, отношений, вещей и чисел, М. был вынужден постулировать реальное существование во Вселенной совершенно фантастических и - мягко выражаясь странных ее ингредиентов. Дополняя "объективы" и "объективное" такими классами предметов, как "достойное" (истинное, доброе и прекрасное) и "желаемое" ("предметы" долженствования и надобности цели), М. сформулировал ряд перспективных подходов к теории ценностей. Парадоксальные выводы онтологии М. приобрели позднее широкую популярность в контексте эволюции неклассических логик. В 1968-1978 в Граце было издано 8-томное собрание сочинений М. А.А. Грицанов МЕРА - философская категория, традиционно используемая в контексте отображения взаимосвязи и взаимозависимости количественных и качественных изменений. Подобный подход в трактовке М. был конституирован и легитимизирован в историко-философской традиции Гегелем: "Все вещи имеют свою меру, т.е. количественную определенность, и для них безразлично, будут ли они более или менее велики; но вместе с тем это безразличие также имеет свой предел, при нарушении которого (при дальнейшем увеличении или уменьшении) вещи перестают быть тем, чем они были". М., т.обр., трактуется как интервал или диапазон, в границах которых вещи и явления, изменяясь, сохраняют тем не менее единство своих качественных и количественных параметров, т.е. остаются идентичными сами себе, самотождественными. М. у Гегеля тем самым исполняет роль соединительного логического звена между категориально-понятийными комплексами, описывающими, с одной стороны, непосредственное бытие, - и сферу сущности, с другой. Выступая также в качестве несущей конструкции гносеологической процедуры перехода от абстрактного к конкретному, М. в своем развертывании в рамках схемы Гегеля могла приобретать статус мерила "особости" либо даже "индивидуальности" того или иного объекта или явления. Классическая философия различает простую или непосредственную М. (как М. отдельного объекта вне системных взаимодействий), системную М. (как М. объекта, понятого в качестве элемента некоей целостности) и реальную М. (как М. объекта, рассматриваемого с точки зрения всех его возможных систем взаимодействий, где репрезентируется его качество). Проблема "горизонта", "предела" конкретизации М. применительно к феноменам действительности оказывается тесно сопряженной с философским вопросом о возможности аппликации М. к миру человека и его деятельности. Тезис Протагора о том, что человек есть М. всех вещей, остается противопоставлен пониманию М. как элементу объективной и общезначимой совокупности характеристик природного и социального бытия. Особую смысловую нагрузку в этом плане приобретает также основополагающая философская проблема принципиальной возможности не только выявления, но и создания человеком определенной "мерности" бытия. Несовпадение "мерности" программ человеческой деятельности и "мерности" существования определенных природных систем породило, в частности, совокупность экзистенциальных вопросов бытия человеческой цивилизации, именуемых "глобальными проблемами". А.А. Грицанов МЕРЛО-ПОНТИ (Merleau-Ponty) Морис (1908-1961) - французский философ, представитель феноменологии и экзистенциализма. Профессор философии в Коллеж де Франс, профессор детской психологии в Сорбонне. Испытал влияние идей гештальтпсихологии, Гуссерля, Хайдеггера, Сартра. Главные темы творчества М.-П. - специфичность человеческого бытия как открытого диалога с миром; характер и механизмы "жизненной коммуникации" между сознанием, поведением человека и предметным миром; присутствие и конституирование в опыте экзистенции фундаментальных смыслообразующих структур и содержаний, организующих опыт как целостность и мир как конкретную ситуацию; способы феноменологического анализа и прочтения интенциональной жизни сознания и экзистенции и др. При рассмотрении специфики существования субъективности и ее отношений с миром М.-П. отвергает как "реализм" (отождествляя его с эмпиризмом и механицизмом, редуцирующим следствие к причине, "материально взятому стимулу" и объясняющим жизнь сознания "действием социологической или физиологической каузальности"), так и "критическую философию" (классический трансцендентализм, философию рефлексивного анализа). Последнюю философ упрекает в сосредоточении на анализе "возможного" ("чистого") сознания, или "чистых сущностей сознания", и игнорировании проблемы "непрозрачности" и сопротивляемости мира, онтологической устойчивости и конститутивности феноменального слоя, разнообразия фактических модусов сознания. Выдвигая требование "придать конечности позитивное значение", М.-П. ставит своей целью исследовать человеческий опыт в реальном синкретизме рационального (необходимого) и случайного, в его историчности и действительной неоднородности, со всеми его "случайными содержаниями" и тем, что в нем считается "бессмысленным". Человек с необходимостью является "взглядом" на ситуацию, продуцированием ее смысла (значения), что позволяет ему преодолевать созданные структуры, производить новые, отвергать наличное и "ориентироваться по отношению к возможному" ("Структура поведения", 1942). Ввести в сознание "коэффициент реальности" и трансформировать трансцендентальную философию посредством интегрирования в ее корпус "феномена реального" М.-П. предполагает на пути разработки феноменологической идеи сознания как "сети значащих интенций", то прозрачных для самих себя, то скорее переживаемых, чем познаваемых. Анализ онтологически первичных "синтезов" опыта, выявление продуктивной деятельности дорефлексивных и допредикативных его форм позволяет, по мнению философа, "растянуть" интенциональные нити, связывающие нас с миром, прояснить их и показать тем самым, как происходит "встреча", "наивный контакт" человека с миром, как рождается, конституируется смысл в глубинах дорефлексивного опыта экзистенции. Именно перцептивный опыт в его "перспективизме" (акт восприятия всегда выполняется "здесь и теперь", т.е. в определенной перспективе, которая обусловлена местом, телом и прошлым опытом человека, задающими ему его "ситуацию", "точку зрения") является, по мнению М.-П., тем "типом первоначального опыта человека", в котором конституируется "реальный мир в его специфичности". Философское же Я не должно позволять фактическим условиям "действовать без его ведома" ("Науки о человеке и феноменология", 1954). Философская рефлексия должна стать более радикальной, делая себя причастной к "фактичности иррефлексивного" и проясняя свои собственные основания и истоки; она должна "поставить сознание перед его иррефлексивной жизнью в вещах", перед его собственной историей, которую оно "забыло". "Феноменология восприятия" М.-П. (1945) есть попытка найти ответ на вопрос: "где рождается значение?". Анализ опыта тела воспринимающего субъекта, его навыков показывает нередуцируемость смыслов феноменального слоя сознания и доказывает его фундаментальный онтологический характер. Феномены, которые интеллектуалистская философия сводила к "простому заблуждению", должны быть прочитаны в качестве "модальностей и вариаций тотального бытия", считает М.-П. Истолкование этого "слоя живого опыта", через который первоначально даны субъекту вещи, мир, Другой, позволит понять систему "Я - Другой - вещи" в стадии становления, т.е. "раскрыть действительную проблему конституирования". В понятии экзистенции М.П. стремится реинтегрировать психическое и физиологическое. "Первоначальная операция означивания" осуществляется в пространстве феноменального тела (лишь в абстракции двумя полюсами которого являются субъект и мир) как "значащего ядра", "узла живых значений". Тело порождает смысл, проецируя его на свое материальное окружение и определяя тем самым горизонт экзистенциального пространства человека, его возможности понимания мира, других и себя самого. Тело открывает субъективности мир, располагая ее в нем. Этот третий, по мнению М.-П., род бытия между "чистым субъектом" и объектом трактуется как "застывшая экзистенция", а экзистенция - как "постоянное воплощение". Перцептивное сознание всегда "засорено" своими объектами, оно увязает, застревает в них, имеет свое "тело" в культуре, истории, прошлом опыте человека. Характеризуя сознание одновременно как спонтанность и отложения в нем прошлого опыта, М.-П. делает вывод об "анонимности тела", невозможности "абсолютно центрировать" экзистенцию, наличии деперсонализации в центре сознания, относящейся не только к генезису мысли субъекта, но и к ее смыслу. Не прозрачная для сознания интенциональность тела, синтезирующая опыт, "дологическое единство телесной схемы" - такие описания процесса конституирования опыта и значения дает М.-П. Вместе с тем, его "философия двусмысленности" пытается сохранить идею открытости ситуации, экзистенции как "движения принятия фактов на себя". М.-П. стремится задать движение означивания одновременно как "центробежную и центростремительную силу" и заявляет о предпочтении "неоспоримого понятия опыта" неоднозначному понятию "сознание". В последний период творчества М.-П. занимался поисками оснований самого перцептивного опыта, истоков и механизмов изначальной включенности человека (как телесности) в мир, свидетельством которой и является перцепция. Задаваясь вопросом: "как наш опыт открывает нас тому, что не есть мы?", он замышляет разработку онтологии, которая дала бы новое понимание внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, перцепции (не являющейся ни объектом, ни "операцией" субъекта, как бы его ни интерпретировали, но представляющей собой "архетип первоначальной встречи") и "плоти": отсутствующего в предшествующей философии предельного понятия, не составляемого соединением тела и духа, этих двух субстанций, но являющегося "элементом", "конкретной эмблемой" некоего "общего способа бытия" ("Видимое и невидимое", 1964). Понимая философию как "разъяснение человеческого опыта", М.П. уделяет большое внимание также анализу проблем политики; литературы и искусства; истории и методологии ее понимания; интерсубъективности и онтологии исторического праксиса; языка, его природы, истории и патологии. В разработке проблем истории и языка М.-П. опирается на идеи структурной лингвистики и структурной антропологии. Он исходит из различения языка "сказанного" (закрепившегося в сложившихся формах выражения и, в качестве такового, представляющего собой определенный порядок и систему) и "говорящего" (речевой практики, живого, подвижного, творческого языкового акта, в котором осуществляется трансцендирование, преодоление говорящим субъектом наличных значений, "к чему его побуждает происходящий вокруг него износ слов"). Язык для М.-П. есть "динамическая реальность", неустойчивая совокупность наличных (общепризнанных) и нарождающихся значений, открытое предприятие говорящих субъектов, "которые хотят понимать и быть понятыми". Анализ отношений между языком и мыслью, словом и его смыслом (значением, которое должно поддерживаться "всеми другими словами", т.е. гештальтом языка, языком как целым, тотальностью) и др. позволяет М.-П. говорить о "перспективном" характере смысла: смысл слова "находится не позади, а впереди", он "не является с необходимостью результирующей всех предыдущих смыслов". Соответственно, история языка, которая для М.-П. является лишь одним из примеров "всей истории в целом", исследуется им как принципиально незавершенное стремление к обретению и расширению смысла. Создание новых языковых форм, сменяющих омертвевшие, это непредсказуемое переплетение "случайностей и порядка", "одновременно случайное и логичное движение вещей". Таким образом, идет ли речь о человеке и его теле, или о мире, истории, языке, искусстве и др., экзистенциальная феноменология М.-П. рассматривает их через анализ динамического слияния (сращивания, переплетения, взаимопревращения) субъективного и объективного, внешнего и внутреннего, воспринимающего и воспринимаемого, видящего и видимого, смысла и бессмыслицы, логики и случайного. При анализе "этой странной системы взаимообмена", - в результате которого "вещи и мое тело сплетены в единую ткань", ибо я изнутри участвую в артикуляции Бытия, - экзистенциальная феноменология М.-П. пытается понять эту артикуляцию Бытия в стадии зарождения и оформления и, в этом онтологическом контексте, осознать: что значит воспринимать, осмыслять, ощущать, представлять, видеть? Философские идеи М.-П. продолжают оказывать влияние на представителей феноменологии, герменевтики и постструктурализма. Другие работы М.-П. - "Гуманизм и террор" (1947), "Смысл и бессмыслица" (1948), "Язык несказанного и голоса молчания" (1952), "В защиту философии и другие эссе" (1953), "Приключения диалектики" (1955), "Знаки" (1960), "Око и дух" (1961), "Проза мира" (1969). (См. также Плоть мира.) Т.М. Тузова "МЕРТВОЙ РУКИ" ПРИНЦИП - конститутивный принцип постмодернистской философии, фиксирующий отношение культуры постмодерна к феномену традиции в качестве тотального отрицания возможности последней. Фундирует собою базисные основоположения постмодернистской философской парадигмы; эксплицитно сформулирован Х.Брук-Роуз на основе имплантации в философский понятийный аппарат правовой терминологии (в юридической практике фигура "мертвой руки" означает владение без права передачи по наследству). В контексте парадигмальной установки "заката метанарраций" (см. Закат метанарраций) культурная среда обретает децентрированный характер (см. Ацентризм), утрачивая стабильность дифференциации на идеологически санкционированный центр и оппозиционноеретическую периферию (см. Ортодоксия). - Дискурс легитимации уступает место дискурсивному плюрализму, в контексте которого любой вариант культурного предпочтения утрачивает статус приоритетного: речь идет не только об утрате референциально обеспеченных культурных предпочтений (см. Пустой знак), - даже "консенсус стал устаревшей и подозрительной ценностью" (Лиотар). По оценке Х.Брук-Роуз, "все наши представления о реальности оказались производными от наших же многочисленных систем репрезентации". В этом контексте и вступает в силу "М.Р."П.: постмодерн осуществляет радикальный отказ от самой идеи традиции: ни одна из возможных форм рациональности (Дж.О'Нийл), ни одна этическая система (Д.Мак-Кенс), ни одна языковая игра (Апель - см. Апель, Языковые игры), ни одна религиозная доктрина (Г.Кюнг) и т.д. не могут конституироваться в качестве приоритетной (в перспективе - нормативной и, наконец, единственно легитимной, т.е. ортодоксальной). В отличие от модернизма (см. Модернизм), постмодернизм не борется с традицией, полагая, что в основе этой борьбы лежит имплицитная презумпция признания власти традиций, он отрицает саму возможность конституирования традиции как таковой. - Коллаж превращается в постмодернизме из частного приема художественной техники в универсальный принцип построения культуры (см. Коллаж, Пастиш), - таким образом, универсальным принципом построения культуры постмодерна оказывается принцип плюрализма, практически изоморфный античному принципу исономии: "не более так, чем иначе" (З.Бауман, С.Лаш, Дж.Урри). - В качестве единственной традиции культуры постмодерна может быть зафиксирована традиция отказа от традиции (Э.Джеллнер). (См. также Закат метанарраций, Нонселекции принцип.) М.А. Можейко МЕТАНАРРАЦИЯ (или "метаповествование", "метарассказ", "большая история") понятие философии постмодернизма, фиксирующее в своем содержании феномен существования концепций, претендующих на универсальность, доминирование в культуре и "легитимирующих" знание, различные социальные институты, определенный образ мышления. Как правило, М. основаны на идеях Просвещения: "прогресса истории", свободы и рационализма. Постмодернизм рассматривает М. как своеобразную идеологию модернизма, которая навязывает обществу и культуре в целом определенный мировоззренческий комплекс идей; ограничивая, подавляя, упорядочивая и контролируя, они осуществляют насилие над человеком, его сознанием. В силу этого постмодернизм подвергает сомнению идеи модернизма, его систему ценностей, настаивая на игровой равноправности множества сосуществующих картин мира, провозглашает "закат М." (см.). Концепция "заката М." впервые была предложена Лиотаром в работе "Постмодернистское состояние: доклад о знании" (см.), основанной на идеях Хабермаса и Фуко о процедуре "легитимации знания", его правомерности. Лиотар рассматривает легитимацию как "процесс, посредством которого законодатель наделяется правом оглашать данный закон в качестве нормы". Человек в данной ситуации оказывается в полной зависимости от стереотипов, ценностей, провозглашенных приоритетными в данном обществе. А социальная реальность оказывается искусственно сконструированной в результате взаимодействия различных дискурсивных практик, где М. служат средством легитимации для знания, социальных институтов и для всей модерной эпохи в целом. В своей основе модерн базируется на идеях-М. рационализма, Прогресса истории, сциентизма, антропоцентризма, свободы, легитимности знания. Данные представления, доминирующие в то время в культуре, - М. - утверждали нормативный образ будущего, конструировали историю, задавая ей определенный вектор развития. М. предлагают субъекту истории различные мировоззренческие установки, способствуя формированию общественного мнения, порой искажая наше представление о действительности. Господство М. в то время свидетельствует о доверии субъектов к идеям Просвещения, Прогресса. Так, рационализм вселил в человека веру в разум, науку, освободив от суеверий, вследствие чего мир стал доступным для осмысления и трансформации, более "прозрачным" в силу его "расколдовывания" (М.Вебер). История понималась как Прогресс, стремление к достижению совершенства. Исторический процесс наделялся разумностью, обладая собственной логикой, представлял собой взаимосвязь эпох, периодов, традиций. Наиболее прогрессивной была установка на изменение статуса человека, утверждение его самоценности (Ж.-Ж.Руссо). Исследования социального неравенства и преобразование социальной структуры были одной из целей эпохи модерна. В свою очередь знание заявляет о себе в качестве инструмента радикального преобразования общества. Фуко определяет знание как "совокупность элементов, регулярно образуемых дискурсивной практикой и необходимых для создания науки". Проблема знания у Фуко тесно связана с обоснованием легитимности социальных институтов. М. служат оправданием власти, которая стремится к подчинению знания своим целям, налагая на него определенные ограничения. Фуко настаивает на идее, что формы организации власти (государственный аппарат, различные социальные институты, университет, тюрьма и т.д.), осуществляя насилие над человеком, не остаются нейтральными и по отношению к знанию. Они деформируют содержание знания, это способствует его трансформации в ходе истории, что в конечном итоге и привело к "кризису легитимности знания". Фуко выстраивает "генеалогию" знания, опираясь на регуляторы социальных отношений, которые формируют знания в различные эпохи. В Античности, по Фуко, социокультурным каноном выступала "мера", или "измерение", как средство установления порядка и гармонии человека с природой и космосом, что легло в основу развития математического знания. В эпоху средневековья появляется иной дискурс формирования знания - "опрос", или "дознание", в результате чего происходит формирование эмпирических наук о природе и обществе. Методы извлечения знаний у людей в судах инквизиции были перенесены на добывание знаний о природе. Это обусловило развитие естественных наук. В Новое время приоритетной формой регулирования социальных отношений была процедура "осмотра - обследования" как средства восстановления нормы или же фиксация отклонения от него. Фуко отмечает, что изучение больного человека и привело к становлению медицинских наук, а наблюдение безумцев - к появлению психиатрии и к развитию гуманитарного знания в целом. В силу этого Фуко делает вывод, что знание не может быть нейтральным, поскольку является результатом властных отношений в обществе, легитимируя интересы определенных социальных групп, оно является идеологией. Исследуя современный статус знания, Лиотар тоже указывал на связь знания и власти; "проблема знания в век информатики более чем когда бы то ни было является проблемой правления". Знание, обладая легитимностью, задает определенные рамки поведения в культуре, регламентируя их. "Знание предстает тем, что наделяет его носителей способностью формулировать "правильные" предписывающие и "правильные" оценочные высказывания". Это сближает знание с обычаем. Роль консенсуса, по Лиотару, состоит в том, чтобы отделить тех, кто владеет нормативным знанием, от тех, кто не владеет им. Как любая идеология, различные нарративы (см. Нарратив) содержат в себе положительные и отрицательные моменты, наделяя легитимностью социальные институты. Лиотар, сравнивая нарративы с мифами, разграничивает их; считая, что для мифов характерна фиксация основ легитимности в прошлом, а для нарративов - в будущем, где "истинная идея обязательно должна осуществиться". Лиотар характеризуя научное знание указывает, что оно отдает предпочтение лишь одной денотативной языковой игре и автономно по отношению к другим языковым играм, обладая памятью и заданностью. А нарративная форма допускает множество языковых игр. Лиотар рассматривает две основные версии легитимирующих повествований: политическую и философскую. Предметом политической выступает человечество как герой свободы. В данном контексте право на науку необходимо отвоевать у государства, которое легитимно не через себя, а народом. "Государство прибегает к наррации свободы всякий раз, когда оно, используя имя нации, берет на себя непосредственный контроль за образованием "народа" в целях наставления его на путь прогресса". Во второй версии: "всеобщая "история" духа, где дух есть "жизнь", а "жизнь" является собственной саморепрезентацией и оформлением в упорядоченную систему знания всех своих проявлений, описываемых эмпирическими науками". В настоящее время приоритеты сместились, и движущим принципом людей является не самолегитимация знания, но самообоснование свободы. В конечном итоге, по Лиотару, наука перестает быть легитимной. "Постмодернистская наука создает теорию собственной эволюции как прерывного, катастрофического, не проясняемого до конца, парадоксального процесса. И ею предлагается такая модель легитимации, которая не имеет ничего общего с большей производительностью, но является моделью различия, понятого как паралогизм". Выход из "кризиса М." Лиотар видит в необходимости "предложить общественности свободный доступ к базам данных". На сдвиг в дискурсе гуманитарного знания в современной культуре указывает и И.Хассан, выделяя конститутивные черты направлений модернизм и постмодернизм. Эпоха модерна, по его мнению, представлена "М.", которые носят замкнутую форму, обладают целью, замыслом и иерархичны по своей структуре. Постмодернизм, отказываясь от "больших историй", или М., предлагает "малые истории": открытые, цель которых игра, случай, анархия. Специфическая версия интерпретации понятия "М." дана Джеймисоном: с одной стороны, Джеймисон рассматривает "повествования" как "эпистемологическую категорию", которая может быть представлена как идеология, обладающая собственной логикой и ценностной системой представлений (образов, понятий), существующая и играющая свою роль в данном обществе, с другой - М. трактуется им как речевая ситуация "пересказа в квадрате" (см. Ирония). (См. также Закат метанарраций.) Е.П. Коротченко МЕТАФИЗИКА (греч. meta ta physika - после физики: выражение, введенное в оборот александрийским библиотекарем Андроником Родосским, предложившим его в качестве названия трактата Аристотеля о "первых родах сущего") - понятие философской традиции, последовательно фиксирующее в исторических трансформациях своего содержания: 1) в традиционной и классической философии М. - учение о сверхчувственных (трансцендентных) основах и принципах бытия, объективно альтернативное по своим презумпциям натурфилософии как философии природы. В данном контексте вплоть до первой половины 18 в. (а именно: вплоть до экспликации содержания ряда понятий философской традиции Вольфом) М. отождествлялась с онтологией как учением о бытии (см. Онтология). Предмет М. в данной ее артикуляции варьируется в широком веере от Бога до трансцендентально постигаемого рационального логоса мироздания (см. Логос). Конституируемое в этом мыслительном контексте классическое математизированное естествознание парадигмально фундировано презумпцией метафизического видения мира (Деррида в этом плане интерпретирует математику как "естественный язык выражения взаимосвязи М. и идеи Единого, или Логоса"). Понимание М. как учения "о первоосновах" приводит в рамках данной традиции как к практически изоморфному отождествлению М. и философии как таковой, так и к тенденции метафорического использования термина "М." в значении "общая теория", "общее учение" (вплоть до "М. любви" у Шопенгауэра или "М. секса" у Дж.Ч.А.Эволы); 2) в неклассической философии М. - критикуемый спекулятивно-философский метод, оцениваемый в качестве альтернативного непосредственному эмпиризму (в позитивизме), специфически понятой диалектике (в марксизме - см. Диалектика, Марксизм, Неомарксизм), неотчужденному способу бытия человека в мире и адекватному способу его осмысления (у Хайдеггера), субъектному моделированию реальности (в феноменологии) и т.д. Так, "позитивная философия" Конта решительно дистанцируется от метафизической проблематики, артикулируемой в качестве спекулятивного пространства "псевдопроблем" и бессодержательных суждений, не подлежащих верификации; Ленин противопоставляет "метафизическому решению раз навсегда ("объяснили!!") вечный процесс познания глубже и глубже"; феноменология расценивает М. как "преднайденность мира", основанную на "некритическом объективизме", пресекающем возможность конструирования его субъектом; а по оценке Хайдеггера, "метафизика как метафизика и есть, собственно говоря, нигилизм". Начало данной интерпретации М. может быть возведено к гегелевскому употреблению термина "М." для обозначения принципиальной ограниченности рассудка по сравнению с разумом (в кантианской интерпретации последних). В силу унаследованной эпохой модерна от классики интенцией на отождествление М. с философией как таковой отказ культуры от аксиологического акцента на метафизичность стиля мышления связан и со своего рода кризисом статуса философии как "царицы наук" в системе культуры (см. Методология, Философия). Реакция на этот кризис нашла свое выражение в интенциях конституирования М. в качестве удовлетворяющей всем требованиям сциентизма "строгой науки" (Гуссерль), "индуктивной науки" (Х.Дриш - см. Витализм), "точной науки" (Г.Шнейдер), "фундаментальной науки" (Й.Ремке) и т.п.; 3) в постнеклассической интерпретации М. - это классическая философия как таковая (прежде всего, в идеалистической своей артикуляции), т.е. философия, характеризующаяся такими фундаментальными презумпциями, как: а) презумпция наличия объективирующегося в логосе единства бытия (см. Логос, Логоцентризм) и б) презумпция единства бытия и мышления (см. Идеализм). В этой системе отсчета философия классической традиции конституируется, согласно постмодернистской ретроспективе, как "философия тождества" в отличие от современной философии как "философии различия" (см. Тождества философия, Различия философия, Идентичность). Согласно оценке Хабермаса, данные презумпции теряют свой аксиоматический статус под влиянием таких культурных феноменов, как: а) радикальная критика сциентистски-техногенной цивилизации (см. Философия техники), фундированной в своих рациональных гештальтах жесткой субъектобъектной оппозицией (см. Бинаризм), и б) де-трансцендентализация сознания, интерпретируемого в качестве "ситуативного" (как в смысле исторической артикулированности, так и в смысле процессуальной процедурности). Верхним хронологическим пределом культурного пространства, в рамках которого феномен М. может быть обнаружен, выступает философия Ницше: по Хайдеггеру, Ницше может быть интерпретирован как "последний метафизик", и если в его учении "преодоление М." конституируется в качестве задачи, то в философии Хайдеггера эта задача находит свое разрешение. При переходе к постнеклассическому типу философствования то проблемное поле, которое традиционно обозначалось как философия сознания, трансформируется в философию языка: по оценке Т.С.Элиота, философия 20 в. пытается опровергнуть "метафизическую теорию субстанциального единства души" (см. Аналитическая философия, Реализм, Хайдеггер, Гадамер, Витгенштейн, Куайн, Селларс и др.) и, в целом, "остановиться у границы метафизики". Современная философия если и использует концепт "М.", то исключительно в нетрадиционных аспектах (например, М. как "глубинная грамматика" в аналитической философии, "метафизика без онтологии" у Коллингвуда или "сослагательная М." у В.Е.Кемерова). Постмодернизм (см. Постмодернизм) продолжает начатую неклассической философией традицию "критики М.", а именно - "ницшеанскую критику метафизики, критику понятий бытия и знака (знака без наличествующей истины); фрейдовскую критику самоналичия, т.е. критику самосознания, субъекта, самотождественности и самообладания; хайдеггеровскую деструкцию метафизики, онто-теологии, определения бытия как наличия" (Деррида). Предметом постмодернистской критики становится, по выражению Делеза, "божественное бытие старой метафизики". Согласно программной позиции постмодернизма, современный "теоретический дискурс" призван окончательно "заклеймить... метафизические модели" (Джеймисон). Философия постмодернизма конституирует предметность своей рефлексии как опыт не бытия, но становления (см. Переоткрытие времени). - По оценке Сартром Батая как одного из основоположников постмодернистского типа философствования (см. Батай), его "оригинальность... в том, что он... поставил не на метафизику, а на историю". (Во многом аналогичные тенденции могут быть зафиксированы и в современном естествознании: отказ от попыток объединения единичных фактов в единую метафизическую систему в теории катастроф Р.Тома, синергетическое видение мира как конституируемое, по оценке Пригожина и И.Стенгерс, "за пределами тавтологии" - см. Неодетерминизм, Синергетика, Пригожин.) Дистанцирование от самой презумпции возможности М. выступает в качестве практически универсальной позиции постмодернистских авторов: Кристева отмечает, что "любая рефлексия по поводу означивания разрушает метафизику означаемого или трансцендентального эго" (см. Кристева, Означивание, Трансцендентальное означаемое); Деррида констатирует совершающийся постмодернизмом "поворот против метафизической традиции концепта знака" (см. Пустой знак); Фуко строит модель познавательного процесса как "максимально удаленного от постулатов классической метафизики" с ее презумпциями имманентности смысла бытию и его умопостигаемости в усилии незаинтересованного (так называемого "чистого") сознания и определяет современную когнитивную ориентацию как стремление "скорее к тому, чтобы слушать историю, нежели к тому, чтобы верить в метафизику" (см. Фуко, Генеалогия). В контексте постмодернистской философии языка в принципе невозможно конституирование "метафизических концептов самих по себе": согласно позиции Дерриды, "никакой... концепт... не является метафизическим вне всей той текстуальной проработки, в которую он вписан". В рефлексивной оценке Кристевой используемый постмодернистской философией понятийный инструментарий выступает как "система обозначений, стремящаяся избежать метафизики". В контексте разрушения традиционного концептуального ряда объект - феномен ноумен посредством фигуры "онтологической видимости" постмодернистская философия осмысливает себя скорее как "патафизика /начиная от "патафизики" А.Жарри - M.M./... как преодоление метафизики, которая определенно основана на бытии феномена" (Делез). В условиях аксиологической приоритетности в современной культуре презумпции идиографизма (см. Идиографизм), в философии постмодернизма понятие "М." как фундированное идеями Единого, общности и универсализма вытесняется понятием "микрофизики" как программно ориентированного на идеи принципиальной плюральности, разнородности и отдельности (см. Постмодернистская чувствительность): например, в посвященном исследованию творчества Фуко сборнике "Microfisica del potere: interventi politici" (Италия, 1977) эксплицитно ставится задача исследования не "М. власти", но ее "микрофизики" (ср. с "микрополитикой" у Джеймисона и у Делеза - см. Событийность). В свете данных установок постмодернизм осмысливает свой стиль мышления как "постметафизический" (см. Постметафизическое мышление). Однако поскольку, по оценке постмодернизма, "история М." в определенном смысле есть и "история Запада", постольку - при программном радикализме постмодернистской антиметафизичности - "во всякой системе семиотического исследования... метафизические презумпции сожительствуют с критическими мотивами" (Деррида). (В качестве примера может служить использование концепта "Метафизическое желание" в философии Другого Левинаса - см. Другой, Левинас, "Воскрешение субъекта"; аналогична, по оценке Рорти, "безнадежная" попытка конституирования Хайдеггером "универсальной поэзии" как специфического варианта М.) В контексте западной культурной традиции даже "общеупотребительный язык", согласно оценке Деррида, - "вещь не невинная и не нейтральная. Это язык западной метафизики, и он несет в себе не просто значительное число презумпций всякого рода", но, что наиболее важно, "презумпций... завязанных в систему", т.е. задающих жестко определенную парадигмальную матрицу видения мира. В связи с этим свою задачу постмодернистская философия определяет как освобождение от этой жесткой однозначности (см. Идентичности философия, Различия философия), ради которого "предстоит пройти через трудную деконструкцию всей истории метафизики, которая навязала и не перестает навязывать всей семиологической науке... фундаментальную апелляцию к "трансцендентальному означаемому" и к какому-то независимому от языка концепту; апелляция эта не навязана извне чем-то вроде "философии", но внушена всем тем, что привязывает наш язык, нашу культуру, нашу систему мысли к истории и системе метафизики" (Деррида). В этих условиях сама критика М. может оказаться процедурой, выполняемой сугубо метафизически, и единственным методом, позволяющим избежать этого, является, согласно позиции Деррида, метод "косвенных движений и действий, непременно из засады", в силу чего постмодернизм последовательно подвергает деструкции практически все базисные презумпции самого метафизического стиля мышления (см. Ацентризм, Бинаризм, Номадология, Плоскость, Поверхность). (См. также Постметафизическое мышление, Метафизика отсутствия.) М.А. Можейко МЕТАФИЗИКА ОТСУТСТВИЯ понятие постмодернистской философии, конституирующееся в концептуальном пространстве постметафизического мышления (см. Постметафизическое мышление) и фиксирующее в своем содержании парадигмальную установку на отказ от трактовки бытия в качестве наличного и ориентацию на его понимание как нон-финальной процессуальности. В постмодернистской ретроспективе классическая философия предстает как метафизика "наличия" или "присутствия" (см. Метафизика), в то время как неклассический тип философствования (начиная с критики "натуралистического объективизма" Гуссерлем и исключая интерпретацию Хайдеггером Бытия как чистого присутствия, подвергнутую Деррида критике в качестве метафизического "рецидива") оценивается философией постмодернизма как инициировавший "критику... определения бытия как наличия" (Деррида). Уже пред-постмодернистские авторы демонстрируют смену аксиологических приоритетов: семантически нагруженным оказывается в их системе отсчета не данное ("присутствующее" или "наличное"), но, напротив, - отсутствующее. Так, у Ингардена в семантическом пространстве текста центральную смысловую (смыслообразующую) нагрузку несут так называемые "места неполной определенности". Собственно, "полное, исчерпывающее определение предметов" в литературном или музыкальном произведении (см. Конструкция) оценивается им как "нечто, выходящее за пределы... эстетического", именно "множество возможностей, обозначенных местами неполной определенности", открывают горизонт "актуализации" тех версий смысла, которые не являются наличными, но "пребывают лишь в потенциальном состоянии" (Ингарден). В семантико-аксиологической системе постнеклассического (постмодернистского) типа философствования понятие "presens" подвергается деструкции во всех возможных аспектах своего содержания: и как presens как "наличие" в смысле завершенной данности "наличного" бытия, и presens как "присутствие" в смысле бытия в present continuous. Постмодернизм отвергает возможность метафизического учения о "смысле бытия вообще со всеми подопределениями, которые зависят от этой общей формы и которые организуют в ней свою систему и свою историческую связь [наличие вещи взгляду на нее как eidos, наличие как субстанция/сущность/существования (ousia), временное наличие как точка (stigme) данного мгновения или момента (nun), наличие cogito самому себе, своему сознанию, своей субъективности, соналичие другого и себя, интерсубъективность как интенциональный феномен эго]" (Деррида). Постмодернистская текстология фундирована презумпцией "пустого знака", выражающей постмодернистский отказ от идеи референции как гаранта наличия смысла знаковых структур (см. Пустой знак, Трансцендентальное означаемое): смысл не эксплицируется (что предполагало бы его исходное наличие), но конституируется в процессе означивания (см. Означивание) как наделения текста ситуативно актуальным значением, не претендующим на статус ни имманентного, ни предпочтительного (правильного, корректного и т.п.). Таким образом, отсутствие исходного значения делает текстовое пространство незначимым (в смысле наличия одного, "наличного", смысла), но открытым для означивания, предполагающего версифицированную плюральность возможных семантик. Аналогична и постмодернистская концепция "нонсенса" как отсутствия смысла, являющегося условием возможности смыслогенеза (см. Нонсенс). Конституирование в философии постмодернизма М.О. в качестве одной из парадигмальных презумпции во многом конгруэнтно переориентации современного естествознания "от бытия к становлению": так, возможные версии упорядочивания неравновесных сред трактуются синергетикой в качестве диссипативных, т.е., с одной стороны, оформляющихся за счет энергетических потерь системы (энергетического отсутствия), а с другой - принципиально неатрибутивных, имеющих лишь ситуативно актуальную значимость (см. Синергетика, Пригожин) М.А. Можейко МЕТАФОРА (греч. metaphora - перенесение) - перенесение свойств одного предмета (явления или грани бытия) на другой по принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. При всем многообразии теорий М. можно условно разделить на три группы в зависимости от признака деления. Каждое решение определяет, что принять за критерий метафоричности, можно ли перефразировать М., можно ли заменить М. буквальной речью без потери смысла и в каких случаях М. используется. Первый подход (прагматический) допускает существование только одного значения, ассоциированного со словом, фразой или предложением, например, буквального, когда любое выражение значит лишь то, что значат его слова, а явление М. лежит за пределами смысла предложения (Дж.Серль, Д.Дэвидсон). При этом М. определяется как прагматический феномен и сводится к уже известной мыслительной операции, например, к сравнению (Серль и др.). Второй подход (субституциональный) схож с первым в своем допуске лишь одного типа значений для слова, но сводит М. к особого вида операции (например, Дж.Лэйкофф, Д.Гентнер, Н.Д.Арутюнова, П.Тагард и др.). Третий подход допускает существование двух типов значений, ассоциированных со словом, фразой или предложением: буквального и метафорического значения (Аристотель, М.Блэк, А.Ричардс и др.). Первый подход требует признания особой необходимости замаскировать известный механизм в другую форму. Второй подход требует признания существования дополнительного механизма для перевода буквального смысла высказывания в метафорический. Третий подход требует признания существования двух различных смыслов и, следовательно, существования двух различных механизмов анализа высказываний. Можно попытаться свести М. к уже имеющейся языковой конструкции. Смысл такого подхода заключается в идее, которая рассматривает М. как конструкцию, использующуюся [по какой-то причине] вместо другой конструкции (это может быть сравнение или аналогия). Так М. в форме высказывания "А [есть] В" часто интерпретировалась как укороченная версия сравнения "А [есть] подобно на В" и рассматривалась как конструкция, отражающая определенное сходство между объектами - см., например, Б.В.Томашевский: "Поэтика. (Краткий курс)", 1998. Цель же применения М. вместо сравнения виделась в ее большей риторической силе или красоте. М. фактически сводится к украшению речи, что, в общем, предполагает прагматическую функцию М. Такой подход требует описания модели понимания М. как модели совпадения атрибутов объектов. Такой подход был назван М.Блэком ("Модели и метафоры", 1962) сравнительным подходом. В этом случае как раскодирование М., так и ее возможный парафраз могут идти простой заменой М. на сравнение, т.е. один объект, упомянутый в М., будет приниматься "определенным образом" схожим с другим (форма "А [есть] В" тогда может быть представлена в виде "А [есть] как В по отношению к свойству С"). Проблема замены М. на сравнение была подробно описана А.Ортони ("Роль подобия в сравнениях и метафорах", 1979). Он отметил, что если мы можем сказать, что любовь "в некотором смысле" похожа на сумасшествие (в М. "любовь - это сумасшествие"), тогда почему бы нам не сказать, что она похожа на яблоко, мороженое, светофор, комплексное число, правосудие или на все что угодно, пришедшее на ум также "в некотором смысле". Другими словами, все похоже на все "в некотором смысле". Для того чтобы проверить процент схожих существенных качеств между объектами буквальных и небуквальных сравнений (Ортони называл их similes - уподобления), он провел эксперимент, который показал, что объекты в небуквальных сравнениях (например, "энциклопедии похожи на золотые прииски") имеют общим только лишь один процент (!) существенных свойств, в то время как этот процент возрастает до 25 в случае буквальных сравнений (например "энциклопедии похожи на словари"). Этот эксперимент позволил Ортони сделать заключение, что "понятия из уподоблений практически не имеют общих существенных черт, в то время как понятия в буквальных сравнениях имеют много существенных черт. Вывод, который следует извлечь из этого, заключается в том, что если кто-нибудь, утверждая сходность двух вещей, будет иметь в виду наличие у них множества общих существенных свойств, то результаты исследований ясно показывают, что уподобления, или, по крайней мере, понятия, употребляющиеся в метафорах, на самом деле не являются схожими, в противоположность понятиям буквальных сравнений". В свою очередь, Ортони предположил, что в М. сравниваются существенные свойства одного объекта и несущественные другого. Однако это утверждение также не выдержало экспериментальной проверки (испытуемые не считали свойства, по которым были схожи предметы в М., существенными для обоих предметов), и исследователи остались лишь с возможностью сравнения по несущественным признакам. Такое решение, однако, видится сомнительным с прагматической точки зрения. Прагматический подход к М. может принять и более сложные формы. В рамках этого подхода весьма интересное решение было предложено Серлем ("Метафора", 1979). Его решение основывалось на идее, утверждающей разницу между метафорическим смыслом и смыслом предложения: "Когда мы говорим о метафорическом смысле слова, выражения или предложения, мы говорим о том, что говорящий мог бы им выразить... в отличие от того, что это слово, выражение или предложение в действительности значат". Таким образом, Серль разделяет смысл (значение) сказанного и смысл предложения, утверждая, что "метафорический смысл - это всегда смысл сказанного", в то время как "в случае буквальных высказываний, смысл сказанного и смысл предложения является одним и тем же". В отличие от других исследователей (например, Блэка), Серль отбрасывает идею, что предложение, фраза или слово могут иметь два отдельных смысла: буквальный и метафорический - смысл предложения остается одним и тем же независимо от того, как мы будем интерпретировать его: как М. или как буквальное выражение. Такой взгляд на М. имеет весьма существенные последствия. В случае буквального высказывания мы можем говорить об его истинности или ложности по отношению к условиям истинности, определяемым понятиями, использованными в этом высказывании, в то время как "в случае метафорического высказывания условия истинности сделанного утверждения не определяются условиями истинности предложения" (Серль), хотя мы все же в праве полагать, что метафорический смысл, даже расходясь со смыслом предложения, требует соответственный набор условий истинности. Тогда метафорический смысл и соответственный набор условий истинности может быть принят за парафраз М. "метафорическое утверждение будет истинно тогда и только тогда, когда соответствующее утверждение, использующее предложение парафраза, является истинным". Подход Серля требует от слушателя или читателя проделать три шага в процессе понимания метафорического высказывания. Их условно можно сгруппировать в две фазы, соединяя второй и третий шаг, описанный Серлем: 1. На первой фазе (первый шаг, в терминологии Серля) слушатель должен решить, имеет он перед собой М. или нет. 2. На второй фазе слушатель должен "вычислить" смысл говоримого (speaker's utterance meaning), отличающегося от смысла предложения. Сначала (второй шаг, по терминологии Серля) человек должен подобрать набор возможных интерпретаций предложения, которые могут являться смыслом говоримого. Затем (третий шаг, по терминологии Серля) необходимо сузить этот набор возможных интерпретаций до одной, являющейся наиболее приемлемым кандидатом на роль смысла говоримого. Для первого шага Серль предложил следующий критерий: "Если высказывание дефектно в буквальной интерпретации, ищи смысл высказывания, отличающийся от смысла предложения". Для второго шага он предложил 8 принципов, которые могут привести слушателя от смысла предложения к [набору] возможных смыслов высказывания. Решение Серля для М. позволяет думать о метафорическом смысле высказывания как об утверждении истинном при некоторых условиях истинности на фоне имеющихся у нас знаний. Такое решение, к сожалению, имеет свои слабые стороны. Будучи проинтерпретирована буквально, М., весьма часто, представляет из себя ложное высказывание, т.е. утверждение, содержащееся в М., является ложным при любых условиях истинности. В рамках прагматического подхода к М. мы не можем говорить о двух различных смыслах М., обусловленных либо двумя различными наборами внутренних механизмов, либо двумя возможными единицами смысла. Согласно теории Серля, из высказывания, являющегося ложным (буквальный смысл М.), необходимо прийти к другому, истинному высказыванию, представляющему настоящий смысл М. Тут имеет место следующая картина: по какой-то прагматической причине мы используем для передачи сообщения слова, смысл которых отличается от смысла сообщения. К сожалению, решение Серля не гарантирует парафраза: не будет существовать стратегии, которая бы гарантировала правильность вывода истинного утверждения из ложного. Другая существенная проблема состоит в необходимости среди ложных и бессмысленных высказываний найти и отсеять некоторые "плохие" ложные высказывания (например, случайную комбинацию слов), непригодные для последующего анализа (вычисления метафорического смысла), оставив "хорошие" ложные высказывания, передающие некий смысл. Обе проблемы весьма серьезны и, как кажется, решение Серля не позволяет дать на них удовлетворительный ответ. В любом случае, прагматический подход требует, чтобы М. сначала была переведена в известную операцию, а затем уже проинтерпретирована определенным образом, т.е. любое метафорическое высказывание вначале понимается буквально, а небуквальная интерпретация второстепенна по своей природе. При этом процесс понимания М. требовал бы больше времени, чем процесс понимания буквальных выражений. Однако психологические исследования ряда авторов показали, что это не так. Если мы не можем свести М. к какой-либо известной операции (например, к сравнению), то мы можем попытаться представить ее как некоторую совершенно особую операцию. Так, например, Глюксбергом была предложена идея, что М. есть операция включения в класс. Однако не прямое (А включается в класс В), а такое, когда В обозначает более широкий класс предметов (в М. "работа - это тюрьма", "тюрьма" обозначает класс всех объектов, достаточно неприятных и ограничивающих свободу, куда, помимо тюрьмы, входят и школа, и семья, и т.д.). Стоит упомянуть и другие подходы к объяснению М., которые также можно относить к субституциональному подходу. Например, Д.Гентнер ("Очерчивание структуры: Теоретические рамки аналогии", 1983) предложила рассматривать М. как аналогию. Аналогия ("А [есть] как В") рассматривается ею как отношение отображения между двумя доменами (А и В), где домены представлены как системы объектов, их атрибутов и связей между объектами. Согласно Гентнер, наши знания об объектах можно представить в виде двух множеств: множества атрибутов и множества связей между ними. В этом случае различные виды отношений между доменами могут быть представлены через два показателя: а) число одинаковых атрибутов и б) число одинаковых связей. Так как "множество (возможно, большинство) метафор подчеркивают, в основном, сходство отношений и, таким образом, являются, по своей сути, аналогиями" (Гентнер), то и анализировать их следует как вид аналогии. И в тоже время Гентнер отмечает, что даже "для метафор, которые поддаются интерпретации как аналогии или комбинации аналогий, правила отображения в целом менее систематичны в сравнении с правилами отображения чистых аналогий". В общем же плане М. рассматривается Гентнер достаточно аморфно распределенной на плоскости "общие атрибуты/связи" и принципиально различается лишь с отношением буквального сходства (Гентнер: "Механизмы научения по аналогии", 1989). Такой результат не позволяет принять гипотезу Гентнер за удачное объяснение М., так как он, по сути, всего лишь утверждает, что М. не есть буквальное сравнение. П.Тагард, отводя аналогии одно из центральных мест в структуре человеческого мышления, также рассматривает ее как основу М. ("Разум", 1996). Будучи основанной на аналогии, М., согласно Тагарду, отражает систематические сходства между двумя объектами: "Все метафоры в качестве своего базисного когнитивного механизма опираются на систематическое сравнение, выполняемое аналогическим отображением, хотя метафора может идти далее аналогии, используя другие фигуративные приемы для создания более широкой ауры ассоциаций. Как создание метафоры говорящим, так и ее понимание слушающим требует восприятия лежащей в ее основе аналогии". Еще один подход к объяснению М. - это теория Дж.Лэйкова. Он и его соавторы (Дж. Лэйков и М.Джонсон: "Метафоры, посредством которых мы живем", 1980; Дж.Лэйков и М.Турнер: "Больше чем холодный разум", 1989; Дж.Лэйков: "Что такое метафора?", 1993) утверждали, что "в повседневной жизни метафора часто встречается не только в языке, но и в мыслях и поступках" (Лэйков и Джонсон: "Метафоры, посредством которых мы живем"). Эта идея берет начало, по крайней мере, со времен Ницше, который также утверждал, что весь язык метафоричен. "Метафора означает метафорическую концепцию" (Лэйков и Джонсон: "Метафоры, посредством которых мы живем"), и "суть метафоры состоит в понимании и выражении одной вещи посредством другой". Углубляясь в теорию Лэйкова, прежде всего необходимо отметить, что под термином "М." он понимал не совсем то, что обычно под ним понимается. Сама форма "А [есть] В" это просто "метафорическое выражение" для Лэйкова, в то время как метафора - для него есть это "метафорическая концепция". В одной из своих последних работ Лэйков приводит следующее определение: "слово "метафора"... обозначает "отношение между двумя доменами в концептуальном поле". Понятие "метафорическое выражение" относится к лингвистическому выражению (слово, фраза или предложение), являющемуся поверхностной реализацией такого отношения (тем, что слово "метафора" обозначала в старой теории)". При этом метафорическое отображение состоит в отображении слотов указанных доменов: отображении между связями, свойствами и знаниями, характеризующими оба домена (Дж.Лэйков и М.Турнер: "Больше чем холодный разум"). Та базисная конструкция, которая была названа Лэйковым "метафорической концепцией", может быть, проинтерпретирована как устойчивая структура в наших концептуальных полях. Важно отметить тот факт, что, согласно Лэйкову, М. - это не динамическое явление, возникающее в процессе понимания, а, скорее, жесткая структура. То, что обычно принимается за М., является всего лишь именем М. для Лэйкова: "Имена отображений часто принимают форму утверждений, например, ЛЮБОВЬ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ. Но отображения сами по себе не являются утверждениями. Если имена отображений будут ошибочно приниматься за сами отображения, то читатель может подумать, что, в этой теории, метафоры рассматриваются как утверждения. Они являются всем чем угодно, но не этим: метафоры - это отображения, т.е. множества связей" ("Что такое метафора?"). Один из главных принципов в теории Лэйкова - это так называемый "принцип инвариантности", утверждающий, что "метафорическое отображение сохраняет когнитивную топологию (т.е. структуру образа-схемы) отображаемой области (домена) в той степени, в которой она согласуется с внутренней структурой другой, участвующей в отображении области". Критичными для теории Лэйкова является следующее. 1). Проблема замены метафор буквальным текстом. В целом, этот вопрос будет являться критическим для любой теории М., не определяющей четкой границы между метафорическим и буквальным, т.е. не относящей метафорическое и буквальное к двум разным непересекающимся классам. Так, если утверждается, что не следует пытаться разграничить метафорическое и буквальное, или что привычный нам "буквальный" язык в большой степени метафоричен, то оказывается неясным, почему далеко не всегда представляется возможным заменить буквальный текст на М. или М. на буквальный текст. Можно, также, сформулировать иное возражение: если М. имеет в человеческой речи такой же статус, как и буквальные выражения (те же свойства и функции), тогда метафорический аргумент должен быть настолько же приемлем в дискуссии, как и то, что обычно полагается буквальным. Так, если в теории Лэйкова то, что обычно называется М., а также многие другие (есть лишь отдельные исключения) выражения, которые обычно обозначаются буквальными, базируются на некоторых универсальных "метафорических концепциях", то неясно, почему нельзя заменить одно выражение, "санкционированное" М., на другое выражение, которое также санкционировано этой или схожей М. В такой замене не должно многое потеряться, так как концептуальные структуры останутся нетронутыми. И поэтому никакое выражение не должно обладать привилегией в использовании или каким-либо особым статусом, делающим его более предпочтительным, например, в научных текстах или речевом общении. Практика, однако, свидетельствует, что использование М. ограничено, так как смысл их неясен и их понимание требует больших когнитивных усилий. Можно даже считать, что М. до некоторой степени асоциальна, так как она может явиться серьезной помехой общению. Такой вывод косвенно подтверждается теорией Х.Грайса ("Логика и беседа", 1975) и современной прагматикой. 2) Другой критичный вопрос для теории Лэйкова - вопрос о том, почему не любая комбинация слов является М. Тут имеется определенная проблема. Допустим, я скажу, что в число универсальных метафорических концепций, кроме "БОЛЬШЕ - ВВЕРХ", "ВРЕМЯ ЭТО ПРОСТРАНСТВО" и т.д., входит еще и М. "ЮМ НЕ ПРАВ", которая может быть реализована во множестве лингвистических выражений. В этой М. мы отображаем онтологию домена НЕ ПРАВ на домен ЮМ так, как это делается в случае других М., предложенных Лэйковым. И такая М. будет весьма полезна! Все, что Юм сказал, написал или сделал, будет понято, как ложное и неправильное, т.е. я, обладая такой концептуальной М., буду понимать более сложный домен (работы Юма) через менее сложный и "более четко определенный" домен (НЕ ПРАВ - домен). Эта М. будет весьма успешно "организовывать мои мысли и речь". А сейчас следует задаться вопросом, как можно избавить себя от подобных надуманных "М." и как, в общем, можно быть уверенным, что приведенная М. не является простой комбинацией слов, произвольно составленной каким-нибудь шутником? Для этих целей должно существовать правило, которое будет играть роль определенного "фильтра". Для того чтобы ввести ограничения на процесс отображения между доменами, Лэйков предположил, что "в процессе отображения сохраняется причинная структура, структура аспектов и единство элементов" как, например, "сохранение мета-структур объясняет, почему смерть не метафоризируется как... сидение на диване" ("Что такое метафора?"). Однако такой "фильтр" не всегда будет работать (в стихах мы можем допустить любую М.). С другой стороны, если мы отбросим его вообще, то останемся с полностью нерешенной проблемой. И это весьма серьезная проблема для теории Лэйкова. Решение, предложенное Лэйковым, тесно связано с идеей переноса структуры от одного концептуального домена к другому, т.е. с принципиальной возможностью найти ограниченное множество соответствий между сложными схемами представления знаний, определяющимися (вызывающимися) словами, используемыми в метафорическом выражении. Такое решение можно рассматривать как двух-объектную модель, сравнивая ее с много-объектной моделью, предложенной несколько позже Дж.Фукунье и М.Турнером ("Смешение как центральный процесс грамматики", 1996; "Концептуальная интерпретация и формальное выражение", 1995), которая основана на подобных идеях, но допускает интеграцию структур, относящихся к нескольким доменам. Фукунье описывает М. через операцию "смешения" (blending) нескольких концептуальных полей в некотором поле порождения смысла. В этом поле возникают непредсказуемые смысловые "смеси" из тех концепций, которые входят в М. Подобная идея разделяется достаточно большим числом исследователей, работающих в области искусственного интеллекта и информатики. Можно еще раз вспомнить Гентнер и Тагарда, предложивших рассматривать М. - в русле теории аналогии - как операцию отображения между доменами, сохраняющую структуру доменов. Являясь достаточно ясным, простым и весьма обещающим с практической точки зрения, субституциональный подход к М. все же не лишен определенных недостатков. Одна из самых серьезных его проблем - это проблема с парафразом. Другими словами, если любая М. - это операция на концептуальных структурах (схемах, категориях, доменах и т.д.), тогда всегда должна существовать возможность выразить метафорический смысл через средства буквального языка (то, с чем не соглашался Аристотель). В этом случае описание формальной операции, заданной на любой разновидности концептуальных структур, будет полным парафразом М. Такая ситуация логически возможна, но до сих пор не создано ни одной теории (или алгоритма), которые бы смогли дать любой М. адекватный парафраз. Существует еще и другая проблема. Что произойдет, если тот алгоритм (операция или отношение), которое, как думается, управляет М., будет применен к двум произвольно взятым словам? Можно отметить, что вопросы о возможности парафраза и отношении произвольных терминов - это критические вопросы для любой теории М., рассматривающей ее как четко определенную операцию на концептуальных схемах. Для данной группы решений основной проблемой является как описание процедуры порождения метафорического смысла (а это значит создание теории мыслительных операций для каждого теоретического решения), так и описание механизма, ответственного за решение, в каких случаях следует считать высказывание М. Если мы решаем вторую проблему путем введения критерия, схожего с тем, что был предложен Серлем ("если с буквальным смыслом высказывания возникли проблемы, то ищи его метафорический смысл"), то мы неизбежно приходим к утверждению примата одного механизма над другим, что должно вести к разному времени восприятия буквального и метафорического и что противоречит эмпирическим данным. Последнее из возможных решений состоит в том, чтобы признать М. операцией над некоторыми единицами, принципиально отличными от тех, которые используются в буквальной речи. Такое решение было продолжено А.Ричардсом ("Философия риторики", 1936) и М.Блэком ("Модели и метафоры", "Еще больше о метафорах", 1979) в их подходе, известном под названием "интеракционистский" и встречающемся в более поздних работах других авторов. В книге Блэка "Модели и метафоры" можно найти строчки, которые указывают на принципиальную разницу между метафорическим и буквальным: "...в определенном контексте фокус [М.] ...получает новое значение, не вполне совпадающее с его значением в буквальном использовании и не вполне совпадающее со значением, которое будет иметь любая буквальная замена". М., согласно интеракционистского подхода, можно представить как процесс взаимодействия между словами: "В самой простой формулировке, когда мы используем метафору, у нас активизируются два представления о разных вещах, поддерживающиеся одним словом и фразой, чье значение является результатом взаимодействия этих представлений" (Ричардс). Этот процесс отличается от того процесса, который используется в буквальной речи. Новый смысл является результатом взаимодействия между двумя потоками мысли внутри одного слова или выражения. Ричардс отмечает, что как одно слово может иметь несколько метафорических пониманий, так и несколько значений этого слова могут слиться в одно в метафорическом высказывании. Блэк описал механизм такого взаимодействия более подробно. Он рассматривал понятие (слово в метафорическом высказывании) как систему ассоциаций ("system of associated commonplaces" в терминологии Блэка), которая может рассматриваться как набор утверждений об этом понятии, которые рассматриваются как истинные. В М. мы формируем одну систему ассоциаций по другой. Так, мы "вдавливаем" некоторые из ассоциаций одного понятия в структуру другого, а некоторые из связей подавляются. Другими словами, М. "подавляет некоторые детали и подчеркивает другие - иными словами, организует наше представление о предмете" (Блэк), в то время как возникающая в результате этого процесса структура наследует свойства обоих понятий, входящих в М., и не может быть объяснена структурой каждого из них, взятого в отдельности. Будет, однако, ошибкой думать, что этот механизм представляет собой простое отношение отображения структур. Мы скорее "видим" один предмет через другой предмет, т.е. М. "фильтрует и преобразовывает: она не только сортирует, она выпячивает те аспекты... которые могут остаться невидимыми при других условиях" (Блэк). Используемые ассоциации также могут изменить свой смысл в процессе взаимодействия. "Вдавливая" одну структуру ассоциаций (набор утверждений, рассматриваемых истинными для данного объекта) в другую структуру, мы изменяем смысл ассоциаций, относящихся к первому объекту (формируем наш "материал" так, чтобы он принял исходную "форму") и, в то же время, изменяем смысл ассоциаций второго объекта (сама наша "форма" изменяется под воздействием структуры "материала"). В процессе такого "вдавливания" некоторые ассоциации могут обрести метафорический смысл, но с меньшей метафорической "силой", как писал Блэк. В случае только что придуманных или поэтических М., автор может добавить к существующей системе ассоциаций еще и набор специально созданных ассоциаций. Такой механизм взаимодействия не всегда позволяет произвести парафраз М. без потери ее когнитивного содержания. Таким образом, единицей метафорического высказывания является некоторая "система ассоциаций", для которых предлагается особая функция взаимодействия. Интеракционистский подход к М. удобен тем, что для объяснения механизма М. не вводится формальной операции. В то же время, такой подход требует гораздо более серьезной теории, чем первые два. По сути, прагматическое решение - самый простой вариант объяснения М. Он требует лишь выбора операции и систематической эмпирической проверки. Прагматическую же надобность можно свести к риторической или декоративной функции. Субституциональный подход требует от исследователя более серьезной работы и приводит его к необходимости обосновывать новую когнитивную функцию. Последний подход представляет наиболее сложную проблему: исследователь сталкивается с необходимостью разработки определенной модели сознания. А.П. Репеко МЕТАЯЗЫК - 1) в классической философии: понятие, фиксирующее логический инструментарий рефлексии над феноменами семиотического ряда, 2) в философии постмодернизма: термин, выражающий процессуальность вербального продукта рефлексии над процессуальностыо языка. Конституируется в процессе формирования постмодернистской концепции критики как стратегии отношения к тексту, характерной для культуры классического типа (см. Kritik) и противопоставлении ей стратегии имманентного анализа текстовой реальности. Постмодернистская трактовка М. восходит к работе Р.Барта "Литература и метаязык" (1957), в рамках которой осуществлено последовательное категориальное разграничение таких феноменов, как "язык-объект" и М. (см. Язык-объект). И если "язык-объект - это сам предмет логического исследования", то под М. понимается "тот неизбежно искусственный язык, на котором это исследование ведется", собственно, конституирование М. выступает условием возможности того, что "отношения и структура реального языка (языка-объекта)" могут быть сформулированы "на языке символов (метаязыке)" (Р.Барт). Специфика постмодернистского операционального употребления понятия "М." связана с тем, что он осмыслен как адекватный и достаточный инструмент для аналитики такого феномена, как "литература", что в контексте классической традиции далеко не являлось очевидным: "писатели в течение долгих веков не представляли, чтобы литературу (само это слово появилось недавно) можно было рассматривать как язык, подлежащий, как и всякий язык, подобному логическому разграничению /т.е. его дифференциации, подразумевающей выделение в его рамках соответствующего мета-уровня - M.M./" (Р.Барт). Подобная ситуация была обусловлена традиционным для классической культуры дисциплинарным разграничением "языка" и "литературы" (ср. традиционные школьные конъюнкции: "белорусский язык и литература", "русский язык и литература" и т.п.). Подобное положение дел постмодернизм связывает с отсутствием в классической литературе интенции на собственно рефлексивные формы самоанализа: "литература никогда не размышляла о самой себе (порой она задумывалась о своих формах, но не о своей сути), не разделяла себя на созерцающее и созерцаемое; короче, она говорила, но не о себе" (Р.Барт). Лишь в контексте становления неклассической культуры "литература стала ощущать свою двойственность, видеть в себе одновременно предмет и взгляд на предмет, речь и речь об этой речи, литературу-объект и металитературу". В качестве этапов становления подобного подхода могут быть выделены следующие: 1) предыстория М., т.е. возникновение того, что Р.Барт обозначает как "профессиональное самосознание литературного мастерового, вылившееся в болезненную тщательность, в мучительное стремление к недостижимому совершенству" (типичной фигурой данного этапа выступает для Р.Барта Г.Флобер); 2) формирование неклассической (пред-постмодернистской) установки на синкретизм видения феноменологически понятой литературы, с одной стороны, и ее языковой ткани - с другой, т.е., по Р.Барту, "героическая попытка слить воедино литературу и мысль о литературе в одной и той же субстанции письма" (данный этап вполне репрезентативно может быть иллюстрирован творчеством Малларме); собственно, конституирование письма как феномена сугубо неклассической языковой культуры (см. Письмо) и знаменует собой начало подлинной истории М.; 3) конституирование традиции, позволяющей "устранить тавтологичность литературы, бесконечно откладывая самое литературу "на завтра", заверяя вновь и вновь, что письмо еще впереди, делая литературу из самих этих заверений" (данный этап прекрасно моделируется творчеством М.Пруста); 4) разрушение незыблемой в свое время (в рамках классической культуры) идеи референции, когда "слову-объекту стали намеренно, систематически приписывать множественные смыслы, умножая их до бесконечности и не останавливаясь окончательно ни на одном фиксированном означаемом", что наиболее ярко было продемонстрировано сюрреализмом в рамках модернизма (см. Модернизм, Сюрреализм) и фактически подготовило почву для возникновения постмодернистской концепции "пустого знака" (см. Пустой знак); и, наконец, 5) оформление парадигмы так называемого "белого письма", ставящего своей целью "создать смысловой вакуум, дабы обратить литературный язык в чистое здесь-бытие (etrela)" (творчество А.Роб-Грийе) и непосредственно предшествующее постмодернистской концепции означивания (см. Означивание). Собственно постмодернистский подход к феномену М. связан с тем, что в "наш век (последние сто лет)" адекватные поиски ответа на то, что есть литература, по оценке Р.Барта, "ведутся не извне, а внутри самой литературы" (см. Kritik). Собственно, постмодернистская критика в своей процессуальности фактически и представляет собой не что иное, как "лишь метаязык" (Р.Барт). Однако М. не может рассматриваться в постмодернистской системе отсчета лишь в качестве своего рода "вторичного языка... который накладывается на язык первичный (язык-объект)" (Р.Барт). Основным требованием, предъявляемым постмодернистской критикой к М., является требование наличия у него интегративного потенциала (потенциала интегративности): М. должен быть способен (в силу таких своих свойств, как "связность", "логичность" и "систематичность") в максимальной степени "интегрировать (в математическом смысле)" ("вобрать в себя" или "покрыть собою") язык того или иного анализируемого автора или произведения, выступив по отношению к нему в качестве квази-системы. Вместе с тем, в процессе критики, т.е., по Р.Барту взаимодействия ("взаимного "трения") языка-объекта и М., сама литература не может сохранить внерефлексивной автохтонности и разрушается как язык-объект, "сохраняясь лишь в качестве метаязыка". В этом контексте постмодернистские романы (литература) фактически являются трактатами о языке, романами о приключениях языка, наррациями М. о самом себе (см. Нарратив), - по оценке Фуко, неклассическая литература типа романов де Сада и Батая (см. Сад, Батай) как раз и моделирует ту сферу, где "язык открывает свое бытие" (Фуко). Важнейшими особенностями постмодернистской интерпретации М. являются следующие: во-первых, в контексте постмодернистской концепции симуляции (см. Симуляция) феномен М. осмыслен в качестве симулякра (см. Симулякр): "истина нашей литературы - ...это маска, указывающая на себя пальцем" (Р.Барт); во-вторых. М. понимается не только (и не столько) в качестве наличного логического инструментария анализа языковых феноменов, сколько в качестве процессуальности вербального продукта рефлексии над процессуальностью языка; в-третьих, сама эта процессуальность интерпретируется как трансгрессивная по своей природе (см. Трансгрессия), ибо язык, согласно постмодернистской точке зрения, открывает свое бытие именно и только "в преодолении своих пределов" (Фуко), - таким образом, поиск литературой своей сущности, т.е. мета-анализ собственной языковой природы, может осуществляться лишь "на самой ее грани, в той зоне, где она словно стремится к нулю, разрушаясь как объект-язык и сохраняясь лишь в качестве метаязыка" (Р.Барт). В этом отношении современная литература ведет своего рода перманентную "игру со смертью", и в этом отношении она "подобна расиновской героине (Эрифиле в "Ифигении"), которая умирает, познав себя, а живет поисками своей сущности" (Р.Барт). Но именно ее смерть (в классическом ее смысле) оборачивается условием возможности новой жизни (жизни в новом качестве): литература "переживает свою смерть". Подобная квазирефлексивность литературы выступает, по постмодернистской оценке, именно тем условием, благодаря которому "сами поиски метаязыка становятся новым языком-объектом" (Р.Барт), что открывает новый горизонт возможностей его бытия. (См. также Kritik, Язык-объект.) М.А. Моэкейко МЕТОД (греч. methodos - путь к чему-либо, прослеживание, исследование) - способ достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определенным образом. М. в науке - это также и заданный сопряженной гипотезой путь ученого к постижению предмета изучения. В границах античной философии было впервые обращено внимание на взаимосвязь результата и М. познания. Систематическое исследование М. связано с генезисом экспериментальной науки. Поиски универсального М., приложимого к любым ипостасям действительности (идеал "методологического монизма"), не увенчались успехом. М. общенаучного характера принято считать индукцию и дедукцию, анализ и синтез, аналогию, обобщение, идеализацию, типологизацию, сравнение и др. Философские М. в науке, как правило, опосредуются другими, более приватными, тем не менее именно они (не всегда явно осознаваемые учеными) задают общую направленность исследования, принципы подхода к изучаемому объекту, характер интерпретации полученных результатов. М. складываются в ходе рефлексии над объектной (предметной) теорией в некоторой метатеоретической области внутри определенных парадигматических ориентаций и закрепляются в принципах, нормах и методиках исследования, реализуются через навыки, умения и т.д. конкретных исследователей и обеспечиваются соответствующими инструментальными средствами. Предметное развертывание М. осуществляется в процедуре, доводящей действие факторов, синтезированных в М., до отдельных операций. Следование М. обеспечивает регуляцию и контроль в исследовательской (как и любой иной) деятельности, задает ее логику. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко МЕТОДОЛОГИЯ - учение о способах организации и построения теоретической и практической деятельности человека. Философия выявляет общественноисторическую зависимость репертуаров и средств деятельности людей от уровня их развития и от характера разрешаемых ими проблем. В границах обслуживания типовых программ деятельности смысл М. сводим к обеспечению их нормативнорационального построения. Общественно-историческая и культурная обусловленность М. выявляется в ходе изменения ее оснований, а также в процессах выработки новых методологических средств. Значимую роль в разработке философских проблем М. сыграли Сократ, Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, Декарт, Кант, Шеллинг, Гегель и др. Специфический подход к проблеме предлагает системомыследеятельностная М. Сложность отношений М. и философии, как известно, определялась тем, что и М. может трактоваться с позиции философии, и философия может характеризоваться в рамках некоей обобщенной М. Пока в науке доминировала вера в незыблемые познавательные стандарты, философия реконструировалась в категориально-понятийных комплексах общей М. познания. Но поскольку в 20 в. познавательные стандарты обнаружили собственную зависимость от самого процесса познания, от развитости познающего субъекта и от типа познаваемых объектов, постольку в основаниях М. выявились социальноисторические, человеческие, личностные, культурные измерения, потребовалось их принципиально иное философское осмысление. В этом плане М. обнаружила свою условность в контексте постоянно воспроизводящихся репертуаров и процедур деятельности людей. В развитии современной М. все большее место занимают вопросы, связанные с динамикой познавательных проблем, культурно-исторической природой познавательных средств, изменчивостью категорий и понятий, формированием новых познавательных установок и т.д. Эти вопросы так или иначе сопряжены с включением в структуру М. философских представлений. Методологическая работа философии не ограничивается анализом познания, она рассматривает схемы деятельности, создаваемые людьми для обновления и воспроизводства социального бытия. Задачей М. становится выяснение, конструирование и преобразование схем деятельности, интегрированных в повседневный опыт человеческих индивидов. М. становится важным пунктом осмысления и переосмысления современной культурной проблематики. Внимание М. к схемам обыденного поведения и мышлению людей объясняется тем, что в их повседневном опыте традиции и стандарты деятельности перестают играть прежнюю роль. Действия и поступки людей, их общение и мышление утрачивают черты естественности стереотипных актов. Автоматизмы человеческого бытия уступают определяющую роль всевозрастающей совокупности оригинальных ориентиров, вырабатываемых людьми в процессах проблематизации, программирования, проектирования и решения конкретных жизненных задач. Осуществление новых нетрадиционных схем деятельности становится уделом все большего числа людей. Эффективность этой работы - это вопрос существования и обновления современной культуры. Последняя живет и трансформируется в значительной мере благодаря тому, что, осмысливая собственную методологичность, культивирует общественно-гуманитарные измерения М. (См. также СМД-методология.) А.А. Грицанов МЕХАНИЦИЗМ - способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов исходя из механических закономерностей. В истории философии и науки М. проявлялся в нескольких формах. Одна из них связана с рассмотрением движения как внешнего по отношению к неизменяющейся, вечно самотождественной субстанции, являющейся носителем движения. В результате логически равноправными могли выступать утверждения о том, что изучаемые, познаваемые объекты могут находиться, а могут и не находиться в движении. Зарождение этой формы М. можно обнаружить уже в античной философии (Демокрит, элеаты). В философии Нового времени развитие и обоснование этой формы М. оказываются связанными с расчленением знаний о субстанции (материи) и движении в различных областях науки, допущением существования особых видов "невесомой" материи (теплорода, светорода, электрических и магнитных флюидов) и особых природных сил соединения их с изучаемыми изменениями тел ("плавательная сила", "магнитная сила" и т.д.). Эта форма М. в науке и философии была преодолена, когда было раскрыто, что многообразные природные силы и формы энергии суть проявления одного и того же единого сохраняющегося движения, суть его различных видов (закон сохранения и превращения энергии). Другая историческая форма М. связана с употреблением понятия движения в одном узком смысле: как пространственного перемещения тел (механическое движение). Даже тогда, когда в философии были выдвинуты утверждения о движении как атрибуте и способе существования материи (Толанд, Гольбах, Дидро), то, строго говоря, в виду имелось движение как перемещение, а не движение как изменение и взаимодействие вообще. Третья историческая форма М., которая существует и в настоящее время, связана с крайностями применения метода редукции более сложных форм движения к более простым, когда игнорируется многоуровневость внутренне противоречивой природы движения и качественное своеобразие законов каждого уровня, не сводимое к законам других уровней движения. Для М. в целом как мировоззренческой установки характерно сведение сложного к простому, целого к сумме частей, отрицание качественно своеобразных законов у объектов с различным типом системной организации. Е.В. Петушкова МИД (Mead) Джордж Герберт (1863-1931) - американский психолог, социолог и философ. При жизни печатался мало. Основные его работы собраны в книгах "Разум, Я и Общество" (1934) и "Философия действия" (1938). М. испытал сильное воздействие идей прагматизма, самоопределял свою концепцию как "социальный бихевиоризм", однако фактически (если смотреть во временной ретроспективе) заложил теоретические и методологические основания теории символического интеракционизма (термин введен его учеником Блумером в 1937). Специфика восприятия реальности действующим субъектом (физическим субъектом, "живой формулой", социальным "Я") задается его непосредственным актом. Однако содержание объектов через акт предзадается всем прошлым опытом индивида. Следовательно, между субъектом и объектом складываются каждый раз особые отношения, так как объекты могут быть связаны с разным опытом субъектов. По сути они связаны с различными индивидуальными "перспективами", определяемыми спецификой отношений индивида со средой (следовательно, "перспективы" имеют под собой объективные основания). Реальность складывается, в конечном счете, из многообразия возможных "перспектив" и систем социальных взаимодействий. Участие индивида одновременно во многих "перспективах" и задает социальность (т.е. последняя возникает в интерсубъективном пространстве взаимодействий). В этом отношении любая воспринимаемая реальность будет социальной, но всегда социален и субъект, конституируемый своим участием в различных "перспективах" и взаимодействиях (понимаемых как межиндивидуальные). Действия конкретного человека могут быть восприняты другими людьми лишь будучи соотнесены со значениями, общими для взаимодействующих индивидов. Значения выражают редуцированные схемы прошлых взаимодействий, а их тождественность в опытах различных людей предполагает возможность "принятия роли другого". Сложное взаимодействие строится принципиально по этой же схеме, только в нем обобщается мнение группы относительно общего для индивидов, в нее входящих, объекта взаимодействия. Таким образом, в нем принимается не просто "роль другого", а "роль обобщенного другого". Усложнение взаимодействий, в которые включается индивид, предполагает и наращивание им способности к рефлексивному отношению. Происхождение "Я", таким образом, социально. Человек способен превращать себя в объект для самого же себя. "Завершенное" "Я" отражает структуру собственных взаимодействий, т.е. социальность, но и выступает источником новаций в ней. В структуре социального "Я" М. различает две подсистемы. Подсистему "I" - автономный источник спонтанного поведения, определяющий специфику реакций индивида на стимулы. Она постоянно продуцирует отклонения в структуре взаимодействий, не давая последнему "окостенеть" в жестких схемах. Подсистему "mе" - интернализованную структуру групповой деятельности. "I" ответственна за индивида как субъекта, "mе" - как объекта. Любое взаимодействие предполагает владение языком (как символической системой), позволяющим через символы увидеть себя в мире и создавать новые символы. Способность владения символическими системами закладывается в социализации. Это необходимое условие возникновения сознания и становления индивидуальности. Общность значений для взаимодействующих индивидов задается языком, позволяющим извлекать смыслы через осознание мира и самосознание (в котором человек, будучи субъектом, способен становиться и объектом для самого себя). Взаимодействие "Я" как объекта и "Я" как субъекта опоследуется образом "обобщенных других" (вплоть до представлений об обществе в целом). Граница между "Я"-объектом и образом "обобщенных других" прозрачна и во многом относительна. "Я"-объект формируется как результат совместных действий и именно в таком качестве отделяется в рефлексии от "Я" субъекта. Тем самым образ "обобщенного другого" как посредник во многом предопределяет целостность складывающихся субъект-объектных отношений и на уровне индивида и на межиндивидуальном уровне в реальных "символических интеракциях" взаимодействиях. Способность дистанцировать себя от роли и роли между собой (ход, развитый учеником М. - Гофманом) задает в ходе общения "игру в роли" как механизм поддержания социального порядка. При естественной установке задание социальных дистанций в мире невозможно. Влияние идей М. надолго пережило их автора и вышло далеко за пределы психологии и социологии. В.Л. Абушенко МИСТИКА (греч. mistikos - таинственный) - сакральная религиозная практика, направленная на достижение непосредственного сверхчувственного общения и единения с Богом в экстатически переживаемом акте откровения, а также система теологических доктрин, ставящих своей задачей концептуализацию и регулирование этой практики. В гносеологическом плане предполагает возможность непосредственного узрения истины в акте соприкосновения души с открывающимся ей трансцендентным оригиналом (см. Откровение), - в отличие от стадиального и принципиально асимптотичного приближения к истине посредством постижения воплощенных эйдосов - копий; в плане экзистенциальном - трансгрессию за очерченные наличным опытом пределы бытия. Нулевым циклом развития М. можно считать архаические оргиастические культы, реализация которых имела своей целью снятие в момент ритуального действа границы между профанным миром человека и сакральным миром духов предков. В вероучениях нетеистского типа закладываются основы М. как специфической практики, ориентированной на растворение в Абсолюте посредством специальных медитативных техник. Так, веданта основана на учении о соотношении атмана (индивидуальной познающей души) и брахмана (безличного Абсолюта); истинное знание (видья) есть знание брахмана (брахмавидья), и оно достижимо лишь посредством снятия индивидуального атмана в брахмане, созерцательного растворения в нем, что предполагает не только осознание разницы между вечным бытием Абсолюта и преходящим быванием невечного, но и аскетическое самоограничение: отказ от преходящих благ, стремление к освобождению от невечного и обладание шестью средствами для этого освобождения (спокойствием духа, умеренностью, отрешенностью, терпением, сосредоточением и верой). Аналогично - постижение дао в даосизме, шуньяты в буддизме и др. Зрелая М. (М. в собственном смысле этого слова) оформляется в вероучениях, относящихся к такому направлению, как теизм. В контексте теистской трактовки Абсолюта как личности ("живой Бог" христианства, иудаизма и ислама) М. выстраивается на принципиально иной - коммуникативной - основе: мистическое единение индивидуальной души с Богом осмысливается как диалог, личное и личностно-острозначимое общение, духовное единство, которое принципиально недостижимо односторонним усилием мистика, но предполагает обоюдность стремления в диапазоне от "нашла ли ты, душа моя, что искала? Ты искала Бога и ты нашла отклик его" у Ансельма Кентерберийского до "ты не искала бы, если бы тебя самое прежде не искали" у Бернара Клервоского. Сам богоискательский порыв мистика мыслится как внушенный Богом: "от самого источника истины исходит некое увещевание, понуждающее нас памятовать о Боге, искать его и страстно... жаждать" (Августин). Кульминационный момент и, собственно, цель и результат сакрального диалога души с Богом понимается в М. как откровение Божье - акт божественного волеизъявления и дар милости Божьей. В семантическом плане источником становления теистической М. выступает неоплатонизм, в нормативном разработанная в рамках патристики модель жизни христианина как постижения Христова приближения к нему, в контексте чего ступени совершенствования личности оказываются ступенями приближения его к Богу (Ориген, Игнатий Антиохийский и др.), а лицезрение истины понимается как сверхчувственное озарение души милостью Божьей (Августин). Окончательное конституирование М. теистского типа связано для христианства с текстами Псевдо-Дионисия Ареопагита, переведенными позднее на латынь Иоанном Скотом Эриугеной: именно к Ареопагитикам восходит базовая проблематика и понятийно-терминологические средства М., включая и сам термин "М.". Как для нетеистского, так и для теистского типа М. исходным условием формирования является высокое развитие религиозного сознания и сознания в целом, ибо М., во-первых, предполагает осмысление предмета веры в качестве трансцендентного миру, а во-вторых, фундаментальным для мистического познания является принцип сверх- и надрациональности, сознательного отказа от рационально-логических методов, имплицитно предполагающего не только овладение последними, но и рефлексивное осмысление их, что возможно лишь на базе зрелых форм философской культуры (см., например, мистические установки древнегреческого пифагореизма). В рамках оформившегося христианства М. конституируется как способ непосредственного квазиинтеллектуального богопознания, основанного на сверхразумном созерцании и чувстве (душа мистика у Григория Нисского как "сложившая покрывало со своих очей" и "чистым оком взирающая"), - в противоположность такому рационализированному его способу, как схоластика. Последняя либо ставится в подчиненное положение по отношению к М. (см. базовую концепцию аббатства де Сен-Виктор в Париже, основанного в 1113 центра средневекового мистицизма в Европе, которая предполагала трехстадийность познания, восходящего от эмпирического познания чувственного мира - через рассудочное познание духовного мира человека к высшему созерцательному сверхчувственному и сверхрациональному постижению абсолютной истины Божьей), либо же отвергалась вовсе (см., например, радикальную позицию цистерцианского ордена, искоренительские тенденции по отношению к номинализму со стороны Бернара Клервоского, францисканское неприятие "книжной учености" и т.п.). В любом контексте за М. оставался приоритет в адекватном постижении Абсолюта. Аналогичен статус Каббалы в иудаизме и альтернативного схоластическому каламу исламского суфизма ("мелочные споры о богословских или юридических тонкостях нужно заменить великим чувством устремленности к Богу". - Абу Хамид ал-Газали). Вместе с тем фундаментальным для М. является признание невербализуемости мистического опыта в силу его богоданности: "не опишет язык, не передаст никакое красноречие, ибо область его - иная область, и мир его - иной мир" (Ибн Туфейль). В этой связи в рамках М. исчерпывающе адекватное постижение абсолютной истины оказывается неинтер-субъективным, а содержание откровения, в принципе, не может быть реконструировано рационально-логическими средствами ("неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать". - 2 Кор. 12, 4; "Было, что было, а что не сумею сказать. Думай, что благо, но лишь не проси передать". - Абу Хамид). В этом контексте христианская М. культивирует в качестве своего обоснования восходящую к Ареопагитикам апофатическую теологию в противоположность развиваемой схоластикой катафатической: трансцендентный Бог может быть выражен лишь через отрицательные определения, т.е. путем последовательного снятия всех его эмпирически фиксируемых атрибутов и сигнификаций (см. Апофатическая теология, Катафатическая теология). А внетеологическая мистическая литература делает акцент на метафорических формах выражения, реализуясь, как правило, в жанре аллегорической поэзии (см. Откровение). В целом центр тяжести приходится в М. отнюдь не на концептуально-теоретические изыскания и вообще не на поиск средств выражения, но на специальную мистическую практику, имеющую своей целью непосредственное узрение истины в акте, выступающем для человека как озарение, а для Бога - как откровение. Акт откровения экзальтированно экстатически переживается мистиком и сопровождается экстраординарными состояниями сознания: транс; автоматическое говорение с включением в речь слов на несуществующих языках (глоссолалия - греч. glossa непонятное слово и lalein - говорить); галлюцинации; спровоцированные нерефлексивной аутосуггестией фантомные переживания - вплоть до появления стигматов и т.п. Понимание откровения как изъявления Божьей милости не снимает акцента с проблемы готовности мистика услышать глас Божий (православное "трезвение", т.е. "хранение ума, содержащегося в совершенной немечтательности". преп. Исихия). В этой связи мистическая практика предполагает овладение специальными психотехническими приемами сознательного введения себя в соответствующее состояние. Центральным смыслом всех вариативных приемов этого ряда выступает подавление индивидуальности сознания, понятое как освобождение пути для слова Божьего, ибо в момент откровения устами мистика будет говорить Бог: "в сосуде не может быть сразу двух напитков: если нужно наполнить его вином, надобно сперва вылить воду, - он должен стать пустым. Потому, если хочешь получить радость от восприятия Бога... ты должен вылить вон и выбросить тварей" (Мейстер Экхарт). Так, глоссолалия трактуется как "иные" ("ангельские") языки, которые подлежат истолкованию, - субъект же понимается в данном случае не как сознательный провозвестник истины (пророк), но лишь как проводник слова Божьего. Любые рефлексивные установки выступают в этом контексте только как помеха, что выражается в аксиологической установке М. на личное самоотречение: "к Богу поспешал я и преткнулся о самого себя" (Ансельм Кентерберийский). В этой связи целью практикуемых М. психотехник является "спокойствие души", фактически означающее поступательное отчуждение собственной внутренней сути: отрешаясь от внешних сует и освобождаясь от пут мирского, душа "перестает проявлять себя" (Мигель де Молинос) и может служить рупором Божьим (идеал пратьядхары как отвлечение от внешних предметов и достижение абсолютного покоя с полным угасанием растворяющегося в Абсолюте сознания в йоге; практика медитации в веданте; последовательный отказ от себя в христианских монашеских обетах: обет нестяжания как отречение от земных благ, обет целомудрия как отречение от своего тела и обет послушания как отречение от свободы воли и духа); названия многих мистических течений связаны с понятием покоя: исихазм, квиетизм и др. К частным психотехническим приемам достижения этого покоя относятся: 1) сосредоточение сознания на исполненных сакральным знаковым смыслом пространственных или вербальных фигурах (соответственно: янтры и мандалы в индийской М., крест в христианстве, тексты мантр в индуизме; православная "Иисусова молитва", предполагающая тысячекратные повторения имени Христова; бесконечные ритмичные восклицания в католических молитвах); 2) специфические неподвижные позы и ауто-суггестивная регулировка дыхания и кровообращения (дхьяна и йога, исихазм, "умное деланье" в православной М.); 3) особые предельно быстрые движения и специальные танцы с выверенными ритмом и темпом, предусматривающие резкие смены правого и левого боковых наклонов и длительные наклонные вращения, провоцирующие существенные перепады церебрального давления, имеющие своим следствием галлюцинаторные состояния сознания (раннеисламское дервишество, суфизм); 4) использование медикаментозных галлюциногенов (классический пример - исламская мистическая секта гашишинов, практиковавшая наркотическое отравление как средство достижения транса). Трактовка материального (в том числе и телесного) как аксиологического минимума ведет в теизме к пониманию души как "искры Божьей, только смешанной с плотью" (Гуго де Сен-Виктор), "Божественной искры в телесной оболочке" (хасидизм), "Божьего огня, стремящегося к Богу из телесных оков" (суфизм). В этой связи неотъемлемым элементом мистической практики является "умерщвление плоти", понятое как путь к освобождению духа: от ограничения себя в пище (посты), сне (бдения), удовлетворении сексуальных потребностей (целибат), общении (отшельничество и монашество в целом: греч. monachos - одинокий) вплоть до самоистязания (самобичевание у флагелланов: лат. flagellum - бич) и "хлыстование" в хлыстовских радениях, вериги и власяницы у православных юродивых и кликуш и т.п.). Два обрисованных обстоятельства (неинтерсубъективность мистического опыта и протекание акта откровения в пограничных неконтролируемых рефлексивно состояниях сознания) делают невозможным приобщение к мистической практике посредством освоения традиции и делают необходимым личное курирование новичка носителем мистического опыта, что выдвигает в М. на передний план фигуру обладающего "теургической силой" (см. Теургия) наставника: гуру в индуизме, старца в исихазме, пир-дервиша в суфизме, цадика в хасидизме и т.п. Однако овладение всеми описанными приемами выступает не более как внешнее по отношению к главному содержанию мистической готовности к экстазу откровения - страстной любви к Господу и напряженному желанию озарения: "Мой Бог - любовь, любовь к нему - мой путь. // Как может с сердцем разлучиться грудь?" (Омар Ибн ал-Фарид). Все упражнения в аскезе выступают лишь средством совершенствования любви к Господу ("Одному Господу и честь, и слава, но ни та, ни другая не будет угодна Господу, не приправленная медом любви". Бернар Клервоский). И более того, "целомудрие без любви будет в цепях в аду: оно так же бесполезно, как светильник, внутри которого нет огня" (У. Ленгленд). Акцент на чувстве и отсутствие необходимости в специальной теоретической подготовке ("книжной учености") для постижения абсолютной истины делают мистическую парадигму богопознания привлекательной для плебса, что находит свое наиболее яркое проявление в возникновении новых мистических направлений и мистически окрашенных массовых движениях в переломные периоды истории того или иного вероучения. Так, кризис христианства 11-12 вв., вызванный предельной институциализацией церкви, приобретшей в глазах мирян облик не столько утешительницы и заступницы, сколько карающего социального органа (равно как клирик теряет образ "пастыря доброго", приобретая черты бюрократического чиновника со всеми присущими ему качествами, начиная с симонии), был усугублен предельной концептуализацией вероучения в рамках и усилиями схоластики, фактически поставившей вопрос о возможности спасения в зависимости от знания латыни. Христианство оказывается перед лицом угрозы превращения в ритуализированную формализованную религию с высоким образовательным цензом, реально недоступную для низших слоев, - паства отшатывается от пастырей. В этот период параллельно оформляются когерентные течения иохамитов, амальрикан и вальденсов - от имен Иоахима Флорского (Джоакино де Фьоре, 1132-1202), Амальрика из Бены и Пьера Вальда (Вальдо). В основе учений лежали представления о трехфазности исторического процесса, соответствующей трем ликам Троицы: так, согласно Иоахиму Флорскому, Ветхозаветная эра, соответствующая ипостаси Бога-Отца, моделирует отношение человека к Богу как рабское подчинение господину, Новозаветная, соответствующая ипостаси БогаСына, - как отношения сыновней любви к отцу, а соответствующая Духу Святому эра "небуквенного Евангелия", эра всеобщей любви, бедности, евангельской чистоты и аскезы - как личные духовно-интимные отношения, в земной жизни открывающие человечеству непосредственное созерцание истины Божьей. Данная идея не нова и восходит к библейскому тексту книги Пророка Осии: "И будет в тот день, говорил Господь, ты будешь звать меня "муж мой", и не будешь более звать меня "Ваали" /господин. - M.M./... И обручу тебя мне в верности и ты познаешь Господа" (Ос, 2, 1620). Амальриканство аналогичную структурировку исторического процесса дополняет пантеистической идеей субстанциальности Бога: "все есть Бог", и каждый христианин - "подлинная часть тела Христова"; Божественная любовь как воскресение есть слияние души "воскресшего" с Богом и спасение, причем "искра Божья" в душе человеческой в своем стремлении к соединению с "Божественным светом" не нуждается в иерархии клира. Аналогично, в 1207-1209 Франциск Ассизский основывает братство миноритов ("братцев", "меньших братьев": от дихотомии богатых или старших - popolo grasso - и бедных, меньших - popolo minuto), базирующееся на идее реставрации исходной евангельской ("христовой") веры как непосредственного чувства и на проповеди всеобщей нищеты и братской любви "ко всем творениям". Поведенческий образ брата (fra) и парадигмальная мировоззренческая установка на мажорное мировосприятие (см. гимн Франциска "Кантика брата Солнца, или Хвала творениям") оказываются чрезвычайно привлекательными - францисканство становится знамением времени (согласно легенде, папе было видение о том, как нищий Франциск поддержал плечом пошатнувшийся Латеранский собор). Типологической параллелью данных христианских направлений выступает в иудаизме более поздний хасидизм, распространившийся среди еврейского населения Украины и Польши (13-18 вв.) и основанный на тезисе о том, что искреннее молчание безграмотного простолюдина ближе к Богу, нежели спекулятивно-казуистические умствования теоретизирующего раби. Индивидуальный мистический опыт слияния с Богом через "отмену материального наличествования" дополняется в хасидизме социально-мистической программой осуществления святой, а следовательно, и радостной жизни здесь и сейчас, не дожидаясь эсхатологического финала, что изоморфно соответствует идеям иохамитов и амальрикан и типологически сопоставимо с образом жизни, проповедуемым францисканством. Содержательно названные направления М. приводили в своем развитии к пантеизму (Давид Динанский), практически послужили идейной программой социальной смуты: крестьянские войны средневековья непременно ставят своей целью реальное воплощение идеала всеобщего равенства в "святой нищете и любви" (зачастую значительно трансформируя исходное толкование последней: см. Батай о "роли угнетенных... в развитии религиозного эротизма"). Например, мятеж казненного в 1307 Дольчино, чье учение, дошедшее до нас на допросных листках инквизиции, основано на идеях Иоахима Флорского об эре всеобщего "евангельского общежития в чистоте и братстве" и на идее Франциска Ассизского о "святой нищете"; аналогично - движение "лионских бедняков" (вальденсов), крестьянские войны во Франции и Германии, чешское гуситское движение, выступившее под лозунгом преобразования богатой церкви по образу раннехристианских общин и установления "евангельского царства всеобщего нищего братства". В обрисованном контексте можно говорить об амбивалентности статуса М. в структуре религиозного сознания: с одной стороны, мистическая практика конституируется как ортодоксальная (в христианстве, например, начиная с Августина, мистическое богопознание объявляется высшим и "венчающим собою постижение истины"), с другой - среди казненных святой инквизицией еретиков мистики составляют подавляющее большинство. Идеи и Иоахима Флорского, и амальрикан, и вальденсов были осуждены IV Латеранским Собором (1215), против альбигойской ереси (катары и вальденсы) было направлено учреждение I инквизиции и так называемые альбигойские войны по искоренению ереси (знаменитое взятие Тулузы с лозунгом "Господь отличит агнцев своих"), решение Парижского Собора (1209) об эксгумации останков Амальрика с целью "выбросить в поле на неосвященной земле" и массовые сожжения амальрикан и т.д. Показательна в этом отношении судьба францисканства: с одной стороны, Франциск, канонизированный в 1228 и объявленный покровителем набожной Италии, является одним из наиболее почитаемых святых католической церкви, с другой - известны гонения на миноритов. Примечательно, что францисканский орден, конституированный по всей форме институциальности, становится одним из наиболее богатых и наиболее консервативных: получившие право преподавания в университетах и участия в деятельности инквизиции представители францисканского ордена оказались предельно далекими от чуждых всякой учености отшельников Умбрии. Уже в 1266 по настоянию общего собрания ордена Бонавентурой не только систематизируется и концептуализируется учение Франциска, но и создаются "новые" легенды о нем, упраздняющие прежние, автохтонные как неистинные (так, замалчивается предсмертный завет Франциска не трогать устав даже под предлогом толкования, его контакт с основательницей францисканского ордена кларисок Кларой, дабы "не поощрять снисхождения к женскому обществу", хотя сама Клара в 1255 была канонизирована). На основе во многом сходных с основоположениями М. идей деформализации веры и непосредственности контакта души с Богом вырастает христианский протестантизм. В принципе, в своем возникновении он питается теми же корнями, что и М.: - последовательно выдержанное в духе теизма доминантное акцентирование внутренней интимной веры как аксиологического приоритета (отказ от католической концепции "добрых дел"), - принцип sola fide ("единой веры") как единственно возможное основание спасения в протестантской сотериологии, понимание диалога души с Богом как непосредственного и внеобрядного (основанного только на Писании и индивидуальном откровении, - принцип открытости Писания для толкования любым верующим и отторжение спекулятивного богословия - см. Лютер о теологии как "блуднице диаволовой", - совпадения могут быть обнаружены даже в частностях: например, "очищение сердца слезами" в исихазме и "сокрушение сердца" в протестантизме как истинный путь к Богу). Однако даже далекий от еретической или протестантской окрашенности ортодоксальный вариант М. представляет собой в контексте теизма весьма парадоксальный феномен. Сама идея возможности духовного единения с Господом, возвышение индивида непосредственно к постижению Божественной истины, объективно представляет собой наиболее кощунственное проявление гордыни как наипервейшего из смертных грехов - superbia. To, что в ересях выражено в эксплицитной форме (тезис амальрикан о воплощении в экстатирующем М. самого "Бога бессмертного"; знаменитое "Я - истина" ал-Халладжа в суфизме; трактовка хасидизмом человека как лестницы, "вершиной своею упирающейся в небо"), имплицитно заложено в любой мистической практике как ставящей своей целью постижение абсолютной истины Бога. В христианском контексте при беспроблемной внешней оценке М. близка к кощунству и с точки зрения второго смертного греха luxuria. Трактовка откровения как экстатичного разрешения напряженной остро личной любви к Богу посредством единения с ним с неизбежностью ставит вопрос о природе этой любви, и акцентуации мистических текстов с очевидностью сдвинуты в сторону интимной ее трактовки (см., например, описание акта откровения от имени души у классика европейской М. Гуго де Сен-Виктора: "Что это за сладость касается меня при воспоминании о Нем и так сильно и сладко поражает меня, что я вся как бы отчуждаюсь от себя самой? Желания наслаждаются... и как бы внутри себя держу что-то в объятьях любви... Сладостно мучается дух... Неужто это Возлюбленный мой?"). Даже метафоры рафинированно интеллектуальных мистиков типа Бернара Клервоского неожиданно натуралистичны: "В мистическом экстазе душа, жаждущая вечно покоиться на лоне Супруга, чувствует, как перси ее наливаются током сострадания: только надави их - и дивное брызнет молоко". Слова Пророка Иоанна "Бог есть любовь" перестают восприниматься как аллегория. Эротическая терминология брачной символики христианского обряда наполняется в М. всей полнотой исходного смысла и фактически перестает быть метафоричной; фантомный брак души с Христом зачастую переживается мистиком в формах неприкрытой сексуальности (см. П. Бицилли об эротических эффектах мистической экзальтации, Батай о религиозном эротизме в "Слезах Эроса"). Знаменательно, что данный физиологизм в полной мере осознается уже в рамках средневекового христианства, но не только не осуждается, но, напротив, оценивается в аксиологической системе христианства чрезвычайно высоко (см. трактат Жака де Витри с сюжетом о благочестивой и набожной девице, которая якобы ежегодно "со дня Благовещенья начинала полнеть и испытывала движения младенца, пребывая в блаженстве неизъяснимом", - в ночь на Рождество "живот ее опадал и в груди в изобилии появлялось молоко"). Более того, можно говорить не только о стихийных всплесках подавленного аскезой эротизма, но и о сознательно культивируемой сексуальности мистической практики (например, практикуемое бенгинками целенаправленное эротическое перевозбуждение с последующим его подавлением сознательным усилием как способ вхождения в экстатическое состояние). Радикальное табуирование сексуальности в христианской культуре при всей своей инвективности фактически выдвигает ее в разряд особо акцентированных феноменов: преступание столь педалируемого запрета по силе своей значимости сопоставимо с трансгрессивным переходом, что ставит его в один ряд с переходом границы трансценденции: "религиозный запрет распространяется на какое-то определенное действие, выделяя его, в то же время религиозный запрет может придать тому, на что он распространяется, какую-то особую ценность. Иногда даже возможно, что предписано нарушение запрета, преступание его, трансгрессия... божественный - значит безумный, значит отвергающий разумные правила... Религия требует по меньшей мере чрезмерности, она требует трансгрессии святого, святотатства... вершиной которого является экстаз" (Батай). В этом отношении М. требует - пусть в спекулятивной форме - нарушения табу на сексуальность в качестве средства и механизма трансгрессивного выхода за пределы наличного опыта. Мистическими текстами говорит вытесненная за пределы аксиологической легитимности и ищущая легального культурного жанра для своего выражения эротическая составляющая средневековой культуры (см. Секс). Примечательно, что в исламе, не акцентирующем аскезу (приписываемый Мухаммеду тезис "нет дервишества в исламе", описание рая как феноменального гарема в "Мухамеддите" и т.п.), брачная символика М. остается только знаковым кодом, аллегорическим средством выражения (наряду с равноправными другими. - См. Откровение). Это в определенной мере объясняет различный статус М. в рамках христианства и ислама: если суфии изначально преследовались, то христианские мистики канонизировались (ср. судьбу основоположников христианской и мусульманской М.: ал-Халладж казнен как еретик, Бернар Клервоский - влиятельнейшее лицо своего времени, советник монархов и пап). Наряду с конфессиональными формами М. могут быть выделены и внеконфессиональные (оккультные) ее формы: теософия как концептуализация индивидуально-мистического опыта без опоры на систему догматов конфессионального вероучения (от опытов Парацельса до спиритических сеансов Блаватской) и антропософия как оккультно-мистическое учение о человеке носителе тайных духовных сил, которые могут быть зафиксированы и изучены экспериментальным путем (месмеризм и аналоги). Мистическая традиция оказала значительное влияние на развитие не только религиозного сознания, но и культуры в целом. Так, применительно к Европе, в лоне М. оформились многие установки менталитета, вошедшие в золотой фонд европейской культуры, - прежде всего это касается оформления акцента на индивидуальной духовной жизни, ее эмоциональном содержании, что оказалось важным противовесом универсалистскорациональной установке на интеллектуализм в трактовке сознания и психики. В рамках апофатической теологии были выработаны многие понятийные средства, воспринимающиеся ныне как имманентные философскому категориальному аппарату (именно Мейстер Экхарт, например, создал классический немецкий философский язык). Мистицизм и спиритуализм могут быть прослежены среди других тенденций развития европейской философской мысли (Й. Тоулер, Г. Сузо, Сведенборг, Беме, Л.К. де Сен-Мартен, Ф.К. Баадер, Шеллинг, Бергсон и др.); мистический идеал "свободного царства" переосмыслен в концепции богочеловечества B.C. Соловьева, идея постижения истины посредством специфического опыта - в прагматизме; социальные аппликации М. - в марксизме (идеал коммунизма как парафраз "Эры Вечного Евангелия" Иоахима Флорского, нравственная парадигма "человек человеку - друг, товарищ и брат" как рецитация идеалов всеобщего братства, равенства и любви у Дольчино и Франциска); выдвинутая апофатической теологией программа отказа от констатаций всеобщности фактически изоморфно воспроизводится в позитивистском отказе от "метафизических суждений всеобщности" (см. Витгенштейн о позитивизме как "благородном молчании буддистов"); остро личностные трактовки индивидуального душевного опыта - в экзистенциализме (см. Бубер о генетической связи экзистенциализма с хасидизмом), идея непосредственного диалога с Богом - в диалектической теологии и диалогическом персонализме; идея откровения - в парадигме трансцензуса в классической философии и в парадигме трансгрессии в философии современного постмодернизма. (См. также Откровение, Апофатическая теология.) М.А. Можейко МИФ - форма целостного массового переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов, считающихся самостоятельными явлениями реальности. Мифологическое сознание отличается синкретизмом, восприятием картин, рожденных творческим воображением человека, в качестве "неопровержимых фактов бытия" (Лосев). Для М. не существует грани естественного и сверхъестественного, объективного и субъективного; причинно-следственные связи подменяются связью по аналогии и причудливыми ассоциациями. Мир М. гармоничен, строго упорядочен и не подвластен логике практического опыта. Исторически М. возникает как попытка построения на интуитивно-образном уровне восприятия целостной картины мироздания, способной обобщить эмпирический опыт и дополнить (при помощи умозрительных спекуляций) его ограниченность. Естественно-историческая неполнота достоверного знания о мире, неразработанность понятийного аппарата и отсутствие на ранних этапах существования человеческого общества четко зафиксированных принципов построения и обоснования знания предопределили появление М. как некоей гипотезы, импровизированного суждения по поводу реальности, которое затем предстает для своего носителя в качестве единственно возможного и самоочевидного облика мира. М. представляет собой своеобразное опредмечивание коллективных фобий, оформление в ярких и доступных образах массовых ожиданий, страхов и надежд. М. нерефлексивен, т.к. изначально несовместим с рациональнокритическим подходом к любому явлению, отдавая предпочтение эмоциональному созвучию и субъективной убежденности. Пространство М. закрыто, завершено, и единственное движение, возможное в нем, - повтор, воспроизведение уже некогда свершившегося. М. при этом функционирует как в качестве определенного способа переживания реальности, так и в виде его продукта - завершенной картины мира. Как первичная форма целостного дотеоретического общего мировоззрения, М. составляет неотъемлемую часть любого типа культуры - как в стадии его становления, так и в процессе генезиса и эволюции присущих данной культуре мировоззренческих моделей и форм духовно-практического освоения мира. Появление развитых систем рационально-понятийного знания не приводит к одновременному вытеснению из духовной жизни общества элементов мифологического сознания. Последнее постоянно воспроизводится на уровне спонтанного житейского опыта и неформализуемого полностью практического сознания, а также в ситуациях, связанных с необходимостью коллективного социального действия, основанного на беспрекословном подчинении чужой воле. "Экологическая ниша" М., таким образом, помещается в тех областях человеческого существования, где рационалистическое миропонимание либо не занимает господствующего положения, либо по каким-то причинам его теряет. В динамике культуры подобные ситуации, как правило, связаны с глобальными (смена идеалов рациональности, поиск мировоззренческих оснований новой исторической эпохи, преобразование типа общественного устройства) или локальными (смена парадигм в частных науках, возникновение новых областей знания или теоретических систем) процессами, лишающими однозначности (и ореола рациональности) прежнюю систему ценностей. Роль М. в жизни современного общества неоднозначна. М. как универсальная форма дотеоретического мировоззрения присутствует в различных сферах духовно-практического освоения реальности (М. массового сознания, "гносеологические М." в структуре научного знания, идеологические М., "магический реализм" в литературе и искусстве) как необходимый и обладающий мощным продуктивным потенциалом элемент. В то же время современная политическая мифология нередко используется политическими организациями и властными структурами для целенаправленного программирования массового сознания, формирования лояльно-конформистских или радикально-агрессивных общественных настроений. (См. также Мифология.) М.Р. Жбанков МИФОЛОГИЯ (греч. myphos - сказание и logos - рассказ) - тип функционирования культурных программ, предполагающий их некритическое восприятие индивидуальным и массовым сознанием, сакрализацию их содержания и неукоснительность исполнения. Различают: классическую М. как тип культуры, тотально представленный сакрализованными программами и базирующийся на архаических формах ментальности, и современную М. как феномен, представляющий собой вкрапление мифа в немифологическую по своей природе культурную традицию в результате сознательного рефлексивного целеполагания (социальная М. как вариант политико-идеологической практики). В структуру как классической, так и современной М. входят: 1) конститутивная (или информационносодержательная) составляющая, включающая в себя: а) блок онтолого-генетический: космогония в классической М. и, соответственно, легендарно-исторический компонент социальной М., представленный сюжетами о становлении соответствующей социальной системы как упорядочивающей космизации предшествующего социального хаоса (например, миф о "происхождении ариев" или "народа-богоносца"); б) блок героико-генетический: классическая теогония и, соответственно, мифы социальной героики (легенды об "отцах-переселенцах", историко-революционный эпос и т.п.); в) блок прогностический: эсхатология в зрелых формах классической М. и утопии или программные модели построения "светлого будущего" - в М. социальной; 2) регулятивная составляющая, задающая поведенческие матрицы, парадигмальные установки интерпретации, замкнутый цикл ритмических процедур, структурно организующих календарь (календарные праздники в классической М. и, соответственно, регулярность массовых манифестаций и ритмичность сакрализованных идеологических акций - типа партийных съездов - в социальной). К интегральным характеристикам, общим как для классической, так и для современной М., могут быть отнесены следующие: 1. Глобальность масштаба: М. моделирует весь мир (в случае классической М.) и/или всю социальную жизнь (в случае М. социальной). 2. Синкретичность М. как совпадение семантического, аксиологического и праксеологического ее рядов: от слитности в архаической М. сакральных космогонических сюжетов с бытовыми технологиями (см., например, вавилонский миф о творении мира посредством разделки туши убитого животного или ближневосточные "гончарные" космогонии) до самооценки марксизма как "отлитого из одного куска стали". В этой связи разрушение или замена одного (даже частного) фрагмента мифа чреваты гибелью всей мифологической структуры (см., например, частые смены технологической составляющей классической М. как фактор кризиса мифологического типа мировоззрения в целом). В этом смысле миф как феномен синкретической нерасчлененности противостоит такому феномену, как логос (ср. греч. myphos - речь, мнение, слово как единство семантики и сонорики и logos - слово в значении дифференцированности, структурности смысла: греч. lego говорю и лат. lego - читаю, собираю, конструирую). Типично в этом контексте противопоставление Плотином знаковой системы алфавита, предусматривающей рациональное конструирование слова и (при восприятии) его дискурсивную реконструкцию, иероглифическому аллегоризму, предполагающему непосредственное узрение неразложимого умопостигаемого эйдоса слова=смысла=образа. 3. Структурно-семантическая гетерогенность (пористость содержания): миф при совпадении с действительностью в некоторых (не обязательно узловых) точках заполняет смысловые лакуны фантастическими объяснительно-интерпретационными моделями. 4. Универсальность мифологического ригоризма, т.е. характерное для мифологического сознания отсутствие - в глобальном масштабе - рассогласования между сущим и должным: несмотря на свой драматизм и даже трагичность, мировой процесс в его мифологическом изображении протекает, в конечном счете, в соответствии с предустановленной сакральной программой, которая в классической М. аранжируется как воля богов, а в социальной - как "логика евроцентризма", "историческая закономерность мирового революционного процесса" и т.п. 5. Парадигмальность М. по отношению ко всем формам поведения и деятельности, характерных для соответствующей культуры. 6. Принципиальная инфинитивность (рецитативность) мифа, предполагающая актуальное разворачивание в культуре веера его дериватов: объяснительный потенциал М. может быть реализован только при условии ее перманентного толкования, интерпретации его содержания в конкретных системах отсчета. Миф требует постоянного перетолкования, не допуская при этом критики, и постоянной актуализации его содержания при непременном сохранении исходного ядра смысла. Классическая М. разворачивает разветвленную практику толкований-рецитаций: от событийно-синхронных изустных воспроизведений мифологических сюжетов (исполнение былин баяном, спонтанные песни акына или стационарно фиксированные календарные трагедии и мистерии) до оформления традиции толкования текста (см. Экзегетика). Аналогично и социальная М. предполагает интерпретационную процессуальность (перманентную актуализацию) своего бытия, требуя все новых и новых воспроизведений и толкований (нормативная система массированного цитирования соответствующих "классиков" или сакрализованных идеологических документов, вал популяризационных работ, резолюций и инструкций по поводу последних). 7. Внутренняя установка М. на имманентное понимание и истолкование мифа (в отличие от историко-генетического или любого иного внешнего его истолкования). Именно М. закладывается в культуре герменевтическая традиция интерпретаций как традиция имманентного толкования текста (ибо исходно оно относилось к тексту мифа, а содержание его сакрально), - парадигма герменевтической процедуры унаследована христианством (практика экзегетики) и в целом средневековой культурой, ориентированной на дешифровку иносказаний (общекультурный образ мира как книги, эмблематичность геральдики и символизм "знамений"), воспроизведена культурой Ренессанса (символизм поэзии dolce stil nuovo, стилизация как культурный жанр) и барокко (аллегоризм культурных феноменов и установка на дешифровку и декодирование) и, в конечном счете, положена в основу современной философской герменевтики. 8. Нормативная фидеистичность: для адаптации любого типа М. в массовом сознании ей необходимо своего рода конфиденс-обеспечение, - миф живет до тех и только до тех пор, пока в него верят, и любая критическая аналитика, а тем более скепсис невозможны внутри М.; если же они становятся возможными - невозможным становится сам миф. 9. Самосакрализация М., основанная на наличии внутри нее специфических защитных механизмов, представленных различными проективными поведенческими моделями, функционирующими в амбивалентном режиме кнута и пряника (сюжеты наказанного отклоняющегося и вознагражденного типового поведения). В данном аспекте М. фактически изоморфна религиозному сознанию, содержащему соответствующие бихевиор-программы любви и страха. 10. Обязательность механизма сакрализации имени (носителя мифологического сознания), обеспечивающего М. точность адресования: для архаической культуры это сакрализация индивидуально-личного имени как основа именного типа трансляции информации от поколения к поколению (см. Социализация), позднее при коллективном адресовании мифа надындивидуальное имя этноса (иудеи, эллины, славяне и все др.) в любой этномифологии или класса - в М. политико-идеологической (в ряде случаев возможен инструментальный mixt: например, в варианте фашизма, где этноимя используется в рамках идеологизированной политической М.). Отсюда - столь любимая и широко практикуемая во всех мифологических традициях процедура сакрального поименования или переименования, семантически означающая для носителя мифологического сознания факт присвоения: от архаических номинаций как способа овладения предметным миром до грандиозных кампаний переименования городов и весей в советской практике. 11. Достаточность объяснительного потенциала М., работающего как "вовне" (интерпретационная ассимиляция новых феноменов, попавших в сферу рассмотрения мифа), так и "вовнутрь" (незамедлительное "затягивание" семантических разрывов за счет реинтерпретации наличных мифов или создания квазимифа). 12. Имманентная прагматичность: М. выступает базовым средством достижения реальных прагматических целей не только для субъекта сознательного мифологизирования или мифотворчества (если таковой имеется - в случае социальной М.), но в первую очередь для своего непосредственного носителя, выступая информационно-технологическим обеспечением хозяйственной, бытовой, коммуникативной и социально-идеологической деятельности и отвечая глубинным мировоззренческим потребностям и латентным ожиданиям массового сознания. 13. Обязательная сопряженность с ритуалом: характерный для классической культовой М. обряд как форма магического действия, направленного на достижение реальных целей иллюзорными средствами (например, связанные с культом Деметры Элевсинские мистерии и сельскохозяйственные ритуалы Аррефорий и Фесмофорий), аналогично - архаические аттические трагедии как связанные с культом Диониса театрализованные рецитации соответствующих мифов (от греч. tragedia - "песнь козлов", т.е. козлоногих сатиров, спутников Диониса); с точки зрения культурного статуса и функций им изоморфны ритуальные действа в системах социальной М., имеющие идеологическое содержание и организационноинтегративные цели, столь же театрализованные и массовые, как и архаические мистерии (вакханалии), и в социально-психологическом плане фундирующиеся сознательной спекуляцией на ностальгически переживаемой современным индивидом потребности в изначально заданном чувстве общности, характерном для архаической общины и утраченном при становлении индустриализма в процессе индивидуализирующей модернизации сознания. 14. Нерефлексивность: как мифологическая культура не предполагает в своем составе мета-культуры, так и идеологическая М. не выдерживает, а потому и не допускает рефлексивного (неимманентного, несакрализованного) подхода. 15. Консервативность: мифологические системы не склонны к инновациям, ибо каждая из них должна быть адаптирована в содержание М. посредством интерпретационного механизма, между тем частая смена парадигмальной мифологической матрицы разрушает иллюзию незыблемости ее оснований. Классическая М., являя собою исторически определенный тип ментальности и культуры в целом, включает в себя элементы всех конституирующихся в более поздний период форм сознания социума: ранние формы предрелигиозных верований (см. Бог), структуры нравственного долженствования, воплощенные в фабульных сюжетах мифа, первые формы художественного освоения мира и т.д. Соответственно, в содержании классической М. закладываются наиболее фундаментальные вопросы бытия, оцененные позднее как роковые и вечные. Исходно архаическая М. формируется как этномифология (индийские Веды, Махабхарата; китайские Шуцзин, Хуайнань-цзы; древнегреческие Илиада и Одиссея, скандинавско-германские Эдды, иранская Авеста, древнерусские былины, карело-финские руны и т.п.), однако в ходе культурной динамики наблюдается явление контаминации (лат. contaminatia - смешиваю), приводящее к усложнению мифологических образно-смысловых систем. В силу этого в микшированных культурных средах, во-первых, наблюдается расслоение М. на элитарную (фактически совпадающую с нормативной) и низовую, включающую в себя фольклорную подоплеку, сколы более ранних вытесненных мифологических сюжетов, параллельные типовым объяснительные парадигмы и т.п. (см., например, языческие мифологемы в низовой культуре средневекового христианства: майское древо, пасхальные яйца, рождественская елка и др.) Во-вторых, поскольку мифологическое микширование всегда аксиологичес-ки анизотропно и одна из взаимодействующих М. неизбежно становится социально санкционированной и доминантной, постольку контаминация приводит к семантико-аксиологической дифференциации мифологем: мифологемы и персонификации вытесненной мифологической системы включаются в массовое сознание и в смыслообразную систему возобладавшей М. на правах низших или темных (злых) сил. Типовыми характеристиками классической М. являются: 1) антропоморфизм; 2) этиологизм (греч. eitia - причина), понятый как генетизм; 3) гилозоизм - отсутствие в архаическом мифологическом сознании границы между биотической и небиотической составляющими мироздания, - тотальное оживотворение бытия; 4) анимизм одушевление фрагментов Космоса; 5) конструирование своей архитектоники посредством введения бинарных оппозиций, поступательно смягчающих фундаментальные противоречия бытия (от оппозиции "жизнь - смерть" - к оппозиции "живое - неживое" и далее); 6) гетерогенность времени мифа как структурированного соотношением профанного и сакрального временных периодов, а также основанные на этой гетерогенности циклические представления о времени, предполагающие регулярный возврат временного движения к семантической точке сакральной даты "начала времен" (акта космогенеза); 7) аллегоризм обобщений, предполагающий в качестве своего механизма персонификацию обобщенных явлений. В эволюции классической М. могут быть выделены два этапа: хтоническая М. (греч. chtonos земля), характерная для периода выделения человека из природы и связанная с аграрными культами плодородия; оформляется в эпоху матриархата, центральной мифологемой хтони-ческой М. выступает великая Мать в различных ее этновариантах (Астарта, Рея-Кибела и др.), а также символизирующие природные силы неантропоморфные мифологемы (змеи, чудовища и др.); эпическая М. (греч. epos - слово, сказание), характерная для периода выделения индивида из рода и связанная со знаменующим эпоху патриархата развитием ремесла; в центр мифологической системы выдвигается образ культурного героя или герояцивилизатора (Гильгамеш, Прометей и др.), осуществляется иерархическая переструктурировка пантеона: верховным богом становится, как правило, громовержец, т.е. персонификатор мужского начала (стрела как фаллический знак в архаических культурах; молния, бьющая в гладь вод, как символ космогонического брака Неба и Земли): Зевс, Перун и др., в то время как мифологема Великой Матери, напротив, дифференцируется и расслаивается на мозаичный набор частных женских богинь: Афина, Афродита, Артемида, Гестия и др. Типичным для героического эпоса становится сюжет о герое, побеждающем хтонических чудовищ (змееборческий миф в западной культуре, побеждающий змия Георгий Победоносец у славян и т.п.), что символизирует патриархальную доминанту в культуре и вытеснение из зоны аксиологического санкционирования хтонических мифологем. И если в хтонической М. космогенез интерпретировался как рождение Космоса (миф о сакральном браке: см. Любовь), то в эпосе - как креация ("ремесленные" мифы космотворения). При смене мифологической культуры немифологической классическая архаическая М. не уходит из содержания ментальной традиции, выступая материалом для переосмысления в процессе становления философских форм мышления (см. Античная философия), инструментом символического моделирования, художественной метафорики и др. Образные системы М. входят в золотой фонд как западной, так и восточной культур, выступая содержательно универсальным и аксиологически общезначимым культурным языком (кодом). Применительно к современной культуре можно говорить как о переосмыслении и новом толковании мифологических образов (Т. Манн, Дж. Джойс, К. Кокто, Г. Вагнер, О. Бердслей, Ф. Марк и др.), так и о сознательном мифотворчестве в искусстве (Кафка, Маркес, Г. Аполлинер, Ф. Супо, Ж. Жироду, Ж. Ануй, Толкин, Кэндзабуро Оэ, Т. Янссон, С. Дали, М. Эрнст и др.). Мифотворчество функционирует в современной культуре не только как артистический жанр и средство достижения художественной экспрессивности, но и как философско-методологический прием (см. современные "гносеологические мифы" в структуре научного познания и методологического исследования, функционально изоморфные платоновскому "мифу пещеры" и типологии "идолов" у Ф. Бэкона). Однако по своим типологическим характеристикам мифотворчество как художественный жанр и философский прием, будучи близким к М., тем не менее не совпадает с ней с точки зрения статуса (ибо лишено ореола сакральности) и способов функционирования в культуре (не воспринимается как информация к исполнению и не сопряжено с ритуалом). Современная культура включает в себя также богатую традицию философии мифа, задавшую в ходе своей эволюции следующие парадигмы истолкования М. как феномена культуры: компаративная - как в смысле сравнительного анализа различных этномифологий, стимулированного введением в философский оборот мифологического материала не только индоевропейского региона, но и Америки, Африки, Австралии и Океании, начиная от Ж.Ф. Лафито, так и в смысле типологического сравнения мифа с другими формами культуры и сознания: с детским сознанием (Вико), с поэтическим творчеством (Гердер и Шеллинг), со сказкой как инобытием мифа, утратившим связь с ритуалом (братья Я. и В. Гримм) и др.; лингвистическая, центрирующая внимание на соотношении семантики и метафорического строя мифа, рассогласование которых ("стирание" исходного смысла метафор) рассматривалось как основа мифогенеза миф при этом интерпретировался как "болезнь языка" (А. Кун, В. Шварц, В. Манхорд, М. Мюллер); эволюционистская (или антропологическая), в рамках которой М. трактовалась как "протонаука", перерастаемая современной культурой в зрелых ее формах (Тайлор, Э. Лэнг, Спенсер); ритуалистическая (от Фрезера до кембриджской школы М.), анализирующая М. вне ее семантики и объяснительного потенциала, но только с точки зрения представленных в ней структур ритуальных действий, выступающих модельной матрицей социального поведения (Д. Харрис, Ф.М. Корнфорд, А.Б. Кук, Г. Марри, М. Хокарт, С. Хойман, Г. Хук, Т.Х. Гастер, Э.О. Джеймс); функциональная, рассматривающая миф как механизм воспроизведения культурной традиции и психологической интеграции социума (Малиновский, Радклифф-Браун); аффективно-ассоциативная - в диапазоне от трактовки М. в качестве объективации психических комплексов и коллективных архетипов бессознательного до усмотрения в М. средства спасения от "страха перед историей" (Вунд, Фрейд, Юнг, Дж. Кэмпбелл, Элиаде); социологическая, в рамках которой М. интерпретируется как модель структуры родовой общины, основанная на характерных для дологического мышления принципах партиципации, негомогенности и анизотропности пространства и времени и т.п. (Дюркгейм, Леви-Брюль); символическая, интерпретирующая М. как замкнутую семиотическую систему, конституирующую символическую модель мира и в этом смысле нуждающуюся в декодировании (от Кассирера до С. Лангер); структуралистская, трактующая М. (при всей ее метафоричности) как логический механизм снятия остроты фундаментальных мировоззренческих противоречий: так называемая "логика бриколажа", прием медиации как последовательной семантической редукции бинарных оппозиций (Леви-Стросс). Социальная М. представляет собой феномен идеологической практики, конституировавшийся в зрелом виде в 19-20 вв. и представляющий собой сознательно целенаправленную деятельность по манипулированию массовым сознанием посредством специально сформированных для этой цели социальных мифов. Социальная М. включает в себя, таким образом, два необходимых компонента: социальное мифотворчество и адаптацию созданных идеологических мифологем в массовом сознании. Основы философской традиции в анализе этой сферы были заложены Шопенгауэром в контексте анализа идеологии в системе отсчета субъекта, чьи усилия и вся воля, которой он наделен, направлены на то, чтобы векторно сориентировать и наполнить эту волю сознательным смыслом. В интерпретации Ницше идеология как особый тип М. формирует не только "стадные инстинкты" массового сознания, но и соответствующий им некритический стиль "рабского мышления". В собственном смысле этого слова традиция философского исследования социальной М. начинается с середины 19 в., знаменующейся переносом акцента в философии власти с субъекта властных отношений на так называемый "объект власти", что чрезвычайно актуализирует и фактически выдвигает на передний план проблематику идеологического воздействия на индивидуальное и массовое сознание, стимулируя исследования в области социальной М. Ж. Сорелем осуществлено рассмотрение социальной М. как базисной структуры идеологизированного (классового) сознания, основанного не на знании, но на вере. Именно в этом, по мнению Сореля, заключается специфика и преимущество социальной М. по отношению к аналогичному идеологическому феномену - утопии: будучи фундирована верой, социальная М. не может быть подвержена рациональнологической препарации и, следовательно, критике. В индивидуальном измерении миф функционирует как психологический императив, инспирирующий социальное действие, в массовом измерении - как интегрирующая сила, векторизирующая скалярные состояния толпы. Фундированный анализ социально-мифологических парадигм идеологизированного мышления представлен в концепциях правящей элиты. Так, анализируя мотивы человеческого поведении, Па-рето дифференцирует "врожденные психологические предиспозиции" (инновационный "инстинкт комбинаций" и дополняющую его тенденцию к "постоянству агрегатов", чувство социальности и потребность индивида реализовать себя в социальном контексте, чувство собственности и сексуальный инстинкт) как реальные движущие импульсы социального действия, с одной стороны, и камуфлирующие их "деривации" (системы псевдоаргументации и псевдомотивации действия, призванные придать последнему позитивную аксиологическую характеристику, - с другой). По словам Парето, "сущность человека состоит не в разуме, а в способности использовать разум в корыстных целях". В этой системе отсчета социальная М. выступает средством идеологизации и пропаганды, эффективность которого фундирована скрытыми предиспозициями массового сознания. Современная философия власти анализирует социальную М. в свете исследования проблемы механизмов формирования социальных иллюзий, разработки конкретных приемов непосредственного целенаправленного воздействия на индивидуальное и массовое сознание посредством как прямой, так и латентной пропаганды, использования возможностей mass-media и multi-media в процессе формирования и прививки идеологем социальный М. в массовые стереотипы сознания (X. Шиллер, X. Блюмер, X. Лассуэлл, Б. Берельсон, Ф. Балле). Применительно к современной культуре может быть зафиксирован своего рода ренессанс М., связанный с формированием в ее контексте концепции нелинейных самоорганизационных динамик (см. Неодетерминизм, Синергетика). Ориентация на нелинейное видение мира имеет своим следствием актуализацию мифологических моделей спонтанных процессов (характерных, прежде всего, для восточной М.): так, например, обращение к восточной М. и М. Европы (до формирования жесткой субъект-объектной оппозиции в европейском мышлении эпохи античной классики с ее пафосом субъектного активизма) характерно для представителей синергетики (Пригожин, Г.Николис, А.Баблоянц и др. - См. Синергетика). По оценке главы российской синергетической школы С.П.Курдюмова, исследуемый синергетикой механизм самоорганизации "удивительно напоминает древние натурфилософские построения", - в этом контексте "сопоставление этих учений с современными теоретическими представлениями" оценивается им как имеющее "эвристическую ценность для дальнейших разработок в теории самоорганизации". Нелинейный характер классической М. широко обсуждается в современной философской литературе (Ж.П.Вернан и др.) и обращает на себя пристальное внимание философии постмодернизма. Постмодернизм фиксирует то обстоятельство, что "миф вводит в игру логическую форму, которую, по контрасту с непротиворечивой логикой философов, можно назвать логикой двойственности, двусмысленности, полярности", - и в этом отношении предлагаемая М. нелинейная "модель логики, которая не была бы бинарной логикой "да" и "нет", отличающейся от логики логоса", с очевидностью выступает для современной культуры в качестве "недостающего инструмента" (Деррида. - См. Хора). В свете этих презумпций постмодернистская философия практикует и автохтонное мифотворчество (в режиме создания своего рода ad-hoc мифологем), и актуализацию в новом концептуальном контексте традиционных мифологических метафор (например, мифологемы "Хроноса" в постмодернистской концепции исторического времени или "тантрического яйца" в концепции тела без органов. - См. Событийность, Тело без органов, Эон). Номадологическая парадигма (см. Номадология) весьма радикально фиксирует постмодернистское видение статуса М. в современной культуре: "налицо фундаментальное срастание науки и мифа" (Делез, Гваттари). В современной постмодернистской философии (в контексте критики логоцентризма и отказа от так называемых "метафизических оппозиций" и самой идеи бинаризма. - См. Логоцентризм, Бинаризм) имеет место "практическая деконструкция философской оппозиции между философией и мифом, между логосом и мифом" (Деррида), что позволяет говорить о своего рода неомифологическом мышлении (ср. "поэтическое мышление" постмодернизма). М.А. Можейко МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович (1842- 1904) - русский социальный философ и социолог, литературный критик, теоретик народничества, основатель (наряду с Лавровым) субъективной социологии. Основные сочинения: "Теория Дарвина и общественная наука" (1870-1871, 1873), "Аналогический метод в общественной науке" (1869), "Что такое прогресс?" (1872), "Борьба за индивидуальность" (1875- 1876), "Вольница и подвижники" (1877), "Герои и толпа" (1882), "Научные письма. К вопросу о героях и толпе" (1884), "Патологическая магия" (1887), "Еще о героях" (1891), "Еще о толпе" (1893) и др. С 1869 М. - постоянный и деятельный сотрудник журнала "Отечественные записки", с 1892 - один из ведущих редакторов журнала "Русское богатство". В течение 40 лет был одним из самых читаемых и влиятельных авторов в России, создал особый тип письма - отклик на все, что волновало русское общество (с позиций не цехового ученого, а "профана", которого заботят реальные жизненные проблемы), при одновременном изложении через самый разный материал собственных концептуальных подходов. Работая в целом в русле позитивизма, стремился к широкому социально-философскому синтезу. Этический пафос мысли М. привел к тому, что он стал одним из ведущих проповедников персонализма, синтезированного с метафизикой природы, хотя позитивистская методология, замкнутость на категории возможности, не позволила М. выявить более глубокие истоки персонализма. Следуя гносеологии позитивизма, М. понимает истину как удовлетворение познавательной потребности человека. Чтобы избежать возможного произвола, за критерий истины нужно признать потребности нормального человека. Концепция истины непосредственно входит в ткань социологической теории М., наиболее оригинальной и значимой части его наследия. Предметом социологии, считает М., является отношение различных форм общежития (кооперации) к судьбам личности; исследование законов этого отношения позволяет соединить в социологическом анализе сущее и должное. Определивший идейные искания М. этический императив ярко выявился в концепции двуединой правды ("правды - истины" и "правды - справедливости") как сочетания познавательной и нравственной потребности, что привело М. к разработке субъективного метода в социологии. Данный метод не исключает объективного познания, но в силу неустранимости субъективного момента (предвзятого мнения) из социального познания предполагает еще и оценку реальности с т.зр. нравственного идеала, желаемого будущего. Возможный субъективизм купируется тем, что социолог должен начать с некоторой утопии (идеального состояния) и на этой основе определить, какие элементы в обществе нежелательны и подлежат устранению. М, следовательно, закладывает основы социологии знания, подчеркивая, что человек относится к реальности прежде всего как член социальной общности и общечеловеческая истина возможна только при преодолении социальной дифференциации. Основу социальной концепции М. составляет теория кооперации и разделения труда, анализ которых синтезирует структурную и динамическую картину общества. Форма кооперации определяет тип развития общественности. М. выделяет два типа разделения труда: органическое (между органами индивида), которому соответствует простая кооперация, основанная на сходстве и солидарности между людьми; общественное (между группами) с соответствующей ему сложной кооперацией, основанное на различиях между людьми, что вызывает односторонность личности, социальные конфликты и борьбу. Будущее за простой кооперацией, наиболее адекватной развитию индивида. В центре концепции М. также находилась проблема личности. Личность, по М., несет в себе потребность целостности и никогда не должна быть принесена в жертву, она свята и неприкосновенна. Пути решения этой проблемы М. выявляет в теории борьбы за индивидуальность как центральной нити, которая позволяет объяснить исторический процесс, сам по себе алогичный, ибо сущность его нам неизвестна. Индивидуальность есть далее неделимое, без потери своей особости, целое. Существует иерархия индивидуальностей, развивающихся по органическому типу: каждая более высокая индивидуальность подчиняет себе более низкую. Например, общество стремится через общественное разделение труда превратить личность из индивида в орган. Однако личность имеет право и обязанность прервать органический процесс в целях собственного совершенствования, целостности и полноты, вступая ради этого в борьбу с другими индивидуальностями (с природой, социальными формами), вмешиваясь в естественный ход событий на основе категории возможности, осуществляя тем самым законный нравственный суд над социальным процессом. Эта борьба бесконечна, победа личности в ней вовсе не предопределена ("чья возьмет - увидим"), но именно в ней смысл истории как смены форм кооперации. Стремясь понять закономерности развития личности, М. разрабатывает теорию "героев и толпы", выступив одним из основоположников социальной психологии. Герой - это зачинатель, тот, кто делает первый шаг и которому толпа готова подчиниться, хотя личность героя может быть мелка. Толпа масса, способная увлечься любым примером и переступить за героем некую, чаще всего опасную, грань. Тайну взаимодействия героев и толпы М. видит в механизме гипнотизма, который действует в условиях подавления индивидуальности, что вызывает децентрализацию личности, скудость ее впечатлений и интересов, готовность пойти за любым авантюристом. Логическим завершением доктрины М. является его теория прогресса, обоснованию которой, начиная со статьи "Что такое прогресс?" (1869), посвящено все творчество мыслителя. Прогресс, по М., есть смена форм кооперации с целью преодоления общественного разделения труда, что постепенно приближает к целостности неделимых, к разносторонности личности. В этом процессе человечество, пройдя объективно-антропоцентрическую и эксцентрическую фазы своей истории, может прервать органическое развитие и войти в субъективно-антропоцентрическую фазу, где человек и его этические искания ставятся в центр мира, что совпадает, по М., с социализмом как обществом, в котором торжествует личное начало при посредстве начала общественного. Г.Я. Миненков МОДА (лат. modus - мера, правило, образ) - обычно непродолжительное господство определенного типа стандартизированного массового поведения, в основе которого лежит относительно быстрое и масштабное изменение внешнего (прежде всего предметного) окружения людей. Кант определял М. как "непостоянный образ жизни". Как массовое увлечение каким-либо явлением М. известна еще с древности; М. в современном понимании появляется в Европе в 14-15 вв. Изучение М. не должно ограничиваться ее сведением только к эстетическому феномену, что приводит к выпадению из поля зрения многих особенностей ее природы и функционирования. Природе М. свойственны: релятивизм (быстрая смена модных форм), цикличность (периодическая обращенность в прошлое, к традициям), иррациональность (М. обращена к эмоциям человека, ее предписания не всегда сообразуются с логикой или здравым смыслом), универсальность (сфера деятельности современной М. практически не ограничена; М. обращена ко всем сразу и к каждому отдельно). М. выступает как внешнее оформление внутреннего содержания общественной жизни, выражая уровень и особенности массового вкуса данного общества в данное время. К функциям М. можно отнести ее возможность конструировать, прогнозировать, распространять и внедрять определенные ценности и образцы поведения, формировать вкусы субъекта и управлять ими. М. дополняет традиционные формы культуры через их преломление современностью и конструирует на этой основе новое окружение человека и его самого. М. выступает как одно из средств социализации: М. как подражание данному образцу "удовлетворяет потребности в социальной опоре, дает всеобщее, общепринятое" одинокому человеку (Зиммель). Еще одной функцией М. является функция социальной маркировки, идентификации, дистанцирования. Зиммель считал М. классовым явлением: М. различных социальных слоев всегда различна. "Космополитичная" функция современной М. заключается в ее тенденции к сближению и размыванию национальных стилей на основе массовой культуры и универсального стиля. Можно говорить и об экономической функции М., связанной с ее динамизмом: М. опережает физический износ предмета (товара) моральным и, следовательно, обеспечивает промышленность спросом на новое, постоянно расчищая рынок для сбыта. Современная М. имеет две существенные особенности: М. 19-20 вв. представляет собой систематические, организованные, масштабные трансформации внешнего и внутреннего мира личности (современная М. - это смена стиля, а не двух-трех предметов или форм), ритм смены стилей в современной М. резко возрос (сейчас модный стиль держится в среднем 7-10 лет). По вопросу специфики механизмов распространения М. большинство исследователей высказывается за ведущую роль психологических факторов: подражание (Лебон), стремление к собственному величию (Фрейд), "желание быть значительным" (Дьюи), обретение социальной опоры (Зиммель). Наряду с этими факторами указывают еще на массовую привычку, на то, что М. выступает как оценивающая и предписывающая сила. Эффективность проявления подобных факторов зависит от качества среды действия М.: динамизма развития общества, готовности к изменениям, восприимчивости к новому и т.п. Д.К. Безнюк МОДЕРНИЗАЦИИ концепция - один из содержательных аспектов концепции индустриализации, а именно - теоретическая модель семантических и аксиологических трансформаций сознания и культуры в контексте становления индустриального общества. Параллельна концепции индустриализации, рассматривающей процесс превращения традиционного аграрного общества в индустриальное с точки зрения трансформации системы хозяйства, технического вооружения и организации труда. Ранними аналогами концепции М. явились идеи о содержательной трансформации социокультурной сферы в контексте перехода от традиционного к нетрадиционному обществу, высказанные в различных философских традициях (Э.Дюркгейм, Маркс, Ф.Теннис, Ч.Кули, Г.Мейн). В различных контекстах данные авторы фиксировали содержательный сдвиг в эволюции социальности, сопряженный с формированием промышленного уклада. Так, Дюркгейм выделяет общества с механической солидарностью, основанные на недифференцированном функционировании индивида внутри гомогенной архаической общины, и общества с органичной солидарностью, базирующиеся на разделении труда и обмене деятельностью. Переход к обществу с органической солидарностью предполагает, с одной стороны, развитость индивида и дифференцированность индивидуальностей, с другой - основанные именно на этой дифференцированности взаимодополнение и интеграцию индивидов, важнейшим моментом которой является "коллективное сознание", "чувство солидарности". Высказанная Марксом идея различения обществ с "личной" и с "вещной" зависимостью фиксирует тот же момент перехода от традиционных "естественных родовых связей" к социальным отношениям, основанным на частной собственности и товарном обмене, в рамках которого феномен отчуждения порождает иллюзию замещения отношений между людьми "отношениями вещей" ("товарный фетишизм"). Теннис в своей работе "Община и общество" (1887) выделяет переход от аграрной "общины", предполагавшей общественное владение "натуральным богатством" (прежде всего - землей) и регулируемой "семейным правом", к "обществу", фундаментом которого выступает частное владение "денежным богатством" и фиксированное торговое право. Аналогично, Кули описывает становление нетрадиционного общества как исторический сдвиг от "первичных" ко "вторичным группам", критерием дифференциации которых является исторически принятый в них тип социализации личности: в "первичных группах" социализация индивида протекает в рамках семьи (или - шире - сельской общины), задающей непосредственный психологический контакт между ее членами и конкретную явленность структуры отношений между ними; социализация во "вторичных группах" есть социализация в рамках абстрактно заданной общности (государственной, национальной и т.п.), где структура отношений постигается лишь умозрительно. - В различных языках названные философские модели фиксирует одну и ту же важную сторону становления индустриального общества: переход от фиксированных (по рождению) характеристик индивида, непосредственно заданных в практике родственных отношений внутри общины семейного типа и регулируемых интенциями неписаного права, - к функциональным характеристикам индивида, достигаемым им в процессе личного опыта в контексте вариативных социальных отношений, вхождение в которые не задано жестко родовой структурой, но детерминируется неочевидными социально-экономическими факторами, предполагая внешнюю свободу выбора и регулируясь фиксированным законом. Социализация индивида протекает в таких обществах уже не в непосредственно семейной системе отсчета, предполагающей именной или профессионально-кастовый тип трансляции исторического опыта от поколения к поколению, но в абстрактной универсальнологической форме. Генетически заданная принадлежность к группе, определяющая в традиционном обществе статус человека внутри общины, сменяется функциональноролевыми отношениями "по соглашению". Мейном найдена предельно выразительная формулировка основного содержания этого перехода: "от Статуса к Договору". Подобная трансформация социокультурной сферы влечет за собой и трансформацию менталитета, предполагающую изменение как стиля мышления, так и системы ценностей соответствующей эпохи. В модификации стиля мышления центральное место занимают "абстрактизация" (Зиммель) и "рационализация" (М.Вебер) массового сознания; на аксиологической шкале происходит смещение акцентов от ценностей коллективизма к ценностям индивидуализма, и основной пафос становления нетрадиционного общества заключается именно в идее формирования свободной личности - личности, преодолевшей иррациональность традиционных общинных практик ("расколдовывание мира", по М.Веберу) и осознавшей себя в качестве самодостаточного узла рационально понятых социальных связей. Ментальность носителя врожденного статуса сменяется сознанием субъекта договора, традиционные наследственные привилегии провозглашением равных гражданских прав, несвобода "генетических" (родовых) характеристик - свободой социального выбора. Как было показано М.Вебером, и свобода предпринимательства, и свободомыслие равно базируются на фундаменте рационализма. Вместе с тем, пафосный индивидуализм перехода к нетрадиционному обществу - это индивидуализм особого типа: "моральный индивидуализм" (в терминологии Дюркгейма) или, по М.Веберу, индивидуализм протестантской этики с "непомерным моральным кодексом". Применительно к западному (классическому) типу процесса модернизации именно протестантская этика выступила той идеологической системой, которая задала аксиологическую шкалу нового типа сознания, в рамках которой успешность трудовой профессиональной или предпринимательской деятельности оценивается как свидетельство избранности и дарования благодати (исторически идея восходит к западно-христианским богословским дискуссиям 14 в. о возможности владения собственностью Иисусом Христом), а совершенствование мастерства - как моральный долг перед Богом (см. Протестантская этика). В нашем контексте особенно важно, что "трудовая этика" протестантизма не только освятила труд как таковой, - в общем контексте протестантского понимания веры как послушания она зафиксировала трудовую дисциплину в качестве сакральной ценности ("дисциплинированный индивидуализм" Реформации). Описанные изменения в сфере культурных ценностей и менталитета могут рассматриваться как важнейший аспект М. сознания, формирования такого его типа, который соответствует задаваемой индустриализацией ситуации взаимодействия со сложными механизмами и реализации промышленных технологий, требующих трудовой дисциплины и ответственности. Индустриализация и М., таким образом, есть две стороны одного и того же процесса становления индустриального общества, комплексно понятого во всей полноте его аспектов. Как индустриализация, так и М. обе равно необходимы, но лишь обе вместе достаточны для формирования индустриального общества. В тех случаях, когда их параллелизм нарушается в силу исторических причин, мы имеем дело с внутренне противоречивым, технологически неблагополучным и социально нестабильным социальным организмом, где носитель фактически патриархального сознания приходит в соприкосновение с высокими технологиями, требующими совсем иной меры дисциплины и ответственности. Классическим примером подобной ситуации может считаться построение индустриального общества в СССР, где в программу социалистического строительства в качестве основы легла именно "индустриализация" как промышленное техническое перевооружение производства, в то время как комплексный феномен М. был редуцирован к программе "культурной революции", понятой, в конечном итоге, как ликвидация безграмотности. И если на уровне конкретно частных моментов "практики социалистического строительства" неподготовленность индивидуального сознания к техническим преобразованиям ощущалась достаточно внятно (например, смена лозунга "Техника решает все!" лозунгом "Кадры, овладевшие техникой, решают все!"), то общая стратегия М. оставалась урезанной, последствия чего дают о себе знать в постсоветском культурном пространстве и по сей день, предоставляя экспертам повод констатировать "низкое качество населения" (Л.Абалкин). Это особенно значимо при контакте носителя массового сознания с современными постиндустриальными квазитехнологиями, создавая особый тип взрывоопасного (как в метафорическом, так и в прямом смысле) производства, - своего рода синдром Чернобыля индустриального общества с немодернизированным массовым сознанием. Подобная ситуация может быть описана в языке концепции культурного отставания и требует осуществления "догоняющей М.", приведения в соответствие уровня технической оснащенности производства и уровня технической дисциплины исполнителя. Если же говорить не о "догоняющем", а о типовом варианте М., то применительно к нему могут быть выделены "первичная" и "вторичная" М. Под "первичной М." понимают процесс М., осуществленный в эпоху промышленных революций, - классический "чистый" тип "М. первопроходцев". Под "вторичной М." понимается М., сопровождающая формирование индустриального общества в странах третьего мира - в ситуации наличия зрелых аналогов и классических образцов (центров индустриально-рыночного производства) и возможностей прямых контактов с ними как в торгово-промышленной, так и в культурной сферах. В данном своем фрагменте теория М. опирается на методологические принципы предложенной Л.Фробениусом концепции культурных кругов, основанной на идее синтеза эволюционизма и диффузионизма. Если эволюционизм ориентирован в культурно-историческом познании на объяснительные процедуры, исходящие из презумпции имманентно автохтонных по отношению к каждому социальному организму причин, источников и факторов развития, то диффузионизм, напротив, в качестве типовой объяснительной модели предлагает анализ культурных взаимовлияний. Фробениус задает синтетическую программу рассмотрения каждой социально-исторической целостности ("культурного круга") с точки зрения социокультурной археологии, предполагающей "послойное углубление", т.е. последовательное снятие привнесенных напластований - вплоть до "материковой породы". Интерпретация в данном языке процесса "вторичной М." предполагает как открытые возможности для влияния со стороны развитых индустриальных держав (прямые рыночные контакты, заимствование технологий и культурных образцов), так и ряд необходимых внутренних трансформаций, вне которых факторы внешнего влияния теряют смысл. Такими внутренними трансформациями являются образование на базе местных рынков общего безличного рынка (включая рынок труда), что разрывает замкнутость общинного хозяйства и размывает основы внеэкономического принуждения; формирование так называемых "диктатур развития", т.е. автохтонных для трансформирующегося общества социальных групп, "пионеров элиты" (М.Вебер), инициирующих преобразования хозяйственной и политической жизни на основе рациональности; наконец - the last, but not the least - адаптацию этого рационализма в массовом сознании местного населения, М. этого сознания, без которой социальный результат индустриальных преобразований может оказаться прямо противоположным (см. Ирония истории) исходным целям. (Интересно, что, резко критикуя основополагающую для теории индустриализации идею конвергенции "общая логика индустриализма", - марксистская философия всецело принимала ее частное следствие - идею "вторичной М.": программное положение марксизма о "возможности перехода к социализму, минуя капитализм", оговаривало в качестве необходимых условий такого перехода ориентацию на образцы реальных социалистических государств и возможность контактов компартий развивающихся стран со странами соцлагеря и мировым коммунистическим движением, но при обязательном наличии внутри страны, осуществляющей означенный переход, социальной базы революционного движения и обязательной адаптации коммунистической идеологии в массах, т.е. факторы, фактически изоморфные условиям-факторам "вторичной М.".) Фиксируя М. социокультурной и ментальной сфер в качестве обязательного условия формирования индустриального общества, концепция "вторичной М." предполагает, что становление индустриализма осуществляется под знаком широкой социокультурной экспансии тех нормативных образцов, которые продуцированы классическим западным индустриализмом (саморегулирующаяся рыночная экономика, демократическое политическое устройство, разделение властей, свобода личности и т.п.). - Вместе с тем, модель "вторичной М." как вестернизации (Д.Лернер) не конституировалась в качестве типовой. С конца 1970-х в теории М. начинает доминировать идея вариативности социально-экономических форм организации индустриального общества, их определенной автономии относительно западного канона. Это означает, что "вторичная М." может предполагать сохранение материковой основы этнонациональных традиций при обязательном условии осуществления индустриализации и М. как таковых, что не может не означать следования вестернобразцам. Наиболее типичным примером успешного осуществления М. на основе сохранения этно-специфических культурных традиций является М. Востока (прежде всего - Японии) и Восточной Европы (исключая восточно-славянский регион). Специфика "восточной М." заключается в том, что этот ее вариант осуществляется на основе не деструкции, но - напротив - усиления характерной для восточной культуры традиции общинности: Япония демонстрирует своего рода "коммунальный капитализм", сменяя лишь субъекта-адресата патриархального коллективизма и патернализма, но не разрушая при этом сам тип общинного сознания: растворенность в традиционном коллективе сменяется влитостью в коллектив предприятия, верность роду - преданностью фирме, ощущение патерналистской заботы со стороны общины - чувством социальной защищенности, внимания со стороны фирмы к отстройке личной судьбы работника (повышение квалификации по инициативе руководства, своевременное продвижение по служебной лестнице созревшего к этому работника, свадебный отпуск, прибавка к жалованию после рождения ребенка, сохранение контакта с фирмой после выхода на пенсию и т.п.). Если для Запада уровень текучести кадров является одной из стандартных социологических характеристик предприятия, то для Востока смена фирмы - событие из ряда вон выходящее. В этом смысле свободный индивидуализм как основа западного типа М. заменяется культивацией традиционных форм коллективного сознания при наполнении их новым, индустриально ориентированным содержанием, что возможно в силу опять-таки традиционной для восточной общины жесткой дисциплинированности сознания. Аналогично, социалистический путь формирования индустриального общества в ряде стран Восточной Европы (там, где не имела место социалистическая ориентация уже сложившегося индустриального общества) также не предполагал полного следования классической модели М.: в процессе индустриального преобразования общества функции инициации, организации, контроля и т.д. проецируются не на автономную свободную личность, но на государственные структуры, - однако актуализация национальных традиций "трудовой этики" позволяет, тем не менее, констатировать факт осуществления М. как таковой. При всей восточной специфике и социалистических издержках правомерно говорить о возможности М. не как внешней, механической вестернизации и унификации, но как о глубинной трансформации массового создания на основе выработанных западной культурой социальных идеалов и рационализма при возможности сохранения специфики этно-национальных традиций. Современная концепция цивилизационного поворота как перехода от цивилизаций локального типа к глобальной цивилизации выдвигает идеал единого планетарного социоприродного комплекса, основанного именно на этно-культурном многообразии и полицентризме. В рамках этого подхода культурная гетерогенность мира, позволяющая и предполагающая конструктивный диалог и плодотворное взаимовлияние неповторимо уникальных этно-национальных традиций, фиксируется как основа не только цивилизацион-ной стабильности человечества, но и его эволюционного культурного потенциала. М.А. Можейко МОДЕРНИЗМ неклассический тип философствования, радикально дистанцированный от классического интеллектуальным допущением возможности плюрального моделирования миров и - соответственно - идеей онтологического плюрализма. Таким образом, проблема природы "вещи-в-себе" выступает в М. псевдопроблемой, что задает в культуре западного образца вектор последовательного отказа от презумпций метафизики (см. Метафизика, Постметафизическое мышление). К предпосылкам формирования идей М. может быть отнесено: 1) конституирование комплекса идей о самодостаточности человеческого разума (элиминация из структур соответствующих философских рассуждений трансцендентно-божественного разума как основания разума в его человеческой артикуляции); 2) складывание комплекса представлений о креативной природе Разума, с одной стороны, и о его исторической ограниченности - с другой; (Идея абсолютности, универсальности и тотальности Разума была поставлена под сомнение еще Кантом, выдвинувшим стратегию "критики" различных - "чистого" и "практического" - разумов - см. Kritik.) 3) позитивистские идеи (начиная от Конта), согласно которым человеческий разум по своей природе контекстуален и способен трансформировать социальную реальность (в соответствии с правилами социологии как дисциплинарно организованной науки), и аналогичная этим идеям программа, предложенная в рамках марксизма, согласно которой разум полагался исторически изменчивым и способным к заблуждениям (идеология как "ложное сознание"); задача философской рефлексии усматривалась в "изменении мира" ("Тезисы о Фейербахе" Маркса). Таким образом, идеал отражения действительности и когнитивный пафос классического мировоззрения замещался установкой на социальный конструктивизм (см. Модернизации теории); 4) традиция художественного символизма, очертившая пространство и задавшая механизмы абстрактного моделирования возможных миров (см. Сюрреализм). Таким образом, тезисы исторической изменчивости разума во всех его измерениях (от политического до художественного), социального конструктивизма через посредство осмысленной деятельности человека, позитивности "разрыва" с классической традицией составили основу М. как особого типа философствования. В качестве основных характеристик М. могут быть зафиксированы: 1) отказ от моноонтологизма, презумпция на принципиальную открытость системы мира: психологическая артикуляция бытия у Шопенгауэра, лингво-математическая у Куайна, экзстенциальная у Сартра и т.п. (см. Онтология); 2) интенция на инновацию (при перманентной смене критериев новизны), нашедшие свое выражение в педалированном акцентировании в М. метафоры "молодость" (см. Молодость); акцентированный антитрадиционализм (вплоть до постулирования значимости воинствующего эпатажа, перманентного бунта и поворотных разрывов с предшествующей традицией - см. Дадаизм); 3) пафосный отказ от классической идеи "предустановленной гармонии" (инициированный сомнениями по поводу амбиций разума), в рамках которого отсутствие гармонии полагается неизбывной характеристикой существования человеческого рода (см. Хаос, Хаосмос); 4) преодоление трактовки человека как "слепка" Бога и отказ от монистического гуманизма (плюральные версии гуманизма в экзистенциализме, марксизме, неофрейдизме и т.д.; переосмысление сущности и направленности гуманизма как такового: идея "сверхчеловека" Ницше, "негативный гуманизм" Глюксмана и др.), что вылилось в социальный конструктивизм, породивший разнообразие плюральных стратегий формирования "нового человека", предельное свое выражение обретших в радикализме марксистского революционизма (см. Сверхчеловек, Ницше); 5) подчеркнутый антинормативизм, основанный на рефлексивном осмыслении того обстоятельства, что люди живут по нормам, ими же самими и созданными, исторически преходящими и релятивными, и в перспективе приводящий к отказу от идеала традиции (см. Футуризм); 6) идея плюральности и конструктивности Разума, выводящая на программы трансформации ("перекодирования") культуры, что, в свою очередь, порождало потребность в новом художественном языке. Стратегия обновления языка оказывается, таким образом, соразмерной возможным трансформациям социального мира, - понятия мыслятся не как предзаданные "истинной" природой онтологии, а как конструируемые: от трактовки творчества как процедуры самовыражения художника - до идеи о невозможности и немыслимости бессубъектной онтологии (см. Экспрессионизм); 7) идея вариативности разворачивания процессуальности: многовариантность становится для М. типичным и атрибутивным параметром культуры: три финала в "Трехгрошовой опере" Б.Брехта, четыре рассказчика в "Шуме и ярости" у У.Фолкнера, четыре версии легенды о Прометее в "Прометее" Кафки, несколько развитий сюжета из одного зачина у Э.Хемингуэя в "Посвящается Швейцарии" - расхожая формула "возможны варианты" становится знамением времени - с течением этого времени это приведет к формированию идеи пустого знака, открытого для вариативного означивания (см. Пустой знак, Означивание). В общем разворачивании традиции философии западного типа М. выступает важнейшим этапов конституирования постмодернистской парадигмы в философии (см. Постмодернизм). А.А. Грицанов, М.А. Можейко, В.Л. Абушенко МОДУС (лат. modus - мера, образ, способ) - философский термин, с помощью которого в 17-18 вв. обозначали свойство предмета, присущее ему не постоянно, а лишь в некоторых состояниях, - в отличие от атрибута (неотчуждаемого свойства предмета). По определению Гегеля, М. есть "инобытие абсолютного, потеря последним себя в изменчивости и случайности бытия, переход абсолютного в свою противоположность без возврата в себя, лишенное целостности многообразие определений формы и содержания". С.В. Воробьева МОЛНИЯ - метафорическое понятие, нередко используемое в рамках описаний механизмов миросозидания и промысла Логоса, а также ассоциируемое со светом и просвещением. В большинстве религий и мифов божество спрятано от людских взоров, а лишь затем внезапная вспышка М. на миг являет его в ипостаси деятельной мощи. В классической мифологии символика М. объединяла в себе креационные и когнитивные аспекты: М. как традиционный фаллический символ, с одной стороны, и как символ пронзающего тьму света (впоследствии сопряженный в европейской культуре с Логосом), с другой. (См. единство данных аспектов в концепции "сперматического Логоса" у стоиков.) Данный образ Логоса, пронизывающего тьму, является универсальным (Блаватская). В мировоззрении античных народов М. или огненный эфир выступали символами, эмблемой верховной, суверенной, творческой власти. (Так, этими атрибутами демиурга обладал, в частности, Юпитер: три его М. символизировали случай, судьбу и предусмотрительность - силы, формирующие будущее.) Если жертвенный столб и ступени, крест и распятие репрезентируют устремления человека к "горнему" миру, то М. символизирует обратное воздействие - "верхнего" мира на мир "дольний". Ваджра, являющая собой в тибетской символике "М. и одновременно бриллиант", нередко олицетворяет также взгляд "третьего глаза" Шивы, терминатора любых материальных форм. В контексте содержательных текстуальных реконструкций фрагментов Гераклита - М. суть божественный бич, удар Зевса или Перуна, от которого получают свой закон существа, движущиеся образом постепенного перемещения ("все ползущее бичом пасется"; "всем сущим правит Перун"). Гераклитовский Логос (как "сосредоточенный смысл" и как "мгновенное, правящее многим") управляет по "способу М.", стремительно захватывая все одним и "сам есть М". - М. в таком контексте - нерассуждающая, сверхчеловеческая, всехвосторгающая и всесметающая сила типа "озарения". (Ср. описание начала войны 1914 Н.Бором: "у людей в подобном совместном порыве поражает то, что он, с одной стороны, стихийно несвободен, как, скажем, лесной пожар или любое другое естественное явление природы, а с другой - в поддавшемся ему индивиде он порождает ощущение величайшей свободы".) Анализ, постижение действия М. немыслимы. Согласно Гераклиту, для постижения божественного Логоса необходима вера, ибо он "ускользает от познания" из-за своей невероятности... "золото" огненного Логоса заранее знает цену вещам - оно их высшая возможность... М. тайная и истинная суть вещей, их исполнение. Логос-М. всегда дарит, освобождает мир и людей, а не карает их, здесь правит сама новизна - новое, открываемое событием. Логос суть дыхание новизны. Бог, по мысли Гераклита, не занимается запретами: "Богу все прекрасно и хорошо и справедливо, люди же принимают одно за правильное, другое за неправильное". (Ср. у Витгенштейна: "мир есть все то, что имеет место, и все то, что не имеет места... как есть мир - для высшего совершенно безразлично. Бог не проявляется в мире".) В мифологической, исторической и историко-философской традициях вождей, вбирающих в себя зевсовы М., именовали "бичами Божиими". - Ср. у М.Волошина "слова св. Лу - архиепископа Труасского, обращенные к Аттиле" в эпиграфе к "Северо-востоку": "Да будет благословен приход твой, Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя"; аналогично заглавие неоконченного романа об Аттиле - "Бич Божий" - у Замятина. Атрибутами высшей власти неизбывно полагались непостижимость, отказ от любых условностей; состязательность с Логосом всегда означала отказ от поиска путей к человеческому пониманию. В русскоязычной философской традиции правомерность придания понятию "М." статуса философского термина обозначали Г.С.Померанц и (особо акцентированно) В.В.Бибихин. - По версии последнего, начиная с низвержения Перуна князем Владимиром посредством "молниеносного" жеста, молниеподобный поворот утвердился как главный прием власти в России, а сама М. конституировалась как заповедный закон отечественной истории. (Ср. у М.Волошина: "Что менялось? Знаки и возглавья? // Тот же ураган на всех путях. // В комиссарах дух самодержавья, // Взрывы революции в царях...".) Полагая ведущим критерием исторической состоятельности любой страны умение заметить и молниеносно преодолеть сложившееся "от-стояние" от События (течения событий) мира (присущим в особенности менталитету России), Бибихин, тем не менее, вынужден констатировать наличие сопряженной и принципиально неразрешимой (в том числе и для России) проблемы трансляции власти, ибо у М. "наследников не бывает". А.А. Грицанов МОНАДА (греч. monas - единица, единое) - понятие доклассической и классической философии, используемое для обозначения фундаментальных элементов бытия. Термин введен в платоновской Академии на базе традиции пифагореизма в рамках бинарной оппозиции М. и диады (греч. dias - двоица), являющейся математическим эквивалентом типичной для античной философии оппозиции определенности формы и текучей множественности возможностей аморфного начала (ср. айдион и апейрон у Анаксимандра, предел и беспредельное в раннем пифагореизме и т.п.). Так, у Спевсиппа (преемник Платона по руководству Академией и сын его сестры Потоны) М. идентифицируется с мужским началом, персонифицированным Зевсом, и, соответственно, с духовным началом мира (умом-нусом), в то время как диада является олицетворением начала женского (материнского) и идентифицируется с мировой душой и материей. Семантика М., таким образом, представляет принцип оформленности, стабильности и единства, в связи с чем в неопифагореизме указанная оппозиция структурируется как аксиологически асимметричная: в концепции Нумерия, например, М. выступает как высший принцип бытия по отношению к подчиненной ей диаде. В эпоху поздней схоластики и Возрождения понятие М. вновь было актуализировано в учениях таких мыслителей, как Николай Кузанский и Бруно, и обрело семантику исходного и исключительного элемента мироздания, утратив свою сопряженность с диадой. В фокус значимости выдвигаются элементарность М. (служащая отправной точкой для создания Николаем Кузанским структурной модели бытия, прокладывающей дорогу разработке концепции бесконечно малых и дифференциального исчисления) и феномен сопряженности М. с ментальным началом (у Бруно М. выступает не только физическим, но и психическим элементом бытия, задавая гилозоистический импульс натурфилософским построением Ренессанса). Суарес использует его для обозначения единичной вещи как фундаментального акта бытия ("бытийственности"), первичного по отношению и к материи, и к форме как таковым. Понятие М. играет значительную роль в философии Нового времени. Идея сопряженности М. с духовным началом развивается Кембриджской школой платонизма, и в частности - Г. Мором (1614-1687), создавшим учение о бесконечно малых элементах бытия (фигурах), основным свойством которых является не форма и оформленность, а одухотворенность. В натурфилософии Ф.М. ван Гельмонта (1618- 1699) понятие М. становится основополагающим. (Натурфилософия ван Гельмонта является развитием взглядов его отца, ученика Парацельса, Я.В. Гельмонта (1577-1644), создавшего натурфилософскую картину мира, основанную на восходящей к алхимии идее о возможности превращения исходных элементов мироздания - воздуха и воды - в многообразие сущего: через промежуточные состояния газа и пара оформляются соль, сера, т.д.; Я.В. Гельмонтом введено в научный оборот понятие газа как агрегатного состояния). Согласно теории ван Гельмонта, исходной единицей бытия является М., и если физический мир состоит из предельных материальных частиц, то духовный мир - из предельных М.-мыслей. Это, однако, не означает дуальности бытия, ибо различие между М.-частицами и М.мыслями не принципиально и является не качественным, но лишь количественным, связанным с мерой проявленности в каждой конкретной М. духовного начала. Бог как гарант мирового единства и гармонии интерпретируется ван Гельмонтом как особая "центральная М.", неизменная в своей единственности, - в отличие от других существ, представляющих собой сложные системы соподчиненных М. Натурфилософия ван Гельмонта оказала влияние на формирование взглядов Лейбница, факт общения которого с ван Гельмонтом является исторически установленным; имеется предположение, что именно от него Лейбницем был воспринят термин "М". Однако по своему содержанию концепция М. Лейбница является глубоко оригинальным, концептуально фундированным учением монадологией. М. занимает в концепции Лейбница статус элемента бытия, однако она не имеет ничего общего с механической единицей. М. неделима, но не в механическом смысле натурфилософски артикулированного греческого атома (atom), а в смысле лексически абсолютно эквивалентного, но семантически более богатого и социально артикулированного латинского индивидуума (individuum). M. понимается Лейбницем по аналогии с "Я": все они "вылеплены из одного теста", образуя мировое единство, но каждая индивидуальна и неповторима ("две индивидуальные вещи не могут быть совершенно тождественными"), конституируясь как единство существования и перцепции. С оценочной точки зрения (в зависимости от степени совершенства М. и их перцептивной проявленности), может быть усмотрено "бесконечное число ступеней между Богом и ничто". В рамках этой онтологической "макробесконечности" Лейбниц дифференцирует М. на: 1) низшие, или "голые" (nues), которые представляют собой бесконечно малые перцепции, т.е. "спят без сновидений" (в тезисе Лейбница "вся природа полна жизни", включая и абиотический ее уровень, в форме специфического гносеологического гилозоизма предвосхищены естественнонаучные сценарии эволюции сознания); 2) развитые М.-души (ames), являющие собой смутные перцепции (типа "шороха падающей песчинки"), наделенные памятью, но еще лишенные самосознания (страдательные ames животных); 3) М.-духи (espirits) как отчетливые и прозрачные перцепции, характеризующиеся апперцепцией и рефлексией (человеческий дух); 4) высшие, более совершенные по сравнению с людьми М. (post humanum), которые, в принципе, возможны, но не даны нам в достоверном знании, ибо "высшие М. непостижимы для низших". В этом контексте Лейбницем эксплицитно высказана идея о возможности существования во всей Вселенной внеземных разумных существ, превосходящих своим физическим и духовным развитием человечество (ср. с идеей "достойнейших классов разумных существ", могущих населять иные планеты, в произведениях Канта докритического периода); 5) Бог как "верховная М.-"граница", или "предел", разворачивания вектора совершенства, который, выступая функционально "основанием бытия" всех М., тем не менее не теряет характерного для христианского теизма личностного статуса, ибо каждая М. есть прежде всего индивидуальность "Я" и, в этой связи, "как бы малое божество". Вместе с тем данная линейная схема (вектор разворачивания перцептуальных потенций М.) дополняется у Лейбница принципиально нелинейной моделью организации бытия. М. является бесконечно малой, но, с точки зрения своей содержательности, неисчерпаемой (ср. с "подобочастными" Анаксагора), ибо каждая из М. есть не что иное, как "сжатая Вселенная", трансформированная в "физическую точку" (ср. с предложенной в физике 20 в. гипотетической моделью фридмонного пространства: каждый фридмон при восприятии его извне функционирует как элементарная частица, при восприятии изнутри - как галактика). Кроме того, каждая М. находится на определенной стадии своего развития и потому, с одной стороны, детерминирована своим прошлым, а с другой - "беременеет" будущим. Она есть своего рода поток трансформаций, ибо наделена стремлением к самореализации (appetitio) и внутренним импульсом к совершенствованию и абсолютизации своего существования (conatus), которые, однако, возможны лишь посредством ее развития в связи со всеми другими М. (как совершенствование личности невозможно вне связи с другими личностями и со всем обществом как целым), что задает в концепции Лейбница презумпцию всеобщей и универсальной связи бытия (liaison universellen). Природа этой связи принципиально немеханична. М., по Лейбницу, образует самодостаточное и завершенное, а потому замкнутое единство ("М. вовсе не имеют окон"). Однако дискретность механического контактного взаимодействия между М., нуждающегося в "окне", заменяется у Лейбница универсальностью мирового единства, - в мире не обнаруживается дискретности, ибо он организован как тотальная дискретность: духовная сущность каждой М. проявляет себя в телесном обнаружении, и каждая М. проявляет себя уникальным образом по отношению к каждой другой М., которая, таким образом, оказывается неразрывно связанной с ней. Любая М. есть "живое зеркало Вселенной", и в силу этого "Вселенная, какова бы она ни была, в своей совокупности есть как бы океан, малейшее движение в нем распространяет свое действие на самое отдаленное расстояние". В силу этого наличное состояние бытия не является единственно возможным: пульсация "свертывания" (сжатия в "физическую точку") и разворачивания содержания М. (ср. с астрофизической концепцией пульсирующей Вселенной) обеспечивает не только бесконечность жизни, но и качественную бесконечность ее проявлений. Однако действительный мир - не просто один из логически допустимых и даже не просто наилучший из возможных, действительность мира организована как актуальная бесконечность, содержащая в себе всю полноту возможностей, ибо, глядя на Вселенную, М. смотрится в зеркало и, видя в нем себя, созерцает всю бесконечность Вселенной. Мир образует замкнутое единство микрои макрокосма, фундированное у Лейбница идеей предустановленной гармонии (см. Телеология). Монадология Лейбница, таким образом, представляет собой одну из первых в европейской культуре концептуальную модель сложной развивающейся системы, что позволило Лейбницу во многом разработать и обогатить категориальный аппарат для выражения сложных комплексных отношений между подсистемами, находящимися в отношении когерентной и взаимостимулирующей трансформации с друг другом и с целым, а также сформулировать ряд идей, могущих быть отнесенными к ряду блестящих экземплификаций проявления философией своего прогностического потенциала. Таким образом, монадология Лейбница значительно дистанцируется (как семантически, так и по своей значимости) от означенной выше традиции разработки категории М., которая, однако, развивается вплоть до конца 19 в. Так, Вольф приписывает М. свойство phaenomena substantiata ("простых субстанций"). А.Г. Баумгартеном именно применительно к бытию М. впервые были введены в философский оборот понятия "в себе" и "для себя", легшие позднее в основу концепции Канта. Гербарт вводит понятие "реал", содержание которого синтезирует содержание понятий "М." у Лейбница и "вещи-в-себе" у Канта. В связи с открытиями начала 20 в. в области строения вещества и развитием квантовой механики данная (натурфилософская) версия монадологии теряет базу для своих онтологических аппликаций. Что же касается того направления философской мысли, которое прорабатывает психологическую нагруженность понятия М., то в его рамках были сформулированы многие идеи, воспринятые современной неклассической философией. Так, Лотце понимает под М. индивидуальную духовную сущность "Я", связанную с Абсолютом в качестве его органичной части и посредством него - со всеми другими М.-"Я". В этом контексте критерием гносеологической истинности Лотце полагает значимость того или иного содержания знания для индивидуального "Я". Введенное им в философский оборот понятие "значимости" (Gelten) получает свою дальнейшую разработку в баденской школе неокантианства ("ценности не существуют", но "значат" (gelten) у Виндельбанда) и в феноменологии Гуссерля. А генетически восходящая еще к Бруно трактовка М. в духе микрокосма (Бог как "монада монад") и лейбницевский "индивидуализм" М. содержательно детерминировали монадологический подход к личности в рамках такого направления философии, как персонализм (Ш. Ренувье, Дж. Э. Мак-Таггарт и др.). Новое звучание понятие М. обретает в современной философии постмодернизма, в частности в концепции событийности Делеза (см. Событийность). Для иллюстрации собственных идей Делез обращается к монадологии Лейбница, в частности - к интерпретации им М. в качестве "зеркала Вселенной": единичная М. приводится Делезом в соответствие с сингулярным событием (см. Событие), и в этой системе отсчета каждая М. в трактовке Делеза "улавливает и ясно выражает только определенное число сингулярностей, а именно те сингулярности, в окрестности которых она задана", связывая их в семантически значимую серию - "Эон" (см. Эон). Понятие "М." используется и Джеймисоном при анализе соотношения феноменов индивидуальности и одиночества в условиях "конца буржуазного эго". В ряде исследований по синергетике понятие М. метафорически употребляется для обозначения "молекул-гипнонов" (Пригожин) как не кооперированных в единое целое (см. Синергетика). М.А. Можейко МОНИЗМ (греч. monos - один) - 1) тип организации философского знания, определяющийся наличием в нем одного основного принципа, в соответствии с которым осуществляется все содержательное наполнение философской системы; семантически противостоит дуализму и плюрализму; 2) признание в рамках этого принципа единого начала, общего закона устройства мироздания, определяющего все многообразие сущего, в т.ч. и человеческого бытия. В отличие от дуализма и плюрализма, М. отличается большей внутренней последовательностью, монолитностью, что в то же время с неизбежностью приводит к большей схематизации реальности. Сложность охватить всю действительность в рамках одного принципа приводит к тому, что исторически возникавший М., как правило, трансформировался в дуализм или плюрализм. Однако в истории философии имело место и обратное движение, что было вызвано решением имманентных философских проблем той или иной философской системы (движение от Декарта к Спинозе, от Канта к Фихте). Поскольку понятие М. используется преимущественно во втором значении и поскольку современная философия в большинстве своих систем не занимается построением онтологий, т.е. лишена традиционной иерархии проблемных философских полей, постольку понятие М. употребляется сегодня, как правило, в историко-философском смысле. В.Н. Ретунский МОНТЕНЬ (Montaigne) Мишель Эйкем де (1533-1592) - французский мыслитель, юрист, политик. Из купеческой семьи; родовое имя - Эйкем. Первый в семье носитель дворянского имени (по названию приобретенной в 15 в. прадедом М. сеньории Монтень). Изучал философию в Гийеньском коллеже и университете города Бордо. Продолжил обучение в Тулузском университете. Член парламента Бордо (с 1557). Дважды становился мэром Бордо. Интеллектуально сформировался под воздействием идей стоицизма и скептицизма. Основные сочинения: "Опыты" (в трех книгах-первая редакция издана в 1580, окончательная - в 1588); "Путевой журнал" (написан в жанре индивидуального дневника в 1580-1581, издан в конце 18 в.) и др. В 1676 "Опыты" М. были внесены Ватиканом в "Индекс запрещенных книг". Не стремясь к созданию собственной философской системы, выступил основоположником жанра философско-морализаторского эссе в европейской культуре. Был общеизвестен как глубокий знаток и тонкий интерпретатор классической традиции: в "Опытах" М. было содержательно использовано более 3000 цитат античных и средневековых авторов. Целью творчества М. было написание своеобычного "учебника жизни": по М., "нет ничего более прекрасного и оправданного, чем хорошо и честно исполнить роль человека". Предметом большинства эссе М. являлось поведение человека в экстремальных ситуациях, раскрывающее как самые причудливые движения его души, так и самые разнообразные патологии его характера (с точки зрения М., "истинное зеркало нашей речи - это течение нашей жизни"). М. сумел осуществить значимый поворот в системе ценностей западноевропейского интеллектуализма: "хорошо заполненной голове" (Рабле) М. акцентированно предпочитал "правильно выработанный разум", воспитываемый на исторической эрудиции, склонности к парадоксам и двусмысленностям. Основания миропонимания М. были изложены им, в частности, в эссе "Апология Раймона Себона". Согласно М., природа человека двойственна: зачастую необузданные духовные устремления нейтрализуются физическими возможностями его тела. Осмысление и принятие этого как неизбежной данности позволяет людям ориентироваться на идеал подлинно счастливой жизни - жизни в умеренности. Органы чувств человека - несовершенны ("кто знает, не лишены ли мы одного, двух, трех или нескольких чувств?"), способности нашего познания ограниченны - лишь один Бог, согласно М., всеведущ. Неспособность людей четко определиться в выборе между "Я знаю" и "Я не знаю" - естественно трансформируется, по мнению М., в единственно правильно поставленный вопрос: "А что именно я знаю?", предполагающий воздержание от суждений, подлежащих дальнейшему рассмотрению. С точки зрения М., "...если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться... В начале всяческой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом - незнание". Гносеологический скептицизм М. фундировался также на его мысли о том, что все живое (в том числе и люди) находится в постоянном изменении: существование человека неизбывно состоит из "движения и деятельности". При этом М. полагал долгом любого индивида стремиться к самосовершенствованию, рассматривая самопознание как первейшую обязанность человека. Как полагал М., "человек может быть лишь тем, кто он есть; он способен выдумывать лишь в меру собственного опыта; какие бы усилия он не предпринимал, ему будет известна лишь собственная душа". Одоление людского невежества, по М., жизненно важно, ибо "люди ничему не верят так твердо, как тому, о чем они меньше всего знают", а "...не достигнув желаемого, они делают вид, будто желали достигнутого". ("Об истине же, утверждал М., - нельзя судить на основании чужого свидетельства или полагаясь на авторитет другого человека".) Убежденность М. в идеях свободы и сословного равенства людей явила собой перспективнейшую компоненту эволюции идеала человеческого достоинства в рамках европейского менталитета: фраза М. "души императоров и сапожников скроены на один манер" использовалась как эпиграф "Газеты санкюлотов" в 1792. По мнению М., "вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы научить нас не бояться смерти... Предвкушение смерти есть предвкушение свободы. Кто научился умирать, тот разучился рабски служить". "Опыты" М. явили собой творческую процедуру метафорического соединения мира настоящего и мира прошлого с одновременным новаторским экспериментом бессюжетного художественного "беспорядка". (По замечанию Аверинцева, "будучи в значительной степени платоническим по типу своего вдохновения, Ренессанс, в общем, избегал формализованного порядка. Темы "Опытов" Монтеня по своей широте могут показаться своего рода разрозненной энциклопедией; нельзя, однако, зная Монтеня, вообразить, чтобы он пожелал увидеть разрозненное собранным. Так вот, если проводить классификацию по вышеназванному признаку, энциклопедисты, видевшие в том же Монтене своего предшественника, довольно неожиданно оказываются вовсе не в его обществе, но в обществе ненавистных им создателей средневековых схоластических сводов, какими были, например, Винцент из Бове, автор "Великого зерцала", или Фома Аквинский с обеими своими "Суммами".) Они оказались, видимо, первым в христианской Европе светским прецедентом создания высокоэвристичного ризоморфного (см. Ризома) гипертекста - в силу глубинной укорененности в сопряженной культурной традиции используемой М. символики наряду с узнаваемостью в интеллектуальных кругах личностного ряда ассоциаций. Мысль М. о том, что "эта книга создана мной в той же мере, в какой я создан ею" (см. Автор), была подхвачена Вольтером: "Прекрасен замысел Монтеня наивным образом обрисовать самого себя, ибо он в итоге изобразил человека вообще". Известна увлеченность текстом "Опытов" М. многих лучших представителей европейской культуры и просвещения: у Шекспира обнаружено более 700 фрагментов из этого сочинения; навсегда покидая Ясную Поляну, Л.Н. Толстой взял с собой томик М.; увлекались М. Г.Флобер, А.С.Пушкин и мн. др. Одной из "вечных истин" европейской культуры стала мысль М., предвосхитившая заключительные строки эпопеи "В поисках утраченного времени" М.Пруста: "И что толку становиться на ходули, ведь и на ходулях нам придется идти своими ногами. И на возвышеннейшем из тронов мира мы будем восседать на собственном седалище, и ни на чем другом". А.А. Грицанов, A.M. Бобр МОНТЕСКЬЕ (Montesquieu) Шарль Луи, Шарль де Секонда, барон де Ла Бред и де Монтескье (1689-1755) - французский философ права и истории, президент парламента и Академии в Бордо (1716-1725), член Французской академии (1728). Представитель философии Просвещения 18 в. Разделял позиции деизма, рассматривающего Бога как создателя, действующего по объективным законам материального мира. Задачей философии М. считал (в противовес взглядам Фомы Аквинского) постижение причинных связей материи, подчиняющейся законам механики. С точки зрения М., за кажущейся случайной цепью событий необходимо усматривать глубинные причины. Внешний мир, по М., отражается в сознании людей на основе деятельности разума, обобщающего результаты опыта. То, что случайности могут быть объяснены глубокими причинами, - согласно М., не главное; важно то, что самые различные нравы, обычаи и мысли людей можно объединить в набор определенных типовых групп: "Я начал с изучения людей и увидел, что все бесконечное разнообразие их законов и нравов не вызвано единственно произволом их фантазии... Я установил общие начала и увидел, что частные случаи как бы сами собою подчиняются им, что история каждого народа вытекает из них как следствие и всякий частный закон связан с другим законом или зависит от другого, более общего". Разнообразие социальных законов, по мнению М., объяснимо, ибо они реализуются вследствие причин зачастую объективного характера. В основном сочинении "О духе законов" (1748), попавшем в "Индекс запрещенных книг", М. попытался объяснить законы и политическую жизнь различных стран и народов исходя из их природных и исторических условий, в духе теории среды. По М., "многие вещи управляют людьми - климат, религия, законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого образуется общий "дух народа". "Дух народа", по М., конституируется из законов, обычаев и нравов: "Нравы и обычаи суть порядки, не установленные законами; законы или не могут, или не хотят установить их. Между законами и нравами есть то различие, что законы определяют преимущественно действия гражданина, а нравы - действия человека. Между нравами и обычаями есть то различие, что первые регулируют внутреннее, а вторые - внешнее поведение человека". Книги I-XIII этого сочинения написаны в жанре политической социологии. В них М. анализирует "принцип" (определяемый доминирующим чувством в рамках конкретной формы правления - при демократии это "добродетель") и "природу" (обусловливаемую числом обладателей верховной суверенной власти: республика - весь народ или его часть, монархия - один, но в рамках жесткого законодательства, деспотизм - один в соответствии с собственными прихотями и произволом) правления в условиях республики, монархии и деспотизма. По М., каждый из трех типов правления сопряжен с размерами территории, занимаемой данным обществом (чем больше территория, тем больше шансов на деспотию). Т.обр., М. увязывал собственную классификацию типов государственного устройства с общественной морфологией или (по Дюркгейму) с количественными параметрами данного общества. М. настаивал на том, что народ назначает государя в силу договора и этот договор должен исполняться; государь представляет народ только так, как угодно народу. К тому же, по М., неверно, чтобы уполномоченный имел столько же власти, сколько уполномочивший, и не зависел бы от него. "Известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет предела", подчеркивал М. На примере английской Конституции (самой прогрессивной, по М.) в своей работе "Персидские письма" (1721), выдержавшей за один год 8 изданий, мыслитель развивал теорию разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Философия М., не раз интерпретировавшаяся самыми различными способами в истории западной общественной мысли, постулировала принципиальное наличие у людей свободы воли, ибо рациональные законы разумного мира, оказывающие влияние на человека, могут быть им же и разрушены. Согласно М., "...мир разумных существ далеко еще не управляется с таким совершенством, как мир физический, так как, хотя у него и есть законы, по своей природе неизменные, он не следует им с тем постоянством, с которым физический мир следует своим законам. Причина этого в том, что отдельные разумные существа по своей природе ограничены и поэтому способны заблуждаться и что, с другой стороны, им свойственно по самой их природе действовать по собственным побуждениям. Поэтому они не соблюдают неизменно своих первоначальных законов, и даже тем законам, которые они создают сами для себя, они подчиняются не всегда". М. вошел в историю общественной мысли Запада как предтеча социологии, ибо он и не пытался системно исследовать (в отличие от Конта или Маркса) современное ему общество, оценивая его исключительно в стилистике оценок политической философии того времени. Общество, по М., целиком обусловлено своим политическим устройством, поэтому прогресс, с его точки зрения, недостижим - социум в политической ипостаси своей переживает исключительно череду падений и взлетов. Ни науку, ни экономику же М. не считал факторами, равновеликими государству. А.А. Грицанов MOP (More) Томас (1478-1535, казнен по повелению Генриха VIII) - английский юрист и философ. Лорд-канцлер (1529-1532). Главное философское сочинение об идеальном государстве - "Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия" (1516). (Дословно "утопия" означает "нигдея" - место, которого нет). В первой ее части М. живописует трагичный процесс обезземеливания английских крестьян, когда "овцы поели людей". Во второй части речь идет о небывалом, идеальном обществе, где нет частной и личной собственности, где все принадлежит всем, где все трудятся (не более 6 часов ежедневно), нет власти денег и денег вообще, а из золота и серебра утопийцы "делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей". На первое место у М. выходит не совпадение личных и общественных интересов, а безусловное подчинение индивидуального общему. ("Главное и почти что единственное дело сифогрантов - жителей Утопии - заботиться и следить, чтобы никто не сидел в праздности". "Цвет плащей на всем острове один и тот же - естественный цвет шерсти".) М. требовал отчуждения собственности индивидов в пользу государства, напоминающего государство Платона. Именно частную собственность М. рассматривал как главную причину всех социальных бедствий: "распределить все поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожив собственность. Если же она останется, то у наибольшей и самой лучшей части людей навсегда останется страх, а также неизбежное бремя нищеты и забот". М. требовал религиозной веротерпимости, возможно меньшего количества догматов веры и передачу дела воспитания юношества духовенству. М. не слишком верил в возможность реального воплощения собственных предначертаний: "Впрочем, я охотно признаю, что в государстве утопийцев есть очень много такого, чего нашим странам я скорее бы мог пожелать, нежели надеюсь, что это произойдет". Этими словами заканчивается текст "Утопии" М. А.А. Грицанов МОРАЛЬ (нравственность) (лат. Moralis - нравственный, mores - нравы) специфический тип регуляции отношений людей, направленный на их гуманизацию; совокупность принятых в том или ином социальном организме норм поведения, общения и взаимоотношений. В любом человеческом сообществе есть необходимость в согласовании форм жизнедеятельности, коррелировании различных и порой альтернативных между собой целеполаганий. В отличие от жестко фиксированных и сопряженных в своем функционировании с определенными организационными структурами форм регуляции (правовая, религиозная и др.), М. выступает, как правило, в качестве "неписаного закона", реализуя свою регулятивную функцию, в первую очередь, посредством обыденного сознания. М. генетически восходит к феномену обычая; применительно к индивиду основные нравственные ценности усваиваются им в процессе личностной социализации. В социальноличностной и духовной сферах М. носит всепронизывающий и всеохватывающий характер. Все отношения людей, от интимных до "межконтинентальных", проникнуты ею, подвержены моральной оценке и с ее помощью проходят проверку на жизненную целесообразность. Поскольку М. существует на двух уровнях - общечеловеческом и личностном, постольку можно утверждать, что она один из способов разрешения противоречий между всеобщим и индивидуальным. Она не имеет рецептурного характера. М. - постоянное нормотворчество людей, жизненный процесс, в котором основная фигура - сам индивид, человек, творец, своего бытия. Руководствуясь общечеловеческими нравственными требованиями в качестве идеально-должного, он самостоятельно делает выбор своего поведения, поступка, намечает цель и средства ее достижения, исходя из реальных возможностей и конкретной ситуации. Отсюда - ответственность за моральность выбора и деятельности человека. Основными социальными функциями М. являются: регулятивная, ценностноориентационная и социализирующая. М. предлагает образцы должного, разумного, общечеловеческого. Чем нравственно воспитаннее личность, тем более добровольно она соблюдает моральные предписания общества и семьи. Нравственная регуляция осуществляется посредством ориентации людей на гуманные, добрые, честные, благородные, справедливые отношения, т.е. через то, что принято называть моральными ценностями. В целом функционирование М. осуществляется в русле общесоциальных закономерностей развития общества и личности. Структура М. включает в себя нравственные взгляды, смысложизненные ориентации и идеалы, нравственные чувства, традиции, нормы, принципы, заповеди, мотивы, цели, отношения, поступки, оценки, категории добра, совести, чести, справедливости, счастья и т.д. Сюда же относятся нравственные качества личности, феномены милосердия, благотворительности, добродетели. Каждый из перечисленных элементов имеет парную категорию: добро - зло, честь - бесчестие и т.д. М. в целом противостоит аморализм, который достаточно многолик. Аморализм в политике - достижение намеченной цели любыми средствами, включая антигуманные; в экономике - нарушение рыночных законов, игнорирование интересов производителей благ; в правовой сфере - нарушение принципа справедливости, пренебрежение к закону; в научно-технической деятельности использование высших достижений человеческой мысли во вред цивилизации. С.Д. Лаптенок МОРРИС (Morris) Чарльз (1901-1979) - американский философ. Доктор философии (Чикагский университет, 1925). Основные сочинения: "Шесть теорий разума" (1932), "Логический позитивизм, прагматизм и научный эмпиризм. Сборник статей" (1937), "Основы теории знаков" (1938), "Пути жизни" (1942), "Знаки, язык и поведение" (1946), "Открытое Я" (1948), "Разнообразие человеческих ценностей" (1958), "Обозначение и смысл. Изучение отношений знаков и ценностей" (1964) и др. М. утверждал, что разнообразные знаковые системы выступают существенно значимыми основаниями любых цивилизаций людей. Вне контекста реконструкции той роли, которую исполняют совокупности знаков в общественной жизни, по М., немыслимо какое-либо адекватное постижение сути человеческого разума как такового. Традиционные, по классификации М., подходы к трактовке разума - теории: разума как субстанции (Платон, Аристотель, Декарт и др.); разума как процесса (Гегель, Брэдли и др.); разума как отношения (Юм, Мах, Рассел и др.); разума как прагматической функции (Шопенгауэр, Ницше, большинство представителей школы прагматизма и др.); разума как интенционального акта (Брентано, Мур, Гуссерль и др.) - М. предлагал дополнить знаковой концепцией. Исходя из предположения о том, что унификация результатов одной из ипостасей человеческого мышления - научного знания - осуществляется в границах процесса, именуемого М. "семиозисом", предложил принципиально нетрадиционное истолкование реального содержания и эвристического потенциала семиотики как специфической научной дисциплины. В проблемное поле семиотики М. предложил включить: те предметы и явления (посредники), которые функционируют как знаки, или "знаковые проводники"; те предметы и явления, к которым знаки относятся, или "десигнаты"; воздействие, оказываемое знаком на истолкователя (интерпретатора), вследствие которого обозначаемая вещь становится неотъемлемо сопряженной с этим знаком (суть самим этим знаком) для последнего; самого интерпретатора (истолкователя) как такового. В абстрактной форме М. определил это взаимодействие следующим образом: "знаковый проводник" есть для толкуемого истолкователем "определенный Знак" в той мере и степени, в какой толкуемое истолкователем обозначает (интерпретирует, осознает) десигнат вследствие присутствия знакового проводника. Семиозис предстает у М. процедурой "осознания-посредством-чего-то". Исследуя в каждом отдельном случае диадические репертуары взаимозависимости и взаимодействия трех элементов триады ("знаковый проводник", "десигнат" и "толкователь"), семиотика выступает, таким образом, в трех своих ракурсах: как синтаксис (изучающий отношения знаков между собой); как семантика (изучающая отношения знаков с обозначаемыми ими предметами и явлениями); как прагматика (изучающая отношения знаков и их интерпретаторов). По М., интерпретатор знака это определенный организм, интерпретируемое им - одеяния того органического существа, которые (при помощи знаковых проводников) исполняют роль отсутствующих предметов в тех проблематических ситуациях, в которых эти предметы якобы присутствуют. Указанный "организм" таким путем обретает способность постигать интересующие его характеристики отсутствующих предметов и явлений, а также ненаблюдаемые параметры наличных объектов. В целостном семиотическом "развороте" язык, согласно концепции М., предстает интерсубъективной коллекцией знаковых проводников, использование которых обусловлено сопряженным набором фиксированных процедур синтаксиса, семантики и прагматики. В духе современной ему интеллектуальной моды М. предложил содержательную интерпретацию категории "знак" в стилистике объяснительной парадигмы дисциплин, изучающих поведение людей: "Если некоторое А направляет поведение к определенной цели посредством способа, схожего с тем, как это делает некоторое В, как если бы В было наблюдаемым, тогда А - это знак". Обнаружив пять главных видов знаков (знаки-идентификаторы - вопрос "где", знаки-десигнаторы вопрос "что такое", прескриптивные знаки - вопрос "как", оценочные знаки - вопрос "почему", знаки систематизации - формирующие отношения толкователя с иными знаками), М. сформулировал подходы к пониманию категории "дискурс", а также посредством комбинирования разнообразных способов использования и обозначения самих знаков выявил 16 типов дискурса (научный, мифический, технологический, логико-математический, фантастический, поэтический, политический, теоретический, легальный, моральный, религиозный, грамматический, космологический, критический, пропагандистский, метафизический), объемлющих в своей совокупности проблемное поле семиотики в целом как научной дисциплины, изучающей язык. Установки семиотики, по убеждению М., не метафизичны и релятивны, они формируют упорядоченное пространство в безграничной совокупности конкретных дискурсивных форм. Постижение культурного потенциала в модусе универсалий культуры осуществимо, с точки зрения М., для личности тем успешнее, чем в большей степени данная личность ориентирована на реконструкцию именно знакового ресурса культуры, именно знаковых феноменов в парадигме семиотических подходов. Только обладая внутренней готовностью к адекватному истолкованию обрушиваемых обществом на человека массивов знаково организованной информации, только располагая иммунитетом против знаков, ориентированных на манипулирование людьми, личность, по мнению М., может претендовать на сколько-нибудь эффективное сохранение собственного автономного "я". А.А. Грицанов МОРТИДО - по Фрейду, влечение к смерти, агрессивное влечение и энергия этого влечения, являющиеся одним из наиболее существенных моментов психической жизни. Термин "М." был легитимирован в 1936 австро-американским психоаналитиком П.Федерном (1872-1950). В психоанализе М. полагается аналогичным либидо и принадлежащим инстинкту смерти. (Согласно Фрейду, "мы... пришли к необходимости различать два вида инстинктов: те, которые стремятся привести живые существа к смерти, и другие, сексуальные инстинкты, которые вечно стремятся к обновлению жизни и достигают этого".) Несмотря на то, что современные биологические наблюдения не подтверждают существования М., данный концепт составляет значимый фрагмент теорий агрессии, трактующих последнюю как проекцию врожденного саморазрушительного влечения людей. Определенной деталировкой идеи М. выступило разграничение влечения к смерти как желания, ориентированного на самоуничтожение (М.), и гипотетического деструктивного инстинкта агрессии, ориентированного на убийство других. Ни один психоаналитик, включая и самого Федерна, не смог осуществить разработку модели психического аппарата, в котором сосуществовали бы два разнонаправленных инстинкта и два противоположных вида психической энергии. Понятие "М.", как и сопряженное с ним - "деструдо", так и не закрепились в широком дисциплинарном обороте. (См. также Либидо.) В.И. Овчаренко, А.А. Грицанов МУНЬЕ (Mounier) Эммануэль (1905-1950) - французский философ. Участник движения Сопротивления. Издатель журнала "Esprit" (с 1932). Основные сочинения: "Персоналистская и коммунитарная революция" (сборник статей, 1935); "От капиталистической собственности к человеческой собственности" (1939); "Трактат о характере" (1946); "Введение в экзистенциализм" (1946); "Свобода под условием" (1946); "Что такое персонализм?" (1947); "Маленький страх двадцатого века" (1948); "Персонализм" (1949) и др. Собственное интеллектуально-политическое кредо М. сформулировал достаточно жестко: "Мое Евангелие учит меня не лукавить перед моим собственным Богом, который всегда ищет дорогу к сердцу отчаявшегося человека. Он никогда не разрешал мне успокаиваться по отношению к тем, кто предпочитает пренебрегать доверием бедных... В этом есть и предпосылка любой политики, в этом - достаточное основание, чтобы отвергнуть некоторые политические формы". С точки зрения М., макроэкономические и политические процессы в 20 в. элиминировали отдельно взятую личность из фокуса внимания общество- и человековедения, в еще большей степени интересы индивида оказываются вне поля зрения власть предержащих. Поэтому, по мнению М., необходимо разработать человекоцентрированный инструментарий для социальных дисциплин. Лишь тогда, полагал М., когда в центре теоретических дискуссий и практических действий окажется личность ("персона"), персонализм как интегральное усилие сумеет осмыслить и преодолеть тотальный кризис человека. Значимость такого мировоззренческого и аксиологического поворота тем более велика, поскольку, согласно М., "экономическая структура, какой бы рациональной она ни была, если она основана на пренебрежении к фундаментальным требованиям личности, неизбежно разрушает себя изнутри". М. трактует личность как своеобычное отражение и адаптацию совокупности наиболее приемлемых для конкретного человека поведенческих и культурных эталонов: "...личность - это не мое сознание о ней. Каждый раз, когда я произвожу отбор в моем сознании, то что же я изымаю? Чаще всего, даже не осознавая, я устраняю эфемерные фрагменты индивидуальности, неустойчивые, как воздушный флер. Не с личностью я отождествляю те персонажи, что были мной в прошлом и которые переживут меня по низости или инерции. Это персонажи, которые, как я верю, есть, поскольку я им завидую и разрешаю моделировать меня так, как то велит мода". Саморефлексия любой степени, с точки зрения М., не позволяет понять, чем же является личность: это - "единственная реальность, которую мы познаем и одновременно создаем изнутри... являясь повсюду, она нигде не дана заранее". Личность принципиально неуловима и необъективируема, т.к. находится в перманентном движении; существовать для нее - это, согласно М., "быть с другими и с вещами, понимая их, понимать себя". "Все устроено так, как если бы Личность была невидимым центром всего хорошего и плохого, словно она - тайный гость малейших движений моей жизни, то, что не может пасть под взглядом моего сознания, - писал М. - Поэтому моя личность не совпадает с моей персональностью... Как неконструированная тотальность, она - выше времени, шире моих взглядов на нее самое, это самая интимная из всех моих реконструкций. Она есть некое присутствие во мне... Она есть живая активность самотворчества, коммуникации и единения с другими личностями, которая реализуется и познается в действии, каким является опыт персонализации". М. предпочитает описания и сопряженное с ними постижение личности в контексте ее негативных определений, уточняя, что же не есть личность. Личность у М. "тотальный объем человека... В каждом из нас есть три духовных измерения: телесное, универсальное и направленное вширь - сопричастность. Призвание, воплощение и сопричастность суть три измерения личности". (Даже концепция Троицы, по мысли М., содержит в себе представление о высшем существе, внутри которого осуществляется полилог личностей.) М. отмечает двойственность сути человека: он призван осмысливать и переживать имманентные долженствования как духовного существа, будучи при этом заложником как своей биологической организации, так и своей эпохи. Состояться человек способен только через самоформирование личности, которое осуществимо при помощи ряда духовносозидающих процедур: стремления к воплощению самого себя и общественному признанию; поиска подлинного призвания в репертуарах предельной самоконцентрации медитативного типа; самопожертвования через самоотреченную жизнь для других - путь, по М., характерный для истинно избранных. При любом из этих сценариев, полагал М., важна ориентация на любовь как основополагающий принцип. Личность не может, по концепции М., ни существовать, ни мыслить иначе, как через других и в других: "любое безумие есть не что иное, как поражение в общении: Другой выступает как Чужой, Я становится чужим мне самому". Ведущими характеристиками бытия личности М. полагал вовлечение - ответственно осмысленное присутствие в мире и транснендирование - перманентное самопреодоление человека в его движении к абсолютному началу, задающему ориентиры личностному миру, хотя и не соизмеримому с ним. М. акцентированно противопоставляет собственную концепцию эталонам индивидуализма, стремящегося сконцентрировать человека на себе самом. По мнению М., "благодаря внутреннему опыту личность предстает устремленной к миру и другим людям, сливающейся с ними в едином порыве к универсальному. Другие личности никак не ограничивают ее, они - залог ее бытия и развития. Личность существует только в своем устремлении к "другому", познает себя только через "другого" и обретает себя только в "другом". Первичный опыт личности - это опыт "другой" личности. "Ты", а в нем и "Мы" предшествуют "Я" или, по меньшей мере, всегда сопровождают "Я". В природе, которой мы в известной мере подчинены, два разных объекта не могут занимать одновременно одно и то же место в пространстве. Личность, благодаря движению, полагающему ее как бытие, выставляет себя вовне, ex-pose. Таким образом, она по сути своей коммуникабельна, она одна предопределена как бытие... Когда коммуникация ослабляет свою напряженность или принимает извращенные формы, я теряю свое глубинное "Я". С точки зрения М., декартовское "мыслю, значит существую" может и должно быть трансформировано в "люблю, следовательно, существую, и жизнь достойна быть прожитой" или (еще жестче) - в "быть значит любить". (Ср. у Сартра: взгляд "другого" равно как и его любовь - порабощают.) Цивилизация М. являет собой социум, пафосно общностный и подчиняющийся следующим императивам: а) освободить себя и весь мир способен лишь уже освободившийся человек; б) жизненно важно не только самопознание, но и постижение "другого" как "другого"; в) ответственность за "другого" - не удел, а смысл бытия; г) подлинная "экономика" личности по природе своей - экономика "дарения". По убеждению М., "личность обретает себя, лишь теряя. Ее богатства - это то, что остается, когда она лишается всего, чем обладала, то, что остается от нее в момент смерти". Персонализм М. стремится совместить обе грани человеческого существования - телесную и душевную: телесное "Я" и "Я", существующее субъективно, по М., суть единый опыт. Невозможно мыслить, не обладая бытием и не имея тела. Мыслящая же личность стремится трансформировать окружающую природу, "сотканную из наших усилий". Вне контекста этого истинно человеческого измерения бессмысленно рассуждать, согласно М., о биологических, экономических либо каких бы то ни было иных путях преодоления проблем общества: "...и духовное принадлежит к инфраструктуре: психологический и духовный беспорядок связан с экономическим хаосом, рациональные экономические решения не достигнут цели, если в основе лежит презрение к насущным потребностям личности". Критикуя современный ему капитализм как "метафизику примата прибыли", М. одновременно четко оценивал марксизм (естественно, в западно-европейской, респектабельной версии последнего) как "физику нашей ошибки", тяготение же к коммунизму - как "нашего фамильного демона". Согласно М.: а) марксизм - непокорный, но вполне законнорожденный сын капитализма, ибо они оба исходят из примата материи над духом; б) традиционный капитализм либерального типа марксизм стремится трансформировать в государственный капитализм; в) коллективистский оптимизм и пафос сочетаются в марксизме с пренебрежением к личности; г) в историческом плане марксизм логично привел к формированию античеловеческих тоталитарных режимов; д) в рамках последних буржуазный империализм был заменен империализмом социалистическим. Христианин, с точки зрения М., не отказался бы "работать в колхозе или на советской фабрике, но вряд ли подобное общество может поддержать Мысль, которая для человека так же незаменима, как и дыхание". Отвергая принципиальную центрированность марксистов на экономическом факторе, М. отстаивал концепцию "христианского реализма", в рамках которой им выстраивалась аксиологическая схема в виде "эллипса с двумя полюсами материальным полюсом и полюсом сверхъестественного, и при этом первый подчинен второму, даже если второй неотделим от первого". Отрицая обновленческие надежды и иллюзии постмарксистов, М. подчеркивал, что для христианина как вера, так и Божественная жизнь в церкви и в человеке выступают как базисные структуры. Осуществление их в полном объеме необходимо результируется в установлении такого общественного строя, которому имманентно присущи социальная справедливость, равенство и прогресс. М. исключал достижимость последних посредством любых традиционных сценариев общественного обновления. М. отвергал и "массовое общество" с тиранией деперсонализированного анонима, и мистически заряженные харизматическими лидерами общества фашистского типа, и либерально-просветительские модели общественного устройства, сводящиеся к обеспечению компромисса между разновекторными атрибутивными эгоистическими устремлениями людей. Идеал М. персоналистско-коммунитарное общество, фундированное на любви в ипостасях предельной сопричастности и отзывчивости: базисная личность такого общества способна существовать исключительно в поле сопереживания страданиям ближних. (Заголовок редакционной статьи первого номера журнала "Esprit" призывал "Воссоздать Ренессанс", ибо подобно тому, как последний, по М., вывел из кризиса общество средневековой эпохи, так и "персоналйстская революция коммунитарного типа" призвана способствовать преодолению кризисного состояния 20 ст.) М. верил в социализм людей творческого труда, для которого характерны "общественный статус личности и конституционное ограничение государственной власти: центральная власть должна уравновешиваться местными органами власти и гражданскими правами личности". М. воспринимал буржуазное общество середины 20 в. как "легитимизированный беспредел", который: а) узаконивает вмешательство государства в сферу индивидуального сознания; б) полагает деньги целью, а не средством; в) идеализирует режимы, ушедшие в аксиологическое небытие, именуя такие умонастроения продуктивным консерватизмом. Истинные христиане, по мнению М., призваны отвергнуть этот миропорядок, не канонизируя при этом никакой другой: "Всякий новый порядок в потенции - установленный порядок. Всякое антифарисейство несет в себе семя нового фарисейства... Христианство не заинтересовано менять левый конформизм на конформизм правого толка, революционный клерикализм - на клерикализм консервативный". Недопустимо, по М., освящать авторитетом регулятивных идеалов христианства "склеротические процессы-факты (режимы, партии и т.п.). Там, где исчезают христианские ценности, они возникают вновь в искаженной форме: обожествления тела, коллективизма, роста-накопления, вождя, партии". Эсхатологический пафос христианства, по мнению М., исключает для его приверженцев возможность усматривать признаки совершенства в любом устройстве социума. А.А. Грицанов МУР (Moore) Джордж Эдуард (1873-1958) - британский философ, представитель неореализма. Преподавал философию в Кембридже (1911-1939) и в университетах США (1940-1944). Главный редактор журнала "Mind" (1921- 1947). Основные сочинения: "Природа суждения" (1899), "Принципы этики" (1903), "Опровержение идеализма" (1903), "Природа и реальность объектов восприятия" (1905-1906), "Природа чувственных данных" (1913), "Некоторые суждения о восприятии" (1917), "Философские исследования" (1922), "В защиту здравого смысла" (1925), "Доказательство внешнего мира" (1939), "Ответ моим критикам" (1942) и др. М. полемизировал с идеями английского абсолютного идеализма и берклинианства, разрабатывал оригинальные этические доктрины. "Я не думаю, - писал М., - что окружающий мир или наука когда-либо ставили передо мной философские проблемы. Такими проблемами были вещи, которые говорили о мире или естествознании другие философы". М. стоял на позициях плюралистической онтологии в противовес идеалистическому монизму, на принципах принципиальной познаваемости окружающей реальности, постулируя антипсихологизм в эпистемологии и логике. Истинность идеалистического лозунга "esse est percipi" (лат. "существовать - значит быть воспринимаемым"; ср. "реальность духовна") М. усматривал лишь в том, что свойства, составляющие весь наш мир и отличные от свойства "быть воспринимаемым", не могут существовать, не будучи в свою очередь воспринимаемыми. По М., высказывание "существовать - значит быть воспринимаемым" не только аналитическое и посему не могущее быть обосновано, оно также и противоречиво. (Согласно М., "принцип органических единств используют главным образом для оправдания возможности одновременно утверждать два противоречащих друг другу суждения там, где в этом возникает нужда. В данном вопросе, как и в других, главной заслугой Гегеля перед философией было возведение ошибки в принцип и изобретение для нее названия.) Согласно М., попытка сторонников философского идеализма фундировать данную идею тезисом, что объект опыта немыслим без наличия субъекта, неверна хотя бы потому, что "объект и субъект" (например, желтый цвет и ощущение желтизны) совершенно различны. Из "esse est percipi" следует как то, что опыт и его объекты тождественны, так и то, что они различны: желтый цвет и ощущение желтизны аналитически связаны и по существу идентичны, и в то же время они различны, ибо можно осмысленно говорить об их отношении друг к другу. Философы, по мысли М., не в состоянии учитывать подобного различия (см. Differance), ибо язык не имеет общих имен для таких объектов, как красное или горькое, а также и потому, что мы склонны "скорее воспринимать мир через посредство сознания, а не рассматривать само сознание". С точки зрения М., понятия, с одной стороны, не могут трактоваться ни как содержание, ни как фрагмент, ни как состояние сознания, с другой же - они не есть продукт абстрагирующей активности сознания. Физические факты, по мысли М., не зависят - причинно или логически - от фактов сознания: "нет каких-либо здравых оснований предполагать, что вообще существует какой-либо такой факт сознания, без наличия которого не мог бы иметь место факт, что этот камин находится в настоящий момент ближе к моему телу, чем та этажерка... нет никаких оснований предполагать, что существует какой-то факт сознания, о котором можно было бы сказать, - если бы этот факт не имел места, то земля не существовала бы уже много лет". Понятие (суть "ни ментальный факт, ни какая-либо из частей ментального факта") - автономный и неизменный объект мышления, последняя реальность. Истинность суждений не коррелируема и не определима их отношением к реальности, истина - всего лишь характеризует отношение понятий в суждении, постигаемое интуитивно. "Обращение к фактам бесполезно" - это высказывание М. выступило впоследствии девизом "концептуального реализма" Рассела Витгенштейна. В статье "Опровержение идеализма" (1903) М. анализировал ощущение, различая две его стороны - "сознание" и "объект": "Ощущение включает сознание и объект, независимый от сознания". При этом "сознание", по М., находится в некотором нераскрываемом отношении "осведомленности" к "объекту". Вместе с тем "независимое "существование объекта в гносеологической схеме М. является лишь видимостью, ибо объект здесь выступает лишь в акте ощущения, его реальность постулируется лишь на основе "здравого смысла", а не в качестве характеристики объективной действительности. С точки зрения М., "мы знаем, что имеются и были во Вселенной... материальные объекты и акты сознания... огромное количество и тех и других... что многие материальные объекты существуют, когда мы не осознаем их". Истинность этих предложений неявно заложена в общем способе нашего мышления; она предполагается многими вещами, относительно которых мы полагаем, что мы их знаем. (По М., объект ложного убеждения и сопряженное суждение не могут существовать как факт, иначе убеждение являлось бы истинным.) М. абсолютизировал элементы непосредственности в познании, предвосхитил возникновение неореалистической концепции "имманентности трансцендентного". Идеи М. явились одним из источников лингвистической философии. Этическая концепция М. носила индивидуалистический характер и основывалась на критике "этического натурализма", рассматривающего "добро" как объективное рациональное понятие. Добро и зло для М. основополагающие неопределимые этические категории, смысл которых постигается лишь с помощью интуиции. Этические положения раскрывают эмоции говорящего, возбуждают эмоции слушающего либо неявно выражают повеления. Отождествляя ценность и долг с пользой, М. необходимо приходил к выводу, что моральная обязанность индивида к осуществлению поступка в полном объеме проистекает из того, что именно данное действие результируется в предельно возможной совокупности добра в универсуме. Не создав завершенной философской системы, М. тем не менее выступил как один из основателей "метаэтики". А.А. Грицанов МЭМФОРД (Mumford) Льюис (1895-1990) - американский философ и социолог. Представитель негативного технологического детерминизма. В своих многочисленных работах по социальным проблемам техники, урбанизации, истории и теории искусства, архитектуры, морали, религии, культуры в целом (основные сочинения: "История утопий", 1922; "Техника и цивилизация", 1934; "Искусство и техника", 1952; "Превращения человека", 1956; "Город в истории", 1966; "Миф о машине", 1967-1970; "Интерпретации и прогнозы", 1973 и др.) М. выступает против чрезмерной технизации общества, приводящей к порабощению человека техникой. Отвергает, как неверную, точку зрения, которая придает центральное место и направляющую функцию в человеческом развитии орудиям труда. Не меньшую, а гораздо большую роль в развитии человека и общества, считает М., играют статические компоненты техники, своеобразные контейнеры различных типов, начиная от хижин, корзин и ловушек и вплоть до гигантских химических реторт, атомных реакторов, каналов и городов. Еще более важное значение М. придает происходящим в процессе развития общества видоизменениям лингвистических и иных символов, различным культурным формам, переменам в социальной организации и эстетическим замыслам, их художественным воплощениям. Во взаимодействии орудий труда и культуры, представляющей собой совокупность символических форм, производство все новых и новых символов обгоняет производство орудий труда, способствуя развитию более ярко выраженных технических способностей, а потому играет более важную роль, чем утилитарное использование орудий труда. В работе "Техника и цивилизация" М. подчеркивал, что техника своим развитием обязана мифу, игре, фантазии, различным формам ритуала, песни, танца, занимающим в жизни человеческих сообществ (от примитивных до самых высокоразвитых) более важное место, чем утилитарный ручной или оснащенный техникой труд. С его точки зрения, контроль над психосоциальной средой на основе выработки общей символической культуры в развитии общества был более существенным, значительно предшествовал и опережал производимый при помощи орудийной техники контроль человека над внешней средой. При таком подходе приоритетное значение придается возникновению языка как коллективного продукта и средства умственной концентрации древнего человека. Ибо только тогда, когда знание и опыт могли быть накоплены в символических формах и передаваться при помощи произнесенного слова от поколения к поколению, утверждал М., стало возможным сохранять каждое новое культурное приобретение от разрушения течением времени или с исчезновением предшествующего поколению. М. утверждал, что человек является существом, главным образом "использующим ум", производящим символы, что и соответствует определению homo sapiens, основой развития которого с самого начала было создание важных типов символического выражения, а не более эффективных орудий труда. Однако технократическое представление о человеке как производителе орудий и их использователе привело, в конце концов, считает М., к тому, что инициатива и главная роль от работника, который управлял машиной, перешла к машине, управляющей работником. Эта антигуманная тенденция использования техники находит свое концентрированное воплощение, по мнению М., в бездушной и безличной Мегамашине, т.е. предельно рационализированной, технократической социальной организации, построенной на жестком принципе единоначалия. (См. Мегамашина.) Е.М. Бабосов