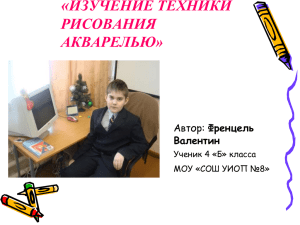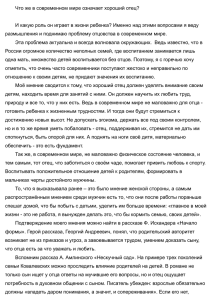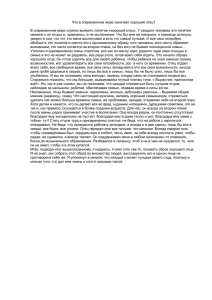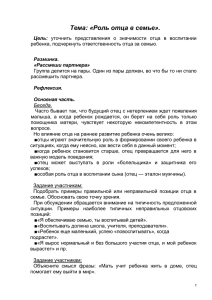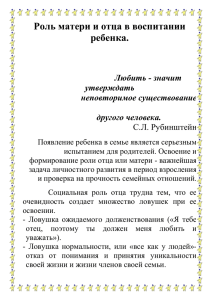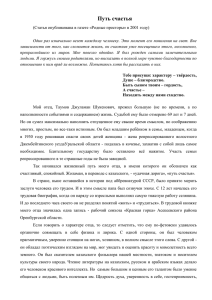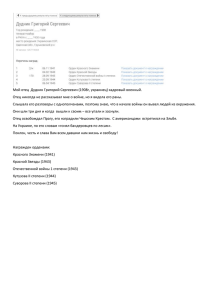Сергей Андрияка. Красота как высший смысл «Как
реклама

Сергей Андрияка. Красота как высший смысл «Как-то ранней весной мы ехали на дачу, – рассказывает водитель народного художника России Сергея Андрияки, – кругом ни души, пустые поля, голый лес. Вдруг Сергей Николаевич вскрикивает «стоп, стоп!» и выбегает из машины. Мы следом за ним еле успеваем, перепрыгивая по грязным канавам. «Вы посмотрите только, какие цветы!» – говорит художник, указывая нам на мелкие голубенькие бутоны в снежной прогалине»… – Далеко не всегда дети идут по стопам родителей. Почему вы пошли по стезе отца и выбрали путь художественного творчества? – Мой выбор объединил результат личностного развития и семейные традиции. В детстве я не видел отца. В должности директора Суриковской школы он очень много работал и редко бывал дома. Моим воспитанием занималась мама. Хотя она была преподавателем немецкого языка, но впервые с искусством меня познакомила именно она. Лет с четырёх мы с ней лепили из теста и пластилина, рисовали... Она, рассказывая мне жизненные истории и сказки, насыщала мои первые работы какимто высшим смыслом. Это стимулировало фантазию и творчество. Я играл сам с собой. Когда я учился в Суриковской школе, она сломала телевизор. Лет до 30 он для меня практически не существовал, да и теперь не очень-то нужен. К тому же восприятие мира шло через цвет и живопись. Примерно с пяти лет отец стал брать меня на летние плановые практики в Подмосковье. Я видел, как учащиеся рисовали, видел, как на бумаге у них получается отображать красоту природы. Это вдохновляло, хотелось тоже пробовать. Я начал рисовать карандашом, потом акварелью. Лет в семь отец стал обращать внимание на мои рисунки. Отец видел, что для меня искусство становится не просто развлечением и игрой. Я жил этим, часами мог рисовать, лепить, не отвлекаясь ни на что более. Он стал со мной заниматься, не объясняя, как писать, а обращая внимание на красоту – дом, дерево или лучи света... Это давало возможность развиваться фантазии и творческому воображению, восприятию прекрасного. На нём я проверял свои картины. У нас дома стояло ужасно расстроенное чёрное пианино Millbach. Оно служило выставочным стендом. Отец, приходя домой поздно вечером, высказывал свои замечания. В 1977 году он умер, я потерял не только отца, но и учителя. Тогда я только поступил в институт. Большинство студентов, учившихся со мной, были люди семейные, с училищным образованием за плечами, они чётко понимали, что им надо. Я метался в растерянности. Мне было 19. Я пробовал много всего, вплоть до авангарда, экспрессионизма и модерна. Потом всё лишнее отошло... – То есть в вашей семье единственной по-настоящему творческой личностью был ваш отец? Кем были ваши предки, откуда пошла такая необычная фамилия? – Насколько мне известно, по линии отца никто художеством не занимался. Отец моего отца был по происхождению греком, а по профессии кочегаром. Он умер в первые послевоенные годы. Бабушка, которую я тоже не застал в живых, была безграмотной и очень набожной. Родом она с Прилук Черниговской области Украины. Слушая службу в храме, она всё запоминала и знала почти всю Библию наизусть; её уважали и к ней приходили за советом. До 1945 фамилия писалась по греческой транскрипции «Андриака». В начале войны отец ушёл воевать добровольцем и попал на Второй украинский фронт. Через год раскрылось, что он художник. Его работы попали во фронтовые газеты. Украинцам было проще произносить и писать «Андрияка». Потом как-то так повелось, стал использоваться именно такой вариант фамилии. Отец матери окончил Железнодорожный институт в Петрограде и знал несколько языков. По происхождению он был наполовину поляк, наполовину немец. После революции он возглавлял железную дорогу Сочи. С 1937 по 1956 год он из-за непролетарского происхождения (у его родных были концессии в Прибалтике и в Кракове) был сослан в лагерь. Он выжил там благодаря тому, что переучился и стал фельдшером. А эта профессия в условиях лагерной жизни была очень важна. Он прошёл Беломорканал, а потом боялся всего и вся. Когда незадолго до его смерти в 1971 мы просили рассказать его о родственниках, живущих в Германии и Польше, он наотрез отказался. Бабушку он встретил на Северном Кавказе. Она родилась в станице Суворовская. Говорили, что именно в её казацкой семье были художники-иконописцы и даже музыканты. – У вас большая семья. Как ваши дети воспринимают искусство? – Действительно, у меня шесть детей. Дети видят, как я, приезжая, работаю. Для детей главный путь воспитания – личный пример. Старшая дочь Анна очень жалеет, что недоучилась, так как период обучения совпал у неё с переходным возрастом, однако она занимается дизайном одежды, учится в сфере бизнеса и экономики. У старшего сына Фёдора (ему 16) склонность гуманитарная, хотя сейчас он занимается экономикой и техникой. Его мать, моя вторая супруга, внушала ему в детстве мысль о его бездарности… и он наотрез отказался от художества, хотя у него есть потенциал. Его сестра Лиза поступила в школу и учится достаточно успешно, ей 14 лет. Младшие дочки совсем маленькие: Маше – пять, а Соне восемь лет. Машенька много рисует и лепит. Вижу себя в ней – она может часами сидеть, у неё нет свойственной детям неуёмной энергии и тяги к смене впечатлений, она спокойно может заниматься творчеством в одиночестве. – В своей жизни вы пробовали самые разные направления художественного искусства от офорта до мозаики и скульптуры. Почему выбор остановился на акварели? – Объяснить этого никто не может. Это просто сидело во мне внутри. Я писал акварелью с детства. Профессора в институте мне говорили: «Есть задание по масляной живописи – вот его надо сделать, а акварель – по желанию». И я делал наброски и эскизы, портреты натурщиков акварелью – всё исключительно по желанию. Потом стал заниматься акварелью более серьёзно. Очень много писал с натуры, потом научился рисовать по памяти. Старался запоминать главные законы цвета, света, тона, существующие в природе. Со временем появились большие форматы. Стало ясно, что акварелью можно сделать всё, вопреки традиционно пренебрежительному отношению к ней. – Почему акварель не получила такого широкого распространения, как масло? Были ли распространены прежде такие масштабные полотна акварели размером до нескольких метров? – Мне посчастливилось в 1988 году в Эрмитаже просмотреть все фонды западноевропейской акварели. Они огромны по объёму. С самого открытия до вечера я всю неделю только и успевал, что перелистывал эти работы. И они прекрасны. Но о них никто не знает. Были целые национальные акварельные школы: французская, итальянская, испанская, голландская. Огромные объединения художников, которые писали только акварелью. В начале XIX века встречаются полутораметровые акварели. Их писали так же, как и маслом, с той же плотностью и живописью. Великие русские художники работали в акварели: Суриков, Репин, Васнецов, Врубель, Брюллов, Примацци, Соколов, Гау. Они создавали потрясающе выдающиеся вещи. Акварель может быть самой разной – и расплывающейся и насыщенной. Просто самостоятельная акварель не была в моде. – Что нового в акварели вам удалось сделать? – Сложно ответить однозначно. С одной стороны, это моё восприятие мира, с другой – технические приёмы письма. Технические приёмы лежат в области экспериментов со светом, положением красок и слоёв, с масштабами работ и т.д., но искусство – это, в первую очередь, видение, а потом техника. Моё творчество – моё восприятие мира. Я своими глазами смотрю на мир. Два разных художника могут совершенно иначе изобразить один и тот же предмет, в зависимости от настроения, одухотворённости, личностного восприятия. Картина в отличие от самого хорошего фото – это не механическая фиксация объекта. Творец только дотронулся карандашом до бумаги – тут же его энергетика, его внутреннее состояние идёт в холст. Картина, как дитя, живёт своей жизнью. Она уже не зависит от творца. Мне часто не интересно, при каких обстоятельствах что написал Рубенс. Я чувствую эмоциональный заряд, энергетику картины. А это расскажет многим больше, чем сухие факты, прошедшие через века. – Как приходит муза? – Идеи приходят в самый неожиданный момент. Во время приёма, разговора или ужина и вдруг... это неисповедимо! Непредсказуемо. Приходит из космоса. У художника есть что-то наработанное: техника, мастерство. Но он ищет новое изо дня в день. И вот однажды появляется что-то новое. Непонятно откуда проходит в работы, и ты понимаешь, что просто встал на другую ступень. Это нельзя инициировать. – В чем для вас критерий прекрасного? – Вдохновение приходит тем чаще, чем больше работаешь. Чем больше работаешь, тем больше видишь прекрасного в самых обыденных вещах. Приходят к нам взрослые люди и начинают рисовать чашку, вилку или яблоко. Они рисуют, они начинают созерцать. И они начинают видеть, сколько прекрасного сокрыто в этих незамысловатых формах. Чем больше они рисуют, тем больше они видят. То же и у меня. Прекрасное есть во всём. – С вашей точки зрения должна ли картина иметь смысл, содержать скрытые метафоры или намёки? – Возможно. У меня есть картины, имеющие двойной смысл. Но я больше апеллирую не к разуму, а к чувствам. Чем больше в наш век рационализма и цинизма получается открыть эмоций, тем больше добра несёшь. В рационализме мы погрязли. Превращать искусство в ребус, наверное, не совсем верно. Есть, конечно, общечеловеческие темы: жизнь, смерть, любовь, материнство, вера. Я их поднимал – вопрос, как! – через сердце или через разум. Я выбрал сердце. Но Красота? Человек живёт и наслаждается этой неописуемой красотой, окружающей его. Почему же в этом нет смысла? Для чего мы обучаем взрослых? Человеку дан дар слышать хорошую музыку, видеть красоту. Но большинство людей – слепы. А эта слепота лечится одним: когда человек берёт в руки карандаш, начинает рисовать то, что видит кругом, и осознаёт: «Я ведь никогда прежде не видел той красоты, в которой мы живём». Это прекрасно. Можно без этого обойтись, обеднить себя и жить слепым.