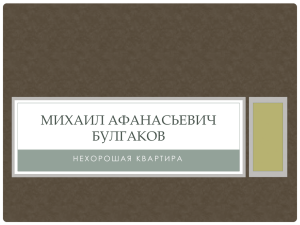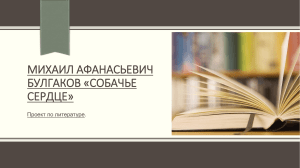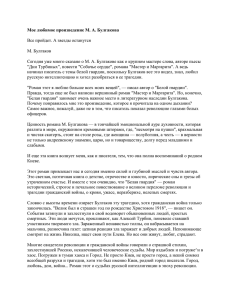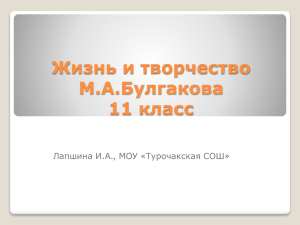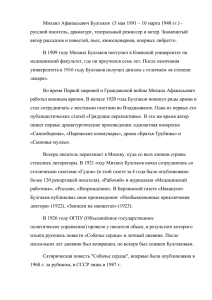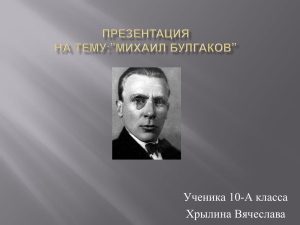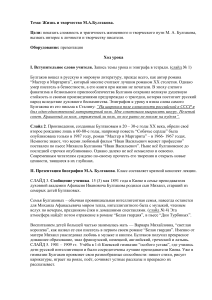Для учителей
реклама

Текстовый материал для учителя Михаил Афанасьевич приехал в Москву осенью 1921 г. «без денег, без вещей, чтоб остаться в ней навсегда». Конечно, одним из первых и самых животрепещущих вопросов стал «квартирный вопрос»: «Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни… И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос… о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане». Первым постоянным московским адресом, который оставил неизгладимый след в судьбе Булгакова, стала Большая Садовая улица д.10 кв. 50. Эта комната его сестры Надежды и ее супруга Андрея Земского для Булгакова была спасением! Именно так он отзывался о ней в письмах матери. И хотя Михаил Афанасьевич позволял себе иронически высказываться о своей «крыше»: «Правда, это отвратительный потолок — низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром» — это была настоящая крыша над головой, которую он, к слову сказать, в голодные 1920-е гг. считал наивысшей радостью» «Домом 302-бис с нехорошей квартирой 50» назвал Михаил Афанасьевич дом на Большой Садовой в своем романе «Мастер и Маргарита»; «гнусной комнатой гнусного дома» называл М. Булгаков свое жилище в дневнике за 1923 г. В письме сестре Надежде Афанасьевне Булгаковой — Земской за 1921 г. сохранилось шутливое стихотворение о новом месте жительства, в котором лишь отчасти отражен советский коммунальный быт большой квартиры: На Большой Садовой Стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат Организованный пролетариат. И я затерялся между пролетариатом Как какой-нибудь, извините за выражение, атом. Жаль, некоторых удобств нет Например – испорчен ватерклозет. С умывальником тоже беда: Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода. Питаемся понемножку: Сахарин и картошка. Свет электрический – странной марки: То потухнет, а то опять ни с того ни с сего разгорится ярко. Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд, И пролетариат очень рад. За левой стеной женский голос выводит: «бедная чайка…» А за правой играют на балалайке. Быт в квартире № 50 пугал не только пьяными поющими за стеной соседями, но и неустройством быта: отсутствием отопления, нестабильным водоснабжением, несоблюдением чистоты в квартире и многим другим. Так, в письме к сестре Наде за 1922 г. Булгаков пишет: «Я бы описал тебе, как у меня в комнате в течение ночи под сочельник и в сочельник шел с потолка дождь» или «Топить перестали в марте. Все переплеты покрылись плесенью». 1921-1922 гг. были самым сложным периодом в жизни Михаила Афанасьевича, как впрочем, и у большинства москвичей: отсутствие рабочих мест, маленькая плата на государственных службах, сворачивание предприятий, голод. В феврале 1922 г. Булгаков запишет в дневник: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки немного муки, постного масла и картошки.…Обегал всю Москву – нет места… Валенки рассыпались». Из переписки с матерью и сестрой за 1921-1922 г. видно, что проблемы были не только с валенками, но и с одеждой, мебелью, кухонной утварью. Соседи М.Булгакова, скандальные, безработные люди, варившие самогон, становились прототипами героев его литературных произведений. Обратитесь к произведениям М.А. Булгакова, чтоб поближе познакомиться с жильцами «самой известной квартиры в Москве». В рассказе «№ 13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна» М.Булгаков описывает переломный момент в истории известнейшего московского доходного дома на Большой Садовой: «Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит… Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы… В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов… Ковры… В кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бассолист, еще генерал, еще… И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам… Большое было время… И ничего не стало. Вот тогда у ворот, рядом с фонарем (огненный «No 13»), прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем, и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали: — Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!» Дом, который Булгаков называл проклятым, появляется и в повести «Тайному другу»: «В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увертюру из «Фауста». Я был потрясен. Внизу было пианино, но давно уже никто на нем не играл. Мрачные звуки достигали ко мне. Я лежал на полу, почти уткнувшись лицом в стекло керосинки и смотрел на ад. Отчаяние мое было полным, я размышлял о своей ужасной жизни и знал, что сейчас она прервется наконец. В голове возникли образы: к отчаянному Фаусту пришел Дьявол, ко мне же не придет никто. Позорный страх смерти кольнул меня еще раз, но я его стал побеждать таким способом: я представил себе, что меня ждет в случае, если я не решусь. Прежде всего, я вызвал перед глазами наш грязный коридор, гнусную уборную, представил себе крик замученного Шурки. Это очень помогло, и я, оскалив зубы, приложил ствол к виску. Еще раз испуг вызвало во мне прикосновение к коже холодного ствола». Герой вспоминает давно прошедшие времена, включая небольшой период времени проживания в коммунальной квартире: «Проснулся, всхлипывая, и долго дрожал в темноте, пока не понял, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет кругом, что это 23-й год. Хромая, еле ступая на больную ногу, я дотащился к лампе и зажег ее. Она осветила скудность и бледность моей жизни». Здесь же писатель приводит один из своих постоянно повторяемых диалогов с соседкой: «Каждую ночь в час я садился к столу и писал часов до трех-четырех. Дело шло легко ночью. Утром произошло объяснение с бабкой Семеновной. — Вы что же это. Опять у вас ночью светик горел? — Так точно, горел. — Знаете ли, электричество по ночам жечь не полагается. — Именно для ночей оно и предназначено. — Счетчик-то общий. Всем накладно. —У меня темно от пяти до двенадцати вечера. — Неизвестно тоже, чем это люди по ночам занимаются. Теперь не царский режим. —Я печатаю червонцы. — Как? — Червонцы печатаю фальшивые. — Вы не смейтесь, у нас домком есть для причесанных дворян. Их можно туда поселить, где интеллигенция, нам рабочим, эти писания не надобны. — Бабка, продающая тянучки на Смоленском, скорее частный торговец, чем рабочий. — Вы не касайтесь тянучек, мы в особняках не жили. Надо будет на выселение вас подать. — Кстати, о выселении. Если вы, Семеновна, еще раз начнете бить по голове Шурку и я услышу крик истязуемого ребенка, я подам на вас жалобу в народный суд, и вы будете сидеть месяца три, но мечта моя посадить вас на больший срок. Для того чтобы писать по ночам, нужно иметь возможность существовать днем. Как я существовал в течение времени с 1921 г. по 1923 г., я Вам писать не стану. Во-первых, Вы не поверите, во-вторых, это к делу не относится. Но к 1923 году я возможность жить уже добыл». Соседкой была реальная женщина, Анна Горячева, о которой Т.Н. Лаппа вспоминает как о «скандальной бабе». Сам М.А. Булгаков делает Горячеву героиней своих рассказов «Самогонное озеро», «№ 13 — Дом ЭльпитРабкоммуна» и «Театрального романа», «Мастера и Маргариты». О ней он пишет много, Аннушка (она же бабка Павловна, Аннушка Пыляева, Аннушка) становится символом страшного коммунального быта и скандалов, которые случаются там, где появляется она. Оттого и носит Аннушка прозвище «Чума». В рассказе «Самогонное озеро» описан быт той самой квартиры № 50, в которую писатель позднее поселит Воланда со всей его свитой: «В десять часов вечера под светлое воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье, и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки. …И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух. Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому это ее Шурка. И пусть я заведу себе «своих Шурок» и ем их с кашей. — «Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд и вы будете сидеть год за истязание ребенка», — помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст «заявку» в правление, чтобы меня выселили: «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные». Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве». Своего жилища М. А. Булгаков, конечно, стыдился, но вплоть до 1924 г. у него не было возможности переехать в другую комнату или другой дом. Как правило, в гости в «проклятую» квартиру знакомых не приглашал: «Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки». При этом в общей кухне шипели примусы, по коридору, в котором всегда туманом стоял чад, было развешено сырое белье, а из разных комнат квартиры доносились пьяные голоса… Воспоминания тяжелые. Но несмотря на нестерпимо бедственное положение, когда на писательском столе стояла дешевенькая чернильница и пачка старых, а не свежих газет, когда ночью болели бока от ржавых пружин, когда приходилось вычитывать письма безграмотных рабкоров до утра, квартира № 50 все-таки стала местом написания первого большого романа о родном городе, теплом доме и страшных годах Гражданской войны. Именно «нехорошая» квартира стала писательской лабораторией, где рождалась «Белая гвардия»: «Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен». Булгаков стал по-писательски упорен и благодаря этому из-под пера стали выходить не только рассказы для газет и журналов, но и большие работы: «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Записки на манжетах» — принесшие известность и признание писательского таланта М.А. Булгакову. (По материалам музея М.А.Булгакова)