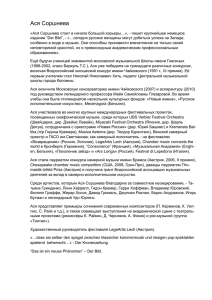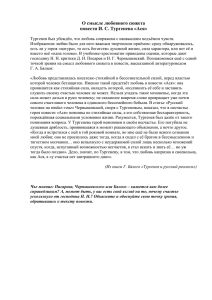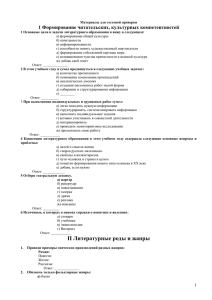Текст № 1 (1)Вся наша жизнь между двумя полосами — добром и
реклама

Текст № 1 (1)Вся наша жизнь между двумя полосами — добром и злом. (2)Помните простенький опыт с магнитом и железными опилками — их тянет то к плюсу, то к минусу, и в этой притягательной власти заключён важнейший закон физики. (3)Может быть, ему подобен и важнейший закон жизни — <…> борьба между плюсом и минусом, добром и злом, перемена влияния то одного, то иного, что и составляет загадочную тайну бытия, в которой так часто несовпадаемы и неточны задачи и ответы. (4)Почти всякая правда горька. (5)По крайней мере, с привкусом горечи. (6)Правда человеческого одиночества, начавшегося в детстве, горька безнадежно, и много надо душевных трат произвести рядом, чтобы вылечить душевную боль, чтобы хоть чуточку внушить надежды. (7)И здесь первое право — учителю, воспитателю, тому, кто имеет силы и решимость исправить пропуск в знаниях, не дыры в воспитании, но самое человеческую жизнь. (8)Много ли таких, оглянёмся вокруг… (9)Увы — пока лишь пустошь, среди которой то тут, то там светит яркий огонёк. (10)Искорки эти превратить в костры, тёмную пустошь — в светлую площадь тепла и душевности — вот высшая общественная цель. (11)Но кто он, спасатель, а не просто присутствующий при беде? (12)Какая душа у него, каковы его человеческие, личностные возможности? (13)Каков разрыв в нём между словами и улыбками и тем, что на душе? (14)Не жестокость ли там, не равнодушие ли, не корысть ли — ведь одинокий ребёнок, тронутый бедой, не знает, что есть истина, как выглядит правда. (15)Вот справедливость — её он знает и чувствует, нутром чувствует, человеческой своей сутью. (16)Несправедливость различает с маху, и ничем потом не уговоришь, никакими посулами не отворотишь жестокий взгляд детской правды. (17)И всё же взрослому, избравшему право быть с детской бедой, вручается право верховного судьи и адвоката, спасителя и губителя, любимца и ненавистника. (18)Дети не жалуются на взрослых, они ещё не обучены этому. (19)Эту «школу» они проходят во времени и пространстве, подталкиваемые неправдой. (20)Изначально ребёнок не знает такой меры отношений. (21)Высший взрослый грех — воспользоваться таким незнанием. (22)Высший грех воспитателя — воспользоваться правом взрослого на истину в последней инстанции. (23)Высший человеческий грех — выносить приговор беззащитной личности ребёнка, лишая его права на будущее. (24)На весах времени взвешивает жизнь милосердие и жестокость, боль и бесстыдство. (25)И человеком по праву зовётся лишь тот, кто добр не только к своим, но ко всем, чья любовь бескорыстна, а поступок не мним. (26)Если проверять себя такой правдой, то мы, пожалуй, сможем спасти наше детство. (27)Надо устыдиться, встрепенуться, искупить грехи и совершить поступок. (А. Лиханов*) Текст № 2 (1)Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. (2)Лев, убив антилопу, в сытой дрёме отдыхает сутки. (3)Могучий сохатый после часового боя с соперником полдня отстаивается в чащобе, судорожно поводя проваленными боками. (4)Айтматовский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и торжествовать полмесяца. (5)Для человека подобные подвиги − блеск мгновения, за который он платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе. (6)Цель зверя − прожить отпущенный природой срок. (7)Сумма заложенной в нём энергии соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, сколько надо, будто в нём предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю неведомо желание, он существует по закону необходимости. (8)Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь конечна? (9)Жизнь зверей –– это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное, в этом относительном времени может существовать только человек. (10)Его жизнь никогда не укладывается в даты на могильной плите. (11)Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись, как часы, и сутки, пролетевшие, словно мгновения. (12)И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени. (13)Для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать её смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать. (14)Это − о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно, для того чтобы прожить по законам природы. (15)Зачем? (16)С какой целью? (17)Ведь в природе всё разумно, всё выверено, испытано миллионолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то всё-таки нужен. (18)А многократно превышающий потребности огромный запас энергии для чего дан человеку? (19)Я задал этот вопрос в пятом или шестом классе, когда добрёл до элементарной физики, и решил, что она объясняет всё. (20)И она действительно всё мне тогда объяснила. (21)Кроме человека. (22)А его объяснить не смогла. (23)Именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания. (24)Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходился, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено. − (25)Для работы. − (26)Понятно, − сказал я, ничего не поняв, но не стал расспрашивать. (27)Это свойство − соглашаться с собеседником не тогда, когда всё понял, а когда ничего не понял, − видимо, заложено во мне от природы. (28)Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. (29)Но одна благодатная сторона в этой странности всё же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов, сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным. (30)Жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их. (31)Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существования. (32)Это стало главной заповедью, альфой и омегой моего мировоззрения. (33)И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рождён был с этаким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, исступлённого труда. (По Б.Л. Васильеву*) Текст № 3. Л. Улицкая. Бедные родственники Двадцать первого числа, если оно не приходилось на воскресенье, в пустоватом проеме между обедом и чаем, к Анне Марковне приходила ее троюродная сестра Ася Шафран. Если двадцать первое приходилось на воскресенье, когда вся семья была в сборе, то Ася приходила двадцать второго, в понедельник, потому что она стеснялась своей бедности и слабоумия. Часа в четыре она звонила в дверь и через некоторое время слышала из глубины квартиры тяжелые шаги и бессмысленное: «Кто там?», потому что по дурацкому хихиканью за дверью, да и по календарю, Анна Марковна должна была знать, что пришла Ася. «Это я пришла, Анечка, я мимо проходила, думаю, загляну, может, ты дома…» – целуя Анечкину полную щеку и не переставая хихикать, избыточно и фальшиво говорила Ася… потому что не было ничего очевиднее того, что это пришла она, Ася, бедная родственница, за своим ежемесячным пособием. Когда-то они учились в одном классе гимназии, ходили в одинаковых серо-голубых форменных платьях, пошитых у лучшего в Калуге портного, носили на пышных грудях одинаковые гимназические значки «КЖГС», на много лет предвосхитившие собой время повальных аббревиатур. Однако эти ажурные буквы означали не «государственный совет» по «К» и «Ж», который мог быть кожевенным или железнодорожным, по моде грядущих лет, но всего лишь калужскую женскую гимназию Саловой, которая, будучи частным заведением, позволяла себе обучать богатых еврейских девочек в той пропорции, которую могло обеспечить реденькое еврейское население насквозь русской полудеревенской Калуги с наглыми козами, блуждающими по улицам будущей столицы космонавтики. Анечка была отличницей с толстой косой, перекинутой через плечо; в ее тетрадках последняя страница не отличалась от первой, особенно красивой и старательной. У Аси не было такого рвения к учению, что у Ани: французские глаголы, нескончаемые частоколы дат и красивые безделушки теорем влетали в одно ее ухо, полуприкрытое пружинистыми беспорядочно-курчавыми белесыми волосами, и, покуда она рисовала тонко очиненным карандашом карикатуру на подлого преподавателя истории Семена Афанасьевича, вылетали из другого. Ася была живая, веселая и славная барышня, но никто, кроме Анны Марковны, не помнил ее такой… Глупо накрашенная Ася, слегка подрагивая головой, сняла с себя расшитое черными шелковыми ленточками абрикосового цвета пальто Анны Марковны, которая всю жизнь отдавала ей свои старые вещи и давно уже смирилась с тем, как ловко, иногда одним движением своих прикладистых рук, Ася превращала ее почтенную одежду в лохмотья сумасшедшего. Пришитые Асей черные ленточки в некоторых местах отстали и образовали петли и бантики, и все вместе это напоминало остроумный маскарадный костюм нотной тетради. Из-под зеленого берета на лоб свисала черная бахрома, гибрид вуали и челки, а на губы была всегда натянута зачаточная улыбка, готовая немедленно исчезнуть – или рассыпаться искательным хихиканьем. – Проходи, Ася, – приветливо и величественно пропустила ее Анна Марковна в столовую. На ковровой кушетке лежал Григорий Вениаминович, муж Анны Марковны. Он неважно себя чувствовал, пораньше ушел из университета, оставив два лекционных часа своего блестящего курса по гистологии очень толковому, но довольно небрежному ассистенту. Увидев Асю, он кисло хмыкнул, спросил у нее, как дела, и, не дожидаясь ответа, ушел в смежную со столовой спальню, закрыв за собой двойную стеклянную дверь. – Гриша себя неважно чувствует, – объяснила Анна Марковна и его дневное присутствие, и исчезновение. – Я на минуточку зашла, Анечка. В Петровском пассаже есть китайские термосы. Я купила несколько, – соврала она. – Очень красивые. С птичками. Не купить тебе? – Нет, спасибо. У меня один есть, и он мне совершенно не нужен, слава богу. – В ее голове термос был связан с поездками в больницу, а не с загородными экскурсиями. – Как Ирочка? – спросила Ася о внучке. Ей не надо было каждый раз придумывать вопросы, она спрашивала последовательно о всех членах семьи, и обычно Анна Марковна коротко отвечала, иногда увлекаясь и вкладывая в свои ответы подробности, предназначенные для более значительных собеседников. На этот раз первый же вопрос оказался удачным, потому что Ирочка вчера объявила, что выходит замуж, и вся семья, совершенно не подготовленная к этому, была взволнована и несколько огорчена. И поэтому Анна Марковна начала довольно пространно рассказывать об этом событии, располагая четко, в два столбца, его плюсы и минусы. – Мальчик хороший, они дружат со школы, он тоже на втором курсе, в авиационном, учится хорошо, внешне ничего, но ужасно длинный, худой, в Ирку влюблен без памяти, звонит каждый день по пять раз, музыкальный – никогда не учился, пришел, сел за пианино, прекрасно, по слуху, любую мелодию подбирает. Семья, конечно, ты понимаешь… – Ася понимающе затрясла головой, – очень простая. Отец – домоуправ, инвалид. Говорят, попивает. – При этих словах Ася довольно уместно захихикала, а Анна Марковна продолжала: – Но мать – очень приличная женщина. Очень достойная. Четверо детей, два старших мальчика в институте, младшие, близняшки, мальчик и девочка, прелестные… – У Анны Марковны все дети без исключения были прелестными. – Я их видела: чистенькие, опрятные, воспитанные. Сережкину мать я знаю давно, она работала в Ирочкиной школе секретарем. Ничего плохого, во всяком случае, про нее сказать не могу. Он, конечно, очень молодой, ни кола ни двора, их обоих еще долго тянуть надо, но не в этом дело. Гриша считает, что они должны жить отдельно. Снимать! Ты представляешь? Ирка, ей надо учиться, а она будет бегать за продуктами, стряпать, стирать, а то и родит… институт бросит! Да я себе этого не прощу! Наконец Анна Марковна спохватилась, что всего этого Асе знать вовсе не надо. Но Ася сидела с наслаждением на черном дубовом стуле, оперши накрашенную щеку на руку, и счастливо улыбалась, и нетерпеливо дергала веками, выбирая зазор между словами Анны Марковны, чтобы сказать: – Анечка, а пусть у меня они живут! – Да ты что, Ася?! – всерьез отозвалась она, представив себе длинную Асину комнату на Пятницкой, в конце коленчатого коридора, возле кухни. Какая-то лавка старьевщика, а не жилье. Все стены в беспорядочно вбитых гвоздях всех размеров, на одном мужское пальто, на другом – блузка, на третьем – открыточка или пучок травы. Запах – невозможный, настоящее жилище сумасшедшего; и повсюду еще стопки газет, к которым Ася питала необъяснимое пристрастие… Анна Марковна засмеялась – как это она в первое мгновение об этом серьезно подумала? Ася в ответ на смех тоже послушно засмеялась, а потом спросила: – А почему нет? У меня и ширмочка есть. Я бы завтрак им готовила. Пусть живут. Анна Марковна отмахнулась: – Ладно, сами разберутся. У Ирочки, в конце концов, родители есть. Пусть подумают хоть раз в жизни, а то он привык, – родители незаметно ополовинились до одного зятя, которого не очень любили в семье, – всю жизнь на всем готовом… Давай чаю попьем, Ася, – предложила Анна Марковна и крикнула в открытую дверь: – Нина, поставьте, пожалуйста, чайник!.. А какие у тебя новости, Ася? – спросила вежливо и незаинтересованно Анна Марковна. – Вот вчера я была у Берты. Она хочет Матиасу пальто купить, а он не дается. У них Рая из Ленинграда гостит. Фотографии показывала своих внучек. – Сколько им лет? – заинтересовалась Анна Марковна. – Одна совсем большая, невеста, а другой лет двенадцать. – Да что ты! Когда это они успели вырасти? Они плели этот житейский вздор, Анна Марковна – снисходительно, с ощущением выполняемого родственного долга, Ася – чистосердечно и старательно. Вошла с чайником и поставила его на подставку домработница Нина, красавица с перманентными волосами веником на плечи, с двумя заколками на висках. Далее разговор дам шел по-французски, что всегда приводило Нину в тихую ярость. Она была уверена, что хозяйка ругает ее по-еврейски. – Наша новая домработница. Очень хорошая девочка. Дусина племянница, из ее деревни. Это она нам после замужества выписала в подарок, – засмеялась Анна Марковна. – Очень красивая, – залюбовалась на Нину Ася. – Да, – с гордостью отозвалась Анна Марковна, – настоящая русская красавица. У Анны Марковны была легкая рука – устраивать жизнь деревенских девушек, своих домработниц. Они учились в вечерней школе, куда их непременно устраивала Анна Марковна, ходили на какие-то курсы, потом выходили замуж и приходили в гости по праздникам с детьми и мужьями. Чай пили из богатых синих чашек. В розовые розетки из такого странного стекла, что они казались оббитыми, Анна Марковна положила зеленое варенье из крыжовника, сваренное по редкому рецепту, который она считала своим достоянием. – Какое варенье у тебя красивое! – восхитилась Ася. – А помнишь наши уроки домоводства? – Конечно, сама Лидия Григорьевна Салова вела. У меня всегда хуже всех получалось, – с парадоксальной гордостью поддержала Ася. – Помнишь, торт именинный всегда пекли ей на день ангела… Да, да, – спохватилась Анна Марковна, что много времени даром потратила, – у меня тут для тебя кое-что приготовлено. Вот, ночная рубашка, зашьешь немного, она крепкая, перчатки верблюжьи Гришины, ну и там по мелочи, – не вдаваясь в унизительные подробности, поскольку на стуле были стопкой сложены заплатанные женские трико… Доисторическая сумочка с большим черепаховым замком на устах торопливо проглотила всю эту мануфактуру вместе с четырьмя завернутыми в салфетку кусками пирога и банкой с рыбой. Их часовое свидание приближалось к кульминации – и к развязке. Анна Марковна вставала, шла в спальню, звенела там ключами от шкафа и через минуту выносила оттуда заготовленный заранее серый конверт с большой радужной сторублевкой – не по теперешнему, разумеется, счету. – Это тебе, Асенька, – с оттенком торжественности передавала она конверт. Ася, которая была намного выше Анны Марковны, по-детски краснела и сутулилась, чтобы придать происходящему правильную пропорцию: она, маленькая Асенька, принимает подарок от своей большой и старшей сестры. В обе руки она брала конверт, набитая туго сумка висела на искривленном запястье, и она пыталась одновременно снять ее с руки, расстегнуть и засунуть большой конверт в набитую туго сумочку… Свидание было окончено. Анна Марковна провожала гостью в прихожую, с колыхнувшейся сердечностью целовала ее в накрашенную щеку, и Ася, испытывая облегчение, слегка унижающее ее искреннюю любовь и безмерное почтение к троюродной сестре, скатывалась чуть ли не вприпрыжку со второго этажа, легкими худыми ногами отмахивала по Долгоруковской до Садового кольца и ровно через сорок минут была в Костянском переулке, у своей подружки Маруськи Фомичевой. На шаткий стол, припертый к сырой стене, она выгружала богатые подарки. Поколебавшись минуту над верблюжьими перчатками, она выложила их, а под стопку с чиненым бельем засунула большой серый конверт. – Ишь ты, ишь ты, Ася Самолна, балуешь ты меня, – бормотала скомканная полупарализованная старуха. И Ася Шафран, наша полоумная родственница, сияла. Текст № 4 (1)У бабушки доброта была гармоничная и умиляла. (2)У жившей с нею тети Анны доброта эта переходила всякие пределы и больше раздражала. (3)Худая, с птичьим личиком, с медленно-степенными движениями, она была учительницей музыки. (4)У неё учились музыке сёстры и все наши знакомые барышни. (5)За уроками лицо её было строго, серьёзно и торжественно. (6)Но учительница она была очень плохая. (7)Всем её ученицам, сколько-нибудь способным, приходилось потом переучиваться. (8)У неё самой рояль был плохонький и звучал, как слабо натянутый барабан. (9)Я никогда не слышал, чтоб она сама что-нибудь играла, – только кадрили и польки, когда мы танцевали. (10)Всегда она была в хлопотах. (11)Всегда у неё было какое-нибудь ужасно бедное семейство, которое нужно было накормить, страшно несчастный человек, которого нужно было пристроить. (12)Она обходила знакомых, собирала деньги, выпрашивала место. (13)Собранные деньги главою несчастного семейства пропивались; несчастный человек, получивший место, оказывался прохвостом или пропойцей. (14)И уже давно никто не верил рекомендациям тёти Анны. (15)Несчастие другого человека не давало ей покоя, не давало жить. (16)Вернее, даже не так, а вот как: свою жажду помощи её тянуло утолить так же неодолимо и настойчиво, как пьяницу тянет к вину. (17)Когда она знала, что денег не пожертвуют, она просила ссудить определённую сумму на время. – (18)Дайте мне взаймы двадцать рублей, – просила она. (19)Через три дня я получу в женском епархиальном училище за уроки музыки и отдам. – (20)Ну смотрите, только на три дня даю! (21)Если не отдадите, поставите меня в безвыходное положение. – (22)Ну конечно же, отдам! (23)И не отдавала. (24)Не потому, что не хотела, а просто не донесла. (25)Встретилось новое горе – и отдала туда. (26)Резкие письма с упрёками и прямыми оскорблениями, грозные требования, тяжёлые объяснения с клятвами сейчас же отдать при первой возможности, озлобленно-виноватые глаза, боязнь встретиться на улице… (27)А завтра опять то же самое. (28)Вся она была в долгах, всё у неё было заложено, ростовщикам платила ужасные проценты. (29)При жизни бабушки ей всё-таки приходилось несколько сдерживаться. (30)Но когда бабушка умерла и домик перешёл в её владение, тётя Анна совсем запуталась. (31)Домик сейчас же был заложен, потом перезаложен. (32)Деньги немедленно уплыли. (33)А заработок её всё уменьшался. (34)Появились другие учительницы музыки, более молодые и талантливые, уроков становилось всё меньше. (35)Под конец жизни тётя Анна жила в большой нужде в своём доме, приходившем всё в большее разрушение. (36)Сарай грозил обрушиться, подгнившие перемёты еле держались. (37)Но тётя доказывала, что это не опасно: дверь открывается внутрь и поддержит перемёт, если он обвалится в то время, когда в сарае человек. (38)Помогать ей было так же трудно и бесплодно, как запойному пьянице. (39)Пошлёшь ей к празднику пятьдесят рублей. (40)Через некоторое время придёт ответ. (41)«Милый Витя! (42)Большое тебе спасибо за присланные деньги. (43)На рубль я купила себе конфет. (44)Пять рублей дала на праздники Козловым. (45)Купила башмаки Лидочке Лочагиной, – они у ней совсем дырявые, и она постоянно простужается». (46)Далее всё в таком же роде. (47)И в заключение: «Вот видишь, скольким людям ты доставил радость присланными деньгами». (48)Меня это, признаюсь, нисколько не радовало. (По В.В. Вересаеву*) Текст № 5. Денис Драгунский. У нас не убрано (из сборника «Окна во двор») В мои времена люди много чего стыдились. Подлости стыдились — точно. Поэт Слуцкий выступил против Пастернака на том собрании, так всю жизнь каялся. Кто-то заранее просил у Солженицына прощения, что проголосует за его исключение. Объяснял: жена, дети, книжка в типографии. Подлизываться и угодничать, наушничать начальству было стыдно. За это могли не подать руки. Да что там подлость — сущих мелочей стыдились, начиная с 1960-х. Конформизма, например. Помню, один мой товарищ специально встретился со мной, чтобы сказать, что вступает в КПСС. Чтоб я его правильно понял и не осуждал: ему это нужно для научной карьеры. Без этого никуда. Неприятно, но приходится. Стыдились нечестно нажитого богатства, всячески скрывали его. Да и честным благосостоянием особо не хвастались. Но и бедности, задрипанности и заношенности, тоже стыдились. Юрий Олеша писал в дневнике, что не ходил на похороны своих друзей, потому что единственные брюки обтрепались вконец. Говорили: совсем обносился, стыдно к доктору пойти. То есть майки-фуфайки заношены до дыр. И знаменитая фраза: у нас не убрано. — Простите, что я вас не приглашаю, у нас совсем не убрано. Ясно же, что не мусор на полу, не шмотки по стульям разбросаны. Наверное, все старое, ветхое, облупленное, колченогое, треснутое. Нищее. Стыдно. Сейчас роскоши не стыдятся. И ободранности тоже — посмотрите на фотографии в социальных сетях: гордо позируют на фоне замызганных обоев. А идея подлости вообще ушла из этого, как его — из дискурса. Даже интересно — что сейчас стыдно? Тексты для групповой работы Текст № 1 (1)На этого человека нельзя было смотреть без смеха. (2)Низенький, толстенький, нос картошкой, на голове - пучок коричневых волос, похожих на слипшуюся малярную кисточку. (3)У него был неприятный, какой-то каркающий голос, отчего казалось, что он всё время задорно спорит или чем-то горячо возмущается. (4)Одевался бог весть как: человеку уже за сорок, а у него то майка из-под рубашки торчит, то из рукава конец шарфа выглядывает, то он шапку задом наперёд нахлобучит. (5)«Беспутный» - так с ворчливой укоризной называли его пожилые женщины. (6)Беспутный жил один в ветхом домике, работал кочегаром в школьной котельной, после смены он, довольно улыбаясь, ходил по деревне, показывая всем своё радостное лицо, испачканное сажей. - (7)Сашка, ты бы умылся, что ли! (8)Чего ты чумазым по улице ходишь, детей пугаешь! кричали женщины и сердито качали головой. (9)Не только семейны женщины, строгие хранительницы морали, - любой житель деревни, от мала до велика, считал себя обязанным дать Сашке какой-нибудь очень полезный совет, язвительно пошутить над его нелепой жизнью, снисходительно поучить уму-разуму. (10)Родители, ругая своих детей за нерадивую учёбу, непременно поминали школьного кочегара: -(11)Вот не будешь учиться - станешь таким, как этот Сашка Бозин! (12)Умер Бозин, как и жил, как-то нелепо. (13)Когда были первые морозцы, шёл по дороге, поскользнулся и ударился затылком. (14)Несколько дней ходил, ощущая неприятное головокружение, но все, кому он жаловался, только смеялись: - (15)Сашка, у тебя голова не может болеть: она же у тебя пустая. (16)На работе потерял сознание, пока бегали за фельдшером, он помер. (17)Местный плотник на другой день сколотил крест, начал вырезать имя умершего, но тут выяснилось, что никто не знает его отчества. (18)Пришли в школу, нашли трудовую книжку покойного, выяснили, что по батюшке его величали Григорьевич. (19)Вечером несколько учителей пошли в избушку Бозина, чтобы там прибраться перед похоронами. (20)В маленькой каморке были печь, пружинная кровать, накрытая пикейным одеялом, у окна деревянный стол. (21)А над столом большая картина. (22)На ней изображено небо, голубое и ясное, как взгляд ребёнка. (23)Среди неба - пушистое, мягкое облако, в котором, будто в перине, лежит маленький круглолицый ангел. (24)Одну ручку он положил себе под голову, а другой кому-то машет, словно зовёт к себе или, наоборот, прощается. (25)И вся картина: и ровная синева, и белоснежное облако, и пухлое личико ангела - освещена невидимым золотистым светом, как будто лучи закатного солнца проникают в комнату сквозь стены. (26)Откуда у Бозина эта картина - купил он её, нашёл где-то или, может быть, сам нарисовал - никто не знал. (27)Только вдруг почему-то всем представилось, как приходил Бозин домой, как садился за стол, ел суп или пил чай и на него, закутавшись в мягкий пух облака, своими чистыми и добрыми глазами смотрел ангел, словно сыночек, дождавшийся своего отца. (28)А теперь эти голубые очи смотрят в комнату и не могут найти родного лица. (29)Женщины не выдержали и в голос заплакали, а пришедший с ними директор школы опустил голову. (По С. Качалкову) Тексты для групповой работы Текст № 2 Денис Драгунский. Время писем Была еще одна ужасная история с письмами. В сыром дачном сарае я нашел сумку, а в ней письма папиного троюродного брата – прекрасно помню его узкий красивый почерк. Фиолетовыми чернилами адрес и обратный адрес. На штемпелях – сорок восьмой, сорок девятый годы. Усевшись на сломанный чемодан, я вытащил из конверта первое письмо – боже! Бумага была пуста, чиста. Второй, третий, десятый, двадцать пятый конверт – то же самое. Сон какой-то. Серая пористая бумага. И слабые синеватые следы на ней. Скоро я понял, в чем дело. Конверты дядя надписывал крепкими чернилами (наверное, на почтамте) – а сами письма писал слабым химическим карандашом. Две зимы в сыром сарае – и все слиняло. Я помнил, конечно, пугающие часы без стрелок в «Земляничной поляне». Но, доложу я вам, вытаскивать из надписанных конвертов пустые странички – тоже страшновато. Да, господа, я еще жил в эпоху писем. У меня целый чемодан корреспонденции. Письма отдельные, по разным случаям, и письма сериями: с некоторыми людьми я постоянно переписывался. Например, с одним поэтом-переводчиком, на литературные темы. С моим факультетским товарищем Сашей Алексеевым (ныне покойным, увы): он на втором курсе уехал по обмену учиться в Лейпциг, и мы написали друг другу целый том всякой всячины. Он из моих писем действительно сделал том – переплел их. А я его письма держу в конвертах, но в порядке. Это я про большие серии говорю – были и поменьше. Мамины письма и папины. Письма от друзей мне на отдых и от них – с отдыха. То есть мы не могли прервать общение даже на три недели. Письма от девушек, но немного. А также деловая переписка. Нет, я не спорю, e-mail – это очень удобно, быстро и вообще прекрасно. Но что-то было особенное в бумажных письмах. Одна девочка написала мне с Юга. В конверте оказались три песчинки. Много ли надо, чтоб вообразить, как она лежит на пляже, и дописывает письмо, и складывает его, и тонкий белый песок сыплется на бумагу с ее смуглого запястья. И сойти с ума. На три минуты. По числу песчинок. Тексты для групповой работы Текст № 3 "На девятнадцатом году революции Сталину пришла мысль (назовём это так) устроить в Ленинграде «чистку». Он изобрёл способ, который, казалось, был тонок: обмен паспортов. И десяткам тысяч людей, главным образом дворянам, стали отказывать в них. А эти дворяне давным-давно превратились в добросовестных советских служащих с дешёвенькими портфелями из свиной кожи. Если тебе отказали в паспорте, следовала немедленная высылка: либо поближе к тундре, либо — к раскалённым пескам Каракума. Ленинград плакал. Незадолго до этого Шостакович получил новую квартиру. Она была раза в три больше его прежней на улице Марата. Не стоять же квартире пустой, голой. Шостакович наскрёб немного денег, принёс их Софье Васильевне и сказал: — Пожалуйста, купи, мама, чего-нибудь из мебели. И уехал по делам в Москву, где пробыл недели две. А когда вернулся в новую квартиру, глазам своим не поверил: в комнатах стояли павловские и александровские стулья красного дерева, столики, шкаф, бюро. Почти в достаточном количестве. — И всё это, мама, ты купила на те гроши, что я тебе оставил? — У нас, видишь ли, страшно подешевела мебель, — ответила Софья Васильевна. — С чего бы? — Дворян высылали. Ну, они в спешке чуть ли не даром, как умалишенные, отдавали вещи. Вот, скажем, это бюро раньше стоило… И Софья Васильевна стала рассказывать, сколько раньше стоила такая и такая вещь и сколько теперь за неё заплачено. Дмитрий Дмитриевич посерел. Тонкие губы его сжались. — Боже мой!.. И, торопливо вынув из кармана записную книжку, он взял со стола карандаш. - Сколько стоили эти стулья до несчастья, мама?.. А теперь сколько ты заплатила?.. Где ты их купила?.. А это бюро?.. А диван?.. Софья Васильевна точно отвечала, не совсем понимая, для чего он её об этом спрашивает. Со всей внимательностью записав детали своим острым, тонким, шатающимся почерком, Дмитрий Дмитриевич нервно вырвал из книжицы лист и сказал, передавая его матери: — Я сейчас поеду раздобывать деньги. Хоть из-под земли. А завтра, мама, с утра ты развези их по этим адресам. У всех ведь остались в Ленинграде близкие люди. Они и перешлют деньги — туда, тем… Эти стулья раньше стоили полторы тысячи, ты их купила за четыреста, — верни тысячу сто… И за бюро, и за диван… За всё… У людей, мама, несчастье, как же этим пользоваться?.. Правда, мама? " Источник: http://www.snob.ru/profile/27336/blog/82230 Тексты для групповой работы Текст № 4 Э. Кочергин. Рассказ «Поцелуй» Вы, может быть, помните сороковые послевоенные годы. Помните барахолки в городах и городишках, лавину «обрубков», «тачек», «костылей» и прочего искалеченного войной люда в шалманах и на улицах. Помните, конечно, голодные 1946, 1947 и 1949-й годы и разного вида нищих, малых и старых, кочующих по стране. Нищих, специализировавшихся по подвижным составам: они ходили по железнодорожным вагонам со своим репертуаром и разного рода обращениями к победившему народу. Был даже, если можно так назвать, особый жанр вагонных песен, в основном жалостливых, вроде «В одном городе жила парочка, он шофёр, а она счетовод, и была у них дочка Аллочка, и пошёл ей тринадцатый год…» А помните эти деревянные вагоны, густо крашенные масляной краской и на всю жизнь впитавшие её запах и запахи курева, еды и пота? Вагоны, набитые снизу доверху людьми, мешками, корзинами, деревянными чемоданами, с тусклым мигающим светом в купе и проходах, с бесконечными нищими калеками, которые менялись с каждым перегоном. Много их довелось мне увидеть за мою опасную практику скачка, то есть поездного вора… Жизнь загнала меня в угол, и после побега из детприёмника стал я постепенно, с восьми лет, приобщаться к уголовной цивилизации. Но так как главной целью моей всё-таки было возвращение на родину, в Питер, а из моего далека попасть туда в ту пору можно было только по железной дороге, — то со временем, к двенадцати годам, я освоил профессию, связанную с поездами, — стал скачком. А поначалу, по молодости лет, был «помоганцем», или, из-за худобы и гибкости, — «резиновым мальчиком», который мог проникнуть в самую малую щель. Из разного побирающегося люда в памяти моей застрял один необычный бессловесный «обрубок». Расскажу уж по порядку, как полагается. Поезд мой, если не ошибаюсь, был «Москва-Рига»: (я мечтал попасть в Ригу, потому что шли разговоры, будто там можно устроиться юнгой). Я мирно спал в этот раз — естественно, на последней полке плацкартного вагона, среди мешков и чемоданов, привязавшись ремнем к металлической трубе, чтобы, случаем, меня ночью не сдвинули с полки. Поезд приближался к станции Остров. Позднее осеннее солнце вдруг осветило потолок вагона и заставило меня проснуться. Я проспал, что было совсем нехорошо, а должен был затемно спуститься вниз и незаметно покинуть вагон, спрятавшись в туалете, тамбуре, «собачьем ящике», кочегарке или где-нибудь ещё. Мои старшие напарники наверняка уже оставили свои полки, а я… Очень осторожно отвязав себя от трубы, из-за корзины посмотрел вниз. Вторые полки, слава богу, спали. Но нижние — женщина и девушка — встали уже, явно готовясь сойти в Острове. Мой взгляд застрял на девчонке, а может быть, уже и девушке молочной спелости и красоты необыкновенной. Так мне показалось. А может быть, виновато солнце, которое светило прямо на неё. Она сидела против окна, спиной ко входу, на чемодане, зачехлённом холстиной с латунными пуговицами от шинели, и ела картошку из капустного листа с огурцом и хлебом. Она была видна мне сверху. Её русые волосы, заплетённые в косички, золотились утренним солнцем. Мне запомнилась очень красивая высокая шея и светящиеся на солнце ушки с маленькими прозрачными серьгамислезинками. Матушка её, отвернувшись от стола, что-то вынимала или, наоборот, складывала в свою сумку и была этим чрезвычайно занята. Напротив — на боковых полках — ещё спали, закрывшись от солнечного света. Я уже хотел подлезть под трубу и посмотреть, что делается в соседнем отделении, как вдруг в нашем проеме показалась огромная фигура «обрубка», одетого в военную форму. За подол стираной гимнастёрки безрукого держался совсем маленький пацан-поводырь. Совершенно белый, прямо альбинос. Волосёнки у него были настолько светлые, что поначалу мне показалось, будто он седой. На нём был самопальный бушлатик с неправдоподобно огромными пуговицами, словно с какого-то Гулливера. Голова солдатика-великана была расколота по ди-1 агонали, да так страшно и безжалостно, что смотреть на неё было невозможно, а уж я повидал в своей жизни к этому времени! Шрам, если это можно было назвать шрамом, проходил щелью почти от правого виска вниз через всё лицо, уничтожив нос, то есть соединив рот и нос в одно отверстие с остатками лохматых губ. Сдвинутые, но живые куски мяса — разбитые глазницы, правого глаза не было. Война. Это было воистину лицо войны. Только случайность или Господь Бог и молодость оставили этого парня жить. Более страшного живого человека я никогда не видел. Руки у него были «завязаны». Знаете, в войну некогда было: резали, а кожу натягивали. И вот у него торчали такие «колбаски»-обрубки. На шее болталась дощечка с надписью: «Подайте инвалиду войны». Он был, очевидно, нем, то есть не мог говорить, а лишь мычал: во рту болтались только ошметки языка. Никто его не видел и не слышал, кроме меня. Он стоял на широко расставленных ногах, чуть подавшись туловищем вперед, напротив не видящей его девчонки и смотрел своим уцелевшим глазом на её замечательно освещённую головку. Вдруг он решительно взмахнул своим правым обрубком, сделал шаг к столу, резко нагнулся со своего высока и лохмотьями губ поцеловал шейку девушки. Она, оглянувшись, вскрикнула страшным, каким-то испуганным криком, будто у неё внутри рвануло. Её затрясло. Матушка, онемев, побледнела и вжалась в угол полки. А из его глазниц вдруг что-то рухнуло. Слеза. Мне показалось, что я слышал звук падающей слезы. Этого не могло быть, поезд шел быстро и шумно, но в голове у меня остался этот звук, мне показалось, что я слышал, как его слеза разбилась о нечистый пол нашего деревянного вагона. Поводырь-пацан потянул «обрубка» за подол гимнастёрки и оттащил его от трясущейся в ознобе девочки. Воспользовавшись заминкой, незамеченный, я спустился вниз и почти вслед за «обрубком» оказался в тамбуре. Калека-солдат сидел на корточках, привалившись к «собачьему ящику», а пацан, прикурив тоненькую папироску, вставлял ему окурок в лохмотья губ, вынимал после затяжки и снова давал своему огромному брату-калеке затянуться дымом самых дешёвых в ту пору папирос «Ракета». Поезд прибыл на станцию Остров. Они вышли: один огромный, другой неправдоподобно маленький, словно кто-то всё это срежиссировал. Сошли в абсолютно разрушенном городе. До этого я не понимал, что такое — «разбитый в пух». В Острове понял. У вокзала не было крыши, а сам вокзал был заполнен «обрубками» — безрукими, безногими, палёными, ослепшими… Эта жуть до сих пор у меня в глазах. Брейгель какой-то, в натуре — и на Руси. Шёл мокрый снег… Тексты для групповой работы Текст № 5 Ф. Кривин. Полусказка «Два камня» У самого берега лежали два камня — два неразлучных и давних приятеля. Целыми днями грелись они в лучах южного солнца и, казалось, счастливы были, что море шумит в стороне и не нарушает их спокойного и мирного уюта. Но вот однажды, когда разгулялся на море шторм, кончилась дружба двух приятелей: одного из них подхватила забежавшая на берег волна и унесла с собой далеко в море. Другой камень, уцепившись за гнилую корягу, сумел удержаться на берегу и долго не мог прийти в себя от страха. А когда немного успокоился, нашёл себе новых друзей. Это были старые, высохшие и потрескавшиеся от времени комья глины. Они с утра до вечера слушали рассказы Камня о том, как он рисковал жизнью, какой подвергался опасности во время шторма. И, ежедневно повторяя им эту историю, Камень, в конце концов, почувствовал себя героем. Шли годы. Под лучами жаркого солнца Камень и сам растрескался и уже почти ничем не отличался от своих друзей — комьев глины. Но вот набежавшая волна выбросила на берег блестящий Кремень, каких ещё не видали в этих краях. — Здравствуй, дружище — крикнул он Растрескавшемуся Камню. Старый Камень был удивлён. — Извините, я вас впервые вижу. — Эх, ты, впервые вижу. Забыл, что ли, сколько лет провели мы вместе на этом берегу, прежде чем меня унесло в море? И он рассказал своему старому другу, что ему пришлось пережить в морской пучине, и как всё-таки там было здорово интересно. — Пошли со мной — предложил Кремень. — Ты увидишь настоящую жизнь, узнаешь настоящие бури. Но его друг, Растрескавшийся Камень, посмотрел на комья глины, которые при слове «бури» готовы были совсем рассыпаться от страха, и сказал: — Нет, это не по мне. Я и здесь прекрасно устроен. — Что ж, как знаешь — Кремень вскочил на подбежавшую волну и умчался в море. Долго молчали все оставшиеся на берегу. Наконец Растрескавшийся Камень сказал: — Повезло ему, вот и зазнался. Разве стоило ради него рисковать жизнью Где же правда Где справедливость? И комья глины согласились с ним, что справедливости в жизни нет. Тексты для групповой работы Текст № 6 Людмила Улицкая. Дезертир В конце сентября 1941 года на Тильду пришла повестка о мобилизации. Отец Ирины уже работал в «Красной звезде», разъезжал по фронтам и писал знаменитые на всю страну очерки. Муж Валентин воевал, и писем от него не было. Расставаться с Тильдой было почему-то трудней, чем с Валентином. Ирина сама отвела Тильду на призывной пункт. Кроме Тильды, там было в коридоре еще восемь собак, но они, поглощенные непонятностью события, почти не обращали друг на друга внимания, жались к ногам хозяев, а одна молодая сука, шотландский сеттер, даже пустила от страху струю. Тильда вела себя достойно, но Ирина чувствовала, что ей не по себе: уши подрагивали на кончиках и она слегка била хвостом по грязному полу. Из кабинета вышел понурый хозяин с немецкой овчаркой с низкой посадкой. Головы не поднимая, буркнул «забраковали нас, по зрению» и ушел с собакой на поводке… Проходя мимо Тильды, овчарка приостановилась, проявила интерес. Но хозяин дернул за поводок, и она покорно пошла за ним. Сидящий рядом старик держал руку на голове пожилой овчарки. Овчарка была крупная, вчетверо больше Тильды. Ирина подняла Тильду на руки – пудель был как раз того промежуточного размера, между комнатной собачкой и настоящей, служилой. Старик посмотрел на Тильду, улыбнулся, и Ирина осмелилась спросить то, что было у нее на сердце: – Я вот все думаю, как же они смогут ее использовать: она раненого с поля не вытащит. Разыскать человека она может, ну, сумку медицинскую она может тащить… Но чтоб раненого… Старик посмотрел сочувственно – теперь уже на Ирину. – Деточка, эти мелкие собаки – противотанковые. Их обучают, чтобы они бросались под танк, а к брюху бутылку с зажигательной смесью привязывают… Вы что, не знаете? Дура, дура, как сама не догадалась! Представляла почему-то Тильду с повязкой красного креста на спине, и как бы она честно служила, бегала по полям сражений, разыскивала раненых, приносила им помощь… А оказывается, все совсем не так: ее натренируют проскальзывать возле гусениц танка и выскакивать, и она будет много раз повторять этот легкий трюк, чтобы потом, однажды, кинуться под немецкий танк и взорваться с ним вместе. Повестка лежала в сумке у Ирины. Ее принесли четыре дня тому назад, и Ирина с собакой пришла на призывной пункт час в час и день в день, как назначено. Перед ними в очереди оставалось еще два человека и две собаки: старик с немецкой овчаркой и женщина с кавказской. Ирина встала и, на пол не спуская притихшую Тильду, вышла из коридора. До дому шли пешком минут сорок, от Беговой до улицы Горького. Ирина поднялась в квартиру, собрала маленький чемоданчик вещей первой необходимости, потом подумала и переложила их в рюкзак. Она решилась совершить преступление, и совершать его надо было как можно незаметнее, а чемодан на улице скорее бросался в глаза, чем рюкзак. В рюкзак положила тильдины обе миски, для воды и для еды, и подстилку. Тильда сидела возле двери и ждала: понимала, что сейчас уйдут. И ушли – пешком, на Покровку, сначала к матери Валентина, в дом, откуда Тильда была родом: Валентин был ее первым хозяином. Через несколько дней перебралась к подруге на Писцовую. Почти каждый день она ездила домой, на улицу Горького, открывала ключиком почтовый ящик, но все не находила того, за чем ездила: письма с фронта от Валентина. А вот на Тильду пришло еще две повестки, и обе, замирая от страха, Ирина тут же порвала меленько и выпустила, выйдя из подъезда, прямо в ледяное жерло метели, которая бесновалась всю ту зиму, первую зиму войны. Отец редко приезжал в Москву, беспрерывно мотаясь по фронтам: он был одним из главных летописцев и этой войны, и прежней, испанской… В первый же его приезд Ирина рассказала ему о дезертирстве Тильды. Он молча кивнул. Навестил собаку на Писцовой. Последние годы Ирина с мужем жила в большой квартире отца, и Тильда давно поняла, что главным хозяином над всеми был именно он, старый, а не первый, молодой. …