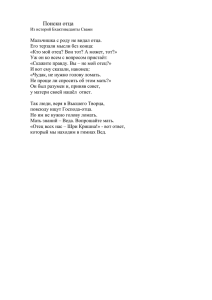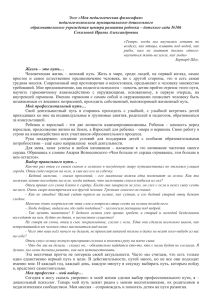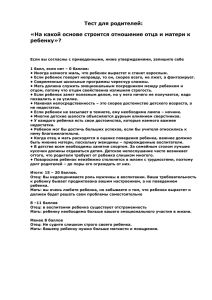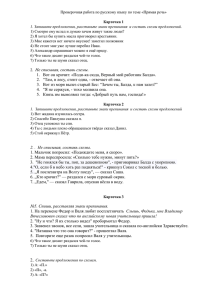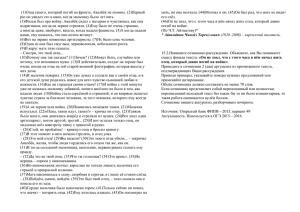Документ 4484427
реклама

Annotation В этом длинном романе самым подробнейшим образом описывается детство и юность сына шахтера Колина Сэвилла: его действие происходит до, во время и после второй мировой войны. Наделенный тонкостью восприятия и высоким интеллектом мальчик чувствует себя в родных местах чужаком и в конце концов уезжает в Лондон, чтобы начать новую жизнь. В 1976 г. эта книга принесла ее создателю Дэйвиду Стори Букеровскую премию, самую крупную и важную из литературных премий, присуждаемых в Великобритании в области художественной прозы. Три из его пяти предшествующих романов были удостоены важных премий как в Великобритании, так и в США: «Бегство в Кэмден», «Пасмор» и «Такова спортивная жизнь», который первым из его романов увидел свет — впоследствии по нему был снят не менее знаменитый фильм. Критики называет его самым правдивым, а также ведущим романистом его поколения, причем нередко сравнивают его с Д. Г. Лоуренсом. С не меньшим успехом выступает Стори и в драматургии. С 1967 г. было поставлено девять его пьес, которые принесли ему трижды премию театральных критиков Нью-Йорка за лучшую пьесу года и дважды — Британскую премию газеты «Ивнинг Стэндард» в области драматургии. Среди них — «По случаю торжества», «Подрядчик», «Дома», «Натурный класс» и «Раздевалка». В последней он, по утверждению одного критика, «действительно раздвигает границы драматургии». Кроме того, он написал и поставил несколько фильмов для телевидения. Собственная жизнь Стори жутко напоминает жизнь отдельных его персонажей. Он родился в 1933 г. и — подобно Сэвиллу — был сыном йоркширского шахтера и поступил в гимназию. Он получил стипендию для обучения в лондонской школе изящных искусств «Слейд» в то самое время, как у него уже был подписан контракт, по которому он должен был 14 лет выступать за команду Лидса в лиге рэгби — из этого родился роман «Такова спортивная жизнь» — и ухитрился выдержать эту двойную жизнь. Сейчас он живет в Лондоне с женой и детьми: двумя сыновьями и двумя дочерьми. Действие первого из отрывков происходит примерно в 1943 г. В нем изображены 10-летний Колин и его младший братишка Стивен, их родители и соседи, проживающие в той же шахтерской деревушке. Дэйвид Стори o Дэйвид Стори Сэвилл (отрывок) Это от мистера Ригана пошла идея, что Колину нужно отправиться на экзамены. Тогда на будущий год ему представлялась возможность поступить в городскую гимназию, а если он провалится, вторично такая возможность представлялась через год. А если он опять провалится, тогда уж пойдет в среднюю школу практического профиля, что на другом конце деревни, откуда шахта набирала большинство работавших там шахтеров. — Так и есть, как Риган говорит, — твердил им отец. — Хочешь, чтоб он стал, как я или как Риган — сидишь-посиживаешь себе целый день, а тебе за это денежки идут? Я-то знаю, что бы я сделал. Мистер Риган работает, — отвечала мать. — Сидячая работа — тоже работа, только другая, вот и все. — А, ладно, — отвечал отец. — Это ты у нас специалист по образованию. В отличие от отца, мать ходила в школу до пятнадцати лет. Наверху в шкафу хранился аттестат, аккуратно заполненный каллиграфическим почерком, свидетельствоваший о ее успехах в английском, естествознании и домоводстве. Однако именно отец давал ему задания; стоило матери предложить ему какуюто тему, отец обходил вокруг стола, говоря: «На этом он ничему не научится», — брал карандаш и уверенно поместив свою маленькую, квадратную руку в синяках, с черными от угля ногтями, посредине листа, сопя и кряхтя, квадратными буквами выводил тему сочинения: «ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ», «ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА», «ПОЕЗДКА В АВТОБУСЕ». Иногда он так и стоял за его стулом, дожидаясь, пока он начнет, слегка наклоняясь вперед, чтобы следить за словами, когда он начинал писать, а иногда отступал назад и стоял, посвистывая сквозь зубы, пока, наконец, не произносил: — Если ты так долго будешь раскачиваться, так, клянусь богом, экзамен кончится, покуда ты начнешь. — Ему нужно это продумать, — говорила ему мать. — Во всяком случае, от того, что ты стоишь над ним, пользы не будет. — А что будет, если я не буду стоять над ним? Он и вовсе ничего не сделает. — Однако в таких случаях он отступал, быть может, подхватывал Стивена, который уже начал ходить, и подбрасывал его над головой, приговаривая: — Вот когда придет твой черед, ты задашь жару. Погодите, мы им покажем. Клянусь богом, я в этом не сомневаюсь. У Стивена были голубые глаза, как у отца, но лицом — оно было круглое, гладкое, со вздернутым носиком — он походил на мать. И выражение лица у него было такое же, как у матери, словно внутри у него сидел выглядывавший оттуда застенчивый, почти совсем молчаливый человек. Он начал говорить, и когда мать протягивала ему какой-нибудь предмет, то несколько раз повторяла название и каждый раз кивала головой. Временами, играя во дворе с малышами, собравшимися со всей улицы, Стивен говорил совсем свободно и, носясь на своих коротких, кривоватых ножках, кричал: — Это мое. Это мое. — Или говорил какому-нибудь мальчишке гораздо старше него, — Перестань. Перестань. — Ты можешь сказать «Колин»? — спрашивала его мать. — Колин, — говорил он, хмуро поглядывая вверх. Обычно, когда Колин заканчивал свои сочинения, отцу нужно было собираться на работу и, натягивая рубашку и брюки, он заглядывал ему через плечо, чтоб узнать, какую часть страницы тот исписал своими каракулями, которые он выводил неторопливо и старательно, и не перевернул ли ее на другую сторону. — На двух сторонах, — говорил он. — За полдюжину строк тебе и ставить-то отметок не подумают. — Оставь его в покое, — говорила ему мать. — Не беспокойся, — отвечал отец. — Коли оставишь их в покое, так никакого образования дать нельзя. Для проверки его работ он принес из конторы красный карандаш и, дожидаясь, с нетерпением затачивал его над огнем, потом оборачивался, говоря: — Готов? А то мне через полчаса на работу идти, — и, посматривая через плечо Колина на часы, говорил: — Тогда уж кончай. Дописывай предложение и хватит, — и едва Колин вставал, тут же садился на его стул, прибавляя, — Не уходи. Я хочу, чтоб ты заметил свои ошибки. — Читая, он слегка щурил глаза и кривил губы на бок, ломая голову над правописанием, временами поднимая взгляд от листка и спрашивая, — Как пишется «хорошо», Эллен? — и когда мать, почти не отрываясь от того, чем она занималась, от глажения или мытья, отвечала ему, он спрашивал: — А там нигде «а» нету? — с нетерпением прерывая ее объяснения. — Ну, ладно, хватит. Ладно. Я же только спросил. Я не нуждаюсь в лекциях. — Ты хочешь знать, как это пишется? — Ну, ладно, хватит, — говорил он, еще сильнее прижимая к листку кончик красного карандаша, тщательно проверяя каждое из написанных им слов, и после каждого предложения, если оно ему нравилось, ставил крошечную галочку. — Вот это хорошо. И это хорошо, — говорил он сам себе. Ему доставляло огромное удовольствие проверять работы с красным карандашом и, закончив проверку, он писал внизу какие-нибудь замечания, по его мнению, соответствующие случаю: «Великолепно», «Можно и получше», «Нет внимания к работе» или «Придется к экзаменам поработать». Кроме того, он выставлял какую-нибудь оценку, исходя из десяти баллов. Из принципа он никогда не ставил ему ниже трех и редко больше семи. Наконец, покончив с этим, он ставил громадную галку, начинавшуюся в левом нижнем углу и кончавшуюся чуть ли не в самом верхнем правом углу, рядом с которой торжественно выводил печатными буквами свои полные инициалы: «Г.Р.С.» — Гарри Ричард Сэвилл. Потом, когда ему надоело читать рассказы и сочинения Колина, он принес домой несколько книг по математике, которые он взял у кого-то на работе. На внутренней стороне обложки каждой из них было написано карандашом: «Сэм Тернер ЕГО книга», а против надписи, в одной или двух, была нарисована женская фигура, которую отец пытался безуспешно стереть. Книга касалась разделов, которых он почти не проходил в школе, простых и десятичных дробей, на страницах изображались разбитые на дробные части цифры, и поскольку отец не разбирался ни в том, ни в другом, он сначала сам прочитывал книгу, сидя в кресле рядом с камином, положив на колено листок, на который он, кашляя и роняя пепел от сигареты, выписывал из книги цифры, стирая резинкой, довольно часто топая ногой, стуча ею об пол и в раздражении потирая голову. — Послушай, дай я взгляну, — говорила бывало мать. — Черт побери, женщина, — говорил он, прикрывая или отдергивая книгу. — Я или не я должен этим заниматься, как по-твоему? — Ну, по-моему, ты, — отвечала она. — Ну, тогда дай мне этим заняться и перестань соваться. Она возвращалась к тому, что делала, а он принимался вновь стенать и топать ногой, потом, наконец, вставал и подходил к столу, где переносил цифры на разграфленую бумагу, которую он приносил с шахты и на которой раньше рисовал свои изобретения, почесывая голову над каждой задачей так, словно, даже в то время, когда он их писал, он сомневался, имеют ли они решение. Потом он сам переписывал снова ту же задачу и забирал обратно к себе, пытаясь решить ее как можно быстрее, шепча себе под нос, стирая резинкой, кряхтя, и, поглядывая на Колина, спрашивал — кончил ли он? — и с облегчением возвращался к своей, услышав, что не кончил. Подходя для проверки задач, он всегда вставал рядом с ним, никогда не прося сесть, словно в любой момент ждал, что его самого поправят, перегибался через его плечо или же временами возвращался к своей работе на другом конце стола и пробегал цифры прежде, чем возвращался назад и ставил галочку или крест. По мере того, как сложность задач возрастала, а терпенье отца понемногу истощалось и усталость Колина после проведенного в школе дня становилась все заметнее и заметнее, мать принималась причитать. Часто, когда он укладывался в постель, и нерешенные задачи проносились у него в голове, он слышал в кухне их голоса, на повышенных тонах, и отец говорил: — Нет, тогда мне нечего беспокоиться. Отправим его в шахту, пусть идет, как все. Да и почему это он должен быть другим? А когда он по утрам спускался вниз, мать — стоило отцу вернуться с работы — говорила: — Незачем ему идти в шахту. — А куда ему еще здесь тогда идти? — Не знаю, — отвечала она, под его грохот, пока он снимал в кухне башмаки, брал свой красный карандаш и вновь принимался за брошенные накануне ночью задачи, а иногда даже доставал решение из жилетного кармана, которое ему написал кто-нибудь на работе. — Никакого толку навязывать ему то, — добавляла она, — чего он не может сделать. — Он может их сделать, — твердил он. — А не делает по той причине, что ты вечно его покрываешь. — Он не может, — говорила она, — потому что устает, — и подхватывала Стивена, который неизменно подымал рев, когда они ссорились, и тянул мать за подол, требуя, чтоб его взяли на руки. — Пусть лучше сейчас устает, чем ему потом попасть на мою работу, и тогда он будет уставать, как я. — Что ж, — говорила она, — дай ему время, не дави. — Не дави, — повторял он, топая ногой в одном носке, и, не получив должного эффекта, ударял кулаком по столу, так что звенели чашки и блюдца. — Да будь я проклят, — добавлял он, — если я позволю сломить себя десятичной дробью или какой-нибудь парой простых. И еше, когда Колин спускался по утрам, отец, оторвав взгляд от завтрака — у него на ресницах все еще чернела угольная пыль — спрашивал: — Сколько будет два и пять десятых помножить на семь? Ну, быстро, в уме, — глядя на него своими светло-голубыми глазами с черным ободом вокруг, потом быстро опускал глаза и, когда он отвечал, говорил, — Правильно, — добавляя, — А как пишется «география»? Ну, быстро. Разве не через «и»? — раздраженно качая головой, когда мать поправляла его, говоря, — Да я только чтоб проверить его, — и в ярости стучал по столу. В конце концов отходил отец быстро. По дороге, ведущей на юг от деревни, за Институтом и лощиной, разбили на личные участки одно поле. Каждый такой участок занимал четыреста-девятьсот квадратных метров, и по вечерам, а в воскресенье и по утрам, мужчины отправлялись туда, где прежде паслись коровы, прихватив с собой лопаты и вилы, чтобы отваливать твердый, с плотным травяным покровом дерн. Отцу достался участок у самой дороги, так что когда кто-то приходил или уходил, он всегда мог их позвать и нередко оставлял Колина, который всю дорогу тащил его лопату, копать в одиночестве, пока сам отец сидел под сенью живой изгороди, покуривая и беседуя с мистером Стрингером, мистером Бэтти или мистером Шоу. — Эй, копай, чтоб по прямой, — кричал он и, обращаясь к мужчинам, добавлял, — Эта война быстрее кончится, чем у нас тут чего вырастет. Возвращаясь с работы домой, он купил рассады и посадил ее аккуратными рядами: капусту со светло-зелеными листьями на желтых стебельках, цветную капусту, брюссельскую. Пока Колин в одном конце снимал дерн, переворачивая его и разбивая комья, отец, орудуя граблями, очищал грядки, просеивал землю, выбирая мелкие и крупные камни. В конце каждого ряда он садился на корточки и доставал из жилетного кармана красочные пакетики с семенами, обрывал уголок и, постукивая по пакетику, высыпал немного семян на ладонь. Сжав кулак, он разбрасывал семема, словно человек, бросавший игральные кости; низко нагнувшись или склонившись над грядкой, он краем башмака тут же присыпал землей брошенные в землю семена. Дойдя до конца ряда, он отыскивал палку, надевал на нее пустой пакет и втыкал в землю. Так ом посеял морковь и свеклу; в кармане пиджака у него лежали пакеты побольше: горох и бобы — и он тыкал палец в землю, проверяя, мягкая она или нет, и на дно каждой лунки опускал боб или горошину. Наконец, покончив с семенами, он нарезал от живой изгороди в конце участка прутьев и натыкал их над грядкой наподобие решетки; время от времени он останавливался и подходил к тому месту, где работал Колин, говоря, — А ну, давай поднажми — а то мы тут полночи проторчим, — вонзал лопату в землю и перевертывал тяжелую дернину. — Я бы сказал, что для начала они бы должны были вспахать это для нас. А так все равно, что гору копать. Поскольку Институт был рядом, многие проводили все время там и, как только он открывался, с раннего утра клали свои орудия и исчезали, возвращаясь за вилами или лопатами лишь к лэнчу, а что до отца Бэтти, так он растягивался на травяной горке на границе между участками и спал, храпя широко открытым ртом и вытянув руки по швам. — Я не против, когда пьют, говорил отец. — Но не люблю, когда человек не знает, что набрался. — Однако ж, разговаривая с мистером Бэтти, он, стоя подле него, почти застенчиво глядел в его красное лицо, приговаривая, — Верно, брат Тревор, — и смеялся, прижимая руки к бокам. Отец много возился с этим участком, уделяя ему то же внимание, с каким он шил или готовил во время болезни матери. Когда по улице проезжала телега молочника и за ней оставался навоз, он говорил, — Встань-ка, собери, — и вечером Колин в ведре относил его на участок и рассыпал по грядкам. Отец же отправлялся на какойнибудь соседний участок побеседовать с мистером Бэтти или мистером Шоу, добавляя, — Покуда будешь этим заниматься, можешь еще немного повыдергать сорную траву. Не успеешь повернуться, как она уже выросла. Часто в воскресенье или по вечерам, продолжив свою прогулку и забредя за Институт, тут появлялся, хотя сам он и не взял участка, мистер Риган со своей палкой, которую он неизменно прихватывал, когда намеревался выйти за пределы деревенской улицы или двора шахты, и, стоя у живой изгороди в своем котелке и опираясь на палку, говорил, — Нет, нет, входить я не буду, — и указывая на ботинки, которые у него неизменно блестели, добавлял, — Не хочу прибавлять старухе хлопот с чисткой. Если его появление оставалось незамеченным, он звал отца через живую изгородь, раздвигая палкой листву, — Да, Гарри, прекрасно у тебя тут выходит, — а когда прошло время и из-под земли показывались букетики темных ростков свеклы и под кружевной листвой ярко оранжевым засверкала морковь, — Ах, Гарри, да у тебя тут прекрасные всходы, — кричал он. И если отец вырывал одну из них, чтоб показать ему, прибавлял, — Ах, Гарри, я бы не возражал, чтобы завтра за лэнчем у нас на столе были такие, — удивленно качая головой, когда отец выдергивал несколько штук. — Ах, Гарри, это очень любезно с твоей стороны. Право, очень любезно, — и наклонялся через живую изгородь, чтобы их взять, или подходил к проходу и, удаляясь, держал за кончики ботвы, отставив подальше, чтоб не запачкать костюм. — А, ладно, все равно нам их все не съесть, правда? — говорил отец и неизменно выдергивал из земли еще несколько для своей соседки миссис Блетчли. Подошел 1951 год. Колин, которому исполнилось 18, только что закончил школу. Он недавно познакомился с Маргарет, и однажды они с девушкой отправились на загородную прогулку. Они шли лесом, продвигаясь на юг. По крошечной долине бежал ручей, образуя в конце озеро. С одной стороны озеро замыкали кусты рододендрона, с другой — свисали ивы, за которыми взбегали на взгорок гигантские буки. Вверх по долине ручей пробивался по маленьким лесным полянам. Направлялись они к открытому месту, лежавшему по ту сторону долины. Под ними простиралась широкая равнина, слева вздымался отвесный кряж, от которого начинался лес. Вершина его была закрыта деревьями, а склоны — кустарником. Они сели и открыли свои походные сумки. Какое-то время ели молча. Потом, почти лениво, она заговорила о школе. На будущей неделе ей снова начинать. — Большинству девочек все равно, что они будут делать, — сказала она. — Я хочу сказать, когда они кончат. Пойдут они куда-нибудь еще или нет. Не одно, так другое: или учителями или в медсестры. А кроме этого, вроде и нет ничего. — Она провела рукой по траве и откинулась назад в тени куста. — Все, что их действительно беспокоит, это выйти замуж. — Полагаю, в этом есть свои преимущества, — сказал он. — Вот как? — Ее серые глаза потемнели. — Не думаю. — Почему? — Жизнь женщины не должна ограничиваться замужеством. — Знаю, — отвечал он. — Но что же еще? — Да что угодно. Она должна быть женщиной сама по себе, еще до того, как станет об этом думать. — Но что может женщина? — сказал он, растянувшись на животе и глядя на нее снизу вверх. — Отчего бы ей не стать доктором? — Ты хочешь стать доктором? — Могла бы. Могла бы заняться языками. Я еще не решила. — Но, разумеется, тебе придется решить до конца недели, — сказал он, и рассмеялся. — Ты не принимаешь меня всерьез? — спросила она. — Да, — сказал он. — Конечно всерьез. — Но на самом деле снисходительно, не так ли? — Не думаю. Она подождала. — Но что может делать женщина? — сказал он. — Столько областей жизни не дало ни одной великой женщины, что это не объяснишь просто отсутствием возможностей. Подумай, сколько женщин вело праздную жизнь — у них было время заниматься живописью и музыкой, писать, думать, размышлять о любых предметах. Но из этого не вышло ничего выдающегося. — Потому что от этого никогда и не ждали ничего выдающегося, — сказала она. — Ты говоришь совсем как Марион и Одри. Все, о чем они думают, это роль женщины. Мужчины, мужчины и опять мужчины. — Так ты поэтому пошла со мной? — спросил он. — Нет, — ответила она. — Если я настаиваю на одном, это не значит, что я должна отказываться от другого. Он снова засмеялся. С соседнего дерева слетела вниз птица и после некоторых колебаний опустилась на траву и принялась клевать крошки. — По-моему, ты просто самодовольный человек, — сказала она. — А мне показалось, что, быть может, ты не такой. — Да нет, — сказал он серьезно. — Я хочу понять. — Ну что ж, ты хотел бы быть женщиной? — спросила она. — Нет, — сказал он. — Но это не честный вопрос. Я знаю, что никогда не буду женщиной. — А вот многие женщины, которых я знаю, хотели бы быть мужчинами. И это от простой неудовлетворенности. Не потому, что они хотят зачеркнуть себя как женщин, а потому, что с ними всегда обращаются, как с женщинами. — А как же с ними еще обращаться? — спросил он. — Как с людьми. — Она выкрикнула эти слова, и птица, испугавшись, с тревожным криком упорхнула на соседнее дерево. — Ты рассуждаешь, совсем как эти в кепках. [*Имеются в виду взгляды, традиционно приписываемые рабочим на севере Англии.] — Не знаю, — сказал он. — Не думаю. — По-моему, ты привык, что твоя мать всегда дома и обслуживает тебя. И твоего отца. — Ну, я не уверен, что она обслуживает. Но у нее нет другой работы, кроме домашней, — сказал он. Она легла на траву, положив руку под голову. — Может, я слишком погорячилась, — сказала она. — Неужели все дело в условиях, что среди женщин не было ни великих поэтов, ни композиторов, ни религиозных вождей, ни художников, ни философов? — спросил он. — А как могло быть иначе? — сказала она. — В человеке можно изменить все, если изменить условия, изменить отношения, согласно которым они живут. Сначала это — сознательный волевой акт. Я рада, что я женщина. Перед женщиной раскрыто все ее сознание. Он отвел глаза в сторону. На вершине кряжа показалась фигура мужчины с ружьем: он с минуту постоял там, глядя через равнину в ту сторону, откуда издали еле слышно доносилось пыхтенье паровоза. Потом он медленно потянул за козырек шапки и отвернулся. — И все же можно сказать, что, например, какому-нибудь Ван Гогу или Джону Клеру [*Джон Клер (1793–1864) — английский поэт] пришлось преодолеть более серьезные преграды, чтоб стать тем, кто они есть или кем стали, нежели, скажем, множеству женщин, которых не просто содержали их мужья, но которые располагали также и временем и возможностями, чтобы стать мыслителями, художниками, поэтами? — Боюсь, что ты чересчур закоснел в своих взглядах, чтобы понять, о чем я говорю, — сказала она. — Это подсознательное не дает или мешает женщине сделать все это, органически ограничивает ее. — Да, — сказал он и со вздохом, в котором слышалась досада, откатился прочь. — Ты куда? — спросила она. — Давай поднимемся на вершину, — сказал он, — и посмотрим, какой оттуда вид. — И, обернувшись назад, крикнул: — С минуту назад там был человек. С ружьем, — мгновение спустя из-за кряжа донесся звук выстрела. Добравшись до вершины кряжа, он подождал ее и, протянув ей руку, подтащил наверх последние несколько футов. По ту сторону кряжа тянулось узкое поле, а дальше, за ним, — полоска деревьев, спускавшаяся к озеру. Однако единственное, что было видно, это макушки деревьев, да глубокая, остроконечная лощина, по которой шла долина. Вдалеке, подобно синему пятну на бледном небе, выделялись очертания города. — Похоже на один из итальянских пейзажей, — сказал он, имея в виду удивительную прозрачность воздуха. Даже леса исчезали вдали, растворяясь во все более бледных оттенках голубого цвета. — До города по меньшей мере восемь километров. Они немного постояли на вершине кряжа, глядя назад, на тот путь, которым пришли. Внизу они увидели человека с ружьем — он шел по краю поля, посматривая на деревья. — Лесные голуби. Вероятно, на них он охотится. Из взведенного ружья показалось облачко дыма, а через несколько секунд прогремел выстрел. — Вот еще одно из мужских занятий, я полагаю, — добавил он. — Какое это? — Она издали посмотрела на него. — Стрелять. Да ходить на войну — ответил он. — Это тоже входит в условия? — Да, — сказала она. — Конечно. Снизу, из леса долетел слабый звук топора. За спиной у них, от подножья кряжа простиралась холмистая равнина, кое-где нарушаемая шахтами и лесами. — Она тоже подернулась голубоватой дымкой, точно они смотрели в котлован озера. — В этом смысле тебе должно быть трудно, — сказал он. — Я имею в виду такое деление мира, — добавил он. — В каком смысле трудно? — спросила она, и глаза у нее повеселели. — Даже если поглядеть на это, — сказал он, показывая на расстилавшуюся внизу картину. — Поля, форму которых определили мужчины и экономика, придуманная мужчинами. Работа, которую в основном выполняют мужчины. Изгороди, которые подстригают мужчины, железные дороги которые были спроектированы и построены мужчинами, для машин, которые изобрели мужчины. Шахты, где работают мужчины, давая топливо промышленности, которой управляют мужчины. Если разделить все надвое, этому, видно, конца не будет. — А как еще на это смотреть? — спросила она. — Что женщине, просто стоять рядом со всем этим и ждать? — Она не стоит и не ждет, — ответил он. — Она помогает это создавать. Маргарет рассмеялась. — Поразительно, как глубоко укоренились предрассудки. — Она направилась по тропинке, которая вела назад, к поросшей травой полянке. Следом за ней стал спускаться и он. Когда он добрался до крошечной полянки, она уже свертывала клочья бумаги и укладывала сумки. Она прихватила с собой термос с апельсиновым соком и теперь вылила остатки в чашку — пусть он допьет. — Это так чудно, — сказал он, наполовину смеясь. — Что чудно? — В ее голосе, предупреждая его, послышалась угроза. — Да перевернуть мир с ног на голову. Это вроде того, как если б вместо человеческих голов увидеть их ноги. Конечно, если б женщинам были органически присущи какие-то качества, те другие качества, про которые ты твердишь, они бы как-то проявились до этих пор. — Разумеется, они как-то проявились, — сказала она. Только у них никогда не было ни экономической, ни нравственной свободы, чтобы сделать с этим чтонибудь. — Не вижу, почему у них не было. — Он покачал головой. — В известном смысле у тебя и таких людей, как Марион или Одри, больше свободы, чем у меня. — Чтоб делать что? — Быть самими собой. — Я этого не понимаю. — С тех пор, как я что-то узнал, я только и делал, что выполнял приказания других. По обязанности получил образование; по обязанности выполнял физическую работу. Да я никогда, ни разу не сел — не мог сесть и подумать о том, что мне действительно хочется делать. Да я был вечно на взводе, точно заводная мышь, и как только завод кончался, появлялись родители или еще какое-нибудь начальство и заводили меня снова. — Может, тебя и угнетают, — сказала она. — Только по-другому. — Но я не стану из-за этого терзаться, вроде тебя. Я не стану все мазать одним цветом. — Все еще сжимая в руке чашку, которую она ему дала, он сделал неопределенный жест в воздухе. — Это все равно, что смотреть на жизнь одним глазом и проклинать всех, кто смотрит двумя. У тебя и таких девчонок, как ты, больше свободы, чем у меня когда-нибудь было. Она рассмеялась, качая головой, встревоженная тем, что она в нем пробудила. — Свобода быть тем, что уже за нас заранее решили. И ничего другого, разумеется. Призрачная свобода. А что до тебя, так ты можешь быть, кем захочешь. Ты даже можешь работать. — Я не вижу в этом никакой свободы. — Увидел бы, если б тебе было отказано в такой работе. — Во всяком случае, не вижу, кто тут может что-то изменить, — сказал он. — Поэтому-то ты не хочешь видеть, как кто-нибудь это изменит, — ответила она. — Тебе так удобно при теперешнем положении вещей. — Мне удобно? — переспросил он. Она засмеялась. — Людям всегда удобно. Они сопротивляются переменам. Это слишком многим грозит. Даже ты, будь ты действительно честен, признал бы это. — Что признал? — сказал он, хмурясь. — То, что я только что сказала: перемены тебя пугают. — Я не боюсь испугов, — сказал он и храбро встал, чтобы показать, как он настроен. — О, я не имею в виду, бояться трудностей, столкновения с неизвестностью. Бояться того, что ты представляешь собой как человек, когда тебя покажут таким образом, что ты ничего не сможешь понять. Ты видишь себя настоящим мужчиной, который вышел из мужской среды и поступает как мужчина; вот что вдалбливают нам в таких школах и таких домах, как наши. — Я вовсе не чувствую в себе этой мужественности, — произнес он. — По большей части я чувствую в себе сопротивление тому, чем мне велели стать или чем, мне казалось, я должен стать. — Ну ладно, по крайней мере на этом закончим один пикник, — сказала она, внезапно испугавшись того, что она приоткрыла. Она протянула ему сумку, небольшой мешок для провизии, и он повесил его себе на плечо. Свой завтрак он принес в бумажном пакете; она свернула пакет и просунула его в мешок. — Как потвоему, пойдем дальше? — добавила она, — Или вернемся домой? Storey David Malcolm, 1976 Журнал «Англия» 1978_03_№ 67