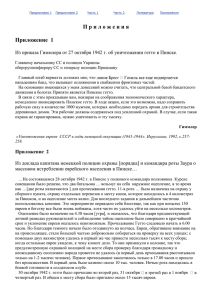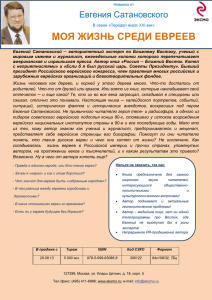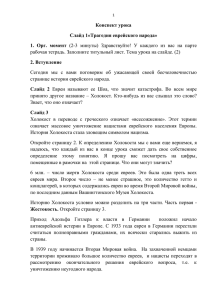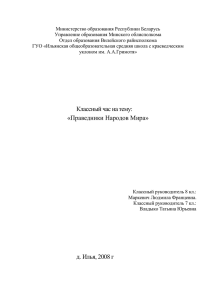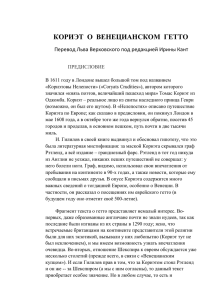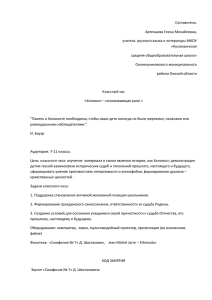книгу - Библиотека И.А. Подольного
реклама

И. Подольный ТАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА… Памяти моей жены Ольги Кристальной – Подольной (Третья редакция) 2015 1 НИКОГДА БОЛЬШЕ! NIEMALS WIEDER! «Такая музыка была…» - новая повесть Исаака Абрамовича Подольного. Главная тема книги - еврейский вопрос и Холокост. Предвижу - будущие читатели могут сказать - это устарело, об этом написаны тонны книг, стихов, симфоний… Автор опоздал - «поезд уже ушёл». Категорично скажу - нет и нет! Вспомним песню А. Галича - поезд стоит на запасном пути и по первому приказу он двинется, а адрес известен - Освенцим. Прозорливость поэта удивительна. Разгул так называемой борьбы с «космополитизмом», дело «врачейотравителей», послевоенные годы моей страны (46-53гг.). Неприкрытый антисемитизм поощрялся сверху. Сегодняшние всплески антисемитизма в разных районах мира. Пятна позора отмываются с большим трудом. Но обратимся к книге. Лучезарная юность главных героев – Сташека и Ханны закончилась 1 сентября 1939 г. Короткая война, поражение и уничтожение Польши как государства, фактический раздел страны между фашистской Германией и Советским Союзом. Осталось лишь в воспоминаниях время, когда «в душе царила музыка, покой и влюблённость, а над героями звёздное небо» (вспомним Им. Канта). Жизнь изменилась - вместо неба им пришлось заглянуть вглубь, в ад. Более того – и Сташеку, и Ханне - предстояло самим оказаться в «инфернальном мире» и испытать всю чашу человеческих страданий. Я музыкант и, естественно, заинтересовался ролью музыки в повести, состоящей из нескольких новелл. Она велика – не только, как связующая ниточка историй, рассказанных автором. Все три периода - юность, ад, душевное опустошение после войны - музыка различна. Юность - это классика: Моцарт, Чайковский и, конечно, Шопен. Ад - 2 часть Реквиема Dies Irae («День гнева»). Финал – Lacrimosa («Слёзы, лейтесь»). Таково моё восприятие музыкальной тональности этой книги. Конец книги печален - мечта стать музыкантами не состоялась. Печальна и судьба героев. Пришёл момент осмысления Холокоста - сколько погибло в печах будущих учёных, писателей, музыкантов. Нет этому ни забвения, ни прощения. После процесса в Нюрнберге было сказано, как припечатано «Никогда больше!». В любой книге, даже помимо воли автора, писатель виден читателю, как человек, как личность… Если одним словом обрисовать облик автора этой книги, то я бы сказал – доброта. Верю - книгу ждёт добрый путь к душам будущих читателей. Зодим Носков – концертмейстер симфонического оркестра Ленинградской Филармонии Санкт-Петербург 3 ОТ АВТОРА Во многих уголках мира мне довелось побывать. И везде услужливые гиды пытались расцветить свои рассказы мифами и легендами. Далеко не всегда эти мифы и легенды имели под собой реальную почву, иногда они выдавали желаемое за действительное. А иногда перепевали вечные исторические сюжеты, перенося их в пространстве и времени в иные города и веси. И, тем не менее, мне всегда доставляло удовольствие слушать рассказы гидов, пытаться найти в потоке их красноречия крупицы исторической правды, человеческих характеров и судеб. А ещё я любил слушать воспоминания людей о своих и чужих судьбах. Иногда они поражали откровенностью и непридуманностью, а иногда казались очень далекими от правды. Одним хотелось верить, несмотря на все невероятности сюжетов. Другие сознание просто отвергало. Так в Иерусалиме в Мемориальном комплексе Катастрофы и героизма еврейского народа Яд-Вашем я впервые услышал легенду, в которую захотелось поверить с первого слова. Вся она укладывалась в минутный сюжет. - В последний день существования гетто немцы послали полицая посмотреть, не осталось ли там кого-то из евреев. В самом дальнем углу подвала полицай услышал звук работающей швейной машинки. Старый портной продолжал крутить ручку, но в игле не было нитки, а вместо ткани под иглой была старая газета. - Что ты делаешь? – спросил полицай. 4 - Я пишу историю гибели моего народа. У меня нет карандаша. Но придут наши, проденут сквозь дырочки ниточку и прочтут горькую правду о судьбе нашего поколения! Эта притча поразила двумя идеями: здесь было извечное еврейское стремление сохранять из поколения в поколение память об истории своего народа, и вера даже в свой смертный час в то, что «…придут наши…», вера в бессмертие и победу. На конференции чудом спасшихся узников гитлеровских концлагерей я услышал в нескольких вариантах легенды, в основе которых лежал один и тот же литературный сюжет о Ромео и Джульетте. Перенесённый во времена Второй Мировой войны, он излагался рассказчиками весьма произвольно. Одни искали источники в реалиях Польши, другие – на украинской или молдавской землях. Третьи ссылались на еврейские судьбы в Израиле и в Италии. Так или иначе, это значит, что сюжет запретной любви в страшных условиях запредельного взаимного озлобления людей в условиях тоталитарных и военных режимов был и остается важным не только для литературы, но и для понимания извечной истины: любовь побеждает смерть. Но какой ценой? Какая-то часть информации осталась в памяти из рассказов тех немногих польских евреев, которые чудом уцелели в мясорубке Холокоста и после войны оказались в России. Прошли долгие годы, пока я решился соединить воедино услышанные легенды и на их основе рассказать о судьбах людей в абсурдном, но реальном времени Европы первой половины ХХ века. Все события и судьбы не придуманы мною. Все они могли быть похожими или даже были именно такими, хотя происходить они могли с разными людьми, порой нам неизвестными. И не обязательно в Кракове. Ведь только в Польше было более четырёхсот гетто. А Холокост никогда не бывает против одного народа: он всегда против всех! 5 Придуманы мной только имена героев этой печальной повести. - тем дам Я в доме Моём и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. (Пророк Исаия. 56.5) Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их, жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. (Пророк Исаия.56.7) 6 РОД РОМЕО. Нет, эта повесть вовсе не о розни враждующих кланов Монтекки и Капулетти. Она – о любви, любви Ромео и Джульетты! Начнём с рода Ромео. В старинном польском городе Кракове мирно проживала семья Яна Скоморовского. Так и остаётся не понятным, как имя музыканта, известного всей Польше, оказалось у ничем непримечательного булочника. Но он им очень гордился, рассказывая всем и каждому о своём участии в польско-советской войне 1919-20 года. Эту войну в России не любят вспоминать. После того, как была ликвидирована польская интервенция 1918-1919 годов на Украине и в Белоруссии, руководство России решило на штыках утвердить свои революционные идеи в Польше и Германии. 270-тысячное войско под руководством Ворошилова, Будённого и Сталина, как члена военного совета фронта, вторглись в Польшу, пытаясь захватить Варшаву и утвердить там советскую власть. Даже состав такого польского правительства был утверждён в Москве. Но случилось «Чудо на Висле»: вдвое меньшее по численности польское войско под руководством Пилсудского не просто отразило эту интервенцию, но и разгромило Красную армию с её легендарной Первой конной и героями Гражданской войны. Дело кончилось тем, что, во избежание полного разгрома, часть советских войск вынужденно перешла немецкую границу и была там 7 интернирована. Советская история умалчивает о роли Сталина в той войне. Вероятно, потому у советского руководства на всю жизнь сохранилось весьма тенденциозное отношение к Польше и её руководителям. А в Польше процветали антирусские настроения. Польские участники этих сражений весьма гордились своей победой. Пан Ян Скоморовский был из их числа, хотя его участие в войне было скромным: он служил в духовом оркестре польской кавалерии. Случайный осколок повредил правую ногу. Но награды, приличные пособия и преференции как инвалиду войны были весьма кстати и помогли утвердиться со своей бакалейной торговлей в одном из старых районов Кракова - Казимеже. Молодая красивая польская девушка из семьи, в которой многие мужчины становились ксёндзами, подарила пану Яну мальчика. Он страстно полюбил ребенка и мечтал увидеть его великим музыкантом. На самом видном месте в доме Скоморовских висела военная труба. Но по-настоящему пан Ян любил флейту. Самоучкой он освоил этот инструмент и научил играть на нём сына. А учиться по классу рояля университета мальчика определили к профессору Ягеллонского замечательной пианистке и педагогу Саре Гольбрайх, продолжательнице славных традиций школы великого Антона Рубинштейна. В кругу друзей отец любил прихвастнуть, на какие расходы ему приходится идти ради музыкального будущего маленького сына. В музыкальную одарённость мальчика он свято верил. «Имя Скоморовских должно звучать! Фамилия обязывает!»,- говорил пан Ян. В период между первой и второй мировыми войнами Краков переживал свой расцвет. Пан Скоморовский был уже хозяином нескольких бакалейных лавок и кафе. Торговля шла бойко. Человек практичный, он завёл в еврейском районе Кракова Казимеже кондитерские и кафе, где под надзором раввинов готовили кошерные еврейские блюда и сладости. 8 Своим друзьям и посетителям он любил рассказывать притчу о том, как дружили римский первосвященник папа Бенедикт VI с рабби Иегудой Галеви из Сарагоссы. Время до обеда они проводили в дружеской беседе и обсуждении религиозных текстов. А на обед расходились, чтобы принять пищу, приготовленную единоверцами. Однажды папа спросил еврея: «А не настанут ли такие времена, когда мы с тобой сядем за один стол?». «Конечно, настанут, тут же парировал еврей, - настанут на твоей свадьбе!». Город-красавец Краков всё больше напоминал одну из культурных столиц Европы. Две культуры, польская и еврейская развивались параллельно, не мешая друг другу. Ведь больше трети населения Кракова составляли люди иудейского вероисповедания. Мне же осталось только назвать имя будущего героя этой повести. В документе, выписанном отцу в 1922 году, значилось – «… сын - Станислав Скоморовский»: имя это должно было предрекать ребёнку будущую славу. Но для родителей и друзей он навсегда оставался просто Сташеком. СЕМЬЯ ДЖУЛЬЕТТЫ Настало время рассказать о семье Джульетты. Корни рода Коганов тоже были из Кракова. Отец, человек религиозный, служил при синагоге Исаака, построенной ещё в ХVII веке. Слыл он человеком высшей порядочности и отменного трудолюбия, но ортодоксом не был. Внешностью природа его тоже не обидела. Женили рано. Родные позаботились, чтобы и невеста была ему под стать, да ещё и с приличным приданым. Первенец родился тоже крупным и симпатичным. Мать выбрала ему имя Яков. На восьмой день моэль–обрезатель совершил обряд, пообещав младенцу 9 долгую и счастливую жизнь. Но где это видано, чтобы еврейские пожелания счастья свершались? Наняли в дом польскую няньку, а она проглядела. Шустрый мальчишка сломал ногу, и срослась она не очень удачно. Прихрамывал он при ходьбе заметно. Потому с годами вместо увлечения спортом мальчик увлекся чтением книг, а в гимназии природный ум, трудолюбие и обыкновенная еврейская одарённость к языкам сделали его любимцем педагогов. По чьему-то совету решили: быть молодому Когану врачом. Решили - и отправили учиться в Германию в один из университетов Баварии. К началу Первой Мировой войны он уже был старшекурсником, но перипетии войны и послевоенной разрухи оставили его без родительской поддержки. Приходилось ютиться в подчердачных коморках, за похлебку дежурить ночами в лазаретах, ухаживать за немощными стариками. Вместе с медицинским опытом приходило уважение горожан к чуткому и заботливому будущему врачу. Пользовался Яков авторитетом и среди однокурсников. Всем нравилось, когда он пел еврейские и польские популярные мелодии, а то переходил и на тирольские голосовые вокализы типа «Йодль» или песенку про усатого тирольского огурца. А студенческая компания в университете была самой интернациональной: со всей Европы съезжалась молодежь в Германию, чтобы получить врачебный диплом. После Первой мировой войны искалеченное поколение очень нуждалось в медицинской помощи. Однажды на каникулы пригласили Якова на свою родину шведские студенты. Там он тоже приобрел новых друзей, с удовольствием слушавших его песни. С тех пор он полюбил эту страну. Чего Яков не любил, так это политику. Он считал, что евреи вообще не должны вмешиваться в политические дела: они в диаспоре всегда будут чужими. Но в 1918 году в мире разразилась страшная эпидемия гриппа - «испанки». Только в Европе она унесла десятки миллионов жизней. Из Польши сообщили 10 трагическую весть: юный врач лишился по той же причине родителей. Возвращаться в Краков не захотел. В одном из маленьких баварских городков открыл свою практику. И здесь ему встретилась в синагоге еврейская девушкапианистка, дочь видного австрийского банкира, тоже умершего от испанки. Музыка их быстро сдружила. Свадьба не заставила себя ждать. Солидный взнос в синагогу придал новой семье вес в обществе. Родилась дочь, имя которой по еврейской традиции выбрала мать. Ребёнка назвали Ревеккой в память о погибшей от «испанки» бабушки. А когда девочка тяжело переносила какую-то детскую болезнь, по настоянию местного раввина ей дали ещё одно имя – Ханна. Многие и сейчас верят: как назовёшь корабль, так он и поплывет. Так и с людскими именами. Считалось, что на небесах у неё появился новый заступник перед Богом. Имя Ханна - от слова Хай, означающего жизнь. Есть и другая легенда: на одном из древних наречий оно означало «приятная, красивая». Любой из этих трактовок счастливые родители были рады. Так девочка и стала Ханночкой Коган. Мама для девочки стала первой учительницей музыки. Любимым занятием для папы было чтение книжек в укромном уголке детской половины дома, пересказы немецких, польских и еврейских сказок любимому ребенку. Так будущее юное дарование впитывало в сознание элементы мировой и родовой культуры. Экономический кризис, безработица и политические катаклизмы послевоенной Германии практически мало касались этого дома. Ни в каких митингах и политических акциях молодой доктор не участвовал. Но по вечерам в их доме часто собирались друзья, чтобы окунуться в мир музыки. Число пациентов только росло, а платы за консультации доктор Коган назначал самые приемлемые. Была в его кабинете и небольшая аптека: малоимущим сам 11 подбирал доступные лекарства. И никогда никаких нареканий доктор не имел ни от городских властей, ни от пациентов. Из Кракова друзья детства иногда писали о некоторых политических трудностях, но это были только намёки: кто же в те годы мог доверять бумаге свои откровенные сомнения и политические оценки? Так длилось до 1933 года, когда доктор Яков Коган впервые увидел на дверях своего дома нарисованную мелом свастику. Скоро свастика снова появилась, но уже нарисованная краской. Градус антисемитизма в этом маленьком городке, как и во всей Германии, повышался катастрофически быстро. Семья стала обсуждать вопрос, куда надо уезжать из Германии: в Австрию, где оставались кое-какие связи жены, или в Польшу, где в краковском Казимеже дальняя родня хранила родной отцовский дом. Были, конечно, и такие еврейские семьи, которые правдами и неправдами пытались уехать в Америку или Канаду, но таких «дальновидных» и достаточно богатых было совсем мало. Да и визы туда выдавали с трудом. После внутренних голосований и переголосований решился вопрос в пользу Кракова, тем более что доктору была обещана работа в еврейской больнице. Капитал, доставшийся от австрийского банкира, было решено оставить в швейцарском банке, известном своей надёжностью. Как-то так получилось, что в среде пациентов на новом месте Якова Когана стали называть не иначе, как «немецкий доктор». НОВАЯ, СЧАСТЛИВАЯ, НО КОРОТКАЯ ГЛАВА Эта новая, счастливая глава, к сожалению, оказалась короткой. Вот так семьи Монтекки и Капулетти века ХХ (то бишь потомственных поляков 12 Скоморовских и чистокровных евреев Коганов) оказались в одной стране, в одном городе, в одном районе Казимеж, и даже на соседних улицах. И никаких особых причин для вражды или национальной неприязни между ними не было. Напротив! Их дети скоро познакомились и подружились на уроках у местной знаменитости – пианистки и педагога Сары Гольбрайх. Случилось это так. Придя на очередной урок, Сташек ещё с порога услышал, что в классе кто-то явно разучивает «Революционный этюд» Шопена. Нет, наверное, поляка, в котором эти аккорды не затронули бы самые сокровенные чувства. Урок закончился, и в дверях показалась маленькая девочка с копной чёрных, как смоль, слегка вьющихся волос. На польское приветствие девочка, ничуть не смутившись, ответила с улыбкой по-немецки «Guten Tag!». Прижав к груди папку с нотами, она спокойно исчезла в дверях. Сташеку встреча показалась мгновенным прекрасным видением… Педагог, прежде чем начать урок, сказала: «Это моя новая ученица. Она недавно приехала из Германии. Удивительно одарённый ребёнок! Заниматься с ней – одно удовольствие. Только язык польский пока знает слабо». На следующий урок Сташек пришёл заранее и почти час из-за закрытых дверей слушал игру юного дарования. На Сташека в прихожей она посмотрела как на старого знакомого, с полным доверием, и даже попыталась приветствовать по-польски. Ещё через несколько дней Сара Гольбрайх пригласила учеников приходить на уроки вместе, чтобы «её дети» могли послушать друг друга. Любимым наставлением педагога было выражение самого Рубинштейна: «Рояль под вашими пальцами должен петь, как поют лучшие певицы мира!». И они старались… Педагог сразу поняла, что ей в руки попало редкое богатство: сразу два молодых дарования. 13 Но ещё раньше эти дети начали свою игру. Каждый раз, приходя на занятия, Сташек незаметно оставлял в пальтишке девочки маленькую шоколадку. А через несколько дней он обнаружил в своем плаще коробочку с ментоловыми леденцами, которыми немецкие врачи любили угощать маленьких пациентов. Это была игра, доставлявшая удовольствие обоим. И она не могла долго оставаться незамеченной чутким педагогом. Попробовали разучить пару пьес в переложении для четырёх рук. Получилось совсем неплохо. Фортепьянные дуэты опять входили в моду. Сара Гольбрайх в молодости жила в Петербурге, училась в консерватории. Она любила этот город, часто рассказывала о нём детям, но никогда не называла его ни Петроградом, ни Ленинградом. Все делала она для того, чтобы погасить в детях популярный в то время в Польше антирусский дух. Мечтала вырастить с годами фортепьянный дуэт и повезти его пианистическая школа гремела на весь мир. в Россию. В Советская доме Гольбрайх был радиоприемник. По вечерам она слушала передачи из Москвы и Минска. Даже придумала дуэту имя: «Стахановцы» - от СТАшека и ХАНночки. Только дети не могли понять игру слов, кто такие – стахановцы. Остановились на том, что это хорошие люди, трудолюбивые. Тонкий психолог, Сара Гольбрайх подметила в своих учениках самое главное - умение слушать и понимать друг друга в дуэте. Именно это умение слушать и понимать она стремилась поддерживать и развивать в них все последующие годы. Мама девочки, посетившая урок, стала первой свидетельницей успеха. Сташека пригласили в гости. Он с некоторым смущением впервые переступил порог дома «немецкого доктора». На родителей парень произвел хорошее впечатление. Со временем познакомились и родители. Яну Скоморовскому было лестно знакомство с высокообразованной семьёй Коганов. А «немецкий доктор» умел уважать людей, хорошо знающих своё дело и любящих музыку. Когда 14 разговоры приходили в политическую плоскость, начинался семейный юмор. Яков хромал на левую ногу, а Ян – на правую. Этим они объясняли возникавшие противоречия. Национальную тему не трогали. Польский антисемитизм существовал веками. В этот период он был чуть ближе к стадии дремлющей инфекции. Но в определенных кругах он всегда процветал пышным цветом. Так, в ряде университетов скамейки в лекционных аудиториях делились на польские и еврейские. Как было в Америке – для белых и цветных. В знак протеста евреи слушали лекции стоя. Некоторые преподаватели в гимназиях и университетах с особым пристрастием принимали экзамены у студентов-евреев. Потому евреям приходилось намного серьёзнее относиться к учебе. Потому и знания у них были лучше. Такова была логика жизни… Шовинизм, воинствующий национализм, как правило, особенно расцветают во время кризисов и войн, а эти годы были более спокойными. Ничего необычного не было в том, что с наступлением летних каникул Сташек и Ханночка чаще стали совершать велосипедные экскурсии по историческим местам Кракова, по его окрестностям. Иногда Сташек брал с собой флейту, и тогда девочка, что называется, на природе, с удовольствием слушала её мелодии. Одноклассники Сташека по гимназии позволяли себе шутить над странной парочкой, дразнили: «Ромео и Джульетта», а кто-то сказал «Поляк и жидовочка». Но Сташек быстро отучил насмешников. А пара действительно выглядела немного странной. Маленькая и хрупкая девочка-дюймовочка могла запросто спрятаться подмышкой не по годам большого и сильного парня. Только учитель физкультуры в гимназии постоянно внушал Сташеку, что музыка – дело не мужское. Он должен готовить себя по примеру отца к службе в армии, к защите Польши. 15 О чём говорили дети при встречах? В доме доктора Когана всегда было много книг. Ханночкина головка держала в памяти множество сюжетов. Рассказы девочки Сташек любил слушать. На первых порах ей мешало слабое знание польского языка, но он не позволял себе шутить по этому поводу даже тогда, когда ошибки были до слёз смешными. А когда Ханночка начинала свои рассказы на немецком, то они становились для Сташека дополнительными уроками к скромным гимназическим познаниям. Язык идиш с его немецкими корнями тоже был в их общении. Отец Ханночки научил Сташека играть в шахматы, а отцу Сташека доставляло удовольствие баловать девочку сладостями. Никто не досаждал детям какими-то моралями. А сам Сташек впервые позволил себе прикоснуться к волосам девочки едва ли не на втором году дружбы, да и то после того, как они вместе попали под проливной дождь. Польша тех лет уже слыла столицей европейского джаза. Варшава и Краков соревновались, кто раньше, кто лучше подхватит и исполнит новые джазовые мелодии. Дети очень любили слушать тирольские мелодии в исполнении Якова Когана: в такие минуты отец вспоминал свои студенческие годы и веселился вместе с молодёжью. И это увлечение не могло пройти мимо наших героев. Появился в их компании польский мальчик, умевший мастерски обращаться с ударными инструментами. Пригласили великовозрастного еврейского парня с саксофоном. И он безоговорочно признал первенство Сташека в коллективе. Репетировали чаще в доме Сташека. Пан Скоморовский любил слушать, а иногда даже снимал со стены свою заслуженную военную трубу или брал в руки флейту.. Пани Сара Гольбрайх, конечно, не очень одобряла эти самодеятельные занятия. Ей больше по душе была классика. Но время было такое… А у Сташека в характере постепенно формировались организаторские черточки. 16 Детская дружба с годами совместного обучения музыке, несомненно, вместе с усложнением фортепьянного репертуара и джазовых увлечений вырастала в нечто большее. К 1938 году они были уже концертирующим дуэтом. На их выступления собирались и прихожане костёлов, и члены еврейских общин при синагогах. Там и там восхищались люди: «Дал же Бог талант этим детям и счастье их родителям!». Особым успехом в Кракове среди молодёжи пользовались их джазовые концертирования. Закрепилось за группой имя «Сташек с друзьями». Однажды, после большого и успешного выступления, когда молодёжь долго приветствовала джазменов овациями, Сташек за кулисами впервые обнял и поцеловал Ханночку. Но это был скорее поцелуй общей радости, чем что-то большее… Друзья студенческих лет пригласили семью Коганов в Швецию. С позволения пана Скоморовского взяли с собой и Сташека. Исколесили всю страну. Еврейская община устроила небольшой концерт, после чего местный журналист написал: «Концерт украсил детский фортепьянный дуэт из Польши. Играли Шопена и Моцарта. Дети, как два алмазика, блестели на общем фоне. Хотелось бы их послушать лет этак через пять, когда они, несомненно, станут бесценными бриллиантами». Нельзя сказать, что вокруг ребят обстановка была идиллической. Старшего Скоморовского во время застолий в пивной друзья безо всяких стеснений упрекали за дружбу с евреями. Но у него был железный аргумент: кафе с еврейским меню приносили хороший доход. И ничего еврейского напрямую не проглядывало в их названии « Как у мамы…». В еврейской общине нечто подобное, но в более деликатной форме, приходилось выслушивать доктору Когану: «А не пора ли подыскать для Вашей дочери подходящего жениха?». 17 А в Европе уже тлели первые очаги пожара Второй Мировой войны. Из России приходили слухи о страшных политических репрессиях, косивших все слои общества. Из Германии немецкие коллеги доктора Когана со случайными людьми передавали рассказы о казавшихся чудовищными антиеврейских законах, погромах и репрессиях. Газеты сообщили, что только за два дня 9 и 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии нацисты разгромили больше семи с половиной тысяче еврейских бизнесов, сожгли около 250 синагог, убили 100 евреев, а 25000 арестовали. Позднее эту трагическую ночь назовут «хрустальной»: вся земля Германии и Австрии блестела осколками окон и витрин еврейских домов, магазинов и синагог, Таким страшным цифрам не очень поверили даже отпетые польские антисемиты, сочли журналистским преувеличением. Чтобы хоть немного успокоить общественное мнение, в своих газетах они писали: «Зачем убивать евреев? Лучше отправить их всех в Палестину, в Африку, на остров Мадагаскар, выгнать их из Европы, как их когда-то выгнали испанцы и португальцы, или сослать к чёрту на рога в сталинский Биробиджан». Но кто-то им ответил: «А кто тогда поплывёт открывать новую Америку? Кто будет гранить ваши алмазы?». Этот «кто-то» явно намекал: Колумб был из рода итальянских маранов, евреев, сменивших веру, но сохранивших уклад жизни. А Голландию на столетия прославили еврейские ювелиры, лучшие в мире гранильщики алмазов. Они, антисемиты, ещё не знали, что сами скоро будут убивать «своих» евреев. Наклонная плоскость национализма приведёт их к тому… Расистские законы в Германии коснулись даже таких «великих немецких евреев», каким был Фриц Габер. Этот родившийся в Польше химик своими открытиями в области синтеза аммиака обеспечил Германию во время Первой Мировой всеми взрывчатыми веществами и удобрениями. В 1918 году ему была 18 присуждена Нобелевская премия. Был он президентом авторитетнейшего в мире Немецкого химического общества. Имел все мыслимые и немыслимые титулы и награды своей страны и международных научных обществ. Гонорары за открытия сделали его мультимиллионером. Надеясь спасти Германию от позорного поражения в войне, исходя из патриотических чувств, он даже переступил все моральные устои, участвуя лично на фронте в газовых атаках немецких войск. Папа Коган в студенческие годы изучал химию по его учебникам и даже ездил в Мюнхен, чтобы послушать его лекции. Но нацистские законы в одночасье превратили крупнейшего немецкого учёного, патриота и солдата просто в бесправного еврея Габера, лишили работы и всех почестей. И так случилось, несмотря на то, что Габер крестился ещё в молодости и никогда не вспоминал об иудейском своём происхождении. В итоге он вынужден был бежать из Германии в Кембридж. Там никого не смущало его еврейское происхождение. Вообще, антисемитизм в Англии был мало популярен. Говорят, журналисты попросили Черчилля объяснить, почему так. Со свойственным ему юмором он ответил: «Просто мы не считаем евреев умнее нас, англичан!». Зато британские коллеги не могли простить Габеру участие в химической войне. И не случайно! Если заглянуть назад, то именно Фриц Габер изобрёл тот самый препарат «Циклон-Б», которым будут травить людей в газовых камерах! Но, как говорится, «…это уж потом…». Если бы Габер узнал, наверное, свёл бы счёты с жизнью в тот же момент… Учёный переселился в Швейцарию, где и скончался в одиночестве. Судьба «самого Габера» помогла многим в Европе увидеть звериную гитлеровскую ненависть к евреям. Когда доктор Коган рассказал историю Габера детям, Сташек впервые решился задать давно мучавший его вопрос о причинах государственного антисемитизма в Германии. До того ему были более или менее понятны истоки 19 бытового антисемитизма в Польше, видимые корни которого, на его взгляд, лежали не столько в религиозных разногласиях и идеологии, сколько в экономических проблемах, конкурентной борьбе и различиях в укладе жизни. Остается лишь догадываться, что мог ему ответить отец Ханночки… МЕЖДУ ДВУМЯ ДИКТАТУРАМИ Оказавшись между двумя диктатурами, Польша жила в ожидании каких-то перемен. Трудно бывает человеку расставаться со своим прошлым. Ещё труднее былое величие теряют государства. Человеческая память столетиями хранит обиды очень давнего исторического прошлого. Механизмы исторической памяти кроются, вероятно, где-то на генетическом уровне. Три Раздела Польши, случившиеся в конце ХV111века, привели к полной ликвидации некогда могущественной Речи Посполитой. Россия, Австрия и Пруссия позаботились в этих разделах максимально удовлетворить свои геополитические аппетиты. Тысячи поляков с семьями ссылались на север России, в том числе «в известную своим нездоровым климатом Вологду» (так писали польские журналы). Наша маленькая повесть – не учебник трагичной польской истории. Эта история навеки записана кровью поколений и хранится не только на полках документальных архивов, на страницах книг, но и во множестве устных семейных преданий, легенд и мифов. Наш рассказ – он о личных судьбах героев, имевших несчастье родиться в самые трудные моменты истории в самом трагичном месте. Одни пытались противостоять событиям, другие следовать их течению, а третьи искали выходы 20 из положений, не имевших выходов просто по определению. Многие действовали, как говорится, исходя из своих самых честных убеждений. Но часто эти убеждения оказывались на поверку заблуждениями. Кто-то жил с честностью не в ладах. Кто-то строил планы, а кто-то грустно шутил: «Хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах». Старшее поколение наших героев никаких особых планов не строило. Их тревожили большие и малые проблемы со здоровьем близких или трудности в управлении бизнесом. Век бы им жить только с такими тревогами! Но и эти тревоги вырастали иногда в трагедии. У мамы Коган обнаружилось неизлечимое заболевание крови. Это на неопределенный срок отодвигало уже ясную перспективу свадьбы дочери. Тревожила и растущая волна антисемитизма. Неужели придётся бежать и из Польши, как из Германии? И куда бежать? Другого глобуса нет… Скоморовского-старшего волновали катастрофически быстро растущие цены на муку и сахар. Сташек выбирал подходящий для себя факультет Ягеллонского университета Кракова. Музыку он оставлять не хотел, но пример «немецкого доктора» всё больше склонял его к уважаемой профессии врача. Ханночка не видела для себя другого будущего, чем занятия музыкой. Но то, что случилось в августе 1939 года, никому даже в жутких снах не снилось: появился пакт «Молотов – Риббентроп». Парадоксальный мир заключили коммунизм с фашизмом!!! Судьба Польши становилась ценой этого ненадёжного мира… Ни о каких секретных приложениях к пакту никто не знал. Не догадывались, что дни независимой Польши сочтены. Пакт подписали в Москве 23 августа. Советский Союз ратифицировал договор через неделю. И ровно 1 сентября 1939 года после заранее подготовленной немецкой политической полицией провокации регулярные части вермахта ворвались в Польшу. 21 Вот с этого момента и начался совсем другой отсчёт времени для всех наших героев. СВИДЕТЕЛЬ С НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА Глава вставная В иерусалимском комплексе истории Катастрофы и Холокоста Яд-Вашем посчастливилось мне встретиться и познакомиться с весьма пожилым человеком, про которого принято говорить, что он прошёл все круги ада. Польский еврей из Кракова был перед войной спортсменом, человеком, привыкшим к физическим перегрузкам и стрессовым ситуациям. Со спортивными делегациями он побывал во многих европейских странах. Хорошо помнил Берлинскую олимпиаду. «Именно там я впервые понял звериный, стадный дух фашизма. Я добровольно стал сотрудничать с польскими разведслужбами, но очень скоро понял, что их глаза были повёрнуты на восток больше, чем на запад. Коммунизм тревожил их больше нацизма! Ни карьеры, ни славы я там не добыл. Стал тренером тяжелоатлетов». В войну он изведал все муки ада от Освенцима до Маутхаузена. «Я ведь сам - ещё одно чудо мира: живой свидетель с процесса в Нюрнберге»,- сказал он без всякой театральности. Беседа наша продолжалась полдня и весь вечер до глубокой ночи. Рассказчик он был отменный, обладал прекрасной памятью, аналитическим умом, познаниями во многих областях жизни. Это было не просто интервью. Скорее откровенная исповедь, каждому слову которой хотелось верить. Только в самом конце нашей встречи, когда была опустошена последняя бутылка сухого 22 виноградного вина «Кармиель», старик дал понять, что он «имеет некоторое отношение» к Фонду Визенталя…». Этот Фонд занимается по всему свету поиском немецких военных преступников Второй Мировой. Излагая каждую легенду, каждый факт, отвечая на мои вопросы, он неоднократно повторял: «Не советую тебе писать обо всём этом. Ни в одном языке нет слов, чтобы адекватно передать ужасы пережитого ада. Жертвы тех лет скажут, что ты ещё не всё вспомнил. А молодые – не поверят. Скажут, такого не могло быть, потому, что не могло быть никогда!!! Наши страдания нельзя переплавить в слова! А если захочешь писать, пиши тогда, когда людей нашего поколения не останется». Меня же в той памятной беседе интересовали не просто события, а судьбы и поведение конкретных людей в водовороте событий. Легенды той встречи во многом легли в основу повести. Так как же могли встретить (или встретили) события сентября 1939 года наши герои? СТАШЕК Весть о нападении немцев повергла Польшу в шоковое состояние. Первой своё слово сказала молодёжь. Студенты и старшие гимназисты, поляки и евреи немедленно решили пойти на войну, спасать Отечество. Станислав Скоморовский не мог не быть среди них. В тот же день на призывном пункте им выдали солдатскую форму, сформировали команды и назначили командиров. Сташек попал в группу того самого учителя физкультуры, о котором уже была речь. Едва успев забежать домой, он бросился к Коганам. 23 Ночь перед отправкой на фронт они впервые провели вдвоём с Ханночкой. Дали слово встретиться после войны на том же месте и родить полдюжины детей. С первым же утренним поездом Сташек с командой отбыл на Запад. Но когда прибыли к месту назначения, фронта как такового они не нашли. С невероятной жестокостью преодолевая отдельные очаги сопротивления, бронированные колонны вермахта были уже в центральных районах страны. Старый усатый польский офицер, встретившийся на пути, сказал: «Ребята! Благодарю вас за службу. Но вы не приняли присягу, потому вы ещё не солдаты. Мой вам совет: немедленно снимите форму, переоденьтесь в штатское, а то немцы сочтут вас военнопленными и отправят в лагеря». Нечто подобное я слышал не от одного рассказчика. Война с немцами в Польше длилась недолго. Героических легенд она оставила мало. Правда, в некоторых местах немцы встретили серьезное сопротивление. Особое мужество проявили поляки при обороне полуострова Вестерплятте: защитники его вынуждены были прекратить борьбу только после того, как немцы применили против них мощные огнемёты. В живых остались немногие, а из немецких концлагерей домой вернулись лишь несколько человек. Но легенда о героях Вестерплятте жива в Польше и поныне. Из Кракова вернувшихся молодых добровольцев отправили на западную границу. И там безоружные ребята чуть не попали в конфликт с таким же отрядом Организации украинских националистов - ОУН. Парадокс ситуации состоял в том, что их, поляков и евреев «какие-то украинцы» обозвали угнетателями. И это в тот час, когда вся страна должна была объединиться для борьбы за независимость! В украинцах первые аккорды войны тоже разбудили националистические страсти. В момент патриотического порыва в группе Сташека не было видно противоречий и нетерпимости по национальному признаку. На кулаках 24 краковчане оказались сильнее. После такого «боевого крещения» они уже почувствовали себя отрядом. Авторитет Сташека, парня сильного среди сверстников, заметно возрос. А 28 сентября Польши на территории Европы и вовсе не стало. На Западе немцы создали Генерал-губернаторство, а на Востоке появились Западная Украина и Западная Белоруссия в составе СССР. А до того и польским войскам пришлось схлестнуться с отрядами ОУН. Война только настоящий патриотизм, но и всегда будит в людях не тот гнилой «патриотизм», за которым прячутся самые низменные, корыстные интересы и чувства. Остатки польской армии на востоке попали в русский плен. Может быть, поляки думали, что русский плен будет лучше немецкого? Не дано им было знать, что кончится он для одних – армией Андерса, а для других - в лесах под Смоленском… Легендой стали слова Сталина: «Ну что в том плохого, если на карте Европы будет одним капиталистическим государством меньше?». Злопамятный был человек: до конца дней своих он недолюбливал Польшу. СТАРШИЙ СКОМОРОВСКИЙ Когда немцы вошли в Краков, их первые же распоряжения содержали категорический запрет евреям заниматься коммерцией, врачеванием и юридической практикой. Среди прочих дел рухнула хлебная торговля. Старая присказка говорит: война – войной, а кушать хочется всегда… Немецкая комендатура немедленно нашла, кто из поляков может наладить выпечку хлеба, в том числе и для своих войск. 25 Для пана Скоморовского было полной неожиданностью, когда, как дар с неба, на него свалились все конфискованные оккупантами еврейские пекарни, мучные и сахарные склады, кафе. Приставили немецких интендантов и приказали немедленно наладить дело. Надо было нанять и обучить новых рабочих, наладить учёт, транспорт, торговлю. В хлопотах помогал Сташек. И всё это в условиях дефицита и неразберихи, всегда сопровождающей войну. Ежедневно пришлось контактировать с немецкой комендатурой. В Кракове пан Скоморовский быстро стал «большим человеком». А в глазах горожан - «прислужником оккупантов». Никакого права голоса в определении своей судьбы он не имел. Но и патриотические свои взгляды он не потерял. Чтобы как-то помогать инвалидным домам и приютам, да и знакомым полякам и евреям, приходилось понемногу «подворовывать» муку из немецких запасов. А ведь он раньше славился своей честностью. Конфликт с собственной совестью, с патриотичностью, наконец, с элементарной честностью разрешения не находил. Но… со временем отходил на второй план. Чёрточки традиционного польского стремления к независимости в нём сохранялись. Когда ближе к концу войны стали появляться люди, просившие поддержки для «польских патриотов», он помогал. И трудно было ему понять, где тут была «Армия Людова», а где «Армия Краёва». Помогал, как мог, всем. Но надежд больше возлагал на лондонское правительство в изгнании. А русских – побаивался. ДОКТОР КОГАН И ХАННОЧКА Всего в предвоенной Польше проживало около трёх с половиной миллионов евреев. Только в Кракове до войны жили от 60 до 80 тысяч людей 26 иудейского вероисповедания. Район Казимеж в городе считался еврейским. Свои старейшие синагоги, свои общины при них, свои школы, больницы, магазины и кафе. Наконец, свой еврейский музей и кладбище. Всё это создавало определенную атмосферу. И всё это рухнуло в одночасье с приходом немцев. Уже в сентябре были организованы принудительные работы для трудоспособных. В ноябре вышло распоряжение об обязательных белых нарукавных повязках с голубой звездой Давида для всех евреев старше двенадцати лет. За нарушение этого распоряжения назначался расстрел на месте. Закрылись все синагоги, а ценности и религиозные реликвии были конфискованы. Ну, а когда евреев стали переселять из Кракова в Казимеж, их дома, имущество и бизнес практически бесплатно стали передавать полякам. В народе говорят: даже собака не кусает руку дающего. Эти передачи весьма заметно охладили неприязненное отношение польских обывателей к немецким оккупантам. Район Казимеж был объявлен закрытым. Закрыли еврейские больницы. В душах злобствующих антисемитов не было места для сострадания к евреям. Но сами немцы боялись возникновения эпидемий в городе. Немецкий ORDNUNG всегда уважал чистоту. Ну, к кому оккупантам было обратиться, как не к «немецкому доктору»? Якова Когана доставили к коменданту. Тот с подчёркнутой любезностью сообщил, что ему оказана высокая честь возглавить в еврейском JUDENRAT – (юденрат – жалкое подобие самоуправления) - медико-санитарную службу. Вспомнили и его немецкое образование, и его авторитет среди населения. Можно представить, в каком состоянии был доктор Коган: буквально накануне умерла его жена, а хоронить её на еврейском кладбище не разрешали. В качестве великой милости комендант созвонился с СС-подразделением и выдал необходимый пропуск. Яков Коган даже не успел в тот скорбный час подумать, что и он становится частью оккупационного режима. Человек, всю 27 жизнь избегавший и даже презиравший политику, оказался втянутым в неё не по своей воле. Смысл жизни он потерял с уходом жены. К делам юденрата относился как не к своим. Ни во что не вмешивался, подписывал, практически не глядя, бумаги и распоряжения оккупантов. Общение со всеми знакомыми он прекратил. Это были признаки начинающейся депрессии. Единственное, что его тревожило, – будущее дочери Члены юденрата вынуждены были служить двум богам. Фашистский – грозил немедленными карами за малейшие отклонения от своих бесчеловечных, варварских законов. Другой – ни на минуту не освобождал совесть от заповедей человеческой порядочности и морали. Далеко не всем удавалось сохранить свое лицо в этих метаниях между Сциллой и Харибдой. Ханночку на похороны одели очень скромно, чтобы она не привлекла внимание немецких охранников и полицаев. Якову Когану приказали лечить евреев. Лечить поляков ему не разрешалось. Ханночка же лишилась главного в её жизни – рояля! Но был Сташек! Была их любовь! ТЕПЕРЬ О ПОЛИЦАЯХ Попадать полякам в еврейский Казимеж поначалу было несложно. Сташек почти каждый день виделся с Ханночкой. Непременно при нем был пакет с продуктами: Скоморовские делали все, чтобы продлить дни тяжело больной пани Коган. Иногда старший Скоморовский через Сташека продуктами и деньгами помогал Саре Гольбрайх. Лишившись всех своих учеников, старая женщина лишилась и всяческих средств к существованию. Как водится, у таких самозабвенных служителей муз никаких накоплений не бывает. 28 Но режим охраны района ужесточался с каждым днем. Объявили о создании польской полиции. И тогда на сцене нашей повести снова появился краковский Учитель физкультуры (будем назвать его так, ибо ему выпала заметная роль в определении судеб наших героев). Он предложил Сташеку пойти служить в эту полицию, которую народ назвал по цвету формы «Синей». Аргументом «за» было то, что в такой форме Сташек в любое время сможет проходить в Казимеж и видеться с любимой. Аргумент был тем более весомым, что в этот отряд поступили некоторые ребята, с кем Сташек «ездил на войну». А кто-то из их отряда оказался узником, запертым в Казимеже. Изнутри в районе немцы сформировали в помощь юденрату еврейскую полицию. Добровольцев на такую службу было найти трудно. Наиболее крепких парней вызывали в ту же комендатуру. Отказ от службы означал немедленную отправку в трудовые лагеря или на самые тяжёлые работы, а позднее и в лагеря уничтожения. Вот и попробуй не принять такое назначение. Но известно, что «власть невольника над невольниками» беспощадно развращает людей. И в польской, и в еврейской полиции находились свои садисты и вымогатели маломальских ценностей у несчастных обитателей гетто. Учитель оказался в полиции «при власти». Сильного и авторитетного среди молодых Сташека он сделал своим помощником, как бы старшиной команды, поручив ему важное дело - ведение всей документации и учета. Немцы требовали порядка во всем. Сташек с друзьями иногда наведывались в кафе его отца. Полицаи получали там угощение, и не всегда с них брали все положенные деньги. Сташек в кафе любил играть на флейте. Все это гарантировало в определённой мере особое положение парня в своем подразделении. Служили «синие полицаи» без оружия. Излишне не усердствовали, на многие нарушения немецких правил закрывали глаза. А люди между собой говорили: «Каждый устраивается, как может…» 29 СНОВА О ХАННОЧКЕ Всему миру известна история Оскара Шиндлера и его списка. После Второй Мировой он стал легендарной личностью. Ему удалось спасти от смерти около полутора тысяч краковских евреев, работавших на его фабрике. Настоящее гетто в Кракове немцы создали позднее, в марте 1940 года в пригороде Кракова Подгуже. Теперь туда выселили большинство евреев из Казимежа, создав в гетто совершенно ужасные условия для обреченных на голод, холод и вымирание узников. Одной из первых жертв в гетто стала Сара Гольбрайх. Когда евреев гнали из Казимежа в Подгуже, старая женщина едва плелась в конце колонны. Немецкий солдат не выстрелил, а только пнул её кованым сапогом. Идти стало ещё труднее… Койку она нашла около грязного туалета. Денег на пропитание не осталось. Родных и близких у неё не было. Никто одинокого человека не слышал и не понимал. На пике нервного срыва старая пианистка выбросилась из окна третьего этажа на каменную мостовую. Эта смерть страшно подействовала на Ханночку и Сташека. Показалось, что прервалась нить музыки, связывавшая их самих. Сташек всё чаще задумывался над тем, какому молоху приходится служить. В городе оставили лишь 15 тысяч тех, кто трудился на предприятиях, необходимых немецкой армии. На такое предприятие с помощью Сташека была устроена Ханночка. Небольшая чулочно-носочная фабрика была приспособлена для производства перевязочных материалов для немецких госпиталей. Больше того, Сташеку удалось выправить ей новые документы. Ханна превратилась в 30 Анну, а фамилию Коган изменили на Ганн. И значилась она теперь как фольксдойче, т.е. местной немкой. Свободный немецкий язык с лёгким баварским акцентом стал для неё пропуском для работы в администрации фабрики. Вот только выдавала её неарийская внешность. Приходилось перекрашивать волосы. Но для их любви со Сташеком это не имело значения. Кое-кого из своих школьных друзей-евреев Сташек тоже устроил в Казимеже на работу. Это пока гарантировало им жизнь. Но далеко не все хозяева фабрик походили на Оскара Шиндлера… Были и такие еврейские парни, которые с помощью Сташека вырывались из страшного ада гетто и уходили в подполье. Но их было мало: в случаях провала судьба Сташека сама могла оказаться трагичной. А Учитель физкультуры делал вид, что не замечает ничего подобного. Хозяином фабрики перевязочных материалов был поляк, приехавший из Варшавы. Он так и называл себя – Хозяин. Евреев он люто ненавидел, и потому на своём производстве установил драконовские правила. Любое нарушение немедленно каралось отправкой виновного в концлагеря. Он, вероятно, подозревал, что документы Анны Ганн поддельные. Но не спешил выдавать её эсэсовцам. Дело было в том, что Хозяин этот не упускал возможности некоторую часть продукции сбывать, как говорится, налево. Польские полицаи узнали и намекнули Хозяину, чтобы он не портил с ними отношения. Боясь лишиться приработка, он пока молчал. Но Ханночка всё время работы на фабрике перевязочных материалов вынуждена была жить в ежеминутном страхе и не давать поводов для придирок. Угнетение постоянным страхом было трудно переносимой пыткой для всех евреев, особенно для обитателей гетто. Сташек предлагал подумать о свадьбе. Для этого надо было невесту вовсе вывести из еврейского района, но она решительно отказывалась оставить одного отца, совершенно потерявшегося со смертью жены. 31 Но всё труднее было скрывать от обитателей гетто родственную связь Анны Ганн с «немецким доктором» из юденрата. Мешало и то, что многие польские полицаи знали Ханночку ещё по довоенным временам. Достаточно было одного доноса, чтобы установившееся относительное благополучие рухнуло. Очень тосковала Ханночка по своему роялю, но время было такое: не до музыки. Хотя, по легендам судя, в каждом гетто, несмотря на жуткие условия, были свои поэты и музыканты. В Краковском гетто многие знали с довоенных времён поэта-песенника и композитора, столяра Мордехая Гебиртига. Через Ханночку на Сташека пытались выйти члены еврейской подпольной организации «Сражающиеся пионеры». Хотя была эта организация слабой, не имела ни опыта конспирации, ни оружия, но ей удалось совершить три взрыва в кафе, где бывали немецкие офицеры. О существовании подполья в гетто Сташек догадывался. Иногда удавалось доставать по их просьбе немецкие бланки аусвайсов – пропусков. Иногда оставляли незамеченными проносимые в гетто предметы и продукты. Но – не больше. Ценой любой ошибки могла быть жизнь. Ханночку от этих контактов оберегали. ЦЕНА ЖИЗНИ Уже в мае 1940 года немецкий губернатор Ганс Франк объявил о том, что намерен сделать Краков JUDENFREI, т.е. городом, свободным от евреев. Из гетто постоянно отбирали наиболее трудоспособных людей на военные заводы. Их увозили в трудовые лагеря. Потом эшелонами стали отправлять женщин, стариков и детей в ближайшие отделения лагеря Освенцим. Их называли поразному - Бжезинка, Биркеннау. Но суть была одна. Евреи узнали, что это означало – на немедленное уничтожение. Обстановка резко обострилась. 32 Отряд полицаев Учителя физкультуры срочно перевели из Казимежа в Подгуже. Полицаи стали свидетелями, как эсэсовцы силой загоняют евреев в товарные вагоны, будто скот, отправляемый на бойню: 125 человек в вагон. При такой «упаковке», как говорили эсэсовцы, в вагоне можно было только стоять. Существует документально подтверждённая легенда, что именно в дверях такого вагона эсэсовцы застрелили поэта и песенника Мордехая Гебиртига. Постепенно ребята-полицейские из подразделения Учителя физкультуры стали понимать всю сложность собственного положения и положения своего командира, до той поры всячески старавшегося избавить их от карательных полицейских функций. Если раньше ребята служили без оружия, теперь им выдали советское трофейное. Приказали участвовать в облавах, стрелять в людей на поражение безо всяких предупреждений. Нашлось такие, кто дезертировал из отряда, а остальные – катились вниз. В отрядах польских полицаев появились обозлённые немецкие инструкторы из эсэсовцев, раненных на советско-германском фронте. Чем хуже становилось положение немецких войск на Восточном фронте, тем страшнее становился режим в гетто и концлагерях. Тем труднее было юденратам хоть в самой малой степени защищать интересы узников. В душах польских антисемитов и теперь не было места для сострадания к евреям. Людям в гетто ждать помощи было неоткуда. В еврейских гетто, как говорили сами немцы, резко повысилась «цена жизни». Сгоняемым в гетто несчастным не разрешалось брать с собой вещи и деньги. Но во многих краковских домах были какие-то семейные ценности и накопления. Наличные деньги евреи прятали в тайниках своих квартир, надеясь на возвращение, либо оставляли польским друзьям на хранение. Кто-то успел раньше перевести капиталы в швейцарские банки. Сложнее было с 33 драгоценностями: всеми правдами и неправдами их стремились взять с собой. Особую ценность представляли камни. В начале немецкой оккупации существовал приказ строго приходовать все конфискуемые еврейские ценности и произведения искусства, сразу передавать их в особые отделы оккупационных войск. За нарушение приказа грозили расстрелом даже своим офицерам. Постепенно о приказе стали забывать. Сташеку приходилось участвовать в учете ценностей, составлять описи. Нацисты привлекли к этой работе пару старых еврейских ювелиров из гетто. У них Сташек со временем научился понимать истинную ценность вещей. Но совесть не позволяла присвоить хоть малую малость из конфискатов. Находились же и такие сослуживцы, кто подсмеивался над его честностью. Отправляя людей на трудовую повинность или в лагеря уничтожения, нацисты и некоторые полиции самыми садистскими методами выпытывали у евреев их «заначки». Иногда эти выкупы помогали, но ненадолго. На первом же году службы в полиции Сташек однажды увидел на тротуаре в Казимеже лежащего немощного старика. На шее его была видна большая опухоль. Сташек поднял страдальца, помог добраться до дома, предложил булку, ту, что нес Коганам, но опухоль мешала старику не то, что глотать, но даже говорить и дышать. Из-под матраса едва живой старик достал железную коробочку, в которой завернутым в лоскут лежал осколок толстого хрустального стекла величиной с фалангу большого пальца. Сиплым голосом старик сказал: «Это - не хрусталь, а неограненный алмаз. Ты хороший и добрый парень. Людям этот камень доставил много бед. Возьми, и пусть он принесет тебе счастье после этой страшной войны. А до того никому не показывай». Через пару дней соседи старика сказали, что труп Бандита увезли, а куда – неизвестно. Еврейское кладбище было уже закрыто. «Почему – Бандита?» – спросил Сташек. Ответили: «Не знаем, но у него было такое прозвище с 34 довоенных времён. Он был страшным человеком. Его все боялись: Бандит, да и только! Мафия!». Камень Сташек спрятал в подвале отцовского дома. Спрятал, никому ничего не сказал. Только Ханночке успел шепнуть под одеялом при коротком свидании. Но до того ли было ей в тот момент? Рядом был ее любимый Сташек. Нечто подобное с выкупами позволяли себе не только рядовые полицаи, но и высокое немецкое начальство. Ближе к ликвидации Краковского гетто доктора Когана вызвали в немецкую комендатуру. Высокий генеральский чин из Берлина встретил с деланной улыбкой. Приказал подать кофе со сливками. Такая улыбка на его устах не предвещала ничего хорошего. В беседе он вдруг спросил: «А не тот ли вы доктор Коган, что в Баварии некогда лечил моих родителей?». Оказалось – тот! Генерал спрашивал подробности о прошлом доктора, интересовался историей рода. Дружелюбно спросил о жене и выразил сочувствия в связи с её потерей. Когда беседа подошла к концу, он вкрадчивым голосом спросил: «А какова судьба ваших вкладов в швейцарском банке?». Доктор растерялся. И в самом деле, он не знал ничего о судьбе вклада, да он и забыл о нём. Последовал уточняющий вопрос: «А ведь этот вклад мог бы весьма облегчить вашу жизнь! У меня есть некоторые возможности посодействовать в получении вклада через своих людей в Швейцарии. Советую подумать… И не только вам. Нам известны счета некоторых ваших единоверцев из Кракова». Думать пришлось не очень долго. Документы на этот вклад доктор ещё в 1940 году передал Сташеку, а тот спрятал их в подвале отцовского дома. Всё равно, в ходе войны банковские документы не имели никакой ценности. По совету доктора пара-тройка бывших зажиточных людей, кому он доверял, решила расстаться со швейцарскими бумагами… Общая их сумма была уже весомой. 35 Недавно в Интернете промелькнули такие слова: Основа нынешнего швейцарского богатства - не сыр, не часы, не туризм и даже не высокая репутация местных банков. Основа швейцарского богатства - нацистское золото и "спящие" еврейские счета. Эти "бесхозные" средства, инвестированные в экономику, и стали её локомотивом. Кажется, что в этих словах есть большая доля истины. Справедливости ради, стоит сказать, что в самом конце войны немецкий генерал все же помог доктору остаться в живых. Об этом рассказ ещё впереди. Но, как поведал собеседник в Яд-Вашем, в случае, весьма напоминавшем наших героев, уцелевший член юденрата, в результате перенесенных моральных и физических страданий, после освобождения впал в тяжелейшую депрессию и окончил жизнь в психиатрической лечебнице. А кого-то из юденратовских, просто, как пособников оккупантов, казнили победители. ГДЕ БЫЛЬ, ГДЕ ПРАВДА? ЛЕГЕНДЫ, ЛЕГЕНДЫ, ЛЕГЕНДЫ… Глава вставная Есть и другие легенды о спасении евреев в страшные годы войны. Всем известен героический поступок короля Дании. Когда в его страну пришли немцы и потребовали от евреев надеть нарукавные повязки со звездой Давида, он сам надел такую повязку и отправился пешком гулять по своей столице. Правда, другие источники говорят, что правительство Дании только пригрозило такой акцией неповиновения. На требование немецких нацистов лютеранский епископ Копенгагена ответил: «Мы должны сначала слушать Бога, а потом уж человека». Датчане 36 поняли эти слова правильно: в самые короткие дни на суденышках рыболовного флота и прогулочных катерах смогли переправить в нейтральную Швецию 7729 евреев. Швеция приняла их без всяких виз и никого немцам не выдала. Но ещё 464 еврея, не успели бежать, и были депортированы в концлагерь Терезиенштадт. Правительство Дании так настойчиво выступало в их защиту, что удалось спасти большинство. Некоторые историки обвиняют нынче датчан в том, что стоимость переправы беженцев была назначена в 100 долларов. Но это была для датских евреев – стоимость их жизни. В Иерусалиме на территории Яд-Вашем поставлен датчанам – ПРАВЕДНИКАМ МИРА памятник как спасителям евреев, а кто-то пытается упрекать их же в вымогательстве. Всё зависит от «кочки зрения». И уж коли идёт речь о легендах спасения евреев в Мировой войне, нельзя ещё раз не вспомнить о японском дипломате в Литве. Мне рассказали о нем еще в шестидесятых годах в литовском Тракае. Говорили, что он выдал спасавшимся от фашизма евреям около 2000 виз на выезд в Японию, откуда можно было добраться до Америки. Когда же по требованию Германии этого посла решили отозвать из страны, все последние дни он круглосуточно выписывал визы несчастным евреям… Перед его отъездом к послу пришли люди из Вильнюсской синагоги и поблагодарили за богоугодное дело: «Мы будем молиться, чтобы Всевышний вознаградил Вас и Ваших потомков!». Имени его тогда никто не помнил, но благодарная память о добром деле жила. Мне рассказали, будто на родине посла лишили званий и привилегий. Оставшись без средств, чтобы прокормить семью, бывший посол якобы открыл мастерскую по ремонту автомашин, и выросла эта мастерская с божьей помощью в фирму Мицубиси. Вот уж верно говорит еврейская пословица: «Виазой вилт зих, азой духт зих!» (Как хочется, так и думается). 37 Это теперь мы знаем истинное имя японского дипломата - Сугихара. Знаем и о его весьма сложном жизненном пути, на котором Господь и в самом деле не оставлял его без милости. Совсем иную роль сыграл другой посол. Группа состоятельных евреев в начале Второй Мировой войны приобрела большой пароход «Сент-Луис», чтобы с семьями покинуть Германию. Обратились за визами к американскому послу в Англии. Посол отказал этим людям в визах и сообщил в Америку, что к её берегам плывут незаконные мигранты. Их не принял ни один порт американского континента. Все страны отказалась принять несчастных беженцев… Пароход вынужден был вернуться в Германию. Практически все его пассажиры – 937 человек закончили свой жизненный путь в печах нацистских концлагерей. Когда случилась эта трагедия, лондонский раввин пришёл к американскому послу и сказал: «То, что Вы сделали, не достойно ни звания посла, ни звания человека вообще. Отныне Вы сами и весь Ваш род будет проклят в веках». Послом США в Великобритании в то время был один из рода Кеннеди. Трагичная судьба клана Кеннеди во второй половине ХХ века известна. Эти легенды под разным авторством часто публикуются в Интетнете. Но они основаны на документах того времени. Известны легенды о том, как вывозили еврейских детей из Австрии в Англию, как спасали евреев через Францию и Испанию. Известен факт, что Германия потребовала от своего союзника Финляндии депортировать в немецкие концлагеря всех советских военнопленных евреев. Главнокомандующий армией Финляндии, в прошлом генерал-лейтенант Российской императорской армии Карл Густав Эммануил Маннергейм не выполнил это требование. В старинном израильском городе Цфат встретился я со старым евреем, поведавшем мне свою историю. Родом он был из Советской Молдавии. С 38 приходом немцев и румын в июле 1941 года начались мучения его семьи. Евреев нещадно гоняли из лагеря в лагерь по страшной жаре, гоняли, не давая ни еды, ни воды. Убивали всех отстающих и немощных. Через каждые десять километров трупы сваливали в общие могильные рвы. В живых из семьи он остался один. Охрана состояла из немцев, румын и местных полицаев. Кто был страшнее – сказать трудно. Нельзя было понять, куда же гонят несчастных. В итоге некоторые попали в концлагеря, а другие – в гетто. Что творилось там, хорошо известно. Но ближе к концу войны несколько изменилось отношение румынских властей к евреям. Из Румынии пришёл железнодорожный состав, куда было приказано собрать всех еврейских детей, особенно тех, кто лишился родителей. А евреи знали, что немцы увозят людей из гетто в лагеря смерти. Детей ловили, а они всячески старались сбежать и спрятаться от румынских солдат. Когда же детей привезли в Румынию, почти всех поместили в больницы, хорошо кормили, окружили вниманием. Оказалось, что эта акция была осуществлена по инициативе румынской королевы-матери, противницы антисемитской политики военной хунты генерала Антонеску. Стараниями королевы были спасены и частично переселены в Палестину до четырёхсот тысяч евреев. Через много лет после окончания войны королеве-матери Елене было присвоено звание ПРАВЕДНИЦЫ МИРА. «А кому и какое звание нужно присвоить за гибель полумиллиона евреев в Молдавии, в Одесской области, на юге России, на землях, называвшихся Транснистрией, которые Гитлер подарил Румынии с условием, что они всех евреев там уничтожат?», - таким вопросом закончил свой рассказ старик. Для него это была не легенда, а самая настоящая быль. А человек ждал правды. И вспомнились слова поэта: Где быль, 39 Где правда? Что их в жизни делит? Мудрец ответил Только лишь одно: Быль – это то, что было в самом деле, А правда – то, что быть должно! Но пора нам вернуться к делам краковским. Многие люди, наверное, слышали легенду о Краковской «Аптеке под Орлом». Располагалась она на самой границе гетто. Парадным входом аптека была обращена к городу, а задний двор выходил в гетто. Со временем аптека стала еще одним, но тайным проходом из зоны смерти в мир. Через него молодые евреи уходили в партизанские отряды, а антифашистское подполье имело связь c узникам гетто. Иногда поступали так: польским полицейским выдавался аусвайс на десять евреев для работы вне гетто. Возвращалось обратно восемь. Составлялся акт за подписью полицейских о том, что два еврея убиты ими при попытках к бегству. Чтобы не вызвать подозрений, семьи устраивали поминальные молебны, принимали соболезнования. А те двое уходили к партизанам. Такое происходило не часто, но было… И никто не задумывался, что когда-то, после победы, документы полицейских батальонов попадут в руки правосудия. И доказать обратное, что не убивали, удастся далеко не всегда: многие партизаны вне стен гетто тоже погибали. Жизненная нить наших героев какое-то время проходила через Аптеку. Ханночка, она же Анна Ганн, привозила на повозке со своей фабрики в аптеку перевязочные материалы и должна была вывозить мусор с территории гетто. В мусорных бачках аптекарь прятал медикаменты, очень нужные в гетто. Канал этот работал непрерывно. Польские полицейские догадывались о чём-то, но и им нужны бывали лекарства… Возникала некая круговая порука. Сташек знал график приезда Ханночки и часто вызывался добровольцем на погрузку и разгрузку повозки. 40 Ещё один пакет продукции Скоморовского-старшего никогда не был лишним в гетто. Плохим бы он был кондитером и хлебопёком, если бы у него не получался хороший припёк! И оккупанты были довольны работой поляка. У него в кафе всегда можно было получить рюмочку-другую польской водки. Но опять-же, у людей были разные мнения: одни говорили, что хозяин аптеки Тадеуш Панкевич хорошо зарабатывает считать его на узниках гетто, а другие будут ПРАВЕДНИКОМ МИРА. Одни создадут в этой аптеке Музей Холокоста, другие его закроют… Эти и многие другие легенды до сих пор не перестают пересказывать в самых разных вариантах и давать им разные трактовки. Но для Ханночки и Сташека «Аптека под Орлом» и её хозяин на всю жизнь останутся в памяти светлым пятном: не просто легендой, а былью! УЖЕ ВИДЕН КОНЕЦ ВОЙНЫ Пой вопреки всему, наперекор природе, Ударь по струнам, пой, сердцами овладей! Спой песнь последнюю о гибнущем народе, — Её безмолвно ждёт последний иудей. Ицхак Каценельсон, узник Освенцима, герой восстания Всё чаще полицаев Краковского гетто стали отправлять на конвоирование еврейских групп в лагеря смерти. Стоя в оцеплениях, они воочию увидели, что такое газовые камеры и крематории. Повседневная работа машины уничтожения людей была так невыносимо морально и физически тяжела, что грязную работу в ней выполнять было поручено отпетым лагерным 41 уголовникам и потерявшим человеческий облик польским надзирателям. Все они понимали, что в скором времени и сами превратятся в пепел. Из каждой партии, прибывшей на уничтожение, назначались те, кому предстояло шагнуть на смерть последними. Их называли «Totengruppe», «Totenkomande» - команды смертников. Воля таких людей была парализована полностью. Они таскали трупы из газовых камер к печам. Направляемых на уничтожение встречал оркестрик из краковских евреевмузыкантов. Иногда охранники заказывали классические мелодии, но чаще издевательски звучала «Тум-балалайка»: Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка, Тум-бала, тум-бала, смейся и пой! Тум-балалайка, сердцу сыграй-ка, Пусть веселится вместе с тобой. Эсэсовцы стояли в стороне и только отдавали приказы Перед уничтожением люди должны были раздеться. И вот однажды на глазах польских полицаев и смертников произошло то, что потрясло их сознание и стало легендой. От группы еврейских женщин, привезённых, кажется, из Вены, отделилась полураздетая несчастная. Ей удалось чудом проскочить мимо охраны к группе немецких офицеров, наблюдавших за экзекуцией. В руке её оказался маленький дамский пистолет. Стреляла она почти в упор в первого попавшегося эсэсовца. Что было потом, трудно себе представить. Но этот поступок женщины был не просто актом отчаяния. Это был символ героического сопротивления. Так его трактуют легенды, живущие до наших дней. Легенду эту в похожих вариантах довелось мне слышать несколько раз. В деталях рассказчики расходились, но невыдуманность факта была очевидна. 42 В крымском санатории ещё в 60-70-х годах прошлого века бывший советский разведчик в нашей беседе утверждал, что героиня была актрисой одного из венских театров. А он тогда был в форме офицера РОА – Русской Освободительной армии – армии Власова в Варшаве. Его рассказы выглядели правдивыми и изобиловали фактами. От него же я впервые услышал, что и в этих невероятных условиях созревали восстания. Смертники в Освенциме даже взорвали одну из печей уничтожения. После победы в грудах человеческого пепла были найдены потрясающие предсмертные записки восставших: никто из них не хотел умирать безвестным. От того же разведчика, кажется, от одного из первых, я услышал БИБЛЕЙСКОЕ слово ХОЛОКОСТ - ВСЕСОЖЖЕНИЕ. Он вспоминал: во время такой экзекуции польскому полицейскому стало плохо. Случилась с ним истерика. Эсэсовский офицер тут же распорядился отправить его, нет, не к медикам, а сразу в концлагерь. Синюю форму и сапоги сняли. А ему бросили какие-то вещи идущих в газовую камеру. Больше о судьбе несчастного ничего не известно. В Кракове в массовых расстрелах марта 1943 года участвовали эсэсовцы и украинские полицейские. Тогда было убито до двух тысяч евреев. На центральной площади Краковского гетто была груда из ста детских тел: их расстреливали отдельно. Многих обитателей гетто постоянно отправляли на уничтожение в страшные лагеря Биркенау и Треблинку-2. В Освенцим последнюю партию евреев на уничтожение нацисты отправили всего за два дня до прихода Красной армии Участвовал ли во всех этих операциях наш герой Станислав Скоморовский, нам достоверно неизвестно. Архивы о том молчат. Оставим и мы этот вопрос открытым.… Встречаться с Ханночкой Сташеку удавалось всё реже и реже, всё меньше он рассказывал о своей службе. Мотался по 43 командировкам. Выглядел угрюмым и подавленным. Флейта была давно забыта, рояль – ещё раньше. При коротких встречах не было ни громких речей, ни страстных бурных эмоций. Не было рояля… Но было то, что всегда объединяло их, – они умели слушать и понимать друг друга. Они просто любили друг друга. Такая была музыка! В какой-то момент отцу удалось выторговать у знаменитого краковского профессора справку о серьёзной болезни сына, где было написано: «Нуждается в длительном отпуске для лечения». Ханночку было решено отправить с ним в дальнюю деревню. Но к пану Скоморовскому пришёл всё тот-же бывший Уитель физкультуры. Безо всяких обиняков он сказал, что на Сташеке завязаны некоторые контакты с подпольщиками, что в этих делах Станислав – его главный помощник. Война идёт к концу. Сташек не должен покинуть службу, но на случай провалов попросил пана Яна подготовить укрытые места для спасения подпольщиков. О некоторых делах Сташека старик иногда догадывался. Просил быть осторожнее, но думал, что всё там ограничивается манипулированием с продуктами, лекарствами и ценностями. Так старик и сам оказался участником сопротивления, хотя его никто и не вербовал. И снова этот выбор сделал не он сам. Теперь некоторые поручения ему давали через сына. А в последние месяцы войны Сташек вообще пропал и не давал знать о себе. Пан Ян не был политическим флюгером. «Куда ветер подует…» - это не про него. Но он, и не он один, оказывались щепками в водовороте событий. И трудно пану Скоморовскому будет отвечать на вопросы судей в послевоенных политических процессах. 44 ВЕРОЯТНЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЕБ В немецкой комендатуре Кракова служил майор СС, курировавший численность евреев в гетто. Его не любили и даже побаивались сами немцы. Говорили, что он из Мюнхенских фашистов первого гитлеровского поколения. Имел редкую награду «Für treue Dienst» - за верную службу, чем любил похвастаться. На лице этого нациста всегда была дежурная улыбка, но она была страшной. Говорят, что глаза – зеркало души, а у него души не было. Потому глаза были просто прозрачные. И был этот майор редким садистом. Он не втыкал иглы под ногти несчастных, не ломал пальцы, и даже не стрелял в людей. Ему доставляло удовольствие физические распоряжаться жизнями людей, видеть их моральные и страдания, страхи. Он постоянно манипулировал со списками отправляемых на работы или на уничтожение. Кто и как доверил ему эту «ответственную миссию», так и осталось неизвестным. Но он ею весьма гордился, и не только гордился, но и извлекал для себя большие выгоды. Даже получив какую-то мзду за исключение из очередного списка, он тянул до последней минуты, а то и вовсе забывал об обещаниях «немного погодить». Ему доставляло удовольствие отправить в Освенцим одного из старой еврейской пары, оставив второго страдать, детей отнять у родителей, жён отнять у мужей. Когда его просили исключить из списка чью-то фамилию, он иногда соглашался, но с улыбкой требовал в письменном виде подать прошение, указав в нём поимённо десять человек взамен исключённого. К прошению ещё нужно было приложить определённую мзду, и немалую. Доктора Когана майор возненавидел сразу. Чтобы и его замарать в глазах единоверцев, он ввёл такой порядок: на каждом списке отправляемых на смерть должна была быть подпись доктора. С иезуитской утончённостью он 45 предоставил доктору право заменять в списках одну-две фамилии. Так Яков Коган в глазах единоверцев становился вершителем страшных судеб и смертных приговоров. А потом и все репрессивные немецкие распоряжения майор дублировал и передавал на подпись «немецкому доктору». Доктор всё больше стал ассоциироваться в глазах евреев с нацистской властью. За полную пассивность в работе майор давно мог выгнать Когана из юденрата, отправить его на тяжелые работы, а то и в Освенцим, но он этого не сделал. Посадил ещё одного врача в юденрат и гонял его по всем поручениям. А сам продолжал наблюдать за тяжёлыми моральными страданиями бывшего «немецкого доктора». Синагоги в гетто не было, но евреи постоянно собирались где-то для молитв. Доктора там не видали: он чувствовал отношение единоверцев к нему. В юденрате знали, что он прячет в своём кабинете Тору. Иногда видели, как он беззвучно шевелит губами. Одни говорили, что он так молится. Другие - что за словами молитв ищет себе оправдание и прощение… После беседы доктора Когана с «очень высоким начальством из Берлина» эсэсовский майор немного опасался: «Кто знает, о чём они там говорили, и почему приказали подать кофе со сливками?». Старый служака понимал, что это неспроста. Война к 1944 году катилась к своему логическому концу. Советские войска оставили позади Сталинград, Курскую дугу, Днепр. Через Белоруссию дорога их легла на Польшу. И тут вновь из Берлина в Краков прикатил тот же генерал и снова приказал вызвать Когана. Новая беседа с глазу на глаз шла в тех же «дружеских» тонах. Генерал поинтересовался, бывал ли доктор в Швеции. Да, они с женой и дочкой отдыхали там в году тридцать седьмом или тридцать восьмом. «Дело в том, сказал генерал, - что принимается решение отправить из концлагерей в Швецию всех датчан, шведов, финнов и некоторых евреев, подданных этих 46 стран. Мы попытаемся включить и вас в эти списки. Ваши друзья в Швеции по нашей просьбе оформили соответствующие документы. Но есть одна трудность. В архивах МИД Швеции значится, что вашу дочь звали Ревеккой Коган. Такой мы не смогли пока найти в Краковском гетто». Уйти из гетто одному, без дочки доктор Коган никогда бы не смог. Встал вопрос: можно ли сказать генералу про поддельные документы? Как доказать, что все три имени - Ревекка, Ханна и Анна принадлежат ей одной? Как не выдать тех, кто изготовил поддельные документы Анны Ганн? Генерал вызвал того самого майора и, изменив тон разговора, приказал немедленно оформить немецкой женщине Анне Ганн документы на имя еврейки Ревекки Коган. Бывало, майора просили за очень большую мзду выдавать евреям бумаги, что они – не евреи. А тут - наоборот! На удивленный взгляд майора прозвучала сакраментальная фраза: «В интересах Рейха!». Против такой формулировки, как говорится, не попрёшь. Справка была готова немедленно. Кончая беседу с доктором Коганом, генерал положил на стол небольшой конверт: «На первое время…». Это должно было означать, что операция с вкладами удалась. Ещё через какое-то время, казавшееся узникам гетто нескончаемым, в Краков неожиданно пришли автобусы белого цвета с иностранными номерами и Красными Крестами. По списку они собирали людей, заезжая в разные концлагеря, гетто и рабочие команды. В списках на выезд в Швецию значились и отец Коган, и дочь. На сборы времени не дали. Сташека в это время в Кракове не было. Успели лишь пану Яну по телефону кое-как объяснить, что происходит. Тот сказал, что они с сыном обязательно будут ждать конца всех этих мешигас (что на языке идиш означало – сумасшедших времён). Это еврейское словечко знали все поляки. Но счастливый момент освобождения оказался началом больших новых потрясений для наших героев. Немецкий таможенный чиновник на границе в 47 самый последний момент нашел в документах Ханночки какие-то ошибки. То ли это были случайные опечатки, то ли их злонамеренно устроил майор-садист, теперь это не доказать. Чиновник приказал отойти в сторону и ждать. Таких несчастных оказалось всего несколько человек. Когда Белые автобусы с освобожденными ушли, никто не знал, что делать с оставшимися: не везти же их снова по всем лагерям. Решили: раз списки составлялись и утверждались в Берлине, туда их и надо доставить. Рыдающую девушку посадили в автобус с немецкими офицерами. У них был строжайший приказ не допускать с депортируемыми никаких конфликтов. Два молоденьких лейтенанта, явно - из политической полиции, пытались успокоить попутчицу. Пообещали помочь ей в Берлине. Еврейка, не еврейка, какая разница, особенно, если девушка симпатичная. Один из них сказал, что тоже в детстве учился музыке, и мама у него пианистка. Пригласили с дороги пойти в офицерское кафе пообедать, но у девушки кроме пары долларовых купюр, что дал отец, денег не было. Купюры, цены которым даже не знала, она просто подарила немцам. Ханночку немец отвёл к своей матери, сказав ей, что это какая-то важная персона: недаром же её освободили из гетто! Ханночка еле донесла голову до подушки… Утром, едва очнувшись от тяжелого сна, первым, что она увидела, был висевший на стене большой, писанный маслом портрет немецкого генерала в эсэсовской форме. Надменный взгляд генерала был направлен прямо на неё.… Надо было одеться, но, взгляд этот смущал… Попробовала перейти в другой угол комнаты, но, куда бы она ни двинулась, жесткие и холодные глаза с портрета всё равно были к ней словно прикованы… И вдруг она заметила: на комоде под портретом маленькую фарфоровую статуэтку – ангела со смиренно сложенными руками. Она тут же вспомнила рассказы отца о том, что в каждом немецкой семье должны были храниться фигурки ангелов – хранителей дома. Но фигурка ангела чудовищно не совмещалась с портретом надменного 48 генерала. Только позднее в тюремной камере, обдумывая всё, что с ней произошло, Ханночка поняла: маленький ангел на фоне генеральского эсэсовского портрета выглядел птенчиком в когтях страшного коршуна… Эсэсовская форма рядом с ангельским смирением – этот парадокс потом преследовал всю жизнь… Молодой лейтенант проводил Ханночку в МИД Германии. Там некому было заниматься неизвестной «важной персоной», и под охраной солдата её отправили в Главное управление имперской безопасности, в ведомство Шеленберга. Матерому немецкому контрразведчику, проводившему с девушкой первую беседу, рассказ ее показался довольно странным: такая молодая, а уже три имени! И что за генерал, которого она не знала, занимался её судьбой? И за какие такие заслуги её хотели отправить в Швецию? Откуда такой безупречный немецкий язык? И откуда у неё новенькие крупные долларовые купюры? Как у профессионала, возникли подозрения: может, хотели её куда-то внедрить?… Фактически, это был не допрос, а беседа. «Ладно, - подумал контрразведчик,- потом разберёмся». Что-то он слышал об этой депортации скандинавов. Но так и не понял, причём здесь евреи. Пока запросил из Кракова справку. А куда деть девчонку? Отправил в тюрьму Моабит, чтобы не убежала. И написал: «До выяснения обстоятельств». Так Ханночка снова оказалась за решёткой. А обстоятельства в конце войны было выяснять трудно, да и поздно… 49 МИССИЯ ГРАФА БЕРНАДОТТА Тут настало время прервать рассказ о судьбе девушки с тройным именем и от мифов и легенд обратиться к историческим фактам и документам. На последней стадии войны всем мыслящим людям стало ясно, что дни Третьего Рейха сочтены. Поняли это и в верхах Германии. Кое-кто стал задумываться о будущем и искать в нем своё место. В ближайшем окружении Гитлера нашлись те, кто устроил покушение на него, к сожалению, неудачное. Искали контакты с союзниками на Западе. О переговорах с русскими речи не шло вовсе. Для зондажа на Западе был выбран граф Бернадотт, чей род шёл еще от наполеоновского маршала. Нынешний граф Бернадотт был в родне с королевской династией Швеции, был влиятельным чиновником, одним из руководителей Международного Красного Креста. Через посредников он наладил тайный контакт с Гиммлером. Тот настаивал на переговорах с западными союзниками, а Бернадотт понимал, что без русских не обойтись. Серьезность своих намерений Гиммлер хотел подтвердить, согласившись отпустить из концлагерей 15 тысяч скандинавских узников и некоторую часть евреев, подданных этих стран. Операция проводилась почти секретно, без огласки и получила название «Белые автобусы». Но миссия Бернадотта на этом и кончилась. Переговоры были прерваны. Граф Бернадотт оказался неудачным переговорщиком. После войны он безуспешно пытался помирить евреев с арабами, но его предложения не могли устроить ни одну из сторон: нельзя соединить несоединимое. А еврейские экстремисты – есть и такие – не могли простить ему личные контакты с Гиммлером. В результате графа Бернадотта в Израиле убили. Ничего об операции «Белые автобусы» не могли знать ни доктор Коган, ни Ханночка. Но кто-то из нацистской верхушки захотел подзаработать на этой сделке. Выбор пал и на них. 50 СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ Кого-то тюрьма губит, а кого-то спасает. Берлинская тюрьма Моабит сегодня была для Ханночки спасением. Толстые стены спасали от бомбёжек и обстрелов. Плохо, но всё же кормили. Сокамерницы поддержали новенькую: в узницах жила вера в скорую победу союзников. «Не жалуйся и не проси!- учили они её. - Чем меньше скажешь, тем дольше проживёшь. Сейчас важно затеряться в толпе». Так и получилось. Но многих сокамерниц перед самым освобождением нацисты успели отправить «на ликвидацию». Ханночка мечтала скорее вернуться в Краков, чтобы искать Сташека и отца, но опытные узницы убеждали: уходить надо на Запад. Когда в первых числах мая ворота тюрьмы распахнулись, узницы оказались на улицах разбитого Берлина в тюремных робах, без денег, без крова над головой. Толпа их была интернациональной. Тут были угнанные на работы в Германию женщины всех стран. Практически не было еврейских женщин: до последних дней Рейха действовала машина первоочередного и поголовного истребления евреев, цыган и членов религиозной секты «Свидетели Иеговы». На Запад уйти не удалось. На сборном пункте при регистрации русский офицер мало что понял из рассказа Ханночки. Отправил её в Смерш: пусть там разбираются. Но и там еврейско-польско-немецкое прошлое Ханночки следователям показалось подозрительным, хотя ни об отце в Юденрате, ни о Сташеке в «Синей полиции» она не сказала ни слова. Тем не менее, погрузили девушку в вагон и отправили прямо в Россию, в «Центральный аппарат», т.е. на Лубянку. Очередной следователь оказался более понятлив, но и ему – никаких подробностей. Как учили сокамерницы в тюрьме Моабит: ни о Сташеке в синей 51 шинели, ни о юденрате, ни о немецком генерале, ни о новеньких долларовых купюрах… Запросы, теперь из Москвы, полетели в Краков и Берлин. Всё в показаниях польской еврейки Коган подтверждалось: никакая она не шпионка с тремя именами. Была такая фольксдойче – польская немка Анна Ганн и действительно работала на фабрике. Хорошо, что научили больше молчать… Суда не было, но дело надо было закрывать. Вот и появилось Постановление: «Отправить на спецпоселение». ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАЗАХСТАН Когда Ханночке объявили, что местом поселения для неё назначен Казахстан, она сокамерницы решила, что это где-то на юге, где живут казаки. Но быстро разъяснили, что казахи – не казаки, а Казахстан – это совсем другой край света. И добираться туда сложно. Этих сложностей Ханночка совсем не представляла. Русское значение слова «этап» очень отличалось от его первоначального немецкого и французского смысла. Когда в России вызывали заключённого и объявляли - «На этап», ничем хорошим для него это не могло обернуться. Путь начинался с пересыльных тюрем, где режим был самым жестким, и где в камерах царил уголовный беспредел. Там Ханночка лишилась практически всего своего скромного арестантского имущества. В поверженном Берлине она успела найти себе приличное пальто, платье, бельё и туфли. Здесь же всё это у неё отобрали, и очутилась она в заношенной арестантской робе и в ботинках без шнурков. Затем были вагонзаки со злыми конвоирами. «Вологодский конвой шутить не любит», - эту присказку знала вся страна, кроме Ханночки и ей подобных бедолаг. На пересадках звучала команда: «Всем сидеть!». И приходилось сидеть, будь то сырая земля, лужи на асфальте или снег. Вот где 52 она поняла в полной мере ещё одно тюремное правило: «Не жалуйся и не проси!». А ещё были страшные ночёвки в лагпунктах по дороге поселения. По казахстаннской степи их долго везли в кузове к месту открытой полуторки под дождём со снегом. Это было похоже на пытку. До места поселения из райцентра сопровождала «спецпоселенцев» местная милиция, и это уже было немного легче. На остановках местные люди приносили хлеб и вареную картошку. В России исстари был обычай сострадания к ссыльным и заключённым. Так Ханночка оказалась в дальней деревне в степях Казахстана, без денег, без тёплой одежды, без русского языка и без всякой надежды найти своего Сташека и отца. На пересылках во сне гетто ей иногда казалось раем: там рядом были свои люди… Был отец. Был её Сташек! ПОСЕЛЕНОЧКА Жить ссыльную к себе в избу взяли две сердобольные бабушки, потерявшие в войне мужей и сыновей. Натопили печь, накипятили воду и долго оттирали промерзшую до мозга костей «поселенку». Потом при свете керосиновой лампы тщательно вычёсывали её чёрные как смоль волосы частым гребешком с паклей, пропитанной тем же керосином. Из сундука достали чистое бельё, хранившееся «на всякий случай». Спать положили на печку, «чтобы косточки размякли». А всю её арестантскую робу сожгли в печи. Рядом с избой была небольшая ферма. Изголодавшиеся коровёнки стояли по колено в грязи. Из ссыльных председатель колхоза создал бригаду. Навели 53 элементарный порядок. Починили старую полуразвалившуюся баню, топившуюся по-чёрному. Вместо мыла из печной золы научили готовить щелок. Новый 1947 год встретили в сельском клубе, под который заняли брошенную избу. Ни электричества, ни радио. У кого-то нашлась гармошка. Ханночка научилась извлекать из неё простые мелодии, но они мало походили на популярные советские мелодии. Тоскливо, голодно и холодно, но иногда людям хотелось и попеть. Душа Ханночки с детства была необыкновенно чувствительна к звукам. Когда в долгие зимние вечера вдруг её бабушки начинали негромко петь, она становилась самым тонким и внимательным слушателем и ценителем. Незнакомые мелодии были заунывными. Пели на два голоса. Это были песни скорби, а не любви. Не все слова улавливала Ханночка. Но её поражало то, как эти женщины без всякого музыкального образования поют на два голоса и так исключительно точно слышат и понимают друг друга. Ни одной фальшивой нотки, ни одного отступления от мелодии. Она сердцем чувствовала в этих песнях трагедию их старческого одиночества. А бабушки уговаривали: «Ты, милая, попела бы с нами. Может, и полегчало бы тебе. Коли не можешь наши, попела бы свои, а мы послушаем». Бабушки по-своему любили «поселеночку», жалели. За годы советской власти люди в этих краях привыкли к слову ссыльный, а что такое антисемитизм, в их деревне не слыхали. Ханночке совсем не пелось… «Не проси и не жалуйся! Меньше скажешь – дольше проживёшь!», - это она постоянно вспоминала после берлинской тюрьмы. Кроме большого перекидного календаря за давно прошедший год других украшений в избе не было. Зато все бабушкины салфеточки и накидочки всегда отличались безукоризненной белизной. В красном углу висела икона. Бабушки часто, взглянув на икону, крестились и просили: «Дай Бог…». Рядом на стене в деревянной рамке под 54 стеклом хранились любительские фотографии бабушкиных мужей и детей, не вернувшихся с войны. К православным праздникам стекло тщательно протиралось, а перед иконой зажигалась лампадка. Свет её отражался в рамке с фотографиями. Икона с лампадкой и фотографии вызывали у Ханночки какоето особое чувство: словно случайная струна издавала тревожный звук в душе, словно боль от задетой старой раны щемила сердце. Но этот звук и эта боль были созвучны с чувствами глубоко верующих хозяек дома: икона помогала хранить светлую память… И вот однажды совершенно неожиданно ханночкина память четко сопоставила деревенскую казахстанскую избу с шикарной берлинской квартирой, в которой довелось ей переночевать только одну ночь в сорок пятом году… Ангел в когтях у эсэсовского генерала – там, а здесь – отражение божественного огня на старых солдатских образах… «Что ближе к Богу?» ответ был один… Поначалу бабушки удивлялись: «Почему ты не молишься?». Потом поняли, что Ханночка молится молча, закрыв глаза, как бы задумавшись. В такие минуты женщины старались её не беспокоить. Но бывали и тяжёлые минуты. В тёмные и холодные зимние ночи к деревне выходили стаи голодных волков. Волчий вой терзал душу. Он был похож чемто на сирены воздушных тревог в тюрьме Моабит, которые она слышала в Берлине. Ханночке казалось, что волчий вой - это плачь по ещё не убитым душам. В эти, минуты становилось особенно страшно… Но рано утром надо было снова идти на ферму. Такой же ссыльный литовский парень из соседней деревни попробовал свататься к Ханночке, но получил решительный отказ. Что бы там ни было, жизнь продолжалась, а в людях теплились надежды. Она работала. И её здесь уважали! 55 ЧЕТВЕРТОЕ ИМЯ ХАННЫ КОГАН Первый год в Казахстане Ханночка училась доить коров и понимать русский язык. Учителями были её бабушки и доярки на ферме. На второй год она стала понимать председателя колхоза с его специфической лексикой. А потом пришло время понимать и по-казахски. Но и немецкий, и польский, и идиш она не забывала. На третьем году выяснилось, что в школе-семилетке в соседней деревне некому преподавать немецкий язык. Предложили Ханночке переехать туда, но… не тут-то было: между этими деревнями проходила граница двух казахстанских областей. Поскольку ссылка Ханночке была определена в одну область, переехать в другую запрещалось. И пришлось ей в любую погоду один раз в неделю ездить или ходить пешком около десяти километров, чтобы провести уроки в Богом забытой семилеточке. И учеников-то там было всего около сорока человек. При всём том школа эта была непростая. Отличалась она своим совсем неоднородным педагогическим коллективом. Директором школы был человек с типичной для тех времён судьбой. Перед войной окончил на Украине педагогический институт. Преподавал математику и физику. В первые же дни войны ушёл в армию, получил лейтенантское звание и с маршевой ротой попал под Ленинград. А там – окружение и плен. Прошёл все круги ада, потом проверки в наших лагерях. Ему задавали один и тот же вопрос: столько пленных погибло, а ты выжил – почему? Не сотрудничал ли с оккупантами? Лагерный страх попасть снова под подозрение и на новые допросы родил желание уехать к чёрту на рога, подальше от властей… Вспомнил про солдатказахов из своего взвода, отличных ребят… гости.… Приглашали после войны в Укатил в Казахстан, женился на казашке, завёл детей и большое 56 хозяйство. Учителем он был хорошим, ещё лучше – директором школы, внимательным к детям, в меру требовательным к учителям, тактичным к односельчанам–родителям. Очень его уважали колхозники-казахи за то, что выучил их язык. Главной своей заботой директор считал поддержание в коллективе добрых отношений между учителями. А это было совсем непросто. Историю преподавала несгибаемая коммунистка, жена расстрелянного работника Коминтерна. Фамилия её была вполне еврейская, но при всяком удобном случае она говорила, словно оправдываясь: «Сама-то я русская…». Попала она сюда ещё до войны как ЧСИР, что переводилось как «член семьи изменника родины». Молох ежовщины и война не оставили в живых ни одного её родственника. Потому стала она постоянной жительницей Казахстана. И никакая ссылка не смогла поколебать в ней веру в коммунистическую партию и правое дело Ленина-Сталина. Соответствующий тон она задавала и на своих уроках, и на политинформациях, которые проводила в коллективе каждый понедельник. Поскольку в коллективе не было членов партии, историк добровольно взяла на себя функции парторга. А директор был рад тому: она умела писать отчеты о политических кампаниях в духе времени… Историк рассказывала детям о детских годах великого вождя товарища Сталина, о том, что он учился в духовной семинарии, но в Бога не верил.… А биолог прямо на уроке говорила: «Потому он и стал таким, как есть…». И можно ли было упрекнуть её за такие слова? Понимай, как хочешь… Этим учителем биологии и географии была весьма пожилая женщина из рода потомственных священнослужителей. Она никого не стеснялась: крестилась и молилась постоянно. В учение Дарвина не верила, и не скрывала этого. Сослали её сюда из Екатеринбурга-Свердловска очень давно. Все сроки ссылки кончились, но возвращаться ей было некуда. Своё презрительное отношение к советской власти не скрывала, на выборы никогда не ходила, чем 57 портила статотчётность о стопроцентной явке избирателей. Каждый раз приходилось директору прилагать справки о плохом её здоровье. А ещё она очень любила цветы. Около школы ежегодно на клумбах расцветали цветы самых разных сортов. Семена их тщательно собирались. Их раздавали школьникам. В результате на всех приусадебных участках колхозников со временем тоже появились клумбы. И если эти клумбы у кого-то оказывались плохо ухоженными, учительница биологии строго взыскивала с нерадивых. И не просто наказывала: она собирала группу учеников и сама шла наводить порядок. Пристыженные родители к своим цветам тоже стали относиться внимательнее. Председатель колхоза каждый год награждал учительницу грамотами: цветы и высаженные деревья очень облагораживали унылый вид степной деревни. Литератор – молодая студентка-филолог из Белоруссии - была выслана как пособница оккупантов: во время войны, очутившись на оккупированных территориях, она некоторое время служила в немецкой комендатуре. Этого было более чем достаточно для ссылки… Здесь она вышла замуж за бригадира колхоза, но мало была приспособлена к сельской жизни: её больше заботили свои маленькие дети. Уроки физкультуры вёл казахский паренёк, только что вернувшийся с армейской службы. Спортзала, конечно, не было. Потому все его уроки шли на улице: то футбол, то лыжи, а в непогоду - на турнике в школьном коридоре. Он просто играл вместе с детьми, а они его просто любили. Жил он одиноко при школе, отгородив угол в раздевалке. Еду готовил на старенькой керосинке. К учительнице немецкого языка он относился с особым уважением: когда заходила речь о ней, он произносил одно слово: «Краси-и-и-вая!». Русский язык он освоил в армии в пределах армейской лексики. В начальных классах работали две молодые выпускницы педучилища, русская и казашка. Завидных невест быстро выдали замуж. Теперь они, то 58 вместе, то попеременно, были в декретных отпусках или на больничных листах по уходу за детьми. Учителям приходилось постоянно замещать молодых мам. И никто не возражал: это была единственно возможная форма приработка к весьма скромным, а если точнее сказать, просто мизерным зарплатам. А тут ещё в школу пришла польская еврейка, не имеющая даже советского гражданства. Коллектив маленькой школы в чём-то повторял пёструю социальную картину советского ссыльного сообщества, а в чём-то и картину всего общества Советского Союза. Вот и попробуй в таком «интернационале» создать коллектив педагогов-единомышленников. Потому умный директор старался объединить коллектив на преодолении одинаковых для всех бытовых сложностей. Он завёл общий для учителей школы огород, и каждый в меру сил трудился на нём. И даже нередко устраивал в школе для учителей общие обеды с национальными блюдами. Трудное «равновесие личностей» в коллективе заменяло «единство взглядов», которого добивалась советская власть. А в итоге выпускники этой малокомплектной семилетки получали неплохую подготовку и с успехом продолжали учёбу в школе-десятилетке в райцентре. Для учительницы Ханны Коган день уроков в школе становился отдушиной: она быстро поняла, что нужна детям. Поначалу Ханночка стеснялась своего не слишком богатого русского языка. Но в школе учились и русские, и казахские дети. На её ошибки и оговорки мало кто обращал внимание. Зато доброта и внимание к детям не могли не тронуть детские души. На уроках она впервые за многие годы стала улыбаться. Теперь она была любимой учительницей чуть ли не для всей школы. Теперь её звали уважительно: Анна Яковлевна. Подружилась Ханночка и с учителями. Иногда бывала на их уроках – училась сама. Она ведь даже не представляла, как учат детей в России. От каждого из учителей она узнавала что-то новое о России и не переставала 59 удивляться! Надо было писать конспекты уроков. Учителя посоветовали: «Ты два слова по-русски, а потом все на немецком: проверяющие всё равно ничего не поймут». А отчёты за неё писала литератор. Дороги из её деревни в школу не было вовсе. Степь ровная, езжай куда хочешь, ориентируясь по солнцу или по мелким приметам, известным местным жителям. Иногда были попутные машины, иногда – повозки. Особо трудно было зимой, когда поднималась вьюга. Надев валенки, закутавшись с головой в тулуп, приходилось часами преодолевать на дровнях эти километры. Часто трудно было возвращаться обратно, особенно в буран и метель. Приходилось ночевать в школе. И тогда уроки Анны Яковлевны затягивались до поздней ночи. Иногда по дороге из школы до дома её вёз на лошадке учитель физкультуры. Ханночка просила парня что-то спеть по-казахски. У парня был небольшой, но приятный голос. Песни его были длинными, слегка заунывными. Незнакомые, ни на что ей известное не похожие мелодии постепенно завораживали. Хотя эти песни звучали непривычно для тех, кто не знал казахского языка, но и без слов было понятно настроение поющего … Видно, и парень понимал, что творилось в душе учительницы. Дорога казалась короче… При школе было некое подобие интерната для детей из соседних деревень. Печку-буржуйку в одной из комнат топили, не жалея дров. Разогревали чай и нехитрый ужин. Дети рассаживались прямо на полу и слушали сказки Андерсена, братьев Гримм, польские и еврейские сказки. Пришлось Анне Яковлевне вспоминать всё, что читал ей когда-то отец. Когда весь репертуар был исчерпан, дети просили снова и снова рассказывать уже знакомые, но полюбившиеся сказочные сюжеты. Особенно нравилась сказка о бременских музыкантах. Так в Казахстан проникала европейская культура. 60 А Анна Яковлевна просила детей по очереди читать по книжке сказки Пушкина. Ведь она их в детстве не слышала. И на уроках, и в долгих вечерних беседах Ханночка старалась воспитывать в детях то, чему её учила Сара Гольбрайх: умению слушать и понимать друг друга. Для этого многие сказки читали по ролям, учили наизусть. Через год Ханночка с удовольствием заметила насколько расширился и свой собственный словарный запас, и насколько свободнее стали говорить и общаться с ней деревенские дети. Она учила детей, дети учили её. Учитель физкультуры был непременным участником таких посиделок: видно, в детстве ему таких сказок не читали… В деревне, где все и всё друг про друга знают, по логике тех времен должен был быть человек, который должен был знать обо всех больше других. Таким человеком, вероятно, был завхоз школы. Никто не знал, каким ветром занесло его в эти края ещё в конце войны. Знали только, что в армии он был старшиной, и ранен был на Украине. В школе он был и завхозом, и столяром, и истопником, и сторожем. Директор школы где-то выпросил лошадь. Заморенная лошадёнка очень пришлась ко двору: дети её полюбили, баловали, как могли, дали имя Победа. Всем нравилось покататься на Победе. Кто приносил ей кусочек сахара, кто – морковку, а кто и ломоть хлеба. Лошадь эта кормила не только себя и своего хозяина–завхоза, но и учителей, обрабатывая общий огород. Завхоз был безотказен: кому дрова привезёт, кому – сено, а кому и другие нужды справит. Рассчитывались натурой. И вообще-то он был умельцем: крышу починит, печку прогоревшую, а то и простые часы-ходики. Потому был вхож в каждый дом. Выпивал он вмеру. Лишнего не болтал. Жил одиноко, хотя таких же одиноких женщин вокруг было много. Поговаривали, из-за ранения. Без него вся деревня, как без рук. Но почему-то народ его побаивался. Не случайно же приезжавшие из района участковые милиционеры только у него и останавливались на ночлег. Временами его вызывали в райцентр, но кто и зачем вызывал, не знал даже директор. 61 Иногда директор школы посылал завхоза на Победе за Анной Яковлевной. Всю дорогу он практически молчал. Но однажды, то ли выказал наболевшее сочувствие, то ли вопрос задал: «Вот и сидите Вы здесь, как в еврейском гетто!». Как хлыстом по голому телу полоснули эти слова… Но Ханночка сдержала себя, сделала вид, что его фраза прошла мимо её ушей. Слово гетто она здесь не произносила ни разу. На вечерние посиделки со сказками завхоз сначала приходил без спросу: чем там они занимаются? А потом стал непременным участником. Слушал с интересом: видно, в детстве ему тоже сказок не читали. Больше вопросов Анне Яковлевне он не задавал. Да и поводов сомневаться в её благонадёжности не было никаких. Но… бдительное око Ханночка почувствовала. Слава о новой учительнице в ближних деревнях переросла в глубокое уважение. Многие семьи приглашали её на ночлег после работы, дарили скромные, но по тем меркам весьма полезные подарки: то банку солёных огурцов, то ведёрко квашеной капусты, а то и баночку мёда. Дорогого стоили такие подарки. За работу в колхозе денег почти не платили, а начисляли трудодни. На трудодни выписывали муку, картошку, мясо и молоко. В школе же была зарплата, хоть и маленькая, но наличными деньгами. На эти деньги Ханночка покупала скромные сладости на «вечерние посиделки». К её бабушкам любили приходить одинокие женщины со всей деревни. Выпивали по рюмочке, и начинались воспоминания… А вспоминать-то было мало чего: как замуж выдали, как проводили суженых на войну, да как похоронки оплакивали… Многие и детей нарожать не успели. Потому и песни были на тех посиделках невесёлые. Но однажды на такой осенней посиделке Ханночка стала просить у женщин прощения. Удивились: «У вас - евреев тоже есть своё Прощёное воскресенье?» «Есть, только день этот называется День искупления грехов Йом-Кипур. У Бога мы просим прощения за греховность мира и суету, а у 62 людей - за возможный вред и обиды. Без людского прощения и Господнего не получишь. А другим не простишь - ещё больший грех на тебе будет». Женщины головами кивали – всё так, как у нас, только мы отмечаем этот день зимой. А у Ханночки на душе оставалась всё та же смута: как можно простить грехи тем, кто уничтожал её народ, тем, кто довёл до греха самоубийства Сару Гольбрайх? А как быть с теми, кто оторвал её от отца, кто лишил её счастья со Сташеком? Женщины успокаивали: «Ты такая молодая! Какие у тебя грехи? Не плач». Слёзы были на лице, но вслух о своих сомнениях она ни слова не сказала… Уроки немецкого языка в школе начинались с пятого класса. А в пятом учились только четыре ученика. К новой учительнице стали приходить и младшеклассники. Других учителей ждали семьи, а Ханночка никуда не спешила. Она никого не гнала от себя. Когда на третьем году Ханночкиной работы в школу приехали инспектора, они были удивлены: дети разных классов, и русские, и казахские к учительнице общались на немецком языке. Предложили учительнице поехать на курсы в столицу Казахстана: как-никак, а образования педагогического у неё нет. Но, опять же, милиция не разрешила покидать место ссылки, определённое Постановлением. Таковы были законы! А дети были просто влюблены в Анну Яковлевну. Она понемногу даже привыкла к своему четвёртому имени Порой, задумываясь о своей судьбе, Ханночка удивлялась: здесь в Казахстане она была вроде заключённой, без гражданства, без прав, без срока, НО и без колючей проволоки и стен, что были в гетто и в тюрьмах. Заключённая, НО она чувствовала то доброе отношение к себе людей, которого не испытывала с 1939 года. НО бывали моменты, когда она с дрожью вспоминала страшную дорогу в эти края, дорогу с пересыльными тюрьмами и открытой полуторкой под дождем со снегом. Эти «НО» постоянно давили на сознание. . 63 В долгие казахстанские ночи с мучающим постоянством, но всегда – неожиданно, всплывало чувство страха за судьбы двух самых близких для нее людей, страха перед совсем непонятным своим будущим, страха одиночества. Этими страхами она не могла откровенно поделиться даже со своими «бабулями». Ханночке очень понравилось это русское слово. И хотя «бабули» и в самом деле относились к ней, как к родной дочери, но временами одна другой говорили с горечью: «Что же это она нам не всё про себя рассказывает? За что бедняжку сюда заслали?». А знала ли сама Ханночка «За что»? Ханночка с детства помнила некоторые еврейские праздники, но узнать точные их даты было негде. Вспоминая праздник Хануки, зажигала свечи. Бабушки просили объяснить, в честь каких святых этот праздник. Ханночка им рассказала, что празднуется победа над злом. Кусочки яблок макают в мёд. Она помнила, как говорил папа: «Борьба со злом, когда это необходимо, благородное дело. Но цель жизни должна быть в другом: надо приносить людям больше света». Старушки кивали головами: «Какой хороший праздник! Наверное, потому ты и свечек поставила целых восемь». Нет, в этом забытом Богом углу вселенной встретились ей хорошие, настоящие люди! Нехватало только отца, Сташека … и рояля… Часто Ханночка пыталась для себя определить, на каком языке она думает. Когда вспоминалось счастливое детство, она думала по-немецки, думала о Сташеке – явно по-польски. Воспоминания об отце приходили во сне на языке идиш. Гетто – на смеси варварских немецких приказов и шепота на польском в минуты «ворованного счастья» редких встреч со Сташеком. Сама удивлялась: думать на русском языке она так и не научилась… Так тянулись казахстанские годы. Подходил к концу объявленный ей срок ссылки – восемь лет, и было совершенно неясно, что будет с ней дальше. Но обращаться куда-то с вопросами она боялась: помнила моабитский урок –«надо 64 затеряться». Власти не тревожили. Кто-то писал жалобы и прошения, а она молчала… Но опять случилось «НО»! Однажды почтальон из райцентра привёз пакет: Ханну Коган разыскивает Красный Крест. Так началась её новая дорога к дому, которого нет… деревню Откуда-то потребовали характеристику. С войны мужики в не вернулись. Рабочие руки – в цене! Очень не хотелось председателю отпускать толковую и работящую Ханну Коган. Но человеческая порядочность взяла верх: дал ей самую хорошую аттестацию. На дорогу выписал небольшую премию и новый стёганый ватник: как ни как, а человек едет в столицу. Через какое-то время пришла машина с уполномоченным райотдела милиции. Что же она сделала такого, что всю жизнь нашу Джульетту куда-то везут под неусыпной охраной? Джульеттой иногда её называли в лучшие времена друзья Сташека. В гостеприимном же Казахстане её знали и уважали как колхозницу Анку, стахановку. Пианистические пальчики научились хорошо доить коров. Фотография висела на Доске почёта. Снова вспоминала Сару Гольбрайх: теперь она точно знала, что значит «Стахановцы». Провожать любимую учительницу пришла вся деревня и вся школа во главе с директором. Дети скандировали: «Приезжайте к нам ещё!»… Односельчане пожелали найти родных. Уже сидя в машине, Ханночка подумала: а правильно ли она сделала, что за эти годы ни слова не рассказала ни бабушкам, ни детям о Краковском гетто? Везли Ханночку в Москву, а она так и не понимала: то ли срок ссылки кончился, то ли – опять допросы… 65 НОВАЯ ДОРОГА К ДОМУ, КОТОРОГО НЕТ В Москву она попала не скоро. Столица на перроне вокзала встретила бравурными маршами. Как вкопанная, Ханночка остановилась, глядя на колокол громкоговорителя. Не сразу даже поняла почему. Потом пришла мысль: «А ведь я не слышала настоящего радио с 1939 года!». Мгновенно память выстроила цепь: Краков - Казимеж - Краковское гетто – берлинская тюрьма Моабит – Внутренняя тюрьма в Москве на Лубянке – Казахстан – теперь снова Москва… Тринадцать с лишним лет, как небывало, вычеркнуты из жизни. Важно было узнать, кто её разыскивает. Запрос был от Международного Красного Креста. Простуженная, покашливающая, поселилась в мало благоустроенном общежитии Красного Креста в Москве. Посоветовали обратиться к врачам. Обнаружили начальную стадию туберкулёза. Ходила по инстанциям, а ответов на все запросы в Польшу и в Швецию нет и нет. Ей бы питаться лучше, лечиться, а она последние гроши тратила на бумаги и письма. В Красном уголке общежития грустно покоилось старое пианино фирмы Muhlbach, которое не настраивали со времён революции. Впервые за эти трудные годы Ханночка попробовала поиграть, размять задеревеневшие пальцы. Коменданту общежития нравилось, особенно, когда она пыталась исполнить полонез Огинского «Прощание с родиной». Хотя на этом инструменте полонез звучал просто кощунственно. Да и пальцы болели… Среди тех, кто разыскивал родных через Красный Крест, оказался настройщик роялей. Он бесплатно постарался оживить инструмент. Комендант общежития - сам ветеран войны и инвалид, жена перенесла ленинградскую блокаду. Сына потеряли на войне. Эти люди прониклись 66 симпатией к беженке. Стали приглашать к себе, подкармливали, помогли приодеться, как могли. Здесь она опять ощутила человеческое тепло и участие. Но, как ножом по сердцу, были для неё слова подвыпившего ветерана: «Ты у нас самая лучшая евреечка!». А ведь он вовсе не хотел её этим обидеть. И было это во времена «Дела врачей»… МУЗЫКА В ОГНЕ Всё же чуткими были эти старики. На день рождения Ханночки они сделали ей царский подарок: билет на концерт фортепьянной музыки в Большой зал Московской консерватории. Собирали Ханночку всем общежитием. Вошла в зал, как в храм… Играли участники международного конкурса. Слушала, как заворожённая. Особо – фортепьянные дуэты. В программе было много совсем незнакомых произведений. Поражала изумительная техника большинства пианистов. Когда же звучали знакомые мелодии, к горлу подступал комок воспоминаний о Кракове, о Саре Гольбрайх, о Сташеке … Хотелось плакать. Так ли тонко понимают друг друга пианисты сегодня, как понимали друг друга они с любимым? Моментами предательски душил сухой кашель, но она всячески старалась сдерживать его. Даже в антракте Ханночка не захотела выйти из зала: ей казалось, что она дышит воздухом, наполненным звуками. Закрыла глаза и …ужаснулась, как в страшном сне, увидев картину: концертный зал наполнен огнём! Ярким пламенем в воздухе горят… обрывки мелодий. Огонь пожирает звук!!! Как не закричала от ужаса на весь зал, она не понимала и потом. Концерт просто потряс Ханночку: это было Событие в её жизни! Ночью с закрытыми глазами она пыталась представить, как бы мог звучать их дуэт в таком зале… Измерила температуру. Ртуть замерла на отметке выше тридцати восьми 67 , СНАЙПЕР С КРИВЫМ РУЖЬЁМ В том же общежитии Красного Креста уже давно жил бездомный старый еврей, безуспешно пытавшийся найти хоть кого нибудь из родных. Он прошел всю войну, не однажды был ранен. Провел в госпиталях и больницах несколько лет. Его левая рука висела, как плеть. На поношенном пиджаке грустно позванивали многочисленные солдатские ордена и медали. Давно были получены справки о том, что весь род его сгорел в огне войны и Холокоста. Но он категорически отказывался верить. Твердил: «Ведь у моего отца было девять детей, и у всех были семьи. А одному на свете человеку плохо даже в раю!» Пенсия инвалида войны была мизерная. Комендант увидел в нём солдата, который как бы попал в окружение: хоть и среди своих, он оказался и без оружия, и без довольствия. Он дал ему половину ставки вахтёра. На другую работу инвалида нигде без московской прописки не брали. Такие правила были. Часто старик по вечерам приходил к Ханночке, особенно тогда, когда она чувствовала себя плохо. Приносил хлеб, молоко. Пили жидкий чай с дешёвыми конфетками. Старик произносил фразу: «Вот если бы удалось…». Но ничего ему уже в этой жизни не удавалось. Он весь жил прошлым, воспоминаниями о войне. Просил Ханночку рассказывать о её судьбе. Но она предпочитала хранить свои воспоминания в себе. А это всегда трудно… Ещё в берлинской тюрьме её учили: «Меньше будешь говорить, дольше проживёшь». Да и как она могла рассказать ему, что отец был членом юденрата, что Сташек служил в полиции… Старик сетовал: «А идишэ глик…», - еврейское счастье. Этого счастья не было у обоих. Но жить помогала вера в Бога! Иногда они вместе ходили в Московскую хоральную синагогу. 68 Старик жаловался на здоровье и читал молитву, заученную когда-то из «Сидур»: "Тот, кто благословил наших отцов - Абрагама, Ицхака и Якова, Моше и Агарона, Давида и Шломо, - благословит и исцелит так же больного… ради его благополучия, и в награду за это святой Бог, благословен он, преисполнится сострадания к больному и возвратит ему здоровье, и излечит его, и укрепит его, и вернет ему жизненные силы, и вскоре пошлет ему с небес полное исцеление: всем двумстам сорока восьми частям его тела и тремстам шестидесяти пяти его жилам - ему, вместе со всеми больными… исцеление душе и исцеление телу - сейчас, вскоре, в ближайшее время и скажем АМЕН!" . А там была ещё строчка: «…поскольку даст пожертвование…». Ни у него, ни у Ханночки не было ничего, что можно было пожертвовать. Но Бог был в их душах, и только на него можно было надеяться… А вдруг Бог пошлёт им хоть кусочек счастья? Ещё во времена войны довелось мне услышать в госпитале от раненых байку о еврее-снайпере, который стрелял в немцев из кривого ружья из-за угла. У одних эта легенда вызывала смех, а другие говорили, что был такой еврейснайпер, и на самом деле он был настоящим охотником, имел много наград. Может быть, Ханночку Коган именно с таким человеком свела судьба в общежитии Красного Креста. Грустно позванивали многочисленные награды ветерана. А у людей они вызывали удивление: внешность маленького, сутулого и щуплого еврея отнюдь не соответствовала плакатному образу героя войны. Он и сам любил пошутить над собой. Каждый раз, представляясь людям, он говорил, будто извиняясь: «Фамилия моя самая антисемитская - Хаим Рабинович». «Счастлив тот народ, который умеет шутить над самим собой!», 69 говорил Шолом Алейхем. Именно Рабинович и стал постоянным слушателем музыкальных занятий Ханночки. Весь он был полон воспоминаниями о прошлом. Воспоминания заменяли ему пустоту одиночества в настоящем. Историю свою он поведал Ханночке позднее, в долгие и скучные вечера ожиданий результатов безуспешных поисков родных. К началу войны жил он на юге Украины в Кировоградской области. Была у него семья: мать-старушка, жена и две дочери. До Октябрьской революции ни в одной стране Европы евреи никогда не имели права владения землей. Советская же власть на целинных землях юга Украины решила создать колхозы и переселить в них безработных евреев из других регионов. За десять лет там возникли образцовые хозяйства, собиравшие богатые урожаи хлеба, имевшие большие стада коров. А были ещё и образцовые виноградники. В каждом доме - свои сады. Миф о том, что евреи будто бы не хотят и не могут работать на земле, быстро был развеян. Украинские колхозники трудились и жили бок о бок с еврейскими, и никаких конфликтов там не было. Играть на скрипке научил Хаима Рабиновича ещё в детстве дедушка, и стал он хорошим «слухачом»: нот не знал, но любую мелодию, раз прослушав, мог воспроизвести достаточно точно. А дочек учил в музыкальной школе. Хаим Рабинович собрал маленький оркестрик. Еврейские клезмеры (музыканты) играли в сельском клубе, на всех свадьбах и торжествах, а голосистые украинские женщины пели в хоре вместе с русскими. Хаима так и звали в селе: «Идэлэ мит зайн фидэлэ» - еврейчик со скрипочкой. «Любили нас не просто за то, что мы играли, а за то, что работать умели, людей любили и уважали», говорил инвалид. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве многие получили награды. Хаим Рабинович возглавлял бригаду виноградарей, и 70 наградили его медалью «За трудовую доблесть». По возрасту он уже давно не подлежал призыву в армию. Но в июне сорок первого его, как «Орденоносца», военкомат назначил старшим группы женщин и стариков, мобилизованных на рытье противотанковых сооружений. Жене он успел только наказать: всё бросай, и немедленно уходите на восток. Девочек-школьниц расцеловал на прощание… Мало что успела сделать его бригада: никто им не мог даже объяснить толком, что, где и как надо копать… И в первую же бомбёжку Хаим Рабинович был легко ранен и контужен. Попал в армейский медсанбат. А через пару недель он уже стоял в строю вместе с молодыми солдатами, хотя никакой присяги не принимал. Солдата с медалью отправили в сержантскую школу, но и её он не окончил: бросили на передовую заткнуть очередной немецкий прорыв. А оттуда занесло его, южного человека на Северо-Западный фронт в незамерзающие болота и снега. По сравнению с солдатами он смотрелся стариком, да и медаль мирных времён вызывала уважение у взводных. В старшины он не годился: не умел отдавать команды, и голосом был слабоват. Сделали кашеваром: вот тут он оказался вроде бы на месте. Солдаты звали его «наш дед». Однажды в их взвод прислали снайпера. Это была совсем молоденькая девушка, почти ребёнок, потерявшая всех родных в Ленинградской блокаде. Удивлялись солдаты, как ловко она одного за другим уничтожала врагов: чуть выглянул, и нет его…. Девушка же объясняла, что до войны училась играть на скрипке: потому умеет очень плавно нажимать на спусковой крючок. Наш дед опекал девушку, как мог. Но недолго пришлось ей воевать: шальная миномётная мина сразила её наповал. Больше всех горевал Хаим Рабинович: уж очень она напоминала ему дочерей… И попросил старый еврей дать ему оставшуюся без хозяйки снайперскую винтовку. Он ведь тоже умел играть на скрипке… В первый же день на виду 71 всего взвода застрелил немецкого солдата. Так и повелось: день он кашеварит, а чуть сумерки – выходит на охоту. Когда его собственный счет достиг первого десятка, доложили наверх. Оттуда прислали медаль «За отвагу». Когда уничтожил двадцатого фашиста, вызвали в штаб дивизии. «Как это у тебя так ловко получается?» - спрашивают. А он говорит: «У меня есть свои секреты. Про меня говорят, что я – еврей, и потому умею стрелять из кривого ружья из-за угла. Обычно снайперы выбирают позиции под кустиком или за каким-то укрытием. Вот снайпера там и ищут. Немцы тоже думают, что я где-то там спрятался. А я лежу на самом открытом месте, в незаметной ложбинке или в воронке и жду, когда в сумерках немцы теряют бдительность. Выстрелю и потом долго жду темноты, чтобы вернуться к своим. А боевое охранение тем временем тоже постреливает, чтобы мой выстрел не звучал одиноко. Потому и жив до сих пор». И только Ханночке он признавался, что творилось в душе его в томительные часы «охоты». «Что же война делает с человеком? Никогда бы в жизни не поверил, что буду убивать людей! Жена меня всегда ругала за то, что я курицу не мог зарезать. Но люди ли те, в кого я стреляю? Вот что я решал …», - говорил он скорее для себя. Дано ли было Ханночке понять это до конца? По всей дивизии пошла слава о хитром еврее-снайпере. Командир приказал беречь: каждую неделю его стали переводить из роты в роту, чтобы немцы не могли засечь позиции снайпера. Подарили новую винтовку с оптическим прицелом, выдали новые маскхалаты, новые валенки, полушубок и трофейный бинокль. А пленные рассказали, что из Берлина вызвали специального охотника за снайперами. Но очередное ранение он получил, когда мина прилетела чуть ли не в котёл к кашеварам. Опять – госпиталь, И опять маршевая рота, но в другую часть. А он командиру своей дивизии, генералу написал: «Возьмите обратно!». И ведь взяли! Но на 72 передовую не пустили. Сказали: «Учи других, молодых». А он опять к генералу: «Кого угодно буду учить, только девочек больше не присылайте!». На всю жизнь запомнил ленинградскую девочку, и очень он переживал за судьбу своей семьи. Когда его часть попала на Курскую дугу, из взвода он уцелел едва ли не один: их накрыл залп немецкого шестиствольного миномёта. Маленький осколок чиркнул по медали и улетел куда-то. А ведь мог и в сердце попасть! Старик рассказывал: «Вот тут-то я окончательно поверил, что есть еврейский Бог, и хранит он меня для других дел: должен же я был отомстить за гибель семьи». Ему уже написали, что эвакуироваться они не успели. «Как снайпер, я всегда действовал в одиночку: в атаки не ходил. Моё дело было – охота на офицеров и пулемётчиков. За Курскую дугу получил Орден Славы. За Днепр получил второй. И всегда приговаривал: «Это вам - за моих родных! Это – за ленинградскую девочку-снайпера! Это – за мой взвод убитый». Так дошёл я до Польши, так участвовал в освобождении филиалов Освенцима. То, что я там увидел, словами не передать! После Освенцима стал говорить: «Это - за мой народ!». Но где-то около Кракова потерял, видно, бдительность: немецкая пуля разбила плечо». «На фронте,- продолжал он рассказывать Ханночке, - я чувствовал себя человеком. Солдаты меня уважали: в землянке мне всегда уступали тёплое место у огня. Старшины и взводные в лишние наряды не гоняли. Награды были у многих, а про мою довоенную медаль на треугольной подвеске спрашивали все: такую мало кто видал раньше. Однажды прислали к нам нового взводного. У взводных век на войне был недолог. Новый оказался щёголем: в полушубке, начищенные сапоги. Прибыл, и давай командовать. Меня в первый же день – в боевое охранение. Старшина ему говорит: Хаима Рабиновича не надо трогать: он – снайпер. Ему завтра на охоту выходить… А взводный шумит: нечего давать евреям поблажки! Вы все 73 в моём взводе должны быть снайперами! Увидел мою медаль на необычной треугольной планке. Что это за украшение такое? - спрашивает. А я встал, гимнастёрку одёрнул. «Товарищ лейтенант! Разрешите доложить: это медаль «За трудовую доблесть». В Кремле вручали». Из землянки его как ветром сдуло. Солдаты довольны: хорошо ты его на место поставил. Приволокли разведчики однажды пленного немецкого солдата. А у него оказалась губная гармошка. Научился на ней выдувать нехитрые мелодии Хаим Рабинович. Услыхал ретивый взводный. Командует: «Отставить! Негоже русским солдатам под немецкую дудку плясать!» Пришлось на время трофей спрятать от начальства. Этот эпизод Хаим Рабинович вспомнил и рассказал Ханночке много позднее, когда услышал песню «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». «А взводный по траншеям бегает, не пригибаясь, бесшабашную храбрость показывает. Встретил я его один на один в траншее. Говорю: вы бы, товарищ лейтенант, каску надели: ведь и у немцев есть снайперы! Он только выругался и побежал дальше. А вечером пуля немецкая угодила ему в голову, но не убила, а только по черепу чиркнула. Крови, как из барана. Отправляют его в санбат, а он ругается: это меня еврей сглазил. Солдаты говорят: а ты не горюй! Горбатого могила исправит. Теперь он без каски никуда соваться не будет». Вскоре и Рабиновича опять ранило. После долгих месяцев в госпиталях поехал он на родину и там узнал страшную правду: семья его эвакуироваться не успела: немцы захватили переправы через Днепр. Все евреи села были уничтожены в ближайшей балке эсэсовцами и местными полицаями. И никакого памятника на месте расстрела нет… Оказалось, что некоторых из полицаев он до войны знал лично и никогда бы не подумал, что станут они убийцами его семьи. 74 Кого-то после войны поймали, кто-то скрылся. А многие соседи и сейчас живут в тех же домах, что и до войны. В его доме жила незнакомая семья, встретившая инвалида косыми взглядами: а вдруг он захочет дом отобрать. Там ведь и мебель стояла ещё довоенная… У одного из соседей увидел своё пианино, сиротливо грустившее в углу хаты. «Возьмёшь?»,- спросил сосед. «Куда?», - на вопрос вопросом ответил Хаим Рабинович. Он твёрдо решил не возвращаться. Давно были получены справки о том, что весь род его сгорел в огне войны и Холокоста. Но он упрямо отказывался верить. Он продолжал убеждать всех работников Красного Креста, а пуще всего – самого себя: «У отца было девять детей, и у всех были семьи. А одному на свете человеку плохо даже в раю!». Эту фразу он любил повторять. «Теперь я кто? Ржавый осколок войны…», - грустно вздыхал ветеран. Такова была его печальная дорога к дому, которого нет…… ЗДРАВСТВУЙ, ШВЕЦИЯ! Видно, Бог и в самом деле услышал их мольбы! Настало время перемен. В России в ту пору менялся политический климат… В марте 53 года умер вождь народов. Закрыли «Дело врачей». Даже в милиции теперь Ханну Коган встречали доброжелательнее, а сочувствовавшие люди из Красного Креста ещё больше старались помочь. К осени 1954 года получили, наконец, ответ: в одной из социальных лечебниц Швеции найден Яков Коган, бездомный и безработный, живущий на минимальное пособие и поддержку малочисленной еврейской общины. 75 Как же Ханночка удивилась, когда выяснилось, что ещё со времён миссии Бернадотта Ревекка-Ханна Коган числилась гражданкой Швеции. Раньше узнать это мешала всё та же путаница имён. И как радовалась, когда шведский консул вручил визу и билет на самолёт! Провожал её один единственный человек, для которого это расставание было ещё одной тяжёлой потерей, - тот самый бездомный еврей из общежития Красного Креста. И каково же ей было увидеть отца немощным, обездвиженным скелетом, обтянутым жёлтой кожей. У него даже не было сил обрадоваться этой встрече. Он только погладил Ханночкину руку и беззвучно заплакал. Жизненные силы покинули его давно. Земные дни были сочтены. Он был ещё одной жертвой войны и Холокоста. В общине рассказали, что Яков Коган страшно переживал потерю дочери, долго находился в депрессии, постоянно плакал. С трудом из депрессии вывели его давние друзья студенческих лет, но «немецкого доктора» совсем добило поступившее из Польши требование выдать военного преступника Якова Когана правосудию Краковского воеводства… Не выдали, но и спасти от моральных и физических терзаний не смогли: человек сломался окончательно… Ханночку тоже положили в больницу, пытаясь остановить полыхающий уже туберкулёз. По ночам она молилась, прося еврейского Бога найти и спасти её польского Ромео. А днями больше молчала. О встрече она уже и не мечтала: лишь бы он был жив. На письма Яну Скоморовскому ответов тоже не было. Лечение шло медленно. В таком подавленном настроении, в таком нервном напряжении лекарства помогали больной слабо. Свершалось то, чего она так боялась в казахстанской ссылке… Незаметно прошло ещё года полтора … Однажды в еврейской общине её встретил тот самый журналист, что помнил выступление их дуэта со Сташеком в 38-м году. Это он назвал их тогда алмазиками. Спросил: «Может быть, Вы нам что-то сыграете?». Ханночка 76 спокойно ответила: «Последние пятнадцать лет наши алмазики гранили не те ювелиры…». Хотел этот журналист взять у Ханночки интервью. Просил рассказать «о жуткой русской ссылке». Ханночка тоже ему отказала. Она в памяти держала не страшные дни и месяцы тюрем и пересылок, а годы доброго отношения к ней простых людей в России. Решено было отправить Ревеку-Ханну Коган на лечение в Израиль. ЖЕСТОКИЕ И АБСУРДНЫЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА… Тёплый и сытный Израиль не показался Ханночке раем. Ни родных, ни знакомых кругом. Другой язык и нравы. Вывески написаны буквами, похожими на рыболовные крючки. Нет рядом учеников – русских и казахских детишек, так любивших слушать её сказки… И пианино рядом нет, чтобы излить в музыке свою боль и тоску. И нет Хаима Рабиновича, верного друга и чуткого слушателя, поклонника её таланта… Написала ему письмо. С того письма-то и началась цепь новых человеческих страданий и мучений. Переписка стала для обеих одиноких душ постоянной необходимостью, заменой личному общению. У Ханночки созрела идея вызвать Хаима Рабиновича на постоянное жительство в Израиль. Для того она назвала Хаима своим близким родственником. Эти годы были временем массовой алии (возвращения) европейских евреев в страну. Декларация независимости Государства Израиль открыла двери всем желающим для репатриации. И только Советский Союз ещё не до конца приподнял свой железный занавес… 77 Получив такой вызов, Рабинович отправился во все соответствующие инстанции. Но на него смотрели как на перебежчика, а то и как на предателя родины. Сразу изменились условия жизни. Приказали выселить из общежития, лишили приработка. Потребовали немедленно покинуть Москву, «убираться на все четыре»,… кроме Израиля. Нашелся журналист-борзописец, написавший о нем заказную статью, в которой старый солдат назывался агентом мирового сионистского заговора. На эту публикацию поступило много откликов, но один был совершенно неожиданным: его разыскивал командир той дивизии, в которой воевал Хаим Рабинович. Генерал был уже на пенсии и жил в Москве. Генерал не поверил ни одному слову публикации и пригласил солдата в гости. Расспросил о жизни, узнал обо всех злоключениях и потерях. Горестно вздохнув, сказал: «От таких бед и в самом деле захочется бежать, куда глаза глядят! А коли жить негде, вот тебе ключи от моей дачи: мы зимой редко там бываем. А ты и хозяйствуй, приглядывай за домом. Ежели будут прижимать, ты звони мне». И денег дал, хоть Рабинович и отказывался. Генерал сказал: «Мы же с тобой побратимы, полвойны прошли вместе!». Ожил совсем пришибленный жизнью инвалид, снова почувствовал себя человеком. Нашел в кладовке старый генеральский френч, спорол с него погоны. В мастерской подогнали, как могли, этот френч на солдата, а он прикрутил к нему свои награды. Теперь в официальные инстанции он приходил не просто просителем в поношенной гимнастёрке, но с чувством собственного достоинства. Отказ следовал за отказом, хотя в стране наступила хрущевская оттепель. Своими настойчивыми визитами Рабинович инстанций, а был он не один с такими просьбами. надоел чиновникам всех В какой-то инстанции он случайно столкнулся с иностранным журналистом и простодушно пересказал свою историю. Так история инвалида с «антисемитской фамилией» всплыла в 78 зарубежной печати. Тема-то была актуальной: весь мир восставал против железного занавеса. Вопрос об эмиграции евреев из России обсуждался на всех уровнях. Но мало кто знал о заявлении заместителя министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко о том, что массового выезда евреев из России руководство не допустит, а индивидуальные дела может рассмотреть в установленном порядке. Видимо, дело Рабиновича, наконец, оказалось среди таких, индивидуальных. Пригласили инвалида в ОВИР – отдел виз и разрешений, и сказали, что он может получить визу на выезд «… на соответствующих условиях». А среди условий было одно, которое он ни душой, ни сердцем не мог принять: ему предложили сдать государству все его награды… Таков был закон! Начался новый этап борьбы ветерана за своё человеческое достоинство. Хаим Рабинович явился в редакцию газеты, пытавшейся его опорочить, потребовал опубликовать опровержение и рассказать о его фронтовых заслугах. В качестве свидетеля он предложил журналистам побеседовать с командиром дивизии – заслуженным генералом. Генерала тоже возмутило нелепое требование: за что хотят лишить солдата наград, заработанных кровью? Страсти накалялись. Наконец, скромный маленький человек Хаим Рабинович и еще пара таких, как он, горемык, вышли на Красную Площадь при полном параде наград и развернули плакат «Мы не сдали Москву, Ленинград, Сталинград. Не сдадим и свои награды!». Сбежались вездесущие журналисты, люди в штатском и бдительные милиционеры. Приказали свернуть плакат. А они ни за что не хотят отступать. Силу применить милиция стесняется: кругом толпы туристов. Уговоры действуют слабо. Так три «отказника», три «ржавых осколка войны» оказались героями большой политической акции, которую растиражировали по миру и обсуждали 79 потом вплоть до ЦК КПСС. Обсуждали, но долго не могли решить, что делать: советский закон сталинских времён отменить никто не решался. Но евреи не были бы евреями, если бы не нашли другой путь! В Москву пришло приглашение прислать на международную конференцию в качестве почётных гостей двух участников освобождения узников Освенцима и Бжезинка. И были в этом приглашении указаны концлагерей фамилии – генерала, командира дивизии и героя-солдата Хаима Рабиновича. О таком именном приглашении написали многие газеты мира. Опять советские инстанции оказались в тупике: за генерала они не беспокоились, а как солдат? Вдруг он не вернется, окажется перебежчиком, невозвращенцем. Пригласили генерала в ЦК: можете ли вы ручаться? А генерал с солдатской прямотой ответил: «Не могу, поскольку считаю такой закон о лишении наград идиотским пережитком прошлого!». Спросили самого солдата. Ответил: «Непременно вернусь: не могу же я подвести своего командира! Только визу дайте, чтобы я мог встретиться с дочкой». А встречу советскому генералу и солдату в Израиле устроили со всеми почестями. В новой парадной форме с аксельбантами и наградами Хаим Рабинович смотрелся совсем иначе: куда девалась сутулость, выше поднялись плечи… Принимали их и в Яд-Вашем – мемориальном комплексе Катастрофы и героизма еврейского народа, и в Бейт лахем ха-геттаот – мемориальном доме памяти борцов сопротивления. И всюду их встречал почетный военный караул из бравых израильских спецназовцев. В израильской армии орденов нет: считают, что победа – всегда общая. А спецназовцы интересуются: что было самым страшным на войне, за что – награды, сколько нацистов уничтожил. Хаим Рабинович откровенно отвечает: на войне всегда страшно. А особо страшно было на Курской дуге, когда на наши позиции ползли танки, а за ними пехота в полный рост волнами. Тут не до счета - сколько убил… Высунулся из танка немец, ну я и выстрелил. Танк 80 остановился, а его тут же наши и подожгли бутылкой с горючей смесью. За то нам и дали по ордену Славы. А ещё было страшно, когда увидели Освенцим… Принимали советских гостей и в кибуце (в израильском подобии советских колхозов) на берегу красивого озера Кинерет, где теперь жила Ханночка. Она ни на минуту не отходила от гостей. Радости её не было предела: такое она переживала впервые в жизни! Уговаривали Рабиновича остаться в Израиле. И памятной медалью его наградили, и какие-то премии вручили, и лечение предлагали бесплатное. Ханночка плакала… Генерал ему сказал: «Оставайся, а я уж как нибудь отобьюсь». А Хаим Рабинович - человек слова, – вернулся! Пригласили в Министерство обороны: поздравили с возвращением, похвалили солдата за верность присяге. А он им говорит: «Я присягу не принимал!». Как так? «Я,- говорит, - до войны не служил, а в войну было некогда: надо было воевать». Военные журналисты спрашивают: «Что Вам понравилось в Израиле?» Говорит: «Понравилось, как народ там любит свою армию». Спрашивают: «А что не понравилось?». «А не понравились девушки из спецназа со снайперским оружием! Нет, девушки-то красавицы, но ведь если, не дай Бог, опять война… Мы-то знаем, как девушкам тяжело на войне…». Вернулся, и снова пошёл за визой по всем инстанциям. Но и в России люди не лыком шиты: нашли выход из ситуации. Оценили, что солдатское слово сдержал. Пригласили Рабиновича и с улыбочкой спросили: не хочет ли он посетить места боёв, где пришлось воевать? Ехать предложили в Польшу. А этот канал был известен: из Польши визы в Израиль давали беспрепятственно и без всяких условий. Так был найден компромисс, устраивавший всех. Так воссоединился Хаим Рабинович со своей названной дочерью Ханной Коган. По дороге в Польше по 81 просьбе Ханночки он попытался найти какие-то следы семьи Скоморовских, но безуспешно. СТАРЫЙ РОЯЛЬ Теперь Ханночка и Хаим жили в том самом кибуце, где он побывал с генералом. Встретили как героя, опять – со всеми почестями. Привыкать к новой жизни Хаиму Рабиновичу тоже было трудно: новый язык, новые обычаи всё это постигалось не сразу. Совсем иной климат – и к этому приходилось привыкать. Важной отдушиной для общения с миром были русскоязычные газеты и встречи с такими же, как он, ветеранами. Хаим прочитывал газеты, как говорится, от корки до корки. И они принесли новым израильтянам неожиданную радость. В разделе «Объявления» Хаим Рабинович увидел такое, что не мог пропустить: «Отдадут в хорошие руки старинный рояль. Самовывоз». И номер телефона. В Израиле до сих пор сохранилась такая профессия, которая в России практически вымерла: старьевщик. Во всех городах время от времени появляется во дворах человек с тележкой и через микрофон с усилителем провозглашает: «Алтэ захн», что на языке идиш означает – «Старые вещи». И люди выносят из квартир все ненужные предметы. А иногда передают записочки с названием крупных вещей, с которыми хотят расстаться. Дело старьёвщика – найти таким вещам новых хозяев. За успешную такую операцию он получит символическое вознаграждение. Но люди будут дважды довольны: и те, что избавились от ненужной вещи, и те, кто её приобрёл задаром. Не без труда Хаим уговорил Ханночку позвонить. То, что она услышала в трубку, просто поразило её: предлагали рояль петербургской фирмы Wirth, той 82 самой фирмы, рояли которой стояли в учебном классе Сары Гольбрайх в Кракове. В первый момент Ханночка подумала: чудесное совпадение. Но потом пришло совсем другое осознание: это для Ханночки был знак Господний! Знак самого доброго предчувствия. Не мог же этот знак быть просто какой-то случайностью! Именно эти рояли считались лучшими для фортепьянных дуэтов. Именно такой рояль должен был стать памятником Саре Гольбрайх в доме Ханночки! Именно такой рояль должен ждать Сташека, если он жив!!! Долго объяснять всё это Хаиму не пришлось. Он немедленно пошёл к руководству кибуца, и его там быстро поняли: собрали целую экспедицию в совсем другой конец Израиля, привезли реликвию как подарок, точно угадав ко дню рождения Ханночки. Об этом позаботился Хаим Рабинович. В этом действе он был главнокомандующим. И, хотя рояль требовал сложного ремонта, большей радости в их доме было невозможно придумать! Такая музыка была… Должны же были быть в жизни Ханночки моменты радости и даже счастья! Недаром они с Хаимом просили Господа послать им «а бисэлэ идишэ глик»- (немножко еврейского счастья)! Не вся же музыка мира сгорела… Именно тогда Ханночка впервые рассказала Хаиму Рабиновичу о своем любимом Сташеке. И СНОВА О СТАНИСЛАВЕ СКОМОРОВСКОМ 83 В перипетиях военных лет Станислав Скоморовский выжил. Но он никогда и никому так и не рассказал многие подробности того страшного времени. А моральных переживаний, сомнений и просто мучений на его долю выпало немало. Пойти на службу в польскую полицию его толкнуло естественное желание быть ближе к Ханночке, возможность оказать ей поддержку в новых обстоятельствах. Страшные события в гетто быстро заставили понять, что служба в «Синей полиции» ставит его в положение пособника нацистской власти. И здесь немалую роль в его судьбе сыграл всё тот же Учитель физкультуры: именно он предложил Сташеку участвовать в работе «Во имя Польши». Но близко к связям с подпольем, ориентированным на Лондонское правительство в изгнании, его подпустили не сразу. Лишь тогда, когда к 1943 году стало ясным неизбежное поражение Германии в этой войне, Сташек стал активнее участвовать в сопротивлении. Но и здесь для него далеко не всё было понятным: освобождение от нацизма явно шло с востока, а «Армия Краёва» боялась прихода коммунистов и ориентировалась только на Запад. И даже в подполье шла незримая война «Армии Краёвой» с «Армией Людовой». Имея общего врага, они имели разные конечные цели. Неумудрённый в политической борьбе Станислав Скоморовский опять оказался перед выбором… С одной стороны он помнил рассказы отца о войне с Красной Россией, но с другой стороны в памяти сохранились восторженные рассказы старого педагога Сары Гольбрайх о русской культуре и её надежды на продолжение музыкального образования их с Ханночкой в Петербурге… Но именно об этом периоде своей службы в полиции после войны Сташек предпочитал молчать… В свою очередь его фигурой заинтересовался Фонд Визенталя. Оттуда и некоторая официальная информация, основанная на показаниях свидетелей. 84 Всего в польской полиции служило до двух тысяч «Синих шинелей». Фонд Визенталя и новая послевоенная власть добилась того, что пара десятков отъявленных негодяев-полицейских была по приговору суда казнена. Около 500 были признаны пособниками оккупантов и осуждены на разные сроки. Но несколько сотен полицаев так и не нашли. Среди таких значился Станислав Скоморовский. Свидетельские показания о его делах были на удивление противоречивыми. Показания сослуживцев по гетто в Кракове говорили в его пользу. Тут была и помощь еврейским узникам, и некая связь с антифашистским подпольем. Но подполье было слабым и практически все погибло в лагерях уничтожения. Кто-то намекал на возможное мздоимство, раз он ведал учетом конфискованного имущества. Кто-то утверждал, что он имел связь с еврейской женщиной из гетто, а это было категорически запрещено законом. Трагическая эпопея этапирования евреев в лагеря уничтожения тоже не давала однозначных оснований для обвинения. Никто не утверждал, что Скоморовский стрелял в несчастных отстающих. Но стреляли все: и эсэсовцы, и поляки, и украинские полицаи. Убитые молчали, а живые свидетели сгорели в крематориях. Ни один сослуживец по команде не возвёл на него напраслину. Но было зафиксировано: дружил с немцами, поил их в отцовских кафе водкой, играл на флейте. Затем следует провал в показаниях по времени: ближе к концу войны был откомандирован «с особыми поручениями» вместе с командиром группы Учителем физкультуры. А кто, куда и зачем откомандировал, осталось неизвестным. На хорошие дела немцы полицаев не посылали… Часть «Синих шинелей» в самом конце войны оказалась в войсках СС. А были и такие, кто примкнул к пролондонскому антифашистскому подполью, к «Армии Краёвой». Учителя физкультуры искали, но тоже не нашли. 85 Свидетели высказывали диаметрально противоположные предположения. Одни уверяли, что Сташек и Учитель физкультуры участвовали в Варшавском восстании. Другие говорили, что они попали на службу в дивизию СС, созданную немцами для борьбы с русскими партизанами… В самом конце войны небольшая группа польских полицаев уничтожила своих нацистских командиров и двинулась на запад, чтобы сдаться союзникам. По дороге они освободили заключённых нескольких мелких концлагерей. Этот факт Фонду Визенталя был известен. Поляки вышли на американские части и были тут же включены в их штурмовые группы. Многие там и погибли, но достоверных списков не сохранилось. Был ли среди них Скоморовский – не доказано, но кто-то говорил, что его видели после победы в американской форме. Совсем невероятной выглядела запись, что в послевоенной Голландии Станислав Скоморовский привлекался к ответственности за кражу алмазов. + А КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ? На самом деле послевоенная жизнь Сташека сложилась тоже не просто. О службе в полиции он предпочитал не вспоминать, как о страшном сне. Служба в американской армии оказалась скоротечной. Сопротивление немцев было уже актом отчаяния. Но в этих боях погибло несколько его сослуживцев. Свидетелей службы в полиции оставалось мало. Американские солдаты добровольцев-антифашистов, спешили примкнувших домой. к их Интернациональных частям, распустили практически без документов и без пособий. 86 Тогда-то и пришло время вытащить на свет тот самый камень, что отдал ему в Казимеже старик по имени Бандит. Уходя из дома, Сташек сделал на поясном ремне потайной карман. Спрятал туда алмаз и карман заклеил клеем. В Голландии, когда настала острая нужда, обратился он к знаменитому ювелиру. Так и сказал, что нашел камень в Кракове. А ювелир что-то заподозрил. Началось расследование. Парня арестовали. Оказалось, что ещё до войны этот алмаз был похищен с выставки в Кракове. Сохранились даже фотографии алмаза. В краже подозревали краковскую еврейскую мафию, но война, действительно, помешала кончить следствие. Понятно было, что парень не имел к преступлению никакой причастности. А дело затягивалось тем, что две крупнейшие ювелирные фирмы вели спор: кто из них является правопреемником погибших в гетто ювелиров Кракова, а, следовательно, наследником находки. У Сташека не было денег, чтобы нанять хорошего адвоката. Время в тюрьме он тратил на изучение английского языка и чтение книг о камнях и ювелирном искусстве. Много таких ценностей повидал он в Казимеже, составляя списки конфискованных еврейских вещей. Он помнил уроки старых еврейских ювелиров из гетто по оценке ценностей. Сташек помнил их имена, но ни на минуту не сомневался в том, что эсэсовцы отправили стариков в печи Освенцима или Бжезинки. Однажды к Сташеку пришел молодой голландский адвокат, молодой, да из ранних! Он предложил бесплатно свои услуги. «Слушай, парень! А ведь мы с тобой можем выиграть дело и хорошо заработать. - Ты камень нашёл? – Нашёл! И никто противного доказать не может! - Ты настоящих хозяев не знал, и потому вернуть находку не мог! – Не мог! И это тоже неоспоримо! 87 - Сегодня ты готов вернуть хозяевам этот бесценный камень. И это тоже факт. - За находку, за сохранение камня, за твой благородный поступок фирмы эти должны заплатить тебе вознаграждение, и немалое. В разных странах законы за возвращение находок предусматривают вознаграждение от двух до двадцати пяти процентов от стоимости находки! - И нам с тобой совершенно безразлично, кто победит в их споре. Если мы умно провернём это дело, то должны будут заплатить обе фирмы. А рыночная стоимость алмаза такова, что каждый процент от неё сделает нас с тобой много богаче!». И ведь он сумел повернуть дело именно таким образом. Фирмы без больших споров согласились выплатить вознаграждения, чтобы тем ещё раз подтвердить свои права на камень. Вознаграждение пришлось поделить с адвокатом фифти-фифти. Таким образом, Сташек оказался довольно обеспеченным по тем временам человеком, хотя эти премиальные были смехотворно малы по сравнению с тем, что заполучили фирмы. Из тюрьмы он вышел с незамаранной репутацией. Зная о преследованиях полицаев на родине, Скоморовский не вернулся туда. В АВСТРАЛИИ, В АВСТРАЛИИ… 88 В Австралии, в Австралии Однажды поутру, В Австралии, в Австралии Я встретил кенгуру… Такую песенку-считалочку Сташек Скоморовский знал ещё с раннего детства. Далёкая Австралия казалась детям чуть ли не частью рая… Думал ли он, что песенка эта всплывёт в памяти через четверть века в сложные минуты выбора? Там, на родине судили людей, сотрудничавших с оккупантами. Многие перемещённые лица, как их тогда называли, выбирали для себя новые дороги и адреса. В Южную Америку или в Южную Африку стремились уехать те, кто был замешан в военных преступлениях. Говорили, что туда утекло золото нацистской партии. Кто-то, глядя на глобус, выбирал Бразилию или Уругвай: там обещали работу для всех. Уцелевшие в огне Холокоста евреи пытались уехать либо в Канаду, либо в Палестину. Но английское правительство всячески сдерживало эмиграцию на Ближний Восток: боялось, что евреи создадут там свое государство и лишат Британию её протектората. А в Австралию, открывшую двери для эмигрантов из Европы, направился весьма разношерстный поток людей разных национальностей. Сташеку этот выбор показался даже случайным: натолкнула детская песенка о кусочке рая… На самом же деле он хотел сбежать подальше от своего небезгрешного прошлого. Сташек понимал: случись ему предстать перед судом, найдётся мало свидетелей в его защиту. Но человек – не змея: он не может сбросить шкуру, даже если снимет шинель. Главным аргументом против него будет именно эта синяя шинель полицая. 89 Оформляя документы на эмиграцию, всего за флакончик французских духов он уговорил девушку-секретаря записать его фамилию, сократив всего одну букву. Он пояснил ей, что польская фамилия в английской транскрипции пишется просто – Коморовский. В эмиграционной карте секретарь записала с его слов: солдат армии USA. Так были сделаны ещё шаги из прошлого к новой жизни. В долгие дни плавания на другой край планеты Станислав Коморовский дал себе слово: никогда не вмешиваться ни в какие политические дела и акции, а поиск родных и Ханночки вести только от имени третьих лиц, чтобы не навредить близким. В Сиднее он снял комнату в доме хозяина аптекарской фирмы, где в холле был приличный рояль. Получил разрешение ежедневно проводить за инструментом пару часов, пока хозяева бывали на работе. Постепенно восстанавливалась техника, расширялся репертуар. Однажды он сел к инструменту в кафе, где любил ужинать. Успех был большой. Хозяин предложил ему постоянный ангажемент. Нет, он не был тапёром. Репертуар тяготел к популярной классике, хотя иногда под настроение он исполнял вещи по просьбе посетителей. Электронная музыка всё больше проникала в жизнь, а посетителям иногда хотелось слышать музыку «живьём». Но для Станислава Скоморовского это была не та музыка, о которой они мечтали с Ханночкой. Их музыка сгорела в прошлой войне… Иногда просили играть еврейскую музыку, а иногда польскую. Оказывается, и в Австралии были свои евреи и свои поляки. Австралийские поляки чаще заказывали грустный полонез Огинского, гораздо реже – бравурный революционный этюд Шопена. Станислав удивился, когда услышал, как молодые туристы из Польши поют под гитару еврейские песни. Спросил, кто автор. Оказалось – поют песни Мордехая Гебиртига. А ведь он знал его лично. Но промолчал… 90 Питался Станислав в том же кафе, где играл. Кухонные его уважали: пил мало, вёл себя скромно, профессионально знал толк в выпечке. Как правило, что-то вкусное давали с собой в коробочках. Удивлялись, как это он обходится без женщин: в том обществе царили другие нравы. Хоть и редко, но он бывал в костеле. Что он просил у Бога? Может быть, просил сохранить жизнь маленькой девочке иудейского вероисповедания, которую любил всю жизнь? Ведь Бог-то на небесах один! А может быть, он замаливал грехи вольные и невольные, которых за войну накопил немало… В свободное время днями он посещал ювелирные магазины и антикварные лавки. Беседовал с продавцами, сразу оценившими его компетентность и вкус. Но странный посетитель ничего не покупал, и это вызвало некоторые подозрения. Лишь однажды он приобрел по бросовой цене у антиквара старую английскую флейту, попавшую на прилавок прямо из середины девятнадцатого века. Флейта в его руках как бы нашла новую жизнь. Ювелиры подключили свои секьюрити, но и те ничего порочащего в поведении постоянного посетителя не нашли. И тогда ему предложили место продавца в одном из центральных магазинов. Жалование положили приличное: ведь он стал ещё и оценщиком музыкальных товаров. Магазин-салон принадлежал вдове, недавно потерявшей мужа – страстного аквалангиста. Поговаривали, что его могли утащить в бездну акулы. Вдова не очень разбиралась в коммерции. Дело вели старые, опытные кадры. Хозяйка пару раз наведывалась в магазин. Пан Станислав, так его теперь звали сослуживцы, уловил на себе заинтересованный взгляд женщины. Неожиданно повысили его оклад, а через пару месяцев пригласили на яхту хозяйки на корпоративную прогулку. Там были руководители подразделений фирмы, а из рядовых сотрудников чести такой удостоился он один. Прозвучала пара этюдов Шопена, пара вальсов Штрауса, что-то из Моцарта… После пронзительных звуков флейты пана Станислова прямо в 91 танце, без всяких вступлений хозяйка предложила ему должность директора центрального офиса. Пан Станислав учтиво поблагодарил хозяйку за такое лестное предложение, сказав, что пока он не готов дать согласие: у него, мол, ещё мало опыта… Обещал подумать, присмотреться. Хозяйке такой ответ понравился: значит, он не карьерист, умеет взвешивать решения. Атлетическая фигура, умение скромно, но со вкусом одеваться и вести себя в обществе явно нравились хозяйке. И невозможно себе представить, чем бы дело кончилось, если бы не возникли новые, совершенно непредсказуемые обстоятельства. ТА САМАЯ БРОШЬ Однажды пана Станислава пригласил к себе в кабинет сотрудник, принимающий от клиентов ценности на комиссию. Молча, он выложил на стол массивную золотую брошь с камнями. Один взгляд на эту вещь бросил пана Станислава в дрожь. Его будто током ударило! Ещё не дотронувшись до вещи, он был готов поклясться, что видит эту брошь второй раз в жизни! Брошь отличалась от всех аналогичных известных ему изделий своей нетрадиционной двухцентровой композицией. Два крупных прекрасных кашмирских сапфира формы «антик» небесно-голубого окраса как бабочки парили на фоне крылья двух старинных золотых монет исключительно редкого чекана. Композицию обрамляли две золотые веточки с листиками, 92 переплетающиеся друг с другом. Брошь выглядела немного тяжеловатой, но в ней был заложен определённый смысл. Она явно символизировала какое-то двуединство. Приемщик сразу понял, что вещь знакома пану Станиславу. Удивила просьба дать большую лупу и маленькие ювелирные щипчики. Уверенной рукой Станислав слегка отогнул золотой листик с обратной стороны броши. Открылась микроскопическая гравированная надпись на языке иврит. Пригласили старого еврея-продавца. Он с трудом прочел: «Розочке - Твой Марголит». Под другим листочком открылась проба, личное клеймо мастера «МГ» и дата – 1937 год. Такое клеймо было известно по справочникам. И принадлежало оно Моисею Гарцу – одному из тех краковских ювелиров, кто помогал Сташеку оценивать еврейские конфискаты в гетто Казимежа и Подгуже. Именно он, увидев своё изделие среди награбленных нацистами ценностей, горько заплакал и рассказал Сташеку о скрытых надписях. Знаменитого краковского хирурга Марголита Сташек тоже знал. Однажды им с Ханночкой даже пришлось играть для гостя в доме доктора Когана. А этого доктора многие знали ещё и как заядлого нумизмата. Мир оказался тесен. Вещи часто живут дольше людей. Иногда они могут многое рассказать о прошлом, особенно, тогда, когда судьбы людей и вещей переплетаются. Говорят, есть даже такая наука, которая изучает историю принадлежности произведений искусства – провенанс. Но часто вещи молчат… Сташек хорошо понимал, что и заказчик, и мастер этого изделия закончили свой жизненный путь в печах Освенцима, Бжезинки или в других подобных страшных местах. Всё это знал Сташек Скоморовский. Но не мог же пан Станислав Коморовский всё это рассказать приёмщику ценностей! Он только попросил не выставлять пока вещь на продажу. Даже 93 повод придумал: мол, надо её сначала застраховать, как особо ценную. И фамилию сдатчика не спросил: знал, что фирмы обязаны держать имя это в строжайшей тайне. С того момента, как пан Станислав увидел эту брошь, он потерял покой. Рухнуло неустойчивое душевное равновесие. Было ясно, что эта вещь попала на далёкий континент через нечистые руки нацистских преступников. Конечно, вещь могла пройти и не через одни руки, а конечный владелец мог и не знать трагическую биографию броши. Но внутренним чутьём Сташек почувствовал: где-то рядом на австралийской земле есть человек, виновный в гибели десятков тысяч людей, человек, который мог отправить на смерть и Ханночку, и её отца… Хотел или не хотел того Сташек, но память возвращала его в страшные времена. Вставал вопрос о возвращении имени – Скоморовский: ведь брошь становилась вещественным доказательством, уликой, а он – единственным свидетелем её судьбы. Но это грозило неминуемым разрушением его сегодняшнего благополучия. Карьера бывшего польского полицая в еврейской ювелирной фирме будет невозможна по определению… Но простая человеческая совесть не давала молчать. Вариант обращения к австралийским властям отпадал как бы сам собой: законодательство этой страны не было готово к расследованию преступлений, совершённых в далёкой Европе. А беженцев всех мастей было так много в Австралии… Обращение к властям новой Польши тоже не предвещало ничего хорошего. Сразу после войны до пятнадцати тысяч польских евреев, которые смогли спастись в эвакуациях или выжить в лагерях уничтожения, пожелали вернуться на родину. Но польские националисты, испугавшись перспективы возврата хозяевам конфискованного имущества, устроили новые страшные и кровавые еврейские погромы. Они заставили евреев с невероятными страданиями вновь покинуть Родину и через Венгрию и Чехословакию 94 эмигрировать в Палестину. Эти постыдные для страны события уронили международный авторитет новых польских властей ниже всякого уровня. Оставался ещё один вариант: обратиться к Фонду Визенталя. Сташек догадывался, что и в Австралии Фонд должен был иметь своих людей. Но это решение созревало не сразу… В кафе, где он играл по вечерам, Сташек давно приметил пару постоянных посетителей, скромно занимавших один и тот же столик в дальнем углу. К их мирным беседам иногда присоединялся кто-то третий. Пили мало: опустошали свои бокалы только перед самым уходом. Внешность их чем-то напоминала еврейскую, но уверенности в этом у Сташека не было. И тогда в одну из своих музыкальных композиций Станислав Коморовский включил всего пару аккордов из знаменитой Хаванагилы. Оба посетителя как по команде повернули головы в его сторону! Это был своеобразный «тест на еврейство»… И тогда, сойдя со сцены, Сташек попросил разрешения присоединиться к их маленькой компании. Разговор начался с музыки, потом поговорили о погоде, потом «за жизнь». Наконец, Сташек без обиняков спросил: «А не имеете ли вы отношения к Фонду Визенталя?». Улыбнулись оба, и эти улыбки были красноречивее всех слов. И тогда Сташек представился своим полным именем и начал свой рассказ. Его практически не перебивали, вопросов не задавали. Иногда Сташеку казалось, что где-то спрятан записывающий аппарат. Но его не было. Просто, люди умели слушать. Это была не беседа, а, скорее, монолог, похожий на исповедь. Когда пришла пора закрывать кафе, все сели в машину и отправились в другой ночной бар. Заканчивая свой рассказ, Сташек сказал: «Имя хозяина этой броши я не могу узнать: это – тайна фирмы». Ответ был мгновенный: «Ну, это не вопрос! На следующей встрече Вы об этом узнаете». Отвезли Сташека домой. В постель он упал, практически, не раздеваясь, как после самой тяжёлой работы. С утра надо было быть на службе. 95 Ждать новой встречи пришлось недолго. Новые «Знакомцы», - так называл их для себя Сташек, снова появились в кафе И Сташек опять оказался в их компании. Без лишних слов перед ним, как колоду карт, раскинули пачку фотографий. И снова, как при встрече с брошью, Сташека током ударило: на одной из фотографии он увидел того самого эсэсовского майора из Краковского гетто, который определял очерёдность жизни и смерти узников. Прозрачность глаз майора-садиста была уже не та: они несколько помутнели. Без эсэсовской формы он не выглядел распорядителем жизни и смерти… Но это был он!!! Изымая фотографию из общей колоды, «Знакомцы» были явно довольны. Его ли искали в далёкой Австралии эти люди, Сташек не мог знать. Но он понял: они вышли на крупную нацистскую дичь, и теперь уже не отпустят её. Дальнейшие встречи пошли в режиме диалога. Сташеку предложили написать все свои показания. Договорились, что это можно сделать и на польском языке. А как подписать этот документ? Пообещали выправить новые документы, но со старым именем. Договорились: до времени их контакты должны остаться непубличными. Лишь иногда к нему за тем же столиком обращались с уточняющими вопросами. На некоторые вопросы, касающиеся его лично, Сташек предпочитал не отвечать, ссылаясь на право не давать показаний против самого себя. С ним уважительно соглашались. Наверное, потому и в официальном досье Фонда Визенталя на полицая Скоморовского оставались пробелы… Единственной просьбой Сташека к «Знакомцам» была просьба помочь в поисках семьи и Ханночки. Но и они мало в чём могли помочь. Объясняли, что нацисты вели поимённые списки уничтожаемых евреев только на территории самой Германии, а на оккупированных территориях тотальный террор творили безо всякого учёта и не только своими руками. 96 Вопрос о продвижении по службе в ювелирной фирме отпал сам собой. Пан Станислав уволился, сославшись на якобы поступившее более заманчивое и доходное предложение. А на самом деле Сташек утрами развозил по адресам заказанные в аптеках лекарства. Такую не очень доходную и престижную работу предложил хозяин его квартиры. Прошло больше года, прежде чем газеты мира опубликовали сообщение о том, что в Австралии найден и передан в руки международного трибунала нацистский преступник, один из комендантов Краковского гетто. Прочитав это сообщение, Станислав Скоморовский не испытал ни малейшего чувства удовлетворения. Фонд Визенталя разыскал после войны более тысячи ста военных преступников, но даже смерть всех их не могла бы служить хоть в малой степени возмездием за миллионные жертвы Второй Мировой войны. Станислава Скоморовского на заседание трибунала не пригласили. Брошь была лишь малым эпизодом в обвинительном заключении, предъявленном подсудимому. «Знакомцы» так и оставили Сташека с двумя паспортами. Ещё через пару лет они сообщили Станиславу Скоморовскому, что в одной из муниципальных клиник Швеции несколько лет тому назад умер Яков Коган. Тот ли это Коган, которого разыскивает Пан Станислав, они не могли утверждать. Надо было лететь в Швецию: там мог найтись кончик нити судьбы Ханночки. ПОСЛЕДНИЕ ИЗ СКОМОРОВСКИХ 97 Старый пан Ян, лишившись всего своего хозяйства, национализированного новой властью, уехал с женой на её родину в район Больших Мазурских озер, в глухую, забытую Богом и властями деревню, туда, где в годы оккупации готовил укрытие для Сташека и его друзей. Всю оставшуюся жизнь старики горевали о потерянном сыне.. Однажды до них дошла через людей открытка. справлялся о судьбе Незнакомый человек Сташека. Раз он так называл сына, значит, знал его раньше. Но обратный адрес говорил, что карточка - из Южной Америки. Может, это был всё тот же Учитель физкультуры? Что ему могли ответить старики Скоморовские? А ещё люди передали, что в одно из его бывших кафе приходили русские офицеры, спрашивали пана Яна и доктора Когана. Один из них говорил на идиш. Просили передать благодарный привет. Вспомнилась такая история. К пану Скоморовскому пришли два польских крестьянина. Поставили на стол скромный презент - ведёрко с мочёными яблоками. Осторожно спросили: может ли он помочь в трудном деле. А дело было такое. Недалеко от Кракова немцы сбили русский самолет. Из экипажа выжил только один лётчик, но был он ранен. Крестьяне попросили спрятать его в гетто: был лётчик евреем. А за спрятанного лётчика, да ещё и еврея, крестьянам грозил расстрел. Война приучила не сразу верить людям. А вдруг это провокаторы из гестапо? Вдруг они просто проверяют Скоморовского? Но он, умудренный жизненным опытом, рассудил так: гестаповцы принесли бы вино или предложили деньги… Но яблоки? Не похоже на провокацию… Попросил пару дней на раздумье. Жене рассказал, а она безо всяких сомнений: «Надо помогать!». Прятать лётчика в гетто было просто безумием. В задней комнате одного из кафе раненому оказали помощь доктор Коган и его друг, хирург Марголит. Их вывели на короткое время из гетто через «Аптеку под Орлом». Всю эту 98 операцию организовал Сташек и пара его бывших одноклассников: поляк служил санитаром в краковской польской лечебнице, а второй был еврейским юденратовским полицейским в Подгуже. Сташек оформил необходимый аусвайс, и раненого отправили в деревню, где служил ксёндз - брат пани Скоморовской. Больше о судьбе лётчика старики Скоморовские ничего не знали. Хорошо, когда человеческая память хранит не только обиды, но и сердечные благодарности, подумал пан Ян. Ни пан Ян, ни его супруга, конечно, не читал еврейский Талмуд, А там в древнейшей его части – Мишне, в трактате «Санхедрин» есть фраза: «Спасающий одного спасает весь мир». Не знали эту великую заповедь ни польские крестьяне, ни парни, спасавшие лётчика. Но все они в эти безжалостные годы совершали свой подвиг по долгу чистой совести и человечности. Так, может, и они должны сегодня считаться «Праведниками Мира»? Вестей о судьбе сына старые Скоморовские так и не дождались… Они полагали, что стали последними в своём роду… И это они считали самым страшным наказанием за грехи вольные и невольные, что накопили за жизнь. АЛМАЗИКИ, ТАК И НЕ СТАВШИЕ БРИЛЛИАНТАМИ В судьбы наших героев ещё раз вмешался Красный Крест. На очередной запрос Скоморовского-младшего пришёл ответ-подтверждение из далекой Европы. Сообщалось, что именно тот самый доктор Коган Яков умер в шведской клинике. Ответ стал новым кончиком нити поисков Ханночки. Сташек прилетел в Швецию и узнал, что Ханночка Коган уехала для продолжения лечения в Израиль. Нужна была виза в Израиль. 99 Тут опять возникло непреодолимое препятствие: он числился в чёрных списках Фонда Визенталя. Бдительные израильские спецслужбы и МИД в визе бывшему пособнику нацистов, тем более польскому антисемиту-полицаю Станиславу Скоморовскому, отказали. А был ли он пособником, был ли антисемитом? «То ли он у кого-то шубу украл, то ли у него шубу украли. Но в чём-то замешан»,- так говорят в России. В Израиль он всё-таки попал по визе на имя Коморовского: сработал австралийский паспорт. Сташек нашёл свою Ханночку. В аэропорту встречал его Хаим Рабинович в парадном мундире. Сразу из аэропорта они заехали в ювелирную лавку, и Сташек купил за скромные деньги золотое колечко с маленьким бриллиантом. Его встретила женщина, тяжело измученная болезнью. Пальцы её рук напоминали барабанные палочки. На щеках - нездоровый румянец. Верные признаки хронических лёгочных болезней. Прожитые врозь годы оставили тяжелые следы не только на лицах обоих, но и на их душах. В глазах и душах была радость встречи, как говорится, пополам с грустью. Их алмазики так и не стали бриллиантами. Но в ушах опять зазвучала музыка… Lacrimosa? – Слёзы, лейтесь? – Что-то подобное?... Ромео и Джульетта не разучились слушать и понимать друг друга. Была ли встреча эта «хэппи-эндом»? Наверное, нет! Ведь израильские власти так и не дали разрешение на оформление брака наших Ромео и Джульетты. Кто от души радовался этой встрече, так это тот самый бездомный еврейинвалид из Москвы, «ржавый осколок войны». «Человеку нельзя быть одному даже в раю! Теперь вы будете моими детьми». Так и он, наконец, обрёл свой кусочек «идишэ глик» - кусочек еврейского счастья. А о том, что были со Сташеком когда-то по разные стороны фронта, они не вспоминали. Как говорят немцы, это было плюсквамперфект – давно прошедшее прошлое. 100 Читателям этой повести оставим такие вопросы: - А как на Ваших судьбах отразились Ваши личные имена? - Какие были и легенды будут вспоминать Ваши дети? -----------------------ххх---------------------- 101 Документальные очерки. АДВОКАТСКИЙ ВОПРОС Война бетховенским пером Чудовищные ноты пишет. Её октав железный гром Мертвец в гробу И тот услышит! Д. Кедрин Давно стало литературным штампом выражение "Книга жизни". Но если пишется книга, то следует подумать и об иллюстрациях. Тяжелые послевоенные годы рисуются в памяти в черно-белых тонах. Редкими яркими иллюстрациями в книге моего поколения были встречи с интересными людьми и их судьбами, встречи, влиявшие на наше миропонимание. Расскажу о первых встречах с иностранцами. Это были немецкие пленные, появившиеся в Вологде в самом конце войны и сразу после Победы. Многочисленные колонны пленных сначала провели под конвоем по улицам и площадям Москвы, затем посадили в эшелоны и развезли по лагерям. Первые колонны пленных шли по Вологде строем под командой своих офицеров. Шли аккуратно выбритые, подтянутые, в чем-то даже стремившиеся сохранить и продемонстрировать своё достоинство. Пели немецкие песни. У кого-то можно было видеть маленькую губную 102 гармошку. Вокруг шагала многочисленная охрана в форме войск НКВД. А потом началась повседневная тяжелая работа. Пленные разгружали баржи с лесом, вручную пилили на доски сырые бревна. Сначала строили жильё для себя, затем появились на всех вологодских стройках. Недолго они ходили строем. С Победой исчезла охрана: группы грязных и оборванных пленных на работу сопровождали бабушки из домоуправлений, расписывавшиеся за них в каких-то журналах, как за полученное имущество... Жилось в ту пору всем тяжко и голодно. Понятно, что пленным жилось не слаще, чем победителям. Освоили они все мыслимые и немыслимые строительные профессии. Порой дело доходило до курьезов: пленные сами искали себе подработки. Однажды к директору нашей школы пришли два пожилых пленных и предложили расписать стены актового зала. Поскольку школа не могла платить им деньги, сошлись на том, что выполнят они работу "за обеды и ужины, плюс по буханке хлеба в день каждому". Долго их рисунки явно скромного любительского достоинства украшали зал. В разгар лета 1946 года я взглянул на пленных другими глазами. Однажды в нашем доме собрались мои одноклассники и попросили маму поиграть для них на пианино. Зазвучали популярные в те годы мелодии — вальсы Штрауса, полонез Огинского, аккорды первого концерта Чайковского. Жили мы на первом этаже, и в какой-то момент я почувствовал шорох за открытым окном. Оказалось, там стоял молодой паренек — пленный: он с робкой улыбкой слушал музыку. Мы пригласили его в дом и, упражняясь в своем скромном немецком языке, скоро поняли, что перед нами студент берлинской консерватории — пианист, лауреат каких-то конкурсов. Огрубевшие руки его были в глине и извести. Прежде чем 103 сесть к инструменту, он долго и старательно мыл их, тёр пемзой. Не менее долго он не мог поднять с колен свои руки к клавиатуре. А, подняв, вдруг заплакал... Потом он сбивчиво объяснял нам; что не нацист, что даже не воевал, так как всю войну имел бронь от призыва, а форму на него надели за месяц до падения Берлина. Расчувствовавшаяся мать накормила парня, чем Бог послал. Через день он появился снова. Играл уже больше часа. Слушать его собрались все соседи. Так продолжалось некоторое время. Но однажды вместе с юношей пришли ещё двое пленных. Рыжий верзила сидел и слушал молча, а уходя, не попрощался, как другие, а что-то недовольно буркнул сквозь зубы. Назавтра "наш" немец извинился и сказал, что рыжий — нацист и был очень недоволен, что его привели в дом к евреям... Воистину, горбатого могила исправит!" — сказала мама, а мне наказала, чтобы немцы-пленные в наш дом больше не приходили. Её тоже можно было понять: старшая сестра матери Нина, солистка Рижской оперы, со всей семьей погибла в Рижском гетто или концлагере Саласпилс. Кстати сказать, к судьбе немецкого юноши-пианиста мама имела отношение и в дальнейшем. К ней обратился один из высоких вологодских военных чинов с просьбой подыскать педагога-пианиста для дочери. "Зачем далеко ходить? Есть среди пленных блестящий пианист, и лучшего педагога в Вологде трудно сыскать!", — сказала мама. С немецким педагогом девушка занималась около года и весьма продвинулась в мастерстве. Думается, что и для молодого музыканта такая работа была больше по душе, чем профессия каменщика и штукатура. Я иногда встречал его в городе чисто одетого. Завидев меня, он издали приветливо улыбался. Но так и не узнал "наш" немец, кто 104 составил ему в столь трудный момент счастливую протекцию. Образ немца-врага в сознании народа после войны размывался не сразу и не у всех. Помню, после войны на вологодском стадионе "Динамо" вместо дальней трибуны около пруда была танцплощадка. Танцевали там под духовой оркестр. Но летом 1946 года (или 47 — точно уже и не помню) там появилось нечто новое: заиграл оркестр, который по нынешним меркам мог бы называться, вероятно, симфоджазом. Звучали новые модные танцевальные ритмы. Молодёжь сразу перекочевала с других площадок на "Динамо". Поговаривали, что среди пленных в конце войны оказался чуть ли не полный состав оркестра Берлинского радио, призванный в армию Гитлера накануне краха по приказу о тотальной мобилизации. И оказался тот оркестр в Вологде. Но вскоре на площадку вернулись наши духовики. Нашлись люди, написавшие "куда следует" о том, что советской молодёжи не гоже плясать под фашистские дудки. Вот такая была музыка... Конечно, были среди пленных и убежденные нацисты, вроде того рыжего, что заходил к нам с пианистом. Помнится, к одному из моих друзей попал немецкий офицерский фонарик: его принес отец парня, работавший в охране лагеря. Когда батарейки иссякли, мы извлекли вместе с ними со дна фонарика маленький портрет Гитлера, аккуратно завёрнутый в тонкую бумагу. Вера в фюрера прочно сидела в иных головах, настолько прочно, что некоторые её исповедуют и по сегодня, да и не только в Германии... А портретик тот ребята расстреляли! Да-да! Именно — расстреляли! У одного из нас была малокалиберная винтовка. Всей мальчишеской компанией пошли в пригородную рощу Кирика и Улиты, и там стреляли в портрет с разных расстояний до тех пор, пока от него не остались одни ошмётки. 105 Когда мы рассказали отцу об этом "расстреле", он после короткого молчания спросил: "А могли бы вы стрелять так же, если бы перед вами был не портрет, а сам Гитлер?" "Конечно!" - хором воскликнули мы все. "Ну, а если бы перед вами оказался не портретик, а владелец фонарика, могли бы вы стрелять?" Мы не были готовы к такому вопросу, тем более, к ответу на него. Отец задал вопрос и медленно вышел из комнаты, а мой самый близкий друг после долгого общего молчания с каким-то восхищением произнес: "Вот что значит быть адвокатом! Всего один вопрос!...". Как жаль, что наше поколение над многими вопросами задумывалось позднее, чем следовало... КАТЫНЬ И ХАТЫНЬ Кто сказал: "Все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя...", кто сказал, что Земля умерла? Нет, она затаилась на время... ...Нет! Звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран, из отдушин, ведь Земля - это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Владимир Высоцкий 106 Каждый день нашей служебной командировки в Германию давал поводы для самых серьёзных раздумий и не только по служебным вопросам, обозначенным в командировочном предписании. Однажды мне передали приглашение студенческого совета высшей евангелической школы социальной работы города Бохума провести встречу за круглым столом "без заранее заданной темы". Коллеги пояснили, что такая формула встречи означает высокую степень интереса и уважения студентов к приглашаемому лицу и подразумевает право гостя оставлять некоторые вопросы без ответа. На встречу мы приехали заранее. Поднялись в студенческую столовую мензу, чтобы выпить чашечку кофе и ... обнаружили на всех столах и стульях листовки, приглашавшие студентов на встречу с русским профессором. Листовка предлагала продумать вопросы гостю и начать с вопроса "Was geschah bei Katyn?" Я понял, что изначально обозначенная формула нарушена: встречу предлагали начать с вопроса о расстреле перед самой Отечественной войной органами НКВД в Катынском лесу большой группы пленных польских офицеров. На встречу пришло не слишком много студентов. Но за чашечкой кофе с сухим печеньем в прямой беседе посыпались, как из рога изобилия, вопросы. Как живут и учатся российские студенты, что их волнует в сегодняшней жизни: могут ли они высказывать на занятиях мнения, отличные от взглядов преподавателей, сколько программ телевидения может смотреть наш студент, как производится приём в институты и может ли студент сам выбирать для себя программы изучаемых предметов. Немецкую молодёжь интересовало, многие ли студенты живут "молодежными семьями", т.е. без официального бракосочетания, действительно ли в России законом запрещен гомосексуализм, грозит ли России эпидемия СПИДа, наконец, как зарабатывают студенты всегда недостающие им деньги. 107 Единственным "политическим" вопросом был вопрос о том, кого студенчество поддержало на президентских выборах. Тон бесед, проходивших в прямом диалоге около полутора часов, был самым доброжелательным, и я смог ответить если не на все, то на большинство вопросов. Встреча заканчивалась, а обозначенный в листовке вопрос так и не прозвучал: вероятно, для молодёжи он не показался в тот момент главным. И тогда один из присутствовавших на встрече преподавателей сказал: «Не хочет ли гость из России ответить на вопросы, поступившие в письменном виде?". Таким оказался единственный из той самой листовки. Я посчитал, что не могу в этот момент воспользоваться правом отказа от ответа. Сначала я задал немецким студентам свой вопрос: что они знают о двух точках на географической карте Европы - о Катыни и о Хатыни? С большим трудом один из студентов припомнил, что в Катыни произошло "что-то нехорошее, о чём писали немецкие газеты..." О Хатыни не слышал никто. И тогда мне пришлось рассказать о трагической гибели польских офицеров, об извинениях, принесенных польскому народу президентом России. А потом и об уничтожении немецко-фашистскими и полицаями белорусской деревни Хатынь вместе со всем её населением. Пришлось напомнить о том, что несут оккупантами народам тоталитарные режимы и войны. Оказалось, что немецкие студенты знают о Бухенвальде: "Там уничтожали немецких коммунистов". Слышали они об Освенциме и Дахау, "...где уничтожали евреев". Назвали они адреса небольших лагерей около родного города Бохума, где содержались английские и американские лётчики, чуть не с землей сравнявшие их город. А об украинском Бабьем Яре, о латвийском Саласпилсе, о польском Собиборе, о лагерях на немецкой земле Равенсбрюке, Берген-Бельзене, Заксенхаузене и сотнях других ничего и никто не мог сказать. И я коротко рассказал об эшелонах польских студентов, учёных, артистов, священнослужителей, с 1940 и по 1945 год заканчивавших свой путь в 108 австрийском Маутхаузене, на этой фабрике уничтожения людей... Последние эшелоны с польскими женщинами и венгерскими евреями прибыли туда в апреле 1945 года, то есть за месяц до конца войны... Пришлось напомнить о двадцати пяти миллионах жертв нашего народа, о шести миллионах уничтоженных евреев, о потерях других народов Европы во Второй мировой войне. Я попросил поднять руку тех, у кого во Второй мировой войне погибли родственники. Подняли практически все, а одна студентка, как бы извиняясь, сказала: " Я точно не знаю, но, наверное, тоже..." И на её глазах я увидел слезы. Назавтра в мензе к нашему столу подсел тот студент, который интересовался проблемой гомосексуализма в России. Он извинился за свой вопрос: "Наверное, надо было начинать нашу беседу с того, чем вы её кончили. Жаль, что нам на лекциях ничего не говорят об этом, и мы не обсуждаем на наших семинарах ничего подобного. Об этом нельзя забывать!" Мне в тот момент подумалось, что и Катынь, и Хатынь, и все подобные им места были местами уничтожения не только людей, но и человеческой памяти. Недавно в новой пьесе Евгения Евтушенко я прочёл: "Человечество делится на тех, кто хочет знать правду, и на тех, кто хочет знать только то, что удобно. И поверьте, вторая часть человечества гораздо больше" Не в том ли одна из главных задач учительства, чтобы как можно больше людей захотели знать правду и сохранить её в исторической памяти поколений? Вот о чём мне захотелось рассказать студентам не только в Бохуме, но и в моей родной Вологде. Московский поэт и философ Владимир Микушевич подарил мне книгу своих переводов немецкой поэтессы Нелли Закс (кстати сказать, выпущенную смехотворно малым для России тиражом - 999 экземпляров). К сожалению, в России её имя мало известно, хотя в 1966 году она стала лауреатом 109 Нобелевской премии. Нелли Закс по годам - ровесница Мандельштама, и её трагическая судьба типична для этогого поколения. Героическими усилиями великой шведской сказочницы, нобелевского лауреата 1906 года Сельмы Лагерлеф она была спасена, вырвана из фашистских застенков. Осипа Мандельштама спасти не смог никто... Страшно звучат сегодня строки из "Хора спасённых" Нелли Закс: Мы, спасённые, Смерть уже изготовила себе флейты из наших полых костей. Жилы наши - уже тетива ее лука. Наши тела ещё жалуются Всей своей искалеченной музыкой. Мы, спасённые, Всё ещё висят перед нами в голубом воздухе Петли для наших шей. Водяные часы всё ещё наполняются каплями нашей крови. Мы, спасёные, Черви страха всё ещё поедают нас... Мы, спасённые, Мы пожимаем вам руки, Мы заглядываем вам в глаза, Но всё ещё сплачивает нас только прощанье, Прощанье во прахе Всё ещё сплачивает нас с вами. Да простят мне автор и переводчик то, что я выделил в тексте рефрен "всё ещё…." Он показался мне особо страшен! Это нужно помнить! И ещё нужно помнить обращение Нелли Закс: Народы Земли, не разрушайте Вселенную слов, не рассекайте ножами ненависти звук, рождённый вместе с дыханием. 110 ОГЛАВЛЕНИЕ НИКОГДА БОЛЬШЕ! NIEMALS WIEDER! ОТ АВТОРА 111 РОД РОМЕО. СЕМЬЯ ДЖУЛЬЕТТЫ НОВАЯ, СЧАСТЛИВАЯ, НО КОРОТКАЯ ГЛАВА МЕЖДУ ДВУМЯ ДИКТАТУРАМИ СВИДЕТЕЛЬ С НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА. Глава вставная СТАШЕК СТАРШИЙ СКОМОРОВСКИЙ ДОКТОР КОГАН И ХАННОЧКА ТЕПЕРЬ О ПОЛИЦАЯХ СНОВА О ХАННОЧКЕ ЦЕНА ЖИЗНИ ГДЕ БЫЛЬ, ГДЕ ПРАВДА? Глава вставная ЛЕГЕНДЫ, ЛЕГЕНДЫ, ЛЕГЕНДЫ… УЖЕ ВИДЕН КОНЕЦ ВОЙНЫ ВЕРОЯТНЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЕБ МИССИЯ ГРАФА БЕРНАДОТТА СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАЗАХСТАН ПОСЕЛЕНОЧКА ЧЕТВЁРТОЕ ИМЯ ХАННЫ КОГАН НОВАЯ ДОРОГА К ДОМУ, КОТОРОГО НЕТ МУЗЫКА В ОГНЕ СНАЙПЕР С КРИВЫМ РУЖЬЁМ ЗДРАВСТВУЙ, ШВЕЦИЯ! ЖЕСТОКИЕ И АБСУРДНЫЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА СТАРЫЙ РОЯЛЬ И СНОВА О СТАНИСЛАВЕ СКОМОРОВСКОМ 112 А КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ? В АВСТРАЛИИ, В АВСТРАЛИИ… ТА САМАЯ БРОШЬ ПОСЛЕДНИЕ ИЗ СКОМОРОВСКИХ АЛМАЗИКИ, ТАК И НЕ СТАВШИЕ БРИЛЛИАНТАМИ Документальные рассказы АДВОКАТСКИЙ ВОПРОС КАТЫНЬ И ХАТЫНЬ 113 114