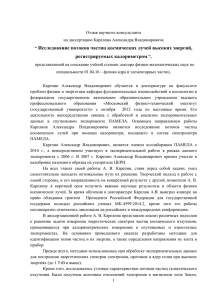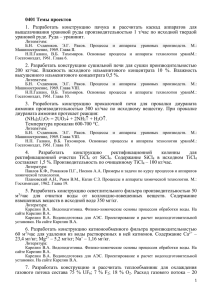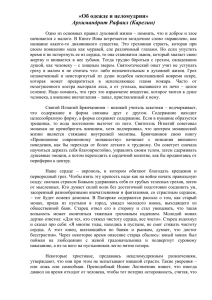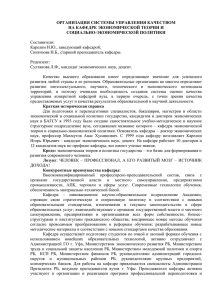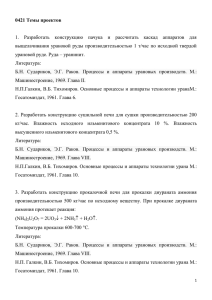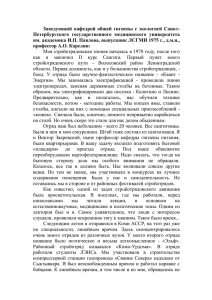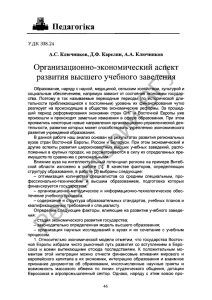Зеленый крест - kolomna
реклама
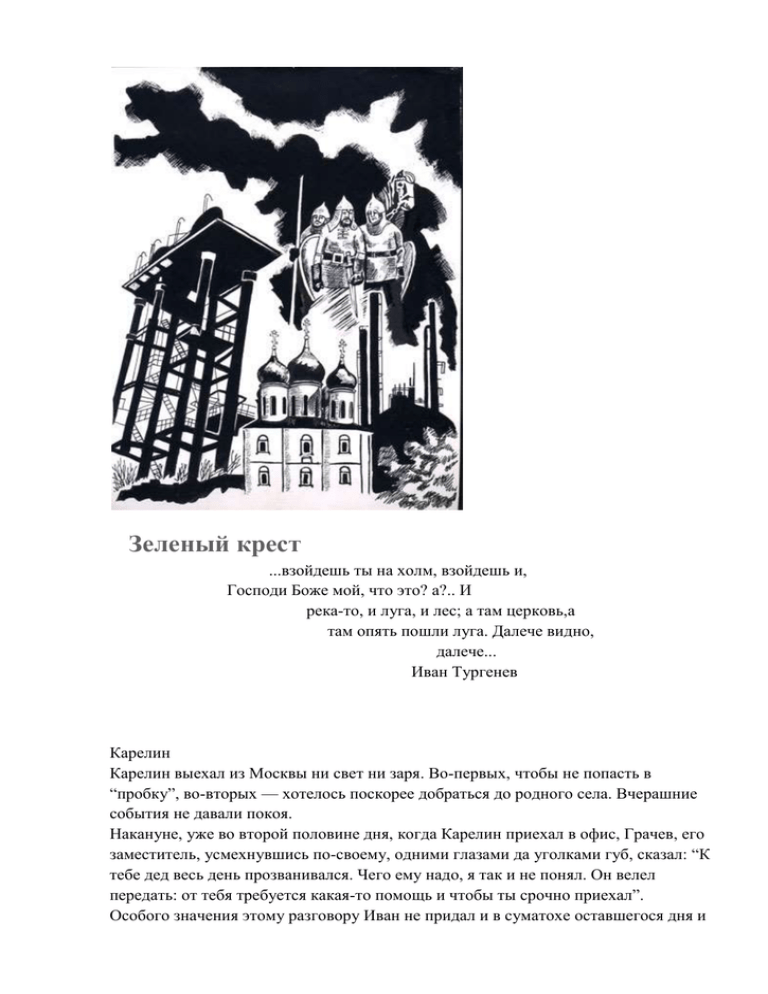
Зеленый крест ...взойдешь ты на холм, взойдешь и, Господи Боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь,а там опять пошли луга. Далече видно, далече... Иван Тургенев Карелин Карелин выехал из Москвы ни свет ни заря. Во-первых, чтобы не попасть в “пробку”, во-вторых — хотелось поскорее добраться до родного села. Вчерашние события не давали покоя. Накануне, уже во второй половине дня, когда Карелин приехал в офис, Грачев, его заместитель, усмехнувшись по-своему, одними глазами да уголками губ, сказал: “К тебе дед весь день прозванивался. Чего ему надо, я так и не понял. Он велел передать: от тебя требуется какая-то помощь и чтобы ты срочно приехал”. Особого значения этому разговору Иван не придал и в суматохе оставшегося дня и вовсе забыл о нем. Но когда вечером вернулся домой, его ждала телеграмма: “Отложи дела приезжай Сретенское во¬прос жизни. Дед” Карелин перечитал несколько раз текст и, пока развязывал галстук, принял решение. Хотя работа постоянно требовала его присутствия, досады на внезапную, никак не запланированную поездку не было. “Неспроста дед зовет в село. Значит, стряслось что-то серьезное”, — с тревогой подумал Иван. И тут произошло такое, от чего Карелин, человек не робкого десятка, пришел в смятение. Во-первых, выбило все пробки. И странно как-то выбило: будто воздушная волна прошла по квартире. Словно на улице гремела гроза и сильный вихрь распахнул неплотно прикрытое окно. При этом Карелин отлично помнил, что никакой грозы снаружи нет, напротив — стоит тихий теплый вечер. Во-вторых, одна за другой взорвались синим пламенем пять лампочек в люстре. Две из них вообще вылетели из плафонов и, сыпя голубыми искрами, упали на ковер. Наступила темнота. И в ней Карелин увидел несколько человек, одетых в блестящую пластинчатую броню. На головах сверкали стальные шлемы, со шлемов спадали на шеи и плечи кольчужные сетки-бармицы, круглые кавалерийские щиты были заброшены за левое плечо, а на поблескивавших серебром и золотом ремнях висели в ножнах тяжелые боевые сабли. И от сверкания этого оружия словно светлее стало в комнате, проступили лица, и особенно поразил Карелина главный воин, стоявший впереди. Пронзительно-синие глаза точно искры горели на смуглом лице, борода и усы отливали цветом спелой пшеницы, а через весь лоб, пересекая левую бровь и щеку, проступал рубец старого шрама. И вдруг все это исчезло. Карелин постоял минуты три, привыкая к темноте. Затем пробрался в коридор и принялся включать выбитые пробки. Загорелся свет на кухне и в коридоре. Иван занялся сменой лампочек, но делал это как-то автоматиче¬ски, потому что прежде всего его волновал вопрос: что же все-таки произошло? Что это было? Сон? Галлюцинация? Карелин, пожалуй, убедил бы себя, что ему просто все привиделось, если бы не стойкий запах конского пота, увядшей травы и дыма. Впереди на мутном горизонте засинел лес, который издалека Карелин принял за облака. Он прибавил скорость и уже в который раз подумал о телеграмме: “Какой там вопрос жизни? Ничего не понятно! То ли дед сам помирает, то ли в селе что-то случилось? Приеду — обязательно старику телефон поставлю. Вот вчера позвонил бы ему и толком бы все узнал”. Собственно, Лука никакой ему был не дед. Просто несколько десятков лет жили они в одном доме. Многими поколениями связались две семьи. Фамилия Карелиных в этих местах известная — еще в прошлом веке у них была в Сретенском фарфоровая фабрика. Родной дед Ивана умер рано, а у Луки единственный сын погиб в войну, не успев обзавестись семьей. Так что с малых лет, не имея кровного деда, мальчуган привязался к “деду Луке”, стал его приемным внуком. А когда умерли и родители Карелина (он в ту пору уже был москвичом), дом их остался полностью на старике. Дед Лука ревност¬но следил за сохранностью родового, так сказать, гнезда. Два раза дом пытались ограбить. В первом случае чутко спавший дед влупил пришельцам соли из двустволки. Когда залезли вторично — проявила свою бдительность азиатская овчарка Суджа, а с такой зверюгой шутки плохи. Один попытался пырнуть ее ножом, и она наверняка загрызла бы его насмерть, но подоспел дед и сдал окровавленного верзилу в руки соседа-милиционера. После этой истории дедову овчарку прозвали “собакой Баскервилей”, а Луку — “дедом Баскервилем”. Карелин, когда узнал обо всем, вставил в окна решетки, и с тех пор “гости” старика уже не беспокоили. После этого Иван ни разу не выбрался в родное село. Времени прошло не так уж много, но жизнь стремительно сжимала пружину, и столь жестокой была борьба за достойное выживание в новую рыночную эпоху, что каждый день можно было смело засчитывать за два, а иной и за три. Закалялся характер, и приходила потребность в неспешных размышлениях: можно ли в полной мере ощутить себя человеком, не познав и не почувствовав своих корней?.. Все чаще Карелин ловил себя на мысли: хорошо бы снова покопаться в семейном архиве, который хранился у деда Луки, да повнимательней, не так, как в прошлые приезды. Перебрать фотографии, документы. Подержать на ладони тяжелый дуэльный пистолет... Может, в этот раз? За спиной остался собор Михаила Архангела. И чем ближе подъезжал Карелин к Трехреченску, тем сильнее щемило сердце. В теплом июль¬ском небе куражился ветер, гася пересветы звезд. Назревал жаркий день. Вспомнилось детство. Подумалось, что не слишком это и много — двадцать лет. А именно столько лет тому назад он уехал из родных краев, рассчитывая обязательно вернуться, как только окончит институт. В том июле почти весь класс разлетелся из села продолжать учебу: кто в техникуме, кто в институте. И вот что удивительно: каждый добился своего. Первые два-три года съезжались летом на каникулы, а потом как-то почти все разом растерялись, рассеялись. Из одноклассников с одним лишь Сашкой Фирсовым поддерживается связь, да и то эпизодически. Сашка после института вернулся в Трехреченск и работает в районной газете. Сам Карелин не жаловался на судьбу. В жизни он был везунчиком: с первого захода поступил на фармакологический факультет самого престижного в Москве медицинского института; без всякого напряга окончил его с красным дипломом, но из института не ушел, а продолжил учебу в аспирантуре, где успешно защитил кандидатскую диссертацию по препаратам группы морфина. Потом, как логическое завершение его удач, была преподавательская работа в том же институте. Может, работал бы там и до сих пор, не “заболей” он экологией. В те годы древо “зеленого” движения только-только набирало свои соки и раскидывало крону буквально над всей страной. Иван оставил кафедру и, сменив костюм на штормовку, с увлечением занялся новым делом. Работа оказалась интересной, хотя далеко не сладкой. Пришлось объездить почти всю страну, воюя за родную землю против губительных для нее химзаводов, каналов и карьеров. В стране ядовитым цветком распускалась “демократия”. Демократы — бизнесмены и политики — тоже оказались большими любителями “зелени”. Не щадя пухлых животов своих, бились они над сохранением и приумножением своего “зеленого” богатства на банковских счетах. Целью Ивана и его “зеленых” соратников было сохранить живую землю и природу для грядущих времен, для демократов же не было ни прошлого, ни будущего. В настоящем, текущем времени для них не существовало годов, десятилетий; они ввели новые единицы измерения: “миг удачи”, “момент успеха”, “сиюминутная выгода”. Именно эти соображения легли в основу проекта захоронения немецких радиоактивных отходов в Подмосковье. Карелин ясно понимал, что надо только переступить черту совести, и тогда поимеешь очень много. Но он наотрез отказался поставить свою подпись под проектом. Ивана понизили в должности и, сняв с “передовой”, перевели “человеком двадцатого числа” в исследовательский институт. Согнуть Карелина не удалось. Он бросил любимое дело и пошел по привычной фармацевтиче¬ской стезе. Поначалу открыл собственный киоск на рынке, продавая отечественные лекарства. Но российские предприятия закрывались одно за другим, и поставщиков у Карелина становилось все меньше и меньше. Иван был мужик башковитый и без куска хлеба не остался. Цепь случайных обстоятельств привела его к другому бизнесу. Поверил в успех, потому и пошел на риск. В новое предприятие вложил все свои ранее заработанные деньги, даже пришлось продать машину, дачу, мебель, однако фамильные драгоценности из тайника деда Луки не тронул. Месяца три бедствовал, но, когда “потек” клиент, дело пошло на лад, принося большие прибыли. Медицинский центр “Кедр” с широкой сетью гомеопатических аптек и поликлиник, концепцией которого было лечение без химии, разрастался с каждым днем, заставляя многих относиться к его занятию с уважением. Всю дорогу стрелка спидометра дрожала на отметке “120”, но Карелину казалось, что так медленно он еще ни разу не ездил. Шоссе в такую рань было пустынно, и его черный джип “Чероки” одиноко рассекал утренний туман. “Интересно, а если бы после учебы вернулся в родные места, как бы тогда жизнь сложилась? — думал он под мерное гудение мотора. — Счастливее бы стал? Вот вы¬рвался домой, и все московские дела отошли на второй план как ненастоящие, ненужные. Моск¬ва так и не стала родной... Да и бизнес этот — счастье он мне, что ли, принес? Ну еще одной поликлиникой больше, ну еще одной аптекой, а дальше что? Семьи нет — кому все достанется? У американцев самое страшное, если ты в жизни кругом неудачник. По их меркам я вроде бы преуспевающий. Так отчего же тогда на душе тошно? Все тот же русский вопрос: зачем живу? Смысла-то нет... Да и откуда ему взяться, смыслу, если в сердце пусто, а в стране бардак?” Но вот наконец появились узнаваемые места: мелькнул щит с надписью “Трехреченский район”, осталось позади и Станово. Карелин сбавил скорость и поехал, не торопясь, по старинной Ильинской слободе, за которой открылся мост через подернутую туманом речушку, а за ним с левой стороны показалась алая, подсвеченная рассветом зубчатая стена кремля, а справа— словно парящие в воздухе контуры Архангельского храма. И потек, потек старый Трехреченск — двух¬этажными домами, церквами, колокольнями, магазинами и торговыми рядами. Тысячелетний купеческий город кончался у бывшей Шуваловской заставы; от Андреевского кладбища Карелин свернул в район новых застроек. Побежали стандартные пяти- и девятиэтажки, разбавленные пестрыми частными магазинчиками. Привычно екнуло сердце, когда промелькнуло трамвайное депо: на фасаде, под самой крышей, вы¬ступающим кирпичом была выложена дата постройки — год рождения Карелина. “А домище ничего... крепок, однако... — Иван с удовольствием посмотрел на своего одногодка. — Ничего, еще не вечер, еще поскрипим”. Карелину было чуть более сорока; роста богатырского, плечи покатые, сильные, грудь широкая, а кулачищи — что кувалды. В общем, не мужик, а загляденье. Правда, виски в последнее время поседели, но это его не старило; он по-прежнему ощущал ту медвежью силу, которой всегда славилась карелинская порода. Дома кончились, а дальше, за путепроводом, открылись былинные места: Кувшиновка, Филиппово, Дивное Поле... За последние годы кварталы девятиэтажных домов за¬крыли все Дивное, но в детстве Ивана оно было просторным и свободным. Легко представлялось, как здесь, среди ковыльного моря, Димитрий Дон¬ской собирал свою рать перед походом на Куликов¬скую битву. Карелин не удержался, остановил машину и вышел. Вдалеке угадывались крыши его родного села — именно такими они и приходили в его московские одинокие сны, не давая покоя, сообщая особенную тайну, за которой крылось (он это чувствовал!) что-то великое. Иван глубоко вздохнул. Некая грозная энергия трепетала в трехречен¬ском воздухе. Откуда она здесь берется — никому пока не ведомо. Старики утверждали, что мощь приходит свыше. Карелин понимал: это не просто Поле в географическом понятии, а историческая точка разлома, здесь и Восток, и Азия, но не по горизонтали, как на Урале, а прямо с небес в бесконечную глубь грешной земли... Но изменилось, изменилось Поле со времен детства. Вроде как и сохранилось оно, а вроде как и исчезло... Правда, рядом с разрушенной Троицкой церковью еще живет целебный святой источник. Предание гласило: плыл однажды Сергий Радонежский по Оке к Старо-Богоявлен¬скому монастырю, остановился у красивой излуки: пить захотел. Взошел на крутояр, ударил посохом о землю — и забил родник. До революции часовенка над ним стояла, и на Троицу от Филипповской церкви шел к источнику крестный ход с иконой преподобного старца... Стоило только Карелину подумать о роднике — и зубы заломило, сладко замерло в груди от воспоминаний о выпитой в детстве вкуснейшей ледяной воде. Он улыбнулся, увидев почти у самых ног крохотный ручеек, присел на корточки, черпнул ладонью водицы, плеснул ее на лицо, потом выпрямился и пошел к машине — пружинисто, легко, словно не ступал, а летел над землей. Просторное шоссе сменилось узкой и разбитой деревенской дорогой. Вот уже и проселок проехал к переправе Черный Бык... Карелин хорошо помнил: если по нему пойти в обратную сторону, выйдешь к рощице Барские березы. В детстве Карелин бегал туда за грибами. И грибной дух сразу вспомнился: пряный, сытный — на весь дом! У каждого мальчишки в этой рощице было свое потаенное место, и каждый возвращался домой с полной корзиной. Прутья корзин отливали золотом и бронзой, а изнутри, из-под зеленых ветвей, отсвечивало маслянистым блеском тяжелое духовитое мясо грибов. А вот и старый лес Первые Насечи. Он почти не изменился, разве чуть отступил от поля, оставив после себя валежник да сгнившие пни. За Лихачевым оврагом открылся необъятный Савин луг с высокой травой. А вот и пыльная Щепотьевская дорога, ведущая прямиком к родному селу. К ней, с огородов, он часто мальчишкой выбегал босиком, и так же, как сейчас, золотилась по ее краям тяжелая пшеница, а от проходящих машин веяло сладким дыханием бензина и пылью неведомых далей... Карелин не удержался и снова остановил машину. Солнце уже приятно пригревало. Он перепрыгнул через канаву, заросшую бурьяном, и вошел в пшеницу. Она была высокая, колоски бились у самого его сердца. Подъезжая к Сретенскому, он увидел новую посадку деревьев. Одно из них, словно сделав шаг из общего строя, росло впереди и было похоже на князя, готовящего дружину к бою... Дед Лука Просторный карелинский дом (шесть окон на фасад), солидный, на каменном основании, был стар: лет полтораста, самое меньшее. Дом построен по-барски: из бруса, ровно, по квадрату обтесанных здоровенных бревен; наличники простые, “под камень”, без выкрутасов. Заборчик перед фасадом выкрашен веселенькой желтой краской. В палисаднике среди цветов и крыжовника прохаживался с тяпкой дед Лука. Он держал ее вертикально, на манер копья, а глаза прикрывал ладонью и был похож на Илью Муромца. Догадавшись, что это Иванова машина, дед подхватился и с тяпкой наперевес бросился отворять ворота. — Здорово, сэр Баскервиль! — радостно заорал Карелин, лихо въезжая во двор. Тут же в дальнем углу загремела цепь и грозный лай оглушил всю округу. — Суджа, не узнаешь? Баскервильская псина вдруг перестала лаять, воззрилась на Карелина и, признав, помахала хвостом. — Ваньша... Приехал... — бормотал старик, обнимая Карелина. Глаза у него были на мокром месте. — Да ты что, дед? Что случилось? Помирать, что ли, собрался? — Скоро мы здесь все сдохнем собачьей смертью, — сердито отозвался дед Лука. — Помоги ворота закрыть да пошли в дом. Тут такая новость, что на ходу и не расскажешь. На малом огне посипывал чайник, на столе под полотенцем доходила заварка. — Завод у нас собираются строить, — сказал дед Лука и посмотрел Карелину в глаза. — Нефть будут перерабатывать на бензин. Лицо Карелина омрачилось. — Ни хрена себе... — протянул он. Дед разливал чай. — Кто строит? — Карелин взял чашку. — Шут их знает! Купили какие-то проходимцы наше районное начальство и теперь проталкивают проект в Сретенском. — А ты ничего не путаешь? — с сомнением спросил Карелин. — Ведь этого не может быть! Здесь же люди живут, и Филиппово рядом, в четырех километрах, а там народу — треть города. — А вот завтра узнаешь, путаю я или нет. Ты как раз в аккурат приехал. Поутру будут у нас гости: районные шишки и фармазоны заезжие. Они тебе все разобъяснят-распишут. Карелин задумался. Быстрого возвращения в Москву, как он и предполагал, не получалось. Здесь придется задержаться, и не на один день. Прихлебывая чай, Карелин позвонил по сотовому в Москву, расспросил Грачева о делах, дал инструкции и велел постоянно информировать о происходящем. — Вот за этим я тебя и вызвал. Помощь твоя нужна. Берешься помочь нам? — спросил дед Лука. — Да уж куда денешься! — усмехнулся Иван. — Вот и пистолет сгодится. Сохранил наш тайник? — Хорошо, что помнишь. Пошли в гостиную, открою я тебе его, — тихо ответил дед Лука. Гостиная была залита солнцем. В углу блестела кафелем печка, робко играли густо-коричневым лаком стол и старинные стулья. Керосиновая лампа из темной бронзы, переделанная в электрическую, радостно отсвечивала матовым стеклянным абажуром, и даже выцветшие от времени обои казались нарядными и праздничными. — Кругом здесь карелинская земля, — кивнул старик за окно. С этого он начинал всегда. — Это вековое ваше поместье... Ты понимаешь это, Ваньша? Так или иначе, а ты за наше село отвечаешь. За всех нас... В комнате стояли два шкафа из красного дерева: один с посудой, другой с книгами. Дед подошел к первому и распахнул стеклянную дверцу: — Иди сюда. Карелин подошел. — Ты все это не первый раз видишь. Но я тут, понимаешь, за последние годы еще кое-что подсобрал. Люди сейчас обзаводятся заокеанской посудой, а эту в мусор выносят. Не ведают, от чего отказываются. Этим вещам цены нет. — Ага, вижу... Это что за черный горшок? — Сам ты горшок, дурень, — обиделся дед. — Это рукомой XVII ве¬ка. Практически целый. Видишь, трещину за¬клеил — и смотрится как новый. Он из Гончарной слободы. У меня там знакомый один живет. Копал огород и наткнулся на старый гончарный горн. А он весь битой посудой заполнен. Ну, основная часть, конечно, в музей ушла, но кое-что я выпросил. Ты смотри, какой рукомой: с двумя сливами, а сливы-то — в виде бараньих голов. Лощеный — блестит, будто из чугуна. — А зачем он тебе, дедуль? — Есть у меня догадка, что род Карелиных пришел сюда из Гончаров. Был, во всяком случае, в XVII веке в Гончарах один Карелин: надпись от него осталась в тамошней Богоявленской церкви на иконном окладе. А Гончары — это ведь страшная древность. Туда аж в начале XVI века крестьян из округи переселяли — делать кирпич для трехреченского кремля. А это, Ваньша, времена государя Василия III, не позже 1525 года. Как раз об это время кремль-то строить начали. — Откуда ты все это знаешь? — удивился Карелин. — Грех не знать. Земля-то, чай, не чужая... Своя. — Так... Выходит, ты думаешь, что среди этих кирпичников и мои предки были? — Конечно! Может, вот этот самый рукомой как раз в твоем родовом горне и найден. Карелин осторожно взял старинное изделие. Глина, сформованная под металл, оказалась удивительно легкой. Иван тихо, чтобы не стукнуть, поставил рукомой обратно на полку. — Глянь сюда, — оживился дед Лука. — Вот чайник, вот молочник, вот блюдца и чашки, тарелки. Все из разных сервизов, да теперь это неважно. Таких вещей не встретишь ни в каком музее, так-то вот. А это ведь настоящий фарфор. Смотри, как на солнце просвечивает! Возьми любую вещь, ну хоть вон тот молочник. Видишь, какой чистый обжиг: ни одной крапинки. А приложи-ка палец к нему снаружи, глянь изнутри: видишь тень? — Вижу. — Этим и отличается фарфор от фаянса. У фаянса тесто толстое и грубое: хоть ты его золотыми финтифлюшками распиши, а он фаянсом и останется. А фарфор, Ваньша, и нерасписанный красив; у него даже если стенки толсты, он все равно внутренним светом играет, словно жемчуг, и солн¬цем пробивается насквозь. Гляди-кась, какая чашка. Лебедь белый, а не чашка! Вот и вензель на донышке — “Матвей Карелин”. Основатель дела. Отец твой перед смертью просил, чтобы я все это уберег для тебя. Карелин задумался. — А скажи, дед, как ты думаешь, почему Карелины сюда перебрались, на берег Оки? Сидели бы у себя в Гончарах и сидели. — Чудак человек! Разве тебе отец не рассказывал? А глина-то? — А что глина? — Да ведь в Трехреченске хорошей глины нету. Ну кирпич, ну грубую крестьянскую посуду делать, корчаги там или кринки — это еще туда-сюда, можно. А для фарфора особая глина требуется. И возили ее с Украины, по Оке на баржах. Так что здесь для фабрики самое место. — Вот оно что... А когда дело закончилось? — В начале восьмидесятых. — Сила ушла? — Да едва ли... Против столичных заводов и самого Кузнецова разве устоишь? У тех возможности другие: и ассортимент шире, и качество лучше, и, самое главное, продукция дешевле. Видимо, помыкались-помыкались Карелины, и пришлось переполаживаться на другой лад. Помещиками стали, фабрику дачей сделали и занялись зем¬скими вопросами. — Ну уж и помещиками... — Именно помещиками. Видишь стол овальный? Видишь стулья? Ты думаешь, почему у них такие формы грубоватые? Крепостные мастера делали... Карелины, правда, тогда еще дворянами не были, но жили широко, по-дворянски. М-да... Ампирный дух, ампиром пахнет. Дед Лука отворил другой шкаф. Засверкали золотом старинные, местами потертые кожаные корешки. — Вот он, ваш тайник. Я его шкафом с книгами прикрыл. Подсоби-ка. Быстро переложили на стол пузатые словари, Жуков¬ского с Лесковым, Достоевского с Лермонтовым и прочих властителей дум. Отодвинули шкаф. В стене обнаружилась железная дверца. Дед Лука покряхтел, повертел длинным ключом, и дверца распахнулась. Вынув из ящика ларец красного дерева, дед сел с Карелиным за стол и вытащил из ларца кипу документов. Непривычным почерком прошлых веков, завитушками и вензелями запе¬стрели документы на Сретенское и окрестные земли. Затем план развернулся — старинный, потертый на сгибах, раскрашенный в разные цвета, с позднейшими разновременными дописками. Тут же были план завода, бумаги по его ликвидации, план барского дома — карелинской дачи. И несколько фотографий. Из серебристо-серого сумрака глядели на Ивана его давно умершие предки. Карелин, прищурив глаза, принялся читать какую-то выписку: “Сретен¬ское... село первого стана... Стукаловой Марьи Никол. Поруч., крестьян 59 душ м. п., 54 женского, церковь одна, 19 дворов, 95 верст от стол. (от столицы, что ли?), 11 от уезд. гор., на проселочной дороге. 1842 год”. — Ты лучше вот что почитай. — Дед подсунул ему другую бумагу. Ветхий канцелярский свиток гласил: “8 августа 1850 года. Господину Московскому Военному Генерал-Губернатору Купец Матвей Сергеевич Карелин в поданном к г-ну Гражданскому Губернатору прошении объясняет, что он купил в Трехреченском уезде в 1-м стане близ села Сретенское пустошь, именуемую Чертова, на коей местности (дальше было неразборчиво) устроить фарфоровый завод... просит о допущении его к постройке означенного завода и о выдаче ему на этот предмет установленного свидетельства. Из собранных сведений оказалось, что купец Карелин действительно купил означенную землю и введен ею во владение установленным порядком 9 января 1847 года. На заводе этом будут находиться: одна машина, приводимая в действие четырьмя лошадьми, 60 человек рабочих людей, которые помещаться будут удобно. На годовое отопление и действие завода потребно до 300 саженей дров, работы на заводе не будут производить порчи ни воде, ни воздуху...” — Чувствуешь, какие хозяева были?! — прервал чтение дед Лука. — Уже тогда понимали, что землю надо в чистоте держать. Хотя какой от этого производства вред? — Да, дед... Это просто в голове не укладывается! “...К устройству купцом Карелиным означенного завода со стороны местной полиции препятствий не встречается. Имею честь представить ходатайство купца Карелина на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, испрашивая Вашего разрешения. За Гражданского Губернатора — Вице-Губернатор”. Карелин отложил пожелтевшую бумагу. На дне шкатулки в отдельных коробочках хранились два ордена: Аннин¬ский и Святого Владимира, несколько старомодных вычурных перстней с маленькими бриллиантами, одинокий дуэльный пистолет и зеленые, видимо из нефрита, четки, зерен на пятьдесят, замкнутые нефритовым же крестом. Четки были потертые. — Из Иерусалима, освящены на Гробе Господнем, — тихо произнес дед Лука, — прабабки твоей. Богомольная была, я ее еще застал. Да... Вот оно, твое наследство. Когда в семнадцатом году барский дом нацио¬нализировали, все Карелины сюда перебрались, к потомственным своим сторожам — моим, стало быть, предкам. Захватили с собой, конечно, что под руку попало — не до выбора было. Многое в голодное время разошлось. — Дед, я вот что не могу в толк взять... Почему Карелиных в тридцать седьмом не перебили? — В двадцатые годы люди еще добро помнили. Карелины ведь многих здесь кормили, многим помогали. Когда они переезжали, крестьяне предлагали им: “Давайте мы отвезем все ваше имущество”. Крестьяне-то очень хорошо к барину относились. А он им ответил: “Нет, пусть все останется здесь. Возьмите себе то, в чем нуждаетесь”. Карелины остались на родной земле все до единого, и ни одного ни в двадцатые, ни в тридцатые почему-то не тронули. Странно... В то время мы все должны были сгинуть: и сторожа, и баре. Видимо, Бог сберег, уж не знаю, чьими молитвами. Может, для того и сохранил, чтобы ты сейчас эту землю отстоял. Еще раз спрашиваю: точно берешься за дело? — Берусь, не сомневайся. А сейчас я пока в город съезжу, разузнать надо кой-чего, раз ты говоришь, что завтра будет сход. — Во-во, давай действуй. К Сашке в редакцию заедь, он тебе потолковее разъяснит, а я пока кухней займусь. Не задерживайся! — Как получится... Может, с дружком и вернусь. “Трехречка” Карелин выехал со двора, когда над селом повисло и замерло июльское солнце. Кругом было безмолвно и тихо, только со стороны фермы слышался одинокий гул трактора. Деревня работала. Главной его задачей было найти старого приятеля, который работал в местной газете “Трехреченская правда”, в просторечии именуемой “Трехречкой”. Туда и направился Карелин. Размещалась “Трехречка” на старинной Астраханской улице, в дореволюционном двухэтажном доме, построенном никак не позже первой половины XIX века. Судя по солидности здания, сначала это был купеческий дом, а к концу столетия здесь учредилась типолитография Тембурского. С тех пор и живет в этом доме газета, после прихода новой власти сменившая свое название. В редакцию надо было подниматься на второй этаж по крутой выщербленной лестнице. Сколько по ней народу прошло — уму непостижимо! И все народ пишущий, среди них и знаменитые литераторы попадались... Бегал сюда когда-то и Карелин со своим закадычным другом Сашкой Фирсовым. И вот в который раз поднялся он по знакомым ступеням. Толкнул знакомую дверь с надписью: “Промышленный отдел”. — Могу я увидеть Александра Фирсова? На него удивленно посмотрел молодой человек: — Он у себя. Дверь прямо по коридору. Табличку с золотыми буквами: “А. Фирсов, редактор”,— он увидел издали. Остановился, удивленно ахнув. По сравнению с другими обшарпанными дверьми эта выглядела богато: полупрозрачное цветное стекло, фурнитура под золото. Карелин мягко толкнул дверь. Сашка сидел за столом и, склонив низко голову, что-то писал. За эти годы он мало изменился. Разве что заматерел. Под клетчатым пиджаком угадывалось попрежнему сильное тело. — Ну, ты, может, голову поднимешь? Не каждый день к тебе такие гости, — громко сказал Карелин и прошел на середину кабинета. — Ванец! — коренастый, белобрысый Фирсов кинулся к нему, поблескивая золотыми дужками очков. — Каким ветром?.. Небось свои филиалы хочешь открыть в Трехреченске? Карелин глянул с уважением: — Да ты никак телепат! Действительно подумываю. Но к тебе пришел с другим вопросом. Уселись. — Может, за встречу? — Фирсов откатился на кресле в угол кабинета и, открыв сейф, извлек оттуда бутылку коньяка. — Да нет, Сашок, я за рулем. Давай отложим на вечер. — Ну тогда давай выкладывай. — Саша убрал бутылку. — Люди мы маленькие, но кое-что могём. — Ладно, не прибедняйся. Скажи лучше, как ты из пром¬отдела в редакторы попал. — Тут все просто. Девяносто первый год помнишь? — ГКЧП, что ли? — Ну да. Тогда наша редакторша целую полосу дала о тех событиях. Не удержалась, конечно, и от собственных комментариев. Хотела оказаться на гребне, но поторопилась старушка. Ну а когда этот спектакль провалился, надо отдать ей должное: сама подала в отставку. И правильно сделала: тетка она битая и знает, что за такие дела по головке не гладят. Ну а меня вместо нее назначили. Уж не знаю за что. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну и с каким делом ты к нам пожаловал? — Сашок, я насчет нефтеперерабатывающего завода. Фирсов так и сверкнул глазами. — НПЗ? Вот оно как... Ну и что скажешь? Какое у тебя отношение? — А какое здесь может быть отношение? У экологов есть летучая фраза: ни один живой вид не может существовать в среде, созданной из собственных отбросов. — Ну и?.. — Что “ну и”? Ты что, Сашка, не представляешь, какое дело у тебя здесь, под носом, затевается? Когда мне об этом рассказал дед Лука, я даже не поверил. — Жив еще? — удивился Фирсов. — Постой... Сколько же ему лет? — Вечный он. Приезжай, порадуешь старика. А теперь расскажи мне подробно об этом заводе. Разговор прервала вбежавшая в кабинет полная женщина. Не обращая внимания на Карелина, она взволнованно воскликнула: — Александр Григорьевич, не знаю, что делать! Горит первая полоса! Копытин снова не подготовил блок информации. — Похоже, с Копытиным придется расстаться. Совсем парень перестал работать. У нас на первой полосе репортаж о забастовке на заводе тяжелых станков? — Да. — Ну поставьте тогда с репортажем не одну, а две фотографии. — Не получится! Драйвер-то у сканера полетел. Теперь жди, когда придет программист из компьютерного центра. А к двум уже надо сдать пленки в типографию. — Полный абзац! — ругнулся Фирсов. Карелин представил себе, как горит в костре газета его друга, и не смог удержаться, улыбнулся... — А что тут рассказывать? — продолжил Фирсов, когда женщина ушла, и пожал плечами. — Администрация района потенциально согласна на строительство и выделение запрашиваемого земельного участка. Что ею движет — легко понять. Промышленный потенциал района практически равен нулю, бюджет скуден. А деньги необходимы. Строить новое предприятие? А где гарантии, что оно будет рентабельным? Для этого надобно найти свободную нишу на потребительском рынке, определиться, что же именно производить, да мало ли чего... А тут подвернулся проект с переработкой нефти. Пусть производство экологически вредное, но оно стопроцентно гарантирует живые деньги и наполнение сундуков. Причем сразу же, как только будет вбит первый колышек. Развернется строительство, будут задействованы рабочие кадры, оживятся транспортники. Через пять лет, когда завод начнет функционировать, денежки потекут уже от продажи бензина. — Зама-а-нчиво-о... — протянул Карелин. — Какой вы¬брос они вам пообещали? — По предварительным расчетам, 5500 тонн в год. Немало это? — Фирсов потянулся за сигаретой. — Порядочно. Для многих строительство нефтезавода будет решением жилищной проблемы. Думаю, покойникам пенсия вряд ли понадобится. Опять же экономия районной казны. В общем, куда ни кинь — кругом оказывается, что строительство выгодное. — Неужели все так мрачно? — А ты как думал? Анекдот не слышал? “В нашем городе живут самые веселые и самые молодые люди. Веселые — потому что смеются, когда ветер дует на соседний город, а молодые — потому что до старости никто не доживает”. Фирсов, не докурив сигарету, смял ее в пепельнице: — Проектировщики завода обещают, что закупят импортное оборудование, которое максимально обеспечит экологическую чистоту производства. — Это бабушка надвое сказала. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что они там установят — новейшее или устаревшее. А кто тебе даст статистику смерт¬ности от профессиональных заболеваний? Сан¬эпидстанция, уверен, куплена, и никто не скажет правду о состоянии атмосферы, почвы, водоемов. Если уж в советские времена, когда не было частного капитала, о человеке не заботились, то какой же капиталист выбросит собственные деньги на охрану чужого здоровья! — Иван, но ведь есть же независимые экологи... “Зеленых” привлечем для контроля... Иван вскочил и быстро прошелся по кабинету. — Сашка, не будь лопухом. Посмотри привязку НПЗ на местность: с одной стороны — город, с другой — в километре — Сретенское. А ведь санитарнозапретная зона вокруг завода должна быть не менее двух километров. — Да, при таком начале чего же дальше ждать... — Понимаешь, — чуть успокоившись, продолжал Карелин, — в нефти всякой пакости достаточно. Но все в микроскопических дозах. Ртуть, например, — сотые доли процента. Но если счет пойдет на миллионы, это будут уже килограммы, десятки килограммов. Ты понимаешь? Уже на следующий год во всей округе нельзя будет ни картошку сажать, ни яблоки выращивать — все будет отравлено. И Филиппово начнет вымирать. Роза ветров ведь как раз дует от Сретенского. Вот и все. — Ну и что же делать? Карелин помолчал, постукивая пальцами по столу. — В первую очередь нельзя допустить строительства... Здесь любые средства хороши, тут не грех и за двустволки взяться. — Эк ты махнул. — А как же ты думал? Вот так сидеть и ждать, пока они за гланды схватят? Кстати, а что это за фирмачи собираются завод строить? — “Регион-нефть”? Да как тебе сказать... Проходимцы натуральные. — Это слово я сегодня уже слышал. — Ну и правильно слышал. Фирмочка из Отрепьевска. — Откуда же там нефть? — Так и я о том толкую. Типичный гешефт. — “Дети юристов”? — Вот-вот... Они завязались с японцами. Те обещали большой кредит. И эти наши отрепьевцы, нефтяные шейхи, понимаешь, занюханные, стали под кредит активность разводить. Ведь ни хрена еще нет — ни денег, ни проекта, ни экспертизы, а они уже завод запланировали. — А большой кредит обещали-то? — Огромный. Большие тут деньжищи задействованы... Только одни местные налоги будут равны трем районным бюджетам. Ну наши районщики губы-то и раскатали. Полный абзац... Погоди, я тебе сейчас еще кое-что покажу. Фирсов порылся в столе и положил перед Карелиным пухлую синюю папку. — Что это? — Принципиальные технико-экономические соображения по строительству НПЗ. Карелин углубился в чтение. И чем больше он читал, тем лицо его делалось мрачнее. — Ну что? Как на твой профессиональный взгляд? — спросил Фирсов, когда Карелин захлопнул папку. — Судя по этим документам, вам готовят уже не свалку, а целое кладбище! Сашка, надо что-то предпринимать! Или вы так и будете сидеть молча? — Ты откуда такой выискался? А что, по-твоему, журналист должен делать? Баррикады строить? Погляди, сколько наша газета на эту тему статей напечатала! — Ладно, не кипятись, — Карелин улыбнулся. — Тут одними публикациями вопрос не решишь. — У тебя есть конкретный план? — Пока нет. Но будет. — Слушай, Ванец, ты что, серьезно решил в это дело влезть? — А что делать? Отойти в сторонку и смотреть, как твой город живым в могилу закапывают? — Не боишься? — Чего? — Что голову оторвут. Карелин прищурился: — Знаешь, если я в московском бизнесе выжил, меня отрепьевским не испугать. — “Мэн крутой”? — Угу. “Я круче всех мужчин”. — Здесь слишком большие деньги заряжены. Свинцовым холодком попахивает от этого дела. — Я стволов не боюсь. Фирсов помолчал, усмехнулся и покачал головой: — Журналистское чутье мне подсказывает, что завод все-таки будет по¬строен. Но рискни. Может быть, все и не так безнадежно. — Дед Лука мне сказал, что завтра будет сход в Сретенском. Наверное, начальство разное соберется. Поглядим, побеседуем... — Знаю. Наш журналист там тоже будет. Мой совет: познакомься во время схода с дельными людьми. В том селе начальник автоколонны живет, депутат из гордумы Батюшин. Он тоже недовольных собирает. Если объединитесь — может, толк и будет. Но еще раз говорю: рисковое дело ты затеял. — Не в первый раз... Папочку заберу? — Бери, конечно. Если что нужно — всегда помогу. — Еще вопрос. Что городская администрация говорит? — Отмалчивается. Их тоже можно понять. Кому охота с Москвой и с подмосковным правительством ссориться? — Даже так? — Я же тебе говорю: дело серьезное. У них одобрение есть на самом высоком уровне. — Спасибо за информацию. Заезжай в гости. Шашлычок устроим. — Ладно, заеду. — Фирсов крепко пожал протянутую руку и отвел глаза в сторону. До самой ночи Карелин мусолил странички толстой папки. Дед Лука только подносил толстые бутерброды да крепко заваренный чай. — Ну чего? Просекаешь? — не выдержав все-таки, поинтересовался дед. — Основная линия всей этой мерзости становится для меня ясной, — пробубнил Карелин набитым ртом. — Скажи, Ваньша, — спросил дед, подпирая голову темной, в морщинах ладонью, — а почему эти демоны Сретенское выбрали? — А вот почему. — Иван ткнул пальцем в расстеленную карту района. — Рядом нефтепровод. Это раз. Тут же — шоссе и сычевская железная дорога. Три, значит. Другого такого места им в Подмосковье не найти. — С этим нефтепроводом у нас беда, — перебил его дед.— В нескольких колодцах, что поблизости от трубопровода, поверхность затянута масляной пленкой. А в других местах вода просто пахнет керосином. Пить ее нельзя. Только один колодец и сохранился — выше по деревне. Из него для питья и берем воду. Карелин покачал головой. — А если очистку поставить, постоянную, хорошую очистку, может, и не будет для нас вреда? — спросил с надеждой дед Лука. — Никакая очистка не может дать абсолютной стерильности, — мрачно ответил Иван. — Есть такие вещества, которые опасны даже в минимальных дозах. А при больших объемах производства они будут накапливаться. Ну вот, например, бензапирен. — Что это такое? — Яд, деда. Канцероген. — Это от которого рак происходит? Это нам и так гарантировано. Половина народу от него мрет. — Тогда начнут рождаться уже больные. Старик долго сидел в молчании. Сплетенные руки он положил на стол и смотрел на них. — Исайя... — тихо сказал он. — Что? — не понял Карелин, собирая в папку листки. — В Библии есть Книга пророка Исайи. Страшные там вещи написаны. Не верится, что все это сбудется. Однако вот сбывается. — Он кивнул за окно, в сторону багрового заката. — И главное, Ваньша, что мы сами во всем виноваты. У нас нет возможности упрекнуть Господа. — Да ты что, дед? Как же Его можно упрекнуть? — Не скажи... Был такой еврейский праведник Иов, так он во время несчастий все судился с Богом: “За что, мол, Господи, Ты караешь меня?!” — и все в таком духе. В Библии даже целая книга есть с его жалобами. — Что это тебя, дед, на ночь глядя на духовные речи потянуло? — Не скалься попусту, послушай лучше, чего тебе дед говорит. Так вот, Ваньша, мы далеко не праведники. И мы даже не можем кричать: “За что, Господи?!” — потому что и так ясно — за что. — Ясно-то ясно, но что делать? — Сначала нужно свой грех отмолить. Все беды у нас пошли, как часовню порушили. Вот ее и надо восстановить перво-наперво. Карелин только плечами пожал: — Как у тебя все просто. Думаешь, часовню восстановят — и строительство завода прекратится? Нет, дед, здесь, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. — Здоровый ты вырос, Ваньша, а глупый. Не понимаешь главного. А я все же добьюсь, будет у нас часовня. Это уж как Бог свят. — А деньги откуда возьмешь? — Неужель ты не поможешь? Иван хмыкнул, помолчал, прикидывая необходимые за¬траты. — Помогу... Но как все, не более. Дед вздохнул: — Невер ты, Ваньша. Сама земля сретенская содрогается, а ты бубнишь: “Как все, не более”. — Не пойму я что-то. “Земля содрогается”... О чем ты? — А о том, что ко мне приходил недавно князь Никола с воеводами. Я об этом помалкиваю, а то, не ровен час, упекут в дурдом. Но тебе, Ваньша, скажу. Приходил воевода. У Карелина почему-то пересохло в горле. — Ну-ка подробнее! — Пожалуйста. Дня три тому слышу я ночью, Суджа скулит. Не воет, а скулит, как напуганный щенок. Это что же должно случиться, чтобы такую собачищу напугать! Вышел я на крыльцо, вижу — веришь ли? — дружинники стоят: в бронях, со щитами и саблями. И впереди — князь. Глаза точно синие искры горят, борода русая по броне разметалась, и на лице шрам через левую сторону. Он это был, воевода Никола. — Что за воевода? И почему ты решил, что это именно он пришел? — А потому, что когда в Трехреченске Димитрий Дон¬ской войско собирал, был у нас в городе наместник, князь Никола, воевода полка трехреченского. Храбрый воин был. Дрался на Куликов¬ской битве как лев. И погиб он в том бою, а вместе с ним — двадцать бояр трехреченских. Не стали их там хоронить, на месте битвы. Привезли сюда, на родину, в Сретенское. И те курганы, что в роще за селом, над их могилами насыпали. — А, помню. Куликова пустошь это место называется. — Вот-вот... Зашевелилась Куликова пустошь. Высылает своих ратников на новую битву. Ну, что молчишь? “Скорую помощь” не собираешься вызывать? — Нет... — А то ведь и для Суджи “скорая” тоже потребуется. Как дружинники пришли — а я их только несколько секунд видел, — подхожу я к Судже, а она, бедная, в конуру забилась, визжит от страха, и шерсть дыбом. Карелин молчал. Дед Лука посидел еще, затем усмехнулся про себя и поднялся: — Пойду-ка я спать. — Но у двери вдруг остановился. — Эх я, старый дурак! Я же тебе еще с утра собираюсь сказать, и все из головы вон. Здесь же твоя Лидка бывает. Наезжает, почитай, каждый день. — Линда?! Здесь? — изумился Карелин. — В гости приехала? — Да нет, насовсем. Газетчицей в городе работает. — Что же мне Сашка об этом не сказал? Ведь он ее знает. — Потому, видать, и не сказал... И старик закрыл дверь. “Чухонские выселки” Утро августа 1942 года было разорвано лаем собак. Цепи гремели, проволока визжала, колья качались. А по дороге длинной колонной двигались военные грузовики с кухней и артиллерией. И сквозь поднятую сретенскую пыль слышался только рев машин, перебиваемый злобным собачьим лаем. У правления сельсовета машины остановились. Первыми из кабин выпрыгнули офицеры. Раздалась команда на чужом языке, и вот из кузовов точно горох посыпались на землю солдатики в новой военной форме. Сретенские мужики разглядывали их с любопытством и опаской. К правлению шел председатель. — Слышь, Петрович! — встревоженно спросили его. — Что это за войско такое? Лопочут не по-нашему, а одеты в советскую форму. Никак, немецкий десант высадился? Председатель рассмеялся: — Приходите завтра в правление — всем по мешку муки выдам за бдительность. Не колхозники, а СМЕРШ какой-то. — Да ладно, председатель, не темни! — Эстонцы это. В нашем селе формируется национальный полк. Жить будут в палатках, ну а провизией мы их должны обеспечить. Они за это подсобят нам в уборке, подремонтируют элеватор. С посевом опять же помогут. Если успеют... Эстонцы оказались людьми добродушными и трудолюбивыми. Многие сами были из крестьян. Среди деревенских мужиков очень скоро завели себе приятелей. Но особенно они приглянулись местным девушкам. Светловолосые, высокие, голубо¬глазые парни многим пришлись по сердцу. Заженихались. И после войны шестеро эстонцев вернулись к своим молодым женам. Девки отказались ехать на чужбину, и парни остались в Сретен¬ском. В конце села построили на свой манер уютные, чистенькие дома, которые местные острословы тут же окрестили “чухонскими выселками”. Так и повелось с тех пор: “чухонские выселки” да “чухон¬ские выселки”. Рождались дети, вырастали, и снова в этих домах играли свадьбы. В результате “чухонский конец” вытянулся новыми аккуратными домами аж до самого леса. Линда была самой красивой из поколения обрусевших эстонцев — стройная, с роскошными золотисто-соломенными косами, с огромными, лучистыми глазищами и пушистыми ресницами. Она проходила по селу словно солнечный луч, и, завидев ее, каждый при встрече улыбался. Даже бабка Парменова (имя-отчество ее все забыли из-за бабкиной вредности), даже она, самая склочная сретенская бабка, называла Линду не иначе как Солнышко или Звоночек и сама угощала спелой малиной, что было уж совсем из ряда вон. Давать прозвища бабка была большой мастерицей. Уж коли придумает, то наверняка: прилепится оно к человеку, что тот репейник, и не отвязаться от него, не избавиться— хоть из села беги. Клички были колкими и насмешливыми. Редко кого наделяла она добрым именем. А вот Линду так даже двумя нарекла. Первое, понятно, за золотистые косы досталось. А вот вторым назвала за ее смех— тонкий, срывающийся, будто девушка пыталась сдержать свой восторг, да не выдерживала. Рассмеется — все село слышит! Ваня Карелин с Линдой (или, по-деревенски, Лидкой) дружил. Вернее, сначала дружил-дружил, а потом, годам к пятнадцати, понял, что влюбился. И девчонка к нему привязалась и, кажется, даже ревновала к подругам. Хотя чего тут ревновать — он от нее ни на шаг не отступал. Второй тенью был. Так и прозвали Ивана на селе — “Лидкин жених”, на что он, впрочем, не обижался и с кулаками ни на кого не набрасывался. Свое первое признание в любви он сделал так тайно, что даже спустя много лет не был уверен, прочитала ли девушка его послание. Домашнюю библиотеку Карелиных знало все село. Многие брали книги почитать, и хозяева никогда никому не отказывали. Попросила однажды “Темные аллеи” Бунина и Линда. — Завтра в школу принесу, — пообещал Иван, окрыленный. А придя домой, взял томик и, начиная с первой страницы, проставил под буквами жирные точки, которые, если читать их одну за другой, складывались в слова. Получилось целое письмо. Объяснение в любви заняло почти полкниги. Красный от волнения, он на следующее утро передал томик Бунина Линде. Но прошел день, другой... Никакой реакции. Вот и книгу вернула. Вначале подумал: может, она продолжила его игру? Но, перелистав книгу до последней страницы, увидел только свои точки. Иван растерялся, но признаться девушке вслух так и не хватило решимости. А время шло, и отношения между ними становились все доверительнее и теплее. — Странное имя у тебя, — сказал ей как-то Иван, когда они вдвоем возвращались из школы. — Как у собачки. На какое-то мгновение глаза Линды сверкнули огнем. Но потом обида угасла, и девушка даже улыбнулась. — Из легенды оно. Хочешь, расскажу? Иван кивнул. — Несколько дней подряд Линда носила и носила тяжелые камни на могилу своего мужа — славного великана Калева, верного защитника древних эстов. Холм рос все выше, и все тяжелее было Линде подниматься на него. А тут еще выпал из передника самый тяжелый камень и покатился вниз. Линда опустилась на колени и заплакала горючими слезами. Из тех слез разлилось озеро Юлемисте, которое и сейчас поит весь Таллин, а на могильном холме Калева вырос замок Тоомпеа. Вот такая легенда об основании Таллина. Иван улыбнулся и чмокнул ее в висок. — Это еще не все, — подернула она плечиком и продолжила: — И сейчас недалеко от берега того озера вы¬ступает валун — тот самый, что уронила Линда. И легендарную Линду, в честь которой меня назвали, можно там увидеть — ей поставлен бронзовый памятник напротив холма. — Это сказки твоей бабушки, — помрачнел Иван. — Они специально тебя так назвали, чтобы увезти потом в Эстонию. — Ну ты чего, Иванушка! Куда же я отсюда? Даже и не думай... Разве позволим кому-нибудь нас разлучить? Иван поверил этим словам, да и у самой Линды в ту пору не было и крупицы сомнения, что в жизни может произойти что-то против их воли... Закадычным другом Ивана был Сашка Фирсов. Вместе ходили пешком в город — в секцию бокса. И вот однажды, возвращаясь с тренировки, Иван поведал другу о своей любви. — Ты знаешь, — пылко говорил он, — я Линду так люблю, что мне никакая другая девчонка не нужна. — И, снизив голос до шепота, добавил: — И жизнь без нее тоже... Школу закончу — женюсь! Сашка остановился. — А мне ведь Линда тоже нравится, — признался он. — Я даже стихи из-за нее начал писать. Но ты не бойся, я об этом никому не говорил. И что касается меня, — он положил руку на плечо другу, — я тебе дорогу не перейду. В этом можешь быть уверен. Сашка сдержал свое слово. А стихи все же прочитал однажды Ивану. — Отнеси-ка их в газету! — загорелся тот. — Сретен¬ское наше прославишь... Давай! — Да неловко... Какой я поэт... — Чего неловко? Пошли вместе! На следующий день после школы они отправились в город. Вначале забрели в типографию, но там толстые тетки объяснили, что тут только печатବют газеты, а с рукописями работают в редакции. Туда и отправились ребя¬та. Приняли их приветливо. Худая женщина с папиросой во рту прочитала несколько Сашкиных листков и, щурясь от дыма, хрипловатым голосом сказала: — Ладно, оставь. Напечатаем. Через неделю Сашкины стихи действительно опубликовали. На первый гонорар редакция оформила ему подписку на газету “Трехречен¬ская правда”. Сашку это окрылило, и он стал писать в газету обо всем, что творилось в Сретен¬ском. К десятому классу Фирсов уже был заядлым газетчиком, и будущая профессия ему была ясна. А вот что касалось планов Ивана, то здесь много пока было неопределенного. И если он не знал, кем станет, то уж с кем проживет свою дальнейшую жизнь — не сомневался. ...Когда Линда окончила десятый класс, ее родители сорвались из Сретенского и уехали в Эстонию. Девушку увезли с собой, не пустив учиться в Москву. Линда и Иван писали друг другу письма. Вначале почти каждый день. Но потом все реже и реже, пока, наконец, он не получил из Эстонии послед¬нюю весточку — короткую, но ясную по смыслу: “Иванушка, любимый мой! Родители даже не разрешают писать тебе. Они вообще какие-то странные здесь стали... А теперь вот хотят меня выдать замуж. В своих снах вижу только тебя, как ты нежно меня целуешь и нашептываешь ласковые слова. Всегда прошу тебя остаться, но ты, прежде чем я просыпаюсь, покидаешь меня... Ах, какая я дура, что тогда не согласилась бежать из дома! Ну кто бы нас нашел? А если бы и нашли, то уже ничего нельзя было бы изменить. Как вот теперь... Я виновата перед тобой. Теперь поняла, что мало любить, нужно еще уметь сохранить любовь. Прости меня, мое солнышко. Это не ты, а я ушла за тучу. Это не дождь будет лить на тебя, это будут капать мои слезы. Но я всегда буду помнить, что живет где-то в России человек, которого я люблю. Я тебя действительно люблю, но поверь — изменить уже ничего нельзя. Прощай, мой любимый, милый, ласковый, нежный, родной человек”. Он послал в Эстонию еще несколько писем, но ни на одно не получил ответа... Личная жизнь у Карелина не получилась. Когда он уже защитил кандидатскую, познакомился с Ларисой и даже, как ему казалось, полюбил ее. Сыграли свадьбу и прожили они вместе тринадцать лет. Лариса долго не могла забеременеть, но все же это случилось, когда супруги потеряли всякую, казалось, надежду. Все девять месяцев Карелин, как мог, оберегал жену. И когда наступил срок, он, не дожидаясь врачей, сам отвез ее в больницу. Сидел у Ларисиной постели до глубокой ночи, не выпуская из рук ее горячую ладошку. Она держалась молодцом, но немного стеснялась своего счастья перед другими женщинами в палате. Ночью врачи попросили, чтобы он ушел. “Ванюша, иди, иди домой. Со мной все будет хорошо. Утром проснешься уже отцом”. Высвободила руку и спрятала под одеяло. Утром телефонный звонок разбудил Карелина. Чей-то чужой голос потребовал срочно приехать в родильный дом. — Что случилось? — предчувствуя беду, попытался он разузнать подробности. На том конце провода положили трубку. Он не вошел, а влетел в кабинет главного врача. Несколько женщин в белых халатах от неожиданности вздрогнули и, как по команде, отвели глаза в сторону. Кто был поближе к выходу, шмыгнул мимо него в дверь. От первых же слов Карелину показалось, что затрещал под его ногами, ломаясь в мелкие кусочки, красивый паркет. Он проваливался в темную безд¬ну и летел с высоты девятого этажа, желая только одного — разбиться насмерть. Но кто-то успел подхватить его под руки и усадить в мягкое кресло. Протянули стакан воды. Подробности, словно удары тяжелого молота, больно били по голове. Ему что-то объясняли про асфиксию, про то, как вначале без каких-либо признаков патологии родился мерт¬вый ребенок, а спустя полтора часа от очень большой потери крови умерла и жена. Иван снова провалился в бездну, и ему даже показалось, что на этот раз он все же долетел до самого низа, ударившись о твердый асфальт. Больше Карелин уже ничего не чувствовал... Очнулся Иван только на третий день. Кругом были белые стены, рядом с ним дремала пожилая сиделка. Карелин подозвал ее и, когда она нагнулась, умоляюще попросил: — Мамаша, помоги умереть. Нельзя мне без нее жить... — Да ты что, голубчик? — всплеснула она руками. — Пригодится жизнь тебе еще. Послужи людям... А дитё у тебя будет... Вон какой мужик здоровый. Горе у тебя, конечно, большое. Враз двоих лишился. Но что делать? Все мы под Богом ходим. Обе сердечные раны давно затянулись. Но с тех пор Карелин как-то отчужденно стал относиться к женщинам и о семье уже больше не помышлял. Работа поглощала и перемалывала все его дни и часы. Когда занялся бизнесом, времени не стало вообще. Правда, изредка он приглашает по вечерам домой свою длинноногую секретаршу, но, кроме постели, их ничего не связывает; они оба это прекрасно понимают, и обоих это не очень-то трогает. Но в последнее время одинокие ночи стали пугать Ивана своей пустотой. Иногда он просыпался посреди кромешной тьмы и, как лунатик, подходил к окну, в темноте наблюдая призрачно светящуюся за стеклом Москву. И вот сейчас, стоило Карелину услышать полузабытое родное имя, как внутри все колыхнулось и вновь он превратился в прежнего Иванушку. Серд¬це стучало громко и свободно, словно не было тяжелой ночной темноты, московской выматывающей бессонницы. И все же присутствовал непонятный, мистический страх. Какая она теперь — после стольких лет? Любит ли она его еще? Одна ли вернулась? Впрочем, это неважно. Будет ли завтра на сходе? Наверное, будет, должна быть! Линда. Линда... Сход — Ваньша! Подъем! Крик деда Луки разбудил Карелина. Он разлепил глаза, потянулся и, щурясь от солнца, соскочил с кровати. Под его весом заскрипели, пружинясь, крашеные половицы. — Который хоть час? Не рано ли разбудил? — подойдя к открытому окну и подставив грудь прохладному утреннему воздуху, сонно спросил Карелин. — В самый раз. Кто рано встает, тому Бог подает, — весело отозвался дед Лука. — Да и сход сегодня. Или забыл спросонок? А нам еще и позавтракать надо. Хотя, может, тебя и не нужно кормить — злей ругаться будешь. Небось ночью-то всё Лидку во сне смотрел? Карелин не стал спорить, тем более что дед попал в точку. Спалось ему действительно плохо, и почти всю ночь он думал о Линде. Кажется, только под утро уснул, и такое было ощущение, что едва успел глаза закрыть, как ворвался дед Лука со своей побудкой. Карелин босиком вышел во двор, и сон как рукой сняло. Мысли стали простыми и ясными. Хотелось чего-то героического, какой-то наивности, чистоты. Любви — как в романе Пушкина, стихах Есенина, да побольше. Захотелось хоть на миг изменить свою жизнь. А по небу уже плыли подкрашенные зарей алые облака. День обещал быть ясным и теплым. Вокруг еще было зябко и свежо. От росистой травы ноги продрогли и покраснели, зубы начали выбивать дробь. Иван хотел вернуться в дом, но дед его не пустил: — Чего скрючился? Иди ополоснись! Карелин взял из его рук полотенце и, обмотав им шею и плечи, пошел к кадушке. С опаской тронул воду, загоготал на весь двор. Ежась и все-таки решившись, снял полотенце и повесил его на яблоню. Фырк¬нул, плеснул обеими руками в лицо водой и заплясал около бочки, вытанцовывая кренделя. — Вот так! — кричал он во весь голос. — Вот так! Ах как хорошо! Дед стоял на крыльце и смеялся. Умытый и свежий, Карелин уплетал на кухне поджаренную ветчину, омлет, зеленый горошек и запивал все это пахучим кофе. — Золотые у тебя руки, дед! — хвалил он старика. — Да уж, насчет пожрать сготовить — это я мастер. М-¬¬¬да... Жизнь научила. Окромя меня, кто приготовит? Однако, сынок, нам рассусоливать нечего. Заправляйся быстрее, и вперед! На улице было тихо. Только куры копошились у заборов, хрюкали недовольные чем-то свиньи, барахтались в лужах гуси да за палисадниками вяло перебрехивались собаки. В домах, за ситцевыми занавесками, не ощущалось никакой жизни; куда-то пропали и голосистые ватаги ребятни. — Вымерли все, что ли? — пробормотал Карелин, оглядываясь. — Я же тебе говорил, что опаздываем! — в сердцах ответил дед.— Все небось давно уже на месте. Так оно и было: напротив правления, у небольшого холма, где раньше стояла сретенская часовня, толпился народ. Рядом с сельской конторой, у полинялой от солнца и дождей Доски почета, на которой уже давно не вывешивались фотографии передовиков, стояли в ряд: колхозный уазик, серебристо-серый “мерседес”, черная “Волга” и милицей¬ский “жигуль” с выключенной мигалкой. Народ галдел. Глава районной администрации, всегда такой гладкий и вальяжный, сейчас имел весьма встрепанный вид. Ясно было, что сретенцы уже успели сказать ему “пару ласковых”, отчего он весь вспотел и взволновался. — Товарищи! — услышал Карелин административный голос. — Давайте не будем превращать наше собрание в базар. С нами здесь находится представитель фирмы “Регион-нефть” Марк Абрамович Фельцман, и сейчас он вам спокойно и компетент¬но все доложит. Однофамилец известного композитора взобрался на холм. Он был выше, чем глава района, и выглядел солиднее. Лет сорока пяти — сорока восьми, упитанный, чисто выбритый, с черными кудрявыми волосами и выпуклыми темными глазами, он заговорил, и было в его манерах что-то от адвоката. — Друзья мои! — произнес он сладким, мягко грассирующим баритоном. — Многие упрекают нас в закрытости, в том, что мы ведем какие-то кулуарные игры и якобы боимся общественного мнения. Какая глупость! — Он оглядел всех присутствующих теплым отцовским взглядом. — Какая глупость! Разве наша сего¬дняшняя встреча говорит о за-крытости? Напротив. Мы специально приехали к вам, чтобы объясниться начистоту, без всяких утаиваний, честно и смело. Мы собираемся строить здесь наше предприятие не потому, что кому-то в голову пришла некая фантастиче¬ская идея. Это строительство — следствие необходимости, я бы даже сказал, крайней необходимости. Во-первых, такой завод жизненно важен для страны. За годы всяческих перестроек и демократизаций мы почти забыли это слово. Страна, Россия, Отчизна... Еще тридцать—сорок лет назад все было ясно. Стране— нужно. И никто не спорил, все понимали, что это значит. Так вот, сейчас стране нужен хороший бензин. Вам, жителям глубинки, не понять, что такое мощная автомагистраль, не понять, что такое Москва в час пик. Огромный город задыхается из-за автомобильного движения, непомерно возросшего в последнее время. И задыхается прежде всего потому, что не хватает чистого топлива. Во-вторых, этот завод просто необходим вашему району! Ежегодно он будет давать сумму, втрое превышающую нынешний районный бюджет. А что это значит? Это значит: вовремя выплаченные пенсии и зарплаты, отремонтированные школы, работающие больницы. Кроме того, на время строительства — пять лет — потребуется множество рабочих рук, а это важно в наше трудное время. В-третьих, строительство нужно и для вас. Что оно даст жителям Сретенского? Если кратко сказать — достойную человеческую жизнь. Можно ли согласиться, что сейчас вы живете достойно? Нет. Перед встречей мы проехались по селу. Что сказать? Картина безрадостная. Большая часть домов — без элементарных удобств. Связи с городом почти нет, дорога плохая, снабжение отвратительное, магазин никуда не годен. Как назвать это одним словом? Нищета, если говорить откровенно. А что предлагаем мы? Прежде всего рабочие места, много рабочих мест; все жители Сретенского будут заняты. Мы преобразим край. Здесь будут прекрасная автомобильная трасса, больница, супермаркет, все дома построим через ипотеку. Это вроде прежнего жилищного ко¬оператива. Мы даем ссуду на строительство и строим жилье; для вас — практически бесплатно, а вы потом выкупаете дом в рассрочку за тридцать и более лет. Вы сейчас не можете получить своих заработанных кровных денег. Да и что это за зарплата — тристачетыреста рублей? А что скажете насчет пятисот долларов? И не в год, а в месяц. Сретенцы как завороженные молчали. Карелин смотрел вокруг, узнавая родные, знакомые с детства лица, ждал, пока сельчане сами скажут слово. Но молчал дед Макар с вечной своей самокруткой, с насмешливым взглядом и бойким языком; молчал Семен Петрович Воронцов, работяга-тракторист, который за словом в карман никогда не лез (и питал, правду сказать, слабость к матерной ругани). Помалкивал Алексей Брагин, плотник от Бога, который мог из любого бревна вытесать топором настоящую скульптуру; молчала тетка Пелагея Вавилова, известная в селе стряпуха, автор секрета “Пелагеиных щей”, имевшая в Сретенском прозвище Пелагея-Пулемет — вопервых, за быструю и колкую речь, а во-вторых, за множество ребятишек, которых она вплоть до мужниной смерти рожала в невероятных количествах, так что никто на селе и не знал, сколько их у нее (кажется, твердо этого не знала и сама Пелагея). Наконец вышел Ефим Фомичев, кряжистый мужик с задубелой от ветра кожей и нахальными кошачьими глазами, ветеран войны и труда, известный односельчанам как энтузиаст спортивного бега по огуречным грядкам, сейчас подрядившийся на должность мирского пастуха. Он прокашлялся и сказал негромко, но внятно и с приметной язвительностью: — Сладко говоришь, мил человек, нашенский люд долларями манишь. Только ведь когда от твоего производства мы, ровно мухи, дохнуть начнем, нам ведь и твои полтыщи долларей не понадобятся. В могилке-то они вроде и ни к чему. — Ну не скажи, Ефим, не скажи, — подхватил срамо¬слов-тракторист Воронцов. — Полтыщи долларей всегда сгодятся. Гроб хороший заказать, едреть... ну там поминки справить... — По-евонному получается, что мы вначале должны себе могилу общую вырыть, а затем еще и в кабалу влезть!— вышла вперед Пелагея. — Да на кой хрен нам твоя ипотека! Жили мы без нее и проживем еще! Ишь царь какой нашелся! Народ оживился, загыгыкал. — Вы зря смеетесь, товарищи. — Фельцман окинул толпу усталым и мудрым взором. — Совершенно напрасно. Вот здесь был поднят вопрос о безопасности производства. И правильно товарищ обратил на это внимание. НПЗ — это серьезно. Здесь спустя рукава и через пень-колоду не поработаешь, тут аккуратность требуется, как на ядерной станции. Но дело-то в том, дорогие мои, что абсолютно чистых производств вообще нет. Их не существует в природе. Любое предприятие опасно для окружающей среды, такова уж сущность человеческого общества. Давайте для примера возьмем самое для вас близкое. Да хоть молочную ферму. Она ведь не только молоко производит — и навоз от нее тоже бывает. Дух сами знаете какой — не к обеду будет сказано. — Он мельком взглянул на часы. — Хотя какая здесь, казалось бы, опасность? Одна сплошная экология. Можно сказать, естественное удобрение. А вам известно, сколько в этом добре столбнячной палочки? Вы знаете, что несколько граммов навоза хватит, чтобы выморить весь Трехреченск и весь Трехреченский район в придачу? Что будет, если навоз попадет в питьевой слой? Вот и выходит, что молочная ферма — смертельно опасное производство. Так что же нам теперь — все фермы закрыть или коровам испражняться запретить? Теперь скажите — хоть одна доярка умерла у вас на ферме? Хоть одну ферму за¬крыли от “смертельной опасности”? Нет. Вот видите. И нечего здесь смеяться. Опасность — неизбежное следствие всякого производства. Если так к делу подходить, то, по-вашему, получается, что жить вообще опасно. — Оратор сделал паузу и глубоко вздохнул.— Конечно, если брать современное промышленное производство — это вам не ферма будет, — продолжил он, утирая лоб платком. — Проблем раз в десять побольше... Да, есть эти проблемы, есть, никто их не отрицает. Но мы не прячемся от них, мы прямо смотрим им в глаза и, главное, стараемся обеспечить максимальную чистоту “грязного” производства. Вот я хочу спросить: кто из вас хотел бы жить в Австрии? Снова молчание повисло над толпой. — А вот там есть город, в центре которого, в самой гуще жилой застройки, выстроен НПЗ, — негромко, но с глубоким торжеством продолжил Марк Абрамович. — И никто против этого завода не возражает. А почему? Да просто люди не ощущают этого соседства. Так вот, наш завод будет построен по таким же параметрам, но с еще более жест¬кими экологическими характеристиками. Для наглядности несколько ваших сельчан мы можем свозить в этот город, пусть своими глазами посмотрят и убедятся, как живут люди рядом с заводом, и никто от него еще не умер. Я вам больше скажу, дорогие мои соотечественники! Тот австрийский завод — вчерашний день. Завод, который мы построим в вашем селе, на порядок современнее. Слышите? На порядок, то есть в десять раз. Самое меньшее — в десять раз будет серьезнее очистка. Не то что около завода, но и на самом заводе можно будет находиться совершенно спокойно, без всякого ущерба для здоровья. Любая случайность, несчастный случай, “человеческий фактор”, как сейчас принято говорить, исключены. Введена будет практически полная автоматизация. Машины-роботы будут заниматься производством, а компьютеры под контролем высококвалифицированных программистов — направлять процесс. — Интересная, ядрена матрена, картина получается, — ехидно заметил Воронцов, сдвигая на затылок выгоревшую и уже ветхую от времени кепочку. — Сначала вы говорите, что всех сретен¬ских на работу примете, а потом — что на заводе одна автоматика будет. — Вы просто не понимаете, — картинно развел руками предприниматель. — Сретенский НПЗ — это же огромное предприятие. Там одной охраны потребуются десятки человек. Не только всех сретен¬ских мужиков примем — еще и соседей придется пригласить. — Демагогия, — раздался глуховатый, но отчетливый голос. Карелин повернулся и заметил пожилого худого мужчину с загорелым лицом и уверенными манерами. Одет он был в серый костюм, на лацкане которого поблескивал потертый депутатский значок. — Кто это? — шепотом спросил Карелин. — Из городских он, — ответил дед Лука. — Батюшин Геннадий Николаевич, директор автобазы, ну и депутат наш. Построился в Сретенском и живет здесь всей семьей. Хороший мужик, дельный. — Демагогия все это, — продолжал между тем Батюшин.— Одни слова. Мы пока что не слышим ничего определенного, кроме сладких речей. На словах-то всегда гладко получается, а каково-то будет на практике? Вы ответьте на конкретный вопрос: у вас есть заключение экологической экспертизы на ваш проект? — Какая экспертиза?! Еще самого проекта нет! — возмущенно воскликнул оратор. — Тогда очень странно получается. Проекта нет, а проталкивание его ведется полным ходом. Вы же грамотный человек, должны понимать, что сама идея строительства в Сретенском глубоко сомнительна. Надо же сначала получить принципиальное одобрение идеи, а уж потом вкладывать средства в проект и его лоббирование. А вы уже вбухали деньги: изыскатели бродят по Сретенскому, шум идет по области и району. Чего шуметь-то? Может, еще ничего не выйдет. Или вы надеетесь, что стройку не остановят, если уже затрачена большая сумма? — Товарищ... — Оратор запнулся, но глава района подсказал, и он продолжил: — Так вот, товарищ Батюшин. Прежде чем представлять проект на экспертизу, нужно его составить. Прежде чем предлагать, как вы сказали, идею на обсуждение, надо эту идею хотя бы в общих чертах привязать к местности. Именно этим и занимались наши сотрудники в Сретенском. И сейчас как раз идет та самая стадия, о которой вы говорили. Мы предлагаем идею для обсуждения — и на уровне области, и здесь, среди вас. — Лицо Фельцмана сияло улыбкой. — А у меня есть другая информация, — столь же солнечно улыбнулся ему в ответ Батюшин. — Мне известно, что решение о строительстве завода в обход экологической экспертизы в области уже принято. И все эти ваши “беседы с населением”, пресс-конференции — это так, дымовая завеса для прикрытия уже свершившегося дела. Вы суетитесь, так сказать, постфактум. И напрасно суетитесь. Работать с населением надо было раньше, примерно год назад. А вы рассчитывали провернуть это дело тихо, по-кабинетному. Только вот не получается. Людей сейчас не проведешь: народ у нас ученый стал, без шума подыхать никто не будет. — Ваша “информация”, — сказал Фельцман, слабо улыбнувшись, — немного не соответствует действительности. Вы просто пользуетесь слухами, и если кто-то из нас двоих занимается демагогией, то это как раз вы, товарищ Батюшин. — Поосторожнее на поворотах! — Усмешка Батюшина стала злой, а глаза вспыхнули сухим огнем. — Не надо меня держать за простачка, не владеющего информацией. Решение, повторяю, в области принято. И скажу больше: у меня есть ксерокопия этого решения. — Он раскрыл папочку, вытащил из нее листок и сунул под нос Фельцману. — Вот оно. Представителю фирмы было уже не до улыбок. Лицо его скисло и вытянулось, как будто по нему сверху вниз провели мокрой тряпкой. — Но откуда... — пролепетал он и замолк. Глава района выглядел не лучше. Он попытался спасти положение и набросился на Батюшина: — Ты-то куда лезешь? Кому-кому, а тебе должно быть известно, что такое чистый бензин. Или легкой популярности захотелось? Боишься, что на второй срок не выберут? Карелин понял, что настал его черед. — Разрешите мне, — попросил он и сделал несколько шагов вперед, но, не доходя до предпринимателей, остановился и, щурясь от солнца, усмехнулся. — Дракой пахнет. И правильно. Есть за что подраться. — Барин приехал! — перебил его радостно плотник Алексей Брагин. — Ага! — добавил Воронцов. — Барин нас рассудит. — Вы, товарищ, собственно, кто такой будете? — без энтузиазма спросил глава районной администрации. — Нашенский он! — звонко завопила тетка Пелагея. — Нашенский! — гаркнули десятка два ее детей и внуков. — Да, нашенский, — продолжала Пелагея, — не то что этот вот носатый. Вылетел неизвестно откуда, как чертик из коробочки. — А вот вы-то откуда будете, человек хороший? — обратился к Фельцману дед Макар, бывший сознательный коммунист, а ныне просто задумчивый дед, ударившийся в религию по причине глубокого несовершенства земной жизни вообще и человеческой натуры в частности. — Раз уж тут зашел разговор о месте жительства, вы уж внесите ясность. — Наша фирма из Отрепьевска, — буркнул Фельцман. В его голосе уже не было уверенности и легкости, он, скорее, походил на человека, отчаянно пытавшегося оправиться после сильного удара. — А-а, — сощурил глаза дед Макар. — Это хорошо. А то мы тут уже подумали, что прямо из этой... страны бетованной. Паспорт ихний уже оформили или как? Вмешался Карелин: — Что касается меня, то я не отрепьевский. Я здесь, в этом селе родился и вырос. Здесь жили мои предки. И судьба Сретенского мне небезразлична. К тому же, на вашу беду, Марк Абрамович, наши пути снова скрестились. И снова я вам мешаю... Как и в деле со свалкой, этот проект тоже не выдерживает никакой критики. Трехреченск — город “грязный”. Мне известны данные мониторинга, и данные эти совсем невеселые. А вы решили сюда, на территорию, и так уже находящуюся в критическом состоянии, еще НПЗ посадить. И главное, куда посадить! В сам город! Охранная зона — километр! Да разве это охранная зона? Это почти что ничего, и вы прекрасно знаете, что вся дрянь с завода посыплется в самый центр Филиппово. А это наиболее перспективный район Трехреченска, и город будет расти именно в направлении Сретенского, больше некуда. А вы ему на пути ядовитый НПЗ ставите. “Австрийский опыт” желаете в Подмосковье перенести? Не выйдет! Злобный взгляд Фельцмана говорил о том, что он отнюдь не в восторге от новой встречи с Карелиным. — Тут Батюшин говорил, что вы действуете в обход природоохранного контроля, — продолжал Карелин. — Он не зря это говорил! Потому что и он, и я, и вы — все мы отлично знаем, что пройти экологическую экспертизу у вашего плана нет ни малейшей возможности. Оттого вы и двигаетесь в обход, чтобы поставить всех перед свершившимся фактом. По закону без одобрения мест¬ного населения строительство опасного производства не может начаться. Вы хотите получить одобрение, нагородив тут обещаний с три короба, а природоохранные организации потом как-нибудь замазать по-тихому! Еще раз говорю: не выйдет! Народ вам не позволит. Я вам не позволю, слышите? Я знаю, что такое нефтепереработка, и не в теории, а на собственном опыте. Своими глазами видел сотни квадратных километров мертвого леса, мертвых полей, на которых уже никогда не будет урожая. Видел детей, умирающих от астмы, анемии. Я бывал в тех городах, где средняя продолжительность жизни — сорок лет и где утром нельзя открыть форточку, потому что задохнешься. Я заявляю с полной ответственностью: если ваши бредовые проекты претворятся в жизнь и НПЗ будет построен, то в Сретенском начнется экологический ад. Хотите нас передушить? Филиппово выморить? Хотите нам войну объявить? Хорошо! Вы ее получите. Тут сретенцев прорвало. Такой крик поднялся, что даже собачьего лая не стало слышно. Высказались и в адрес “Регион-нефти”, и в адрес главы района: все припомнили, ничего не забыли. — Я думаю, — тихо сказал Фельцман своим спутникам,— нет смысла продолжать дискуссию. — Ну и сидите здесь без пенсий! — выкрикнул, не удержавшись, районный глава сретенцам, а господам кивнул головой: — Пошли. — Много на твою пенсию разживешься! — крикнула ему в ответ Пелагея. — Ах ты хрен! — перебил ее Макар. — Пугать нас вздумал?! Да мы на своей картошке жили и дальше проживем! — Тыловая крыса! — орал пастух Ефим Фомичев, гремя орденами. — ... отсюда к ... фене! — бушевал Воронцов, тряся смятой кепкой перед носом районного начальника. — Кати в своей паршивой “Волге” и отрепьевца своего в “мерседес” не забудь посадить! Кто ты вообще есть, тараканья твоя душа?! Ты слуга народа! Мы тебя выбирали, чтобы ты народный интерес блюл... А ты что, сука, делаешь? Из-за спины начальства ненавязчиво нарисовался майор милиции с двумя сержантами. — Арестовывать будешь? — осведомилась Пелагея, вы¬двигаясь вперед на манер крейсера. — Может, с меня и начнешь? Толпа загудела пуще прежнего. И гости словно растаяли. Не успели сретенцы оглянуться, а машины уже пылили прочь, испортив воздух неочищенным бензином. Лишь колхозный уазик сиротливо стоял у пустой Доски почета. Когда послед¬няя машина скрылась за поворотом, все вдруг почувствовали удивительное облегчение. Карелин поднялся на холм: — Думаю, земляки, нам надо организовываться. Предлагаю считать наше собрание сходом. — Правильно! — согласился Батюшин. — Нечего в долгий ящик откладывать. Давайте сразу проголосуем. Кто “за”? Сретенцы дружно подняли руки. — Для начала, наверное, надо избрать оргкомитет, — добавил Карелин. — Резолюцию напишем и соберем подписи со всего села. Предлагаю в этот комитет назначить меня, Батюшина, тетку Пелагею, деда Макара, Воронцова, Ефима Фомичева и Баскер... ну, то есть деда Луку. Еще кто хочет кооптироваться? — А что же ты, Иванушка, меня забыл? — послышался вдруг знакомый журчащий голос, и голубые искорки Линдиных глаз ослепили Карелина. — Линда... — выдохнул Карелин, и слова у него кончились. Образовалась неловкая пауза, но Батюшин тут же сориентировался: — Кто за оргкомитет в таком составе? Единогласно. Где соберем первое совещание? — Давайте у меня к вечерку, когда жара спадет, — предложил дед Лука. — Изба посередке стоит, всем к ней сподручней добираться. — Годится, — согласился Батюшин. — Значит, ровно в шесть у деда Луки. Только, мужики, чур, не опаздывать. — Подошел к Карелину, пожал руку. — Рад был познакомиться. — И, подмигнув, ушел. Вскоре на лужайке остались Иван, Линда да дед Лука поодаль от них. Иван разглядывал Линду. Одета она была в длинный джинсовый сарафан, который не закрывал ее красивые руки и точеные лодыжки. На гибкой шее тонкой змейкой поблескивала золотая цепочка. Годы ее не тронули: те же светлые волосы, перехваченные черным обручем, та же улыбка, при которой появлялись маленькие, как игольное ушко, нежные ямочки. Затянувшееся молчание становилось невыносимым. Линда расстегнула сумочку и положила туда свой редакционный блокнот. — Так это ты — журналистка из “Трехречки”? — Да, Иванушка, это я. — Вокруг синих глаз разбежались морщинки. В следующую секунду Карелин словно стальным обручем обхватил Линду. — Да поосторожней! Сломаешь! Карелин разжал свои объятия, и его пальцы нежно прикоснулись к золотым завиткам. — Какими судьбами ты здесь? — Карелин все не мог поверить в свое счастье. — Вот вернулась... — Она улыбнулась и положила ладошку на его грудь. — А как же Эстония? — Это, Иванушка, долгий разговор... — Линда уткнулась ему в плечо и заплакала. И были в этих слезах не только горечь, но и облегчение и даже какая-то непонятная радость. Так стояли они, обнявшись, и солнце кропило их золотой россыпью лучей. Военный совет Пока собирался народ, тетка Пелагея времени даром не теряла и рассказывала байки из деревен¬ской жизни. Люди постепенно прибывали, и уже почти все собрались, когда она дошла до таинственного случая, что приключился с нею прошлой зимой. — Ох и натерпелась же я тогда страху! — повествовала тетка, картинно всплескивая руками. — Вышла утречком корову подоить. Подоила, значит, и иду обратно в избу с ведром молока. А на тропинке-то, что в снегу от сарая протоптана, стоит вроде как гриб дождевик. Да здоровый такой! И шевелится... Что же это такое, думаю, среди зимы— гриб шевелится? Потом пригляделась: батюшки! Вроде человек, только странный какой-то, ростом с полметра, а голова точно вроде гриба — белая, круглая и шершавая с виду. Лицо маленькое и сморщенное, словно печеное яблоко, а тело — так вообще меньше головы. Глядит он на меня, шевелится, приседает вроде. Потом вдруг — раз — руку протянул. Я, конечно, заорала и ведром в него швырнула. Тут этот гриб как прыгнет назад, что-то полыхнуло, и молоко из ведра вверх выскочило. Я, знамо дело, бежать. В избу влетела, отдышаться не могу. Говорю Петру, ну, своему младшему-то: “Там какойто маленький... зелененький... все молоко мне разлил”. Вышли мы с ним во двор, друг за друга прячемся... Никого, конечно, на дорожке не нашли, только ведро валяется. А снег вокруг него до земли протаял. Потрогали ведро — а оно теплое и в обоих боках дырки, и чудные такие, вроде звездочкой насквозь прошило! — Не иначе пришельцы, — сказал Ефим Фомичев. — Если пришельцы, то странные больно, — возразил ему Семен Воронцов. — Настоящие пришельцы из блястеров палят. — Из бластеров, — поправил Карелин. — Ну да, я и говорю — из блястеров хреначат. И от тех блястеров дырки круглые должны быть, а вовсе не звездочками, — с видом знатока прокомментировал бывалый тракторист. — Это тебе, Пелагея, искушение было, — задумчиво произнес дед Лука. — Да ну тебя, Баскервиль, — проворчал ему в ответ Ефим Фомичев. — Ты везде бесов видишь. Ведь сам говоришь: они духи бесплотные. Как же они могут тогда звездами по ведрам пулять? — Звездами по ведрам — это что, так — мелочь, семечки... А я на твоем месте, Пелагея, около дома крещенской водой покропил бы. — Что ж я, глупая, что ли? Понятное дело, покропила, да еще и сама выпила. — Да ну? И что пришелец? — Какой пришелец? А, этот, зелененький... Нет, больше не появлялся. — А ты случаем, Пелагея, еще перед этим первачка-то не тяпнула? — так и не поверив в эту историю, подзадорил ее Ефим Фомичев. — Глюки это были у тебя, а никакие не пришельцы. — Сам ты глюки! — вскинулась Пелагея. — Ты вот скажи: какого лешего с голым задом бегаешь по весне у себя между грядок? Вот у тебя-то они и есть, эти самые... глюки. — Глупая ты, Пелагея, — прищурил хитрый глаз дед Лука. — Это обряд у него такой: бегать перед огурцами со спущенными портками. Потому по осени они у него и вырастают, как... это самое... Все прыснули от смеха. — Я-то и гляжу, что они в последнее время все у него какие-то усохшие. Отбегал свое, Ефимушка. Запускай теперь сынов... А не то всю семью этой осенью без огурцов оставишь. Еще пуще загоготали деревенские. Ефим заерзал на табуретке и, отвернувшись от Пелагеи, достал из кармана порт¬сигар. — Местный колорит! — донесся от входной двери глуховатый голос Батюшина. Вместе с ним входила в дом Линда. Батюшин прошел к столу. — Просим прощения за опоздание. Но лучше, как говорится, позже, чем никогда. Приступаем, что ли? — Геннадий Николаевич, — поинтересовался Карелин,— а можно перед началом спросить: какая такая секретная бумага у вас, что при одном упоминании о ней побелели лица у наших гостей? Не покажете ли вы ее нам? — Да чего ее смотреть? — вяло бросил ему Батюшин. — Обычная канцелярская бодяга. Дело не в форме, а в том, что само решение принято. Держи. Карелин взял листок. — Ну чего вылупился-то? — спросил дед Лука. — Читай вслух, чтобы все знали. — “Постановление правительства Московской области № 75/25 о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Трехреченском районе Московской области, — вполголоса начал Карелин. — В целях развития современной экологически безопасной инфраструктуры нефтепродукто¬обеспечения, а также улучшения экологической обстановки в Московской области за счет повышения экологических характеристик потребляемых нефтепродуктов, принимая во внимание решение межведомственной комиссии администрации Московской области по промышленно-производственному строительству и постановление главы Трехреченского района, правительство Московской области постановило...” Ох, ну и канитель, действительно! — Карелин еще раз пробежал текст глазами и в сердцах швырнул ксерокопию на стол. — Одним словом, добрые дяди дарят нам шедевр экологической мысли из чистого альтруизма. — Из чистого чего? — не поняла Пелагея. — Из чистого дерьма, — объяснил Воронцов. Собрание захохотало. — Вот это верно, — сказал дед Лука, утирая кулаком уголки глаз. — Ну ладно, смех смехом, а делом тоже надо заняться,— сердито прервал всех Батюшин. — Ты, Геннадий Николаевич, все ближе к делу клонишь, — обратился к нему Карелин. — А ведь мы так и не выяснили основные цели нашего сегодняшнего собрания. — Да, отклонились мы что-то, — согласился Батюшин.— Мы с вами должны сегодня обсудить два пункта. Во-первых, надо письмо составить, резолюцию схода. А во-вторых — определиться, что делать дальше. — Раньше, бывалоча, на партсобраниях говорили: надо избрать секретаря; какие будут предложения? — произнес дед Макар. — Кто-то ведь должен записывать эту самую резолюцию. — Это, я думаю, дело ясное, — усмехнулся Батюшин. — Пусть пишет Линда, это ее хлеб. Ты, Линда, составляй проект, а мы пока поговорим о планах, чтобы времени не терять. — Какую “шапку” брать? — спросила Линда. — На чье имя адресовать-то будем? — Главе районной администрации, я пола¬гаю, — сказал Карелин. — Выше пока обращаться нет смысла. — Как это нет смысла? — возмутился, потрясая кулаком, Алексей Брагин. — На самый верх надо писать. — Да погоди, не горячись, — осадил его дед Лука. — Так и ждут, думаешь, на самом верху сретенскую резолюцию? Линда между тем разложила перед собой листки и принялась быстро вязать строку за строкой. — Для того чтобы выходить наверх, — рассуждал вслух Батюшин, — надо иметь очень серьезный документ. А чтобы получить этот документ, надо иметь солидную организацию. Не наш сход из десятка пенсионеров, а правомочное собрание из тысяч трехреченцев. — Эк куда махнул! — сморщился Брагин. — Да что бы мы здесь с вами ни говорили, есть кто-то выше, который сделает так, как ему хочется и как ему выгодно. Мы можем переругаться, передраться, а сделано будет так, как уже кемто запланировано. На первом месте у нас всегда интересы государства, и только затем уже интересы человека. Так было и так, видно, всегда будет в нашей задолбанной стране. У нас на селе не многие-то и верят в эту затею. Так, воздух кулаками побьем только, и все. — Ты, Алексей, смотришь не дальше собственного топора, — возразил ему Батюшин. — А все это делается очень даже просто. — Погоди, погоди, — перебил его Карелин. — Зря ты Алексея обижаешь. Плотник он хороший и дело свое знает. Другие шабашат, а он тут с нами сидит — мозгует, как ее, родимую землю, для потомков сохранить. Я, например, тоже с ним согласен. А зачем нам это “правомочное собрание”? Тем, кто наверху-то, какая разница? Если они все уже решили, то хоть десяток пенсионеров подпишись, хоть десяток тысяч трехреченцев — они же в любом случае на эту бумагу наплюют. — Глупости говоришь, Иван. Сам знаешь, что глупости говоришь. Ты закон о референдуме читал? — Нет. — Почитай. Вещь полезная. По нашему законодательству никакое вредное производство, будь оно разнеобходимым, не может быть построено без согласия жителей. Мы организуем референдум, жители однозначно высказываются против — и все проблемы с НПЗ снимаются. — Ты так говоришь, Геннадий Николаевич, словно референдум организовать так же легко, как пойти сигаретку выкурить. — Да ладно, — рассердился Батюшин. — Я за каждое свое слово отвечаю. Конечно, референдум — не сигаретка. Но это дело реальное. Первый этап — собирается оргкомитет. Второй этап — собираются подписи в администрацию города с требованием о проведении референдума. Набрали определенное количество голосов — списки подаются в администрацию. А та автоматически назначает референдум. В обязательном порядке — обращаю ваше внимание! Начинать надо с города: там народ поактивнее. Я тут созвонился кое с кем из серьезных людей. — Ну и? — Соберем народ. Надо только определиться с местом собрания, а оргкомитет мы уже, считай, выбрали. — Готово, — сказала Линда. Документ выглядел внушительно: “Главе администрации Трехреченского района Постановление схода жителей села Сретенского Уважаемый Глеб Денисович! Жители села Сретенского на своем сходе с администрацией Трехреченского района и представителями фирмы “Регион-нефть” были ознакомлены с планами строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего села. Доводы в пользу строительства признаны нами неубедительными. Считаем, что строительство НПЗ нанесет непоправимый вред природе всего района, а также большей части города Трехреченска. Требуем немедленно запретить строительство НПЗ в Сретен¬ском и прекратить любые изыскательские работы в этом направлении. Решение схода принято единогласно. Дата. Подписи”. — Ты добавь еще в конце про этот рехерендум или как его там, про который нам сейчас Батюшин толковал, — предложил дед Макар. — Разумно, — согласился Карелин. — Перед “решение принято” впиши предложение: “В противном случае жители Сретенского примут меры к организации в городе и районе референдума о недопустимости строительства НПЗ”. Линда еще пошуршала пером. Потом прочитала окончательный вариант. — Годится! — подытожил Батюшин. — Тогда завтра я все это красиво наберу на компьютере и отксерю, — сказала Линда. — Чего ты сделаешь? — опять не поняла Пелагея. — Копии сделаю, тетя Пелагея, копии. Подписные листы заберете у деда Луки после трех часов дня. Вы не будете против, дед Лука? — А чего здесь противиться? Только надо это... разобрать, кто какой конец возьмет, чтоб стадом друг за дружкой не ходить. Так шибчее получится. К вечеру, глядишь, и управимся. Начался шум. Кое-как распределили улицы. Но тут вдруг ветеран-орденоносец сказал: — А все-таки, что ни говорите, затея с рехерендумом мне сумнительной кажется. Шутка ли — весь народ поднять! А ну как возьмемся, да не сдюжим? Может, своими силами обойдемся? Все меньше сраму будет. — Эх, Карпыч! — вздохнул Батюшин. — С одной-то стороны, ты прав, конечно. Но ведь НПЗ — такая махина, которую свалишь только всем миром. Да и народ у нас не шибко надежный. Я тут разговаривал с мужиками. Ершатся: не пустим, говорят, это отрепье, в случае чего за ружья возьмемся. А я одного возьми да и спроси: а ежели они к тебе приедут и ящик водки перед тобой поставят — и тогда откажешься? — А он? — Так он задумался, родимый. Целую минуту думал... Потом, правда, сказал: все равно, говорит, откажусь на хрен. Это, конечно, хорошо, что он откажется. Но ведь задумался человек, понимаете? Это только одна слабина. А ведь у другого — своя слабина есть, у третьего еще одна... Не хотелось говорить, но раз к этому разговор подошел, видимо, придется сказать. Один из ваших сельчан уже перешел на ту сторону. Охранником у них будет. — Это кто же такой? Говори, не темни, Геннадий Николаевич, — требовательно прозвучало несколько голосов. — Антон Наумов. Об этом мне сообщил сам Фельцман. — Это сын Ульяны, что ли? — Ее... Так что одними местными силами нам не справиться. Пока будем с вами в луже барахтаться, они нас поодиночке со всеми потрохами купят. Не пожалеют никаких денег. Так что будьте к этому готовы. — Дело говоришь, Геннадий Николаевич, дело, — кивнул головой дед Лука. — Мальца не трогайте: нелегко ему было пойти на этот шаг. У Ульяны еще трое девок, и все с открытыми ртами. Антону уже четвертый месяц на заводе не платят. Какой у Ульяны заработок — сами знаете. Вот и решился Антон... Судить его не будем, а вот в бой надо ввязываться. Там посмотрим. Какие люди ни озабоченные, а жить, чай, всем хочется. Весь Трехреченск будет за нас, это я точно говорю. В общем, земляки, завтра после трех милости прошу ко мне за списками. Оформленные листы, как я понимаю, опять же собираем у меня. — Да, вот еще что, — напомнил Батюшин. — Листы надо заполнять четко — это вам не филькина грамота, а документ. Значит, чтобы все чин чинарем было: адрес, паспортные данные, подпись и разборчиво написанная фамилия. Может статься так, что возьмутся нас проверять; не хватало нам еще на такой ерунде опозориться. “Мертвых душ” не нужно, расписывайтесь только за себя, а то найдутся умники: впишут коров своих и овец. — А я-то уж было собралась Зорьку туда внести, — не удержалась от шутки Пелагея. Посмеялись, стали расходиться. Красный диск солнца, повиснув за крайним домом, из последних сил пытался удержаться на его крыше. Голоса с улицы доносились все реже и реже. Пастух уже давно развел коров по дворам, но в тишине еще до¬плывало до села еле уловимое гудение одинокого трактора. — Какие у тебя планы на завтра? — спросил Карелина Батюшин, когда они вышли на улицу. — Хочу навестить районную администрацию, да и “Регион-нефть” тоже. — Смысл? — Посмотреть им в глаза и выяснить, насколько серьезно они собираются воевать. Думаю, наверняка угрожать начнут. Может, выболтают что-то или раскроются. Одним словом, проведу разведку боем. Пощупаю степень их крутизны. — Ммм... Попробуй. А я завтра начну готовить место для собрания оргкомитета. В 17-й школе есть надежные люди. Под крышей школы существует база общественного движения “Филиппово”. Ну там краеведческая работа, экологическая... Хочу предложить у них провести собрание. — Дело, — кивнул головой Карелин. — Звякни завтра к концу работы. Расскажешь, как прошло свидание с нашими “друзьями”, а я проинформирую о результатах своих переговоров со школьным начальством. Запиши мой прямой телефон. Они пожали друг другу руки и расстались. Карелин пошел было домой, но у калитки наткнулся на Макара, одиноко стоявшего в странной неподвижности. — Ты чего, Карпыч? — Да вот, Ванятка, засмотрелся что-то, задумался. — О чем? Макар раскурил потухшую папиросу. — Странные дела в Сретенском творятся, сынок. Да, странные дела... Прошлой ночью случилось мне проходить мимо Куликовой пустоши, и видел я такое, что и не знаю, как сказать... Да ты небось не поверишь. — Ладно, не тяни. Что там тебе довелось увидеть? — А то, что поверх курганов синее сияние шло. И ровное такое сияние, точно газ горит. И слышал я, Ванятка, гул из-под земли. Обмер я от жути. Днем-то вроде все забылось, а сейчас Пелагея натрепалась про свой “гриб”, и вот все вспомнилось. Только глаза закрою — и прямо вижу этот синий огонь. Однако, Иван, ты даже не думай это дело с Пелагеиными бесами путать. Тут все сложней. — Ты про что? — Да про войско подземное. Неужто не слыхал? — Нет, дядя Макар. — Ну и дундук ты. Вот что значит народ бестолковый растет. Мы, когда мальцами были, все про войско слышали. — Да что слышали-то? — Под теми курганами, Ванятка, герои Куликовской битвы похоронены. — Ага, знаю. Воевода Никола и его бояре. — А ты откуда знаешь? — Ну... слышал... И дед Лука давеча напомнил. А что? — Так в народе говорили, что это подземное войско Сретенское охраняет. И если подступит враг к селу, поднимутся древние богатыри и поведут трехреченцев на врага. Видать, Иван, время приспело. И ты не рассказывай мне про электромагнитные волны да про гул машин от шоссе. Я про это думал. Нет, сынок, здесь другие дела. Волнуется древняя земля. Старые воины нас на бой кличут. Макар умолк, кивнул на прощание, а Карелин долго еще смотрел ему вслед, пока старик не скрылся из глаз. За окнами было тихо и сумеречно. Линда, несмотря на протесты деда Луки, перемыла посуду после чая, и теперь они сидели втроем за столом. — На автобус, кстати, я уже опоздала, — сказала Линда, взглянув на свои часы. — Да оставайся здесь ночевать, куда ты в такую темень,— предложил дед Лука. — Нет, мне надо домой. — Не волнуйся, я тебя отвезу, — успокоил ее Карелин. — Тогда пошли. — Куда ты торопишься? Дети у тебя там, что ли, по лавкам? — Угу. Вернее, один — котяра. Сидит весь день в квартире некормленый... Поехали. Спасибо, дед Лука, до завтра. — Прощевай, Солнышко. К трем завтра жду. — Хорошо, — пробормотала Линда и устало смахнула со лба волосы. Карелин всю дорогу рассказывал, как сложилась его жизнь. Он ничего не выбирал из нее, говорил все подряд, что помнилось. Конечно, некоторые детали из своей холостяцкой жизни он упускал, но о жене рассказал, не утаивая: как познакомились, как жили вместе, как ее похоронил. Двадцать лет жизни уместились в несколько минут езды. — Странно, — размышлял он, глядя прямо перед собой.— Каждый день полон напряженной работы, иногда и ночь приходится прихватывать, а в результате — и говорить вроде не о чем... — Ты, философ, не проскочи мимо моего дома. Сейчас направо. Следующий дом. Все, приехали. Перед ними стояла серая пятиэтажка. — Послушай, ну а как ты жила все эти годы? — Ты что, не собираешься выходить? — вопросом на вопрос ответила Линда. Карелин пожал плечами. — Ты все такой же несмелый, как и прежде. Придется инициативу брать в свои руки. Пошли! Пока она возилась с замком, из-за двери раздавались вопли кота. Едва дверь отворилась и зажегся свет, надрывное мяуканье сменилось урчанием. Огромный, похожий на подушку черный клубок с пронзительно-зелеными глазами терся о Линдины ноги. — Как зовут? — строго осведомился Карелин. — Тоомас. Тоомас, на кухню! Вон как побежал, только лапы засверкали! Квартира у Линды была однокомнатная, рядовая “хрущоба”, обстановка самая обычная, даже бедная: шкаф, диван, тахта, маленький цветной телевизор; над диваном фотообои: летний лес... В раскрытую форточку влетал мягкий теплый ветерок, шевеля золотистый тюль и красные шторы. В комнате было чисто, уютно, манило покоем и основательностью. На диванной подушке лежала раскрытая книга. Рядом очки. Линда торопливо схватила их, словно собираясь прятать, потом расхохоталась и положила на стол. — Да, Иванушка, совсем глазами плоха стала. Бабушка Линда в очках. Прошли на кухню. — Ну, рассказывай теперь ты, — улыбнулся Карелин, когда Линда разлила чай. — Да о чем, собственно, рассказывать? Банальная история разведенки, ну разве что слегка подцвеченная национальными мотивами. Сначала все шло нормально; когда сын родился, Артур, совсем хорошо стало. В советское время в Эстонии жилось неплохо. Ну а когда перестройка началась, а потом девяностые годы — все как под откос полетело... Свекор у меня совсем ненормальным стал на почве национализма, ну и муж вслед за ним. В доме ни одного русского слова сказать нельзя было. Лай только по-ихнему. Артур же— наперекор им: они ему по-эстонски, а он им — порусски. Ну и в моих эстонцев словно бес вселился... В общем, в доме началась настоящая гражданская война. Артур ведь внешне совсем эстонец, он и по-русски с акцентом говорит, а вот с родным отцом не смог найти общего языка. Ну, в общем, надоело нам все это — и махнули мы на Русь. Артур сейчас в Москве учится, а я вот в газете работаю, борюсь за родимую экологию.— Она горько усмехнулась. — У меня сейчас некоторое безмужчинье. Профессиональный триумф на фоне полной личной несостоятельности. “Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу”, как у Данте. Мне ведь скоро уже сорок. Как говорят сретенские бабы: замуж позд¬но, сдохнуть рано. — Что ты несешь? — Карелин резко вскочил, рывком прижал Линду к себе. — О какой несостоятельности ты тут несешь? Ты — моя. И я тебя никому не отдам. — Неужели это не сон, Иванушка? — Мне тоже не верится. Как сказал дед Лука про тебя — земля будто провалилась. На сходе все вертел головой, да так и не нашел... — Видела я... У самой сердце выскакивало. Так они стояли у стола, с перехваченным дыханием, с лихорадочно бьющимися сердцами, не в силах оторваться друг от друга. — Солнышко ты мое... — простонала Линда. У Карелина уже не было сил вот так стоять и слушать ее ласковые слова. Он поднял Линду на руки и понес ее в комнату, на диван. — Иванушка, любимый мой, какое счастье, что мы снова вместе, — шептала Линда, покрывая лицо Карелина поцелуями. — Я так люблю тебя... — А я тебя в два раза больше, в три, четыре, пять... Вишенка ты моя, сладкая и нежная. — Не забыл? — Не забыл — и никого этим именем никогда не называл. Оно принадлежит только тебе... — Родной ты мой! —Она обвила его шею руками и прижалась щекой... Деловой визит Через задернутые шторы в комнату бился солнечный свет. Первым проснулся Карелин и, повернувшись к Линде, убрал с ее лба волосы. Скомканное одеяло лежало у ног. Иван поцеловал Линду в сомкнутые реснички, и она открыла глаза. Почувствовав, что в доме проснулись, черный кот взобрался на подлокотник дивана и уставился на Карелина и Линду наглыми зелеными глазами. Иван попытался спихнуть его ногой, но не дотянулся. — А ну, кыш! То есть это... в смысле — брысь! — Брысь, Тоомас! — замахала на него и Линда. Ее послушался, фыркнул, сверкнул глазищами и ушел. Завтракали на кухне. Пахло крепким кофе, ветчиной, поджаренным в тостере хлебом. Карелин не сводил взгляда с Линды. Уголки ее синих глаз уже подернулись морщинками, и от этих тонюсеньких складок сердце Ивана трепетало от нежности. “Пропал Карелин”, — подумал он. Она взяла его за руку. Он улыбнулся ей. — Знаешь, сегодняшней ночью я обнаружил внутри себя формулу радости. Ну, может быть, не формулу, а какой-то внутренний покой точно. И причина этому — ты! — Иванушка мой... — вздохнула Линда. — У меня абсолютно такое же чувство. Об одном я жалею... — Что уехала с родителями в Таллин? — Ну да... Многое сложилось бы по-другому. Не было бы этих чухонских приключений, этой Эстонии с ее дурацкими языковыми комплексами — всего того, что изломало мне жизнь. Карелин усмехнулся: — Интересное выражение — “языковые комплексы”. — А как иначе скажешь? Они думают, что, если вытеснят русский язык, у них тут же начнется национальное возрождение. Как бы не так... Максимум, чего они добьются, — это гегемонии англоязычного сленга. Это уже сейчас происходит. Умные эстонцы за голову хватаются. Вообще эстонцы народ неплохой. Впрочем — что это я? — плохих народов вовсе не бывает. Жаль, что все так получилось... И зачем Богу нужно было гонять меня по всем этим буеракам, чтобы потом взять и вернуть обратно — в те места, где я родилась? — Ну а если честно: скучаешь по Таллину? — Ой, он такой прекрасный, ты не представляешь! Летом — белые ночи, силуэты готических шпилей... Зимой — снежные шапки средневековых башен, осенью — золотой убор осенних кленов и каштанов... Иванушка, это не город, а сказка круглый год. Она погладила его запястье. Сверкнуло золотое колечко на левой руке. Карелин поглядел на него, нахмурился и попросил: — Сними кольцо. Не нравится мне, когда женщина при разводе надевает его на другую руку. Вроде как себя предлагает: мол, я свободна. Я тебе другое куплю. И ты наденешь его на правую руку. Вы ведь повенчаны не были? — Нет, конечно. — Ну, значит, считай, что у вас ничего не было и мы начинаем все с самого начала. Ты будешь моей женой? — просто спросил он. Она опустила глаза, медленно сняла кольцо, вложила его в карелинскую ладонь и тихо сказала: — Да. В кухню вошел Тоомас и настойчиво замяукал. — Ну что, проголодался? — усмехнулась, вставая, Линда. Открыла холодильник, положила в блюдце рыбы и повернулась к Карелину. — А ты знаешь, мне кажется, человечество просто объелось словесной информацией, — снова вернулась она к разговору о языке. — С одной стороны, язык — гениальное изобретение и достояние, а с другой — барьер, разделяющий людей. — Это как же? — удивился Карелин. — В Эстонии произошло разделение по языковому признаку. Нас стали ненавидеть только за то, что мы говорим по-русски. Ну а остальное — вытекающие отсюда последствия. — Постой-постой, — оживился Карелин, — а может, человечество уже готово перейти на бессловесный язык общения? — А что ты думаешь? Не исключено. Видимо, цивилизация должна опуститься в еще более темные глубины, а потом, оттолкнувшись ото дна, потихоньку всплывать. — И раз продолжается процесс урбанизации, — прервал ее Карелин, — значит, будет возврат к природе. — Кстати, дорогой, — спохватилась она, копируя голос жены из американского сериала, — какие у тебя планы на сегодняшний день? — Загляну для начала в районную администрацию. Хочется поговорить с главой с глазу на глаз. Надеюсь воззвать к его совести. — Бог ты мой! — всплеснула руками Линда. — Так ты еще и оптимист! — Оптимизм, Линдочка, знаешь ли, тоже штука заразная, им можно и заболеть. Так что ты рискуешь. — Ой, я же на планерку опаздываю, — спохватилась Линда, взглянув на часы. По лестнице они спускались бегом. Через каждую ступеньку Линда поглядывала на часы. Иван поддерживал ее за руку. Она чувствовала его силу, и в душе были радость и равновесие. В эти минуты, как ни странно, она думала о Боге: значит, есть Он, если вот вспомнил о ней и подарил женское счастье. И не на одну минуту, а, кажется, на всю оставшуюся жизнь. — Заедешь за мной после обеда? — спросила Линда, садясь в машину. — Надо будет подписные листы деду Луке закинуть. — Да, конечно. Карелин тронул машину и через несколько минут уже тормозил у редакционного подъезда. — Держи, — Линда сунула ему в руку ключ. — Спасибо, — сказал Карелин, догадавшись, что это ключ от ее квартиры. — Да ладно тебе, — усмехнулась она и распахнула дверцу. — Да, вот еще что возьми. — Она порылась в сумке и вытащила диктофон. — Пригодится, только не забудь воспользоваться им. Удачи! — Пока, — ответил он. У светофора Карелин надел ключ на свою связку. Поблескивающий стерженек пах медью, загадочным счастьем и сегодняшней ночью. *** — Думаю, он все-таки захочет принять меня, — втолковывал Карелин секретарше — пышноволосой накрашенной даме, которой было далеко за сорок или, лучше сказать, под пятьдесят. — Вы доложите ему, что прибыл парламентер из Сретенского. Секретарша вздохнула просторной грудью и скрылась за кабинетной дверью. Минуты через полторы она появилась снова. — Пять-шесть минут, — сказала она, — не больше. Потом он уезжает по объектам. — Мне и этого достаточно, — улыбнулся Карелин. Между тем дверь главы района открылась, и в приемную выкатились трое отрепьевских “нефтяных шейхов”. Фельцман с неприятной улыбкой уставился на Карелина. — Старый знакомый! — протянул он поддельно-ласковым голосом. — Быстр на ногу. Куешь железо, пока горячо? Впрочем, заходи и к нам. Офис в гостинице. — Он кивнул в сторону окна, за которым высилось похожее на большой вытянутый спичечный коробок здание. — Пятнадцатый этаж. Вот визитка на всякий случай. Я думаю, мы найдем общий язык. Не так ли? Подмигнув Карелину, он направился к выходу. Карелин сунул секретарше коробку витаминов и пошел в кабинет. Ничего необычного внутри не было. По стенам — серенькие картины мест¬ных художников, обширный рабочий стол сверкает телефонами-факсами; вдоль всего помещения— второй длиннющий стол, обставленный двумя рядами стульев с малиновой обивкой. Алтунин стоя просматривал бумаги; похоже, действительно куда-то собирался. — Ну, по какому делу? — глухо спросил он. — Да все по вчерашнему, Глеб Денисович. Пришел поговорить с вами как земляк с земляком. — Вы приехали к нам, чтобы в какой-то степени немножко разогреть наш народец, а заодно и мускулами поиграть? — Не только поиграть, но и костьми лечь, если дело потребует, — невозмутимо добавил Карелин. — Какая ужасная точка зрения. — А вы предлагаете спокойно смотреть, как будут губить нашу землю? — Да бросьте вы! — раздраженно отозвался Алтунин. — Вопрос о строительстве завода в нашем районе поднимался еще пятнадцать лет назад, на сей счет существовало соответствующее постановление. Просто руки не дошли, что называется; средств не хватило. — Ну и радовались бы. Неужели вы не понимаете, что от завода будет больше убытков, чем прибыли? Нарушится экология, окажется зараженной земля. Ваши овощи Москва покупать просто не будет! Сейчас у многих москвичей здесь свои дачи. Но ведь они съедут в одно лето — зачем им такая земля? В городе подешевеют квартиры, потеряют ценность садовые участки... А это прямые убытки и району, и людям. Какой вам от этого профит? — Критиковать, голубчик, всегда легче. А что бы вы сделали на моем месте? Карелин заглянул в измученные бессонницей глаза главы районной администрации, почувствовал, что вся его враждебность к этому человеку становится менее отчетливой. — Надо не новые производства строить, а реконструировать старые. И если уж строить, так что-то органически связанное с окружающей средой. Хотите, я в аренду Сретенское возьму? Есть у меня проект оздоровительного комплекса — обалдеть можно. Не лажа какая-нибудь — настоящее прибыльное дело. Окупится быстро, и району прямая выгода. — Что вы плетете? Какая реконструкция? Где вы инвестиции найдете под эту реконструкцию? В городе предприятия на боку лежат... федерального значения, заметьте! А вы тут мне сказки рассказываете про районное производство. Да кто сунется в наш район? Кому он нужен? Не смешите вы меня своим оздоровительным комплексом. Мне в год три районных бюджета предлагают. Три бюджета! А вы про какой-то комплекс говорите. Мелочь, ерунда. Да даже если бы я и клюнул на это, ваш комплекс кардинально не решит проблемы региона. — Увлекающийся вы человек, Глеб Денисович! — усмехнулся Карелин. — Это вам сейчас сладкие песни поют, а как до дела дойдет, еще неизвестно, куда эти “бюджеты” поплывут. Да хоть бы и заплатили шейхи-фельцманы, вы что же думаете, область так вам и отдаст эти деньги за здорово живешь? Ждите, как же! Все в центр уйдет, а вам действительно останется мелочь, и будете вы посвистывать с пустым карманом и загаженной природой. Я же тоже не вчера родился. За моими плечами — крупнейшая медицин¬ская фирма, с которой сотрудничают медицинские центры Америки, Австралии, Швейцарии. Мы вплотную работаем с медицинской академией имени Сеченова, и поверьте, не один миллион долларов через мои руки прошел. Или вы думаете, что я не знаю, как эти дела раскручиваются? Напеть можно что угодно, а вот результат... — “Результат”... “Крупнейшая фирма”... — иронически поглядел на него глава района. — Извольте. — Карелин открыл дипломат и сунул Алтунину пачку проспектов. — Вот информация о наших достижениях. Методы лечения в “Кедре” значительно отличаются от общепринятых, утвержденных, используемых в государственных учреждениях. Мы начали с виватона — препарата, основанного на комплексе из двадцати шести трав. Помимо своей фармакологической концепции, виватон — это целая система жизни... Не буду утомлять вас скучнейшими подробностями. Нашу деятельность вы можете легко проверить. Любой оптовый потребитель даст вам самые превосходные оценки. А вот кто такие эти отрепьевцы — еще вопрос. Липовая фирма, никому не известная. Ох, смотрите, Глеб Денисович, попадете вы в историю... — Никуда мы не попадем, — буркнул хозяин кабинета.— Дело верное, на Москву завязанное. — Ну и что же, что на Москву? Думаете, в области афер не проворачивают? Разговор стал отрывистым, резким, и даже секретарша, слыша его, раза два заглядывала в кабинет. Наконец, не выдержав (видимо, беседа задела его за живое), Глеб Денисович сказал: — Свалился ты на мою голову! Ну что тебе в Сретен¬ском? — Сретенское — моя земля, — веско произнес Карелин.— Это село еще моему деду принадлежало. И не в Сретенском тут дело. Здесь о целом Трехреченске речь идет. Забыли о “розе ветров”? Город расположен в низине. С запада у него химкомбинат, с востока — цемзавод; отходы до самого центра сыплются. Единственные дни “вентиляции” — когда ветер в город дует с юга. А вы там хотите НПЗ поставить! Тогда Трехреченск получит ядовитые выбросы на все 360 градусов. Выморите город, только и всего. — Слова, слова!.. Что вы все так зациклились на этих выбросах? Вопрос этот спорный. “Регион-нефть” в августе проведет в Сретенском международную экологическую экспертизу. Туда специалисты приедут не чета нашим. В сентябре будет технико-экономическая экспертиза. — Шустрые господа, — хмыкнул Карелин. — Может, и шустрые, но выход на международные связи у них есть. Это точно. — Ну конечно. Чтобы с помощью иностранной экспертизы наше природоохранное законодательство обойти и людям мозги запудрить. Глеб Денисович, вы же умный человек. Неужели вы не видите: ситуация-то скользкая. — Песочком присыплем, чтобы не скользило. Вот что я тебе скажу, земляк. — Было видно, что в главе района что-то надломилось, а может быть, он просто устал. — Не дави ты мне на слезный канал. Человек я действительно неглупый, и мне свой родной Трехреченск коптить хочется не больше, чем всем остальным. Но НПЗ — это единственный шанс поднять район с колен. Единственный! Испортится или не испортится экология — это еще бабушка на-двое сказала. Но если мы упустим свой золотой шанс — мы все с голоду сдохнем, вот что. Мне уже надоело прятаться от людей, понимаешь ты или нет?! Я уже не могу не то что народу — собственному райздравотделу в глаза смотреть! С завроно стараюсь не встречаться — вот до чего дошло! А ты тут лезешь ко мне со своей экологией! Тоже мне Кампанелла выискался! Мой тебе совет: уезжай в Москву и не морочь себе и людям голову. Войну хочешь мне объявить? Ну что ж, валяй. Еще посмотрим, чья возьмет. Только не старайся переубедить меня. Я устал от нищеты, устал, понимаешь? Это хуже зубной боли, вот в чем штука-то. И розовыми мечтаниями от нее не избавиться, тут посерьезнее твоего виватона препарат нужен. — Кем вы работали до этой должности? — не¬ожиданно спросил Карелин. — Ветеринарным врачом, — растерянно ответил Алтунин. — Так, понятно... Боитесь вернуться на прежнее место? Да и куда вернетесь, ведь все порушено! Пусть косвенный, но все-таки вы преступник. Карелин почувствовал, что глава районной администрации не только откусил кусок жирного пирога от “Регион-нефти”, но уже успел и проглотить его. Зазвонил телефон. Алтунин нервно схватил трубку: — Да. Здесь он. Хорошо, передам. — Нажал на рычаг и бросил Карелину: — Твои “друзья” звонили, из “Регион-нефти”. Ждут тебя, хотят высказать свои деловые предложения. — Вот это кстати! — оживился Иван. — Я как раз к ним и собирался. Ладно. До новых встреч, Глеб Денисович. — Пока, — сухо ответил глава района. Выруливая от местного “Белого дома” и делая круг возле гостиницы и торгового центра, Карелин поймал себя на мысли, что так и не может понять, отхватил ли себе Алтунин проценты от нефтяных акций или нет. Больше того: Алтунин чем-то даже вызывал симпатию у Карелина. В отношении руководства “Регион-нефти” этого сказать было нельзя. Карелин припарковался у гостиницы, и нехорошее предчувствие подало ему сигнал тревожным покалыванием в ладонях. Дипломат он с собой брать не стал. Инстинкт подсказывал, что руки должны быть свободными. Закрыв машину, Карелин взбежал по гранитным ступенькам, взялся за ручку двери и, прежде чем открыть, подмигнул своему отражению. Одиннадцатая заповедь Пока Карелин поднимался в лифте, у него созрел план действий на сегодня. Вопервых, не соглашаться ни на какие условия. Даже наоборот — предметом разговора должно стать неукоснительное требование сворачивать проект и убираться из города. Разговор, конечно, должен быть корректным, дипломатичным, без каких-либо эмоций и срывов. Если с первым вопросом все было просто и ясно, то со вторым у Карелина появились некоторые за¬труднения. Не давала покоя подозрительная мысль: почему Сашка Фирсов не обмолвился о Линде? То, что забыл, — отметается сразу. А может, у них любовь? Голову отверну подлецу! А впрочем, чего это он судить собрался? Ведь, по правде говоря, если бы не дедова телеграмма, он не то что в этом веке, но и в следующем не появился бы здесь. Да, ситуация... А чего, собственно, он ожидал? Что Линда все эти двадцать лет будет ждать его? Да он сам хоть раз вспомнил о ней за последние пять лет? Лифт поднимался к пятнадцатому этажу. Карелин проверил, удобно ли устроен диктофон в кармане куртки, и попытался сосредоточиться на главном. Составить конкретный план действий ему так и не удалось: неизвестно, что собирались предпринять Фельцман со товарищи. Офис Фельцмана искать не пришлось. На пятнадцатом этаже у лифта Карелина ждали два накачанных парня. Один встал с правой стороны, другой — с левой. Прямо как конвой. Не спрашивая фамилии, первый пробубнил: — Мы вас проводим. Так и шли, словно не по гостиничному коридору, а по тюремному. — Душновато у вас. — Карелин полез в карман якобы за платком и включил диктофон. Промокнул лицо, сунул платок обратно. — Руки назад или как? — Ну зачем же сразу “руки назад”? — раздался ему навстречу адвокатский баритон. Иван увидел стоящего в прихожей Фельцмана. — Ждем как дорогого гостя... — И он радушно распахнул дверь. Карелин пересек приемную, миновал секретаршу, охранника. — Не узнаете? — У двери Фельцман приостановил шаг и развернул своего спутника. — Антон? — догадался Карелин. Парень мотнул головой. Иван на миг остановил на нем взгляд, но этого было достаточно, чтобы запомнить: короткая стрижка, мощный загривок, под разрисованной футболкой угадывалась накачанная на тренажерах мускулатура. Кабинет был сравнительно невелик (все-таки гостиничный номер), однако трое отрепьевцев разместились в нем достаточно комфортно. Кожаные вращающиеся кресла, кожаные диваны, сверкающие черным лаком столы, уставленные модными прибамбасами компьютерного века. Белые жалюзи скрадывали резкий свет. Два напольных вентилятора, неслышно урча, гоняли воздух. Присутствующие, словно манекены, были похожи друг на друга: одинаково упитанные, одетые в дорогие темные костюмы. — Присаживайтесь. — Фельцман предупредительно указал на диван. На его руке блеснули золотом дорогие часы “Рено Бекар”, стоимостью не меньше пятидесяти тысяч рублей. — Чай, кофе, минералку? Или, по случаю доброго знакомства, по рюмочке? У нас есть хороший армян¬ский коньяк. Не подделка, настоящий. Самый раз на брудершафт. — Я на “ты” обращаюсь только к порядочным людям. Потому обойдусь минералкой. — О’кей. Я не в обиде. Хотя вы ее на меня держите. Пора бы забыть... В стакане зашипела газировка. — Ну, как разговор с главой? Преуспели? — осведомился Марк Абрамович, откинув голову на высокую спинку кресла. — По крайней мере, внес ясность. — И то хлеб... Решили воевать? — Похоже на то. — Я же предупреждал вас, Иван Матвеевич! Конструктивного разговора не могло получиться. — Фельцман опустил руки на поручни и весело посмотрел на собеседника. — Слишком далеко за¬шло. Слишком большие деньги заряжены. Вот что, давайте-ка без обиняков. Мы навели о вас справки и с уважением относимся к вашему бизнесу. Не будем тратить время на глупости и пустяки. — Смотря что называть глупостями, — мгновенно ответил Карелин, словно только и ждал начала такого разговора. — Ваш план строительства с точки зрения серьезного бизнеса совершенно беспомощен. Это как раз и есть настоящая глупость. — Что вы имеете в виду? — Вы начали дело, совершенно не учитывая трехречен¬ского менталитета, как будто действуете в пустыне. А ведь Сретенское и Филиппово — не Сахара. Это место формирования русской нации. На Дивном Поле перед решающей битвой собирались союзные русские дружины. Это священное место в истории России. Трехреченцы не отдадут вам этой земли. — Странно, — вступил в разговор еще один отрепьевец, импозантный, с аккуратной бородкой и блестящей лысиной. — Это не помешало, однако, застроить все Дивное. И где же, извините, тогда был ваш хваленый менталитет? О чем думал ваш прадед, когда организовал производственную свалку в Сретенском? — Вы и об этом знаете? — Карелин заставил себя улыбнуться. — Как же не знать? Изыскатели первым делом на эту гору наткнулись. Это подтверждает то, что безотходного производства не бывает. — Простите, как вас зовут? — Эдуард Александрович. — Видите ли, дорогой Эдуард Александрович, застройка Дивного Поля и экологически нейтральная гора керамических черепков — это одно. На этой горе и трава, и деревья растут. А когда в Филиппово перестанут расти деревья — это совсем другое. В вашем бизнес-плане изначально заложена порочная идея этакого наплевательства на общественное мнение. И как раз поэтому ваше дело трещит по швам, а вовсе не потому, что Карелин такой плохой или все трехреченцы— дураки. Дело не в нас. Дело в ущербности вашего проекта. — Что ж... Это разговор делового человека. А знаете что?— Фельцман вскинул руку и внимательно всмотрелся в Карелина. — Давайте заключим союз. Входите в наше правление. Поможете в организации, будете заниматься проблемами безопасного производства, раз уж это так вас беспокоит. Ну хотя бы на первое время. Я понимаю, у вас у самого фирма... Карелин расхохотался: — Это невозможно. Ни о какой безопасности тут речи быть не может. Стань я даже гендиректором вашей фирмы— НПЗ несовместим с нормальной экологической ситуацией. Во взгляде Фельцмана появилось что-то злое. — Я гляжу, Иван Матвеевич, вы пытаетесь ввести одиннадцатую заповедь? — Не понял. Какую одиннадцатую заповедь? О чем вы? — Да о старом добром Моисеевом Декалоге. Четыре тысячи лет Десять заповедей служили обществу верой и правдой. Теперь вы хотите ввести одиннадцатую. Интересно, как вы ее сформулируете? “Не построй вредного производства” — так, наверное? Карелин пожал плечами. — Во-первых, ваши действия целиком укладываются в десятую заповедь, и что-то добавлять здесь нет смысла, — раздраженно ответил Карелин, сдвинув брови. — Во-вторых, Декалог можно назвать Моисеевым достаточно условно. Моисей не придумал эти заповеди, он лишь записал их. И они не “служили обществу”, как вы изволили выразиться, а были даны как закон, не подлежащий обсуждению. Это был приказ Бога. Намекать на “одиннадцатую заповедь” — не смешно. Скорее опасно. Вы не боитесь Бога? Фельцман удивленно посмотрел на Карелина. Торопиться с ответом не стал, подошел к бару, плеснул на донышко бокала коньяка, долил его минералкой. Отхлебнул, прошелся по кабинету — тихо, по-кошачьи — и стал напротив Карелина, опершись о стол: — Голубчик вы мой, какой Бог? Вы рассуждаете, как древний старик. Церковь уже давно закоснела в своих догматах, словно в жилище без окон. С тех пор как наука стала творить чудеса, появился глубокий разлад в душе общества и в душах отдельных людей. Религия ответственна за запросы сердца, в этом ее магическая сила, а наука — за запросы ума, в этом ее колоссальная мощь. Уже давно эти две силы перестали понимать друг друга. Мы с вами принадлежим к разным духовным традициям: европейской и ближневосточной. Европейцы склонны очеловечивать Бога. Почему вы, Иван Матвеевич, считаете, что Бога нужно бояться? Какое Ему дело до человека? То есть до человечества, в массе, может быть, дело и есть, но до каждого конкретного человечишки... Не знаю, не знаю... Карелин глянул на него с неподдельным удивлением: — Вы хоть Библию-то читали, уважаемый ревнитель ближневосточной традиции? Хотя бы Псалтирь, пророков, Бытие... Это ведь там сформулирована идея личного общения Бога и человека. Страх Божий — ветхозаветное понятие, то есть самое что ни на есть ближневосточное. И эти ваши умственные экзерсисы по поводу “двух традиций”, “одиннадцатой заповеди” — показатель вашей... извините уж за откровенность — духовной пустоты. Христианства вы не принимаете, а от иудаизма ушли — вот и мечетесь, не зная, чего хотите. Вы же этим самым отрекаетесь от первородства, отрекаетесь от богоизбранности. Ради чего Господь избрал народ Божий? Для того ли, чтобы он гремел мошной? Или чтобы уродовал землю? Без идеи богоизбранности еврей¬ский народ — ничто, прах. Только избранность и общение с Богом делают его великим и святым. Так в чем же заключается миссия Израиля? В чем состоит его богоизбранность? Вы можете мне ответить? Фельцман молчал в некотором замешательстве, думал, прихлебывая из бокала. Затем сказал неторопливо и осторожно: — Я не богослов. Я даже не могу себя назвать вполне религиозным человеком. Поэтому мне трудно ответить на ваш вопрос с достаточной определенностью. Но я понял, куда вы клоните, Иван Матвеевич. И отчасти с вами согласен. Конечно, основное содержание Библии — это договор между Богом и Его народом. И конечно, миссия Израиля — в проповеди Единства Бога. Но было бы наивно полагать, что дело только в этом... Прошло слишком много времени. И потом — существует мистика крови, мистика народа. Сохраняется ли сейчас миссия Израиля? Наверное, да. Но ограничивается ли она только, как вы сказали, проповедью Единобожия? Думаю, что нет. А вот участие в мировой эволюции — вопрос особый. Здесь, можно сказать, народ Божий является главным двигателем. Эволюция человечества, прогресс! — Глаза Фельц¬мана загорелись, и он с раздражением отодвинул от себя пустой бокал. — Нет, это не пустые слова! Сейчас, на наших глазах и нами самими создается новая общность людей, новая цивилизация. Через пару сотен лет человечество начнет освоение космического пространства. А вы суетитесь вокруг Дивного Поля и Сретенского с его избушками! Сверхцивилизация развивается колоссальными темпами. А тех, кто попытается стать на ее пути, постигнет участь неандертальцев. — В голосе Марка Абрамовича прозвучали торжество и вызов, голова гордо поднялась, открыв заплывшую, жирную шею. — Ну что ж! — как можно спокойнее сказал Карелин. — Видать, такая наша планида. Будем защищать свои избушки... Нам с вами не по пути. Страшный вы человек, Марк Абрамович. — Иван Матвеевич, вы помните историю с вашим увольнением из института? — Как не помнить?.. А к чему вы об этом? — Вы тогда гордо отказались поставить подпись под важным документом. Нашелся на ваше место другой. В результате вас вышибли, а свалка преспокойненько функционирует и по сей день. И неплохо на ней люди деньги зарабатывают. Зря вы снова встретились мне на пути. Во второй раз я вас уничтожу. От этих слов у Карелина заиграла кровь в жилах. Схватить бы сейчас эту мразь да с пятнадцатого этажа мордой об асфальт! Да разве этим дело решишь? Тут другая стратегия нужна. Карелин холодно сказал: — Вот как, значит, дела обстоят... Конечно, Марк Абрамович, что-то в этом духе я подозревал... Однако вы заблуждаетесь по поводу “уничтожения”. После того как мне пришлось уйти из института, я ведь неплохо устроился. Вы, кстати, и сами это признали в начале нашего разговора. Так что все эти угрозы насчет “уничтожения” несколько неубедительны. Хотелось бы покон¬кретней узнать — что мне грозит? — Ваша ирония неуместна, — вступил в разговор третий отрепьевец, и его водянистые глаза уставились на Карелина с остекленелой неподвижностью. У него было худое лицо с тонкой кожей и маленькими рыжими усами. — Простите, не имею чести... — прервал его Карелин. — Стаковский Леонид Михайлович. — Вы член правления? — Я коммерческий директор фирмы. Так вот, ирония ваша неуместна. Начнем с того, что филиал своего “Кедра” вы в этом городе не откроете. Это я вам лично обещаю. — Бросьте, Леонид Михайлович, — усмехнулся Карелин. — Я же трехреченец. А вы приезжие. И вы мне угрожаете? Смешно и несерьезно. — Напрасно вы так думаете, — возразил ему Стаковский. — Вы гораздо более приезжий — вы теперь москвич. А мы как раз давно уже здешние. Не хотите под нашу “крышу” — пеняйте на себя. — В каком смысле пенять-то? — раскручивая разговор, поинтересовался Карелин. — Что вы мне можете сказать определенно? Карелин чувствовал, как в кармане работал диктофон. — Не будьте наивным. — Стаковский занервничал. — У любого человека есть свои слабые места. Неудачи с устройством бизнеса, неприятности у ваших друзей и родственников — весь этот набор известен и стар, как мир. Для вашей же безопасности предупреждаем: не хотите сотрудничать — уезжайте в Москву, пока целы. Помните, как в той песне? “Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты”. Карелин поднялся: — Вот это определенный разговор, предметный! Ну что ж, господа, спасибо за предупреждение. Было приятно пообщаться с вами: и философские проблемы затронули, и вопросы бизнеса обсудили. Мне тут надо посоветоваться с коллегами. Пару дней вы дадите мне на размышление? — Пару дней, включая нынешний, если не возражаете,— сказал Стаковский, и его усы дернулись от улыбки. — Конечно-конечно. До свидания. — Да, еще один совет на прощание, — сказал Фельцман, вставая со своего кресла. — Вы нас за дураков не держите. Записанную кассету передайте охраннику. Не отдадите по-доброму — силой заберем. — Какую кассету? — почти искренне удивился Карелин. — Да не лукавьте, Иван Матвеевич. Несолидно это... Прибор определил, что в комнате пишущий магнитофон. Нам это, как вы понимаете, не нужно. Так что сделайте, как я вам посоветовал. Всего вам хорошего, — кивнул головой Фельцман, давая понять, что на этом разговор закончен. Покидая приемную, Карелин слышал, как гендиректор что-то быстро говорил по мобильному телефону. У лифта его ждали двое знакомых качков. Антона среди них не было. — Полный сервис! — весело сказал им Карелин. В ответ один из них резким толчком выкинул его на лестничную клетку. — В чем дело, друзья? — удивленно спросил Карелин. — Гони кассету, пока с твоими ребрами ее не переломали. — Парень сделал шаг навстречу. — Возьми. — Карелин радушно развел руки. Парень попытался было сунуться к карману его джинсовой куртки — и напрасно, ибо тут же получил хороший встречный левой. Потом правой рукой ударом в подбородок Карелин слегка приподнял его от пола. Охранник отлетел в сторону, сочно ударившись затылком о стену. Глаза его поплыли, он медленно сполз на пол и затих. Со вторым получилось сложнее. Пока Карелин разглядывал утихшего качка, его товарищ, словно кошка, прыгнул сбоку и с ходу ударил его в голову. Но в самый последний момент Иван успел уклониться, и удар получился скользящий, по уху. Второй удар пришелся по корпусу, карелин¬ские ребра затрещали, а вместе с ними и коробка органайзера, которая значительно смягчила удар. Потом “регионовский” силач перешел на кикбоксинг. Он лихо поднял ногу, нацеливаясь ею в голову Карелина, но, пока готовился да размахивался, Карелин опередил его хлестким прямым ударом. “Кикбоксер” пошатнулся, свалился спиной на перила, и Карелин, не дав ему очухаться, быстро взял его в работу, пока и тот не съехал на пол. Наклонившись, Карелин обыскал его, нащупал плечевую кобуру и извлек из нее пистолет. — О, вальтер! — обрадовался он. — Неплохое оружие — дырки аккуратные делает. Пригодится. Сунул оружие за пояс. Наткнулся на пачку визиток, одну взял себе, остальными посыпал лежащего. — Пижон, — добавил Иван. У первого, лежавшего у стенки, Карелин добыл отличный охотничий нож. Визиток у того не было, зато были водительские права. Их Иван забирать не стал, просто запомнил фамилию. “Спасибо тебе, дядя Саша”, — сказал про себя Карелин, сбегая этажом ниже. Дядей Сашей звали его тренера по боксу. Иван схоронил старика лет пять назад. На четырнадцатом этаже Карелин вызвал лифт, спустился в холл. Огляделся. Здесь все вроде было чисто. Вскоре он уже сидел в своей машине. На ходу бросил в бардачок вальтер и нож. Объехал вокруг гостиницы, проверил, нет ли “хвоста”. У светофора записал на всякий случай фамилию бывшего владельца ножа. Карелин ехал к Линде домой. Надо было привести себя в порядок; подозрительно болел бок, левое ухо горело. Кроме того, острой болью отдавала левая рука. “Что за идиот¬ская манера лупить противника по черепу! — ругал себя Карелин. — Когда-нибудь я точно пальцы сломаю”. Тоомас вертелся у дверей. Но, увидав Карелина, поднял хвост и, не желая общаться, удалился на кухню. — Не доверяешь? Ну что же, ты как хозяин прав, — вздохнул Карелин и направился в ванную, раздеваясь по дороге. Его опасения не оправдались. Трещины в ребре определенно не было, и ухо в размерах не увеличилось, только покраснело. Карелин принял душ и вышел из дома значительно повеселевшим. За рулем он прикинул планы на ближайшие полдня. Потом набрал по мобильному Москву. — Серега? Привет. Я тут попал в переплет. Придется тебе откомандировать ко мне пару-тройку ребят. — “Конкурирующая фирма”? — со знакомой интонацией съязвил Грачев. — Да ладно тебе! Нашел время цитировать Остапа Бендера. Попал, говорю, в переплет. — Кто-то наезжает на тебя, что ли? — Ну да. — На кой черт тебе отрывать людей от работы и перебрасывать их в Трехреченск, за сто верст? У меня в твоем городе дружбан есть: тамошний председатель Совета ветеранов — мой кореш еще по Афгану. Да я тебе о нем рассказывал! Классный мужик! Я за него жизнь положу, не задумываясь. Мне ему позвонить или сам свяжешься? — Давай телефон. Попробую сам. Как его зовут? Сергей продиктовал. — Пока. Вечером перезвоню, — сказал Карелин и мгновенно, не откладывая, связался с Василием Михайловичем Деминым, председателем трехреченского отделения общества ветеранов-“афганцев”. Услышав имя Сергея, тот мгновенно оживился: — Да ну?! Серый? Как он там? Живой? Плечо не беспокоит? — Живой, даже чересчур. Взбрыкивает иногда. — По женской части? — По ней самой. У нас в Трехреченске проблемы возникли, не в смысле взбрыкивания, конечно, а по гораздо более серьезному поводу. Надо бы потолковать. — Сейчас сможете подъехать? — Где вас найти? Демин объяснил. Офис находился за знаменитой трехреченской “Баранкой” (памятником Юрию Гагарину, выполненным в виде околоземной орбиты), недалеко от Совет-ской площади. — Буду через десять минут. — Добро. Демин оказался здоровенным мужиком с открытой улыбкой и груст¬ными карими глазами. — Тут без Петровича не обойтись, — сказал он, выслушав Карелина. Позвонил секретарше, и вскоре в кабинет вошел мужчина среднего роста, жилистый, с крепкой шеей, шикарными усами, торчавшими в разные стороны, и перебитым носом. Демин представил их друг другу. Карелин вкратце повторил все еще раз и вдобавок прокрутил магнитофонную запись. Диктофон уцелел, но был весь в трещинах, словно в паутине. — Приятно иметь дело с умным, интеллигентным человеком,— пробурчал Петрович, теребя усы. — Дай-ка, Михалыч, свой магнитофон, сейчас копию сделаем да в сейф положим. Не против? — обратился он к Карелину. — Береженого Бог бережет, — ответил тот. Петрович ему явно понравился. — А ты этих качков не запомнил? — Обижаете! Я их фамилии знаю. — Карелин рассказал про визитку и права. Глаза Петровича заискрились. — Действительно, пижоны. Сейчас в ментовку позвоню.— И он, пододвинув к себе телефон, покрутил диск. — Никита? Привет. Я тебе пару фамилий дам, посмотри в своей картотеке, не проходят ли они у вас. Да наехали тут на одного нашего парня... Угу. Записывай. Продиктовал данные и спросил: — А может, мы к тебе заскочим — минут так через десять? Ну вот и хорошо. — Нам эти нефтяные игры тоже подозрительны, — мрачно сказал Демин. — Давно надо было их в оборот взять. — Возьмем, — заверил его Петрович. — Лишь бы только на этих придурков у Никиты что-то нашлось... Все. Поехали. Никита Баталов оказался симпатичным, высоким капитаном милиции и смотрелся особенно выразительно при тусклом освещении на фоне истертых полов и обшарпанных кабинетных стен. — А на одного из ваших друзей кое-что нашлось, — сказал он. — У него есть одна ходка за соучастие в грабеже. — Этот? — спросил Карелин, бросая визитку на стол. — О, и телефон есть! — развеселился капитан. — А что у тебя на него? — Сильно подозреваю, что он вооружен. Так угрожал сегодня, что еле отбился. Никита пристально посмотрел на Карелина: — Что-то ты не договариваешь. Носом чую. А ну-ка давай колись. Карелин вздохнул и с сожалением выложил на стол вальтер и нож, кратко добавив, кому эти вещи принадлежат. — Зажать небось хотел? — осклабился капитан. — Вещицы надежные. — Да, с ними как-то уютнее себя чувствуешь. — Попробуем пощупать этих жлобов. Визиточку я себе оставлю? Мерси. Так-так... Раз пистолетик есть, значит, и патроны к нему имеются, и еще кое-что. Глянем. — Да, забыл! — спохватился Карелин. — Я же тот разговор на кассету записал. — Ну ты даешь, парень! — рассмеялся Никита. — Это ведь самый главный вещдок. Пока он быстро тюкал двумя пальцами на машинке, Петрович шептался с Карелиным насчет “Регион-нефти”. — Паскудная контора, — вмешался в их разговор Никита. — Есть у меня одна завязочка... Попробуем подергать. — Загорелся Никитка, — сказал Петрович, когда они выходили из милиции. — К вечеру обязательно что-нибудь нароет. Еще какая-нибудь помощь требуется? — Пока хватит. Подождем до завтра. — Ну, будь здоров! Признания Купол полудня колыхался над городом. Несмотря на несусветную жару, Карелин не поленился и по дороге в “Трехречку” заехал в ювелирный магазин, чтобы купить себе и Линде обручальные кольца. Выбирал не торопясь (вопрос-то важный!), долго советовался с продавщицей, пока не остановился на двух особенно красивых, с тонкой бриллиантовой полоской по всему полю. В меру крупные, но без пошлой выпуклости кольца разбрасывали вокруг радужные лучики. Редакция встретила его стрекотанием пишущих машинок и телефонными звонками. Карелин увидел стенгазету “Трехреченский вопль” с пародиями и газетными ляпсусами. Там были разделы: “Лучшая глупость номера”, “Лучшая бредятина месяца”, а также “Наши очепятки”. Путь в кабинет Линды пролегал как раз мимо стенгазеты. В углу комнаты, перегороженной двумя столами, были свалены подшивки газет. Стены сплошь пестрели пейзажными фотографиями. Над столом Линды висел большущий календарь с видом Таллина. Увидев Ивана, Линда принялась упаковывать подписные листы. В это время в кабинет завернула пожилая дама и, взглянув на Карелина, спросила Линду: — Слушай, Лид, а как правильно пишется слово “ягодица”? Линда не растерялась: — А вы, Вера Николаевна, возьмите словарь Даля и посмотрите на букву “Ж”. Карелин рассмеялся, и дама тут же ретировалась. — Не слишком ли резко ты с ней обошлась? — Да ну ее! — отмахнулась Линда. — Вечно любопытничает. Ты думаешь, у нее действительно пробелы с русским языком? На тебя посмотреть хотела. Так... Все готово. Поехали? Дед Лука с хмурым видом взял доставленные из “Трехреченской правды” бумаги. — Предупредил бы, что не вернешься ночевать, — сурово выговорил он Карелину. — Я вчера весь извелся, пока не сообразил, что вы жениться собрались. Собрались, что ль? — Собрались, — улыбнулся Карелин и обнял Линду. — Не ругайся, дед. Не мог я тебя предупредить. — Обедать будете? Правда, у меня только окрошка. — Давай окрошку! — махнул рукой Карелин. — Заправиться надо основательно. Дел еще на сегодня много. На площади у сберкассы Карелин остановился: — Мне тут надо это... ну, в общем, пошлину заплатить. У кассы небось очередь, как всегда, так что ты подожди малость. Могу музыку поставить. Хочешь “Битлз”? Я захватил несколько дисков. — Ага, давай! Помнишь, как мы у Сереги Глухова всей компанией плясали? — Это когда Сашка Фирсов поскользнулся и чуть себе руку не сломал? — Точно. “Ему и больно и смешно...” Эх, ностальгия... Заведи что-нибудь из ранних альбомов. — Угу, сейчас. Карелин порылся и поставил диск. И тут же окаменел. Вместо доброго старого английского рок-н-ролла послышался древнерусский распев. — Мистика... — пробормотал Иван и потянулся, чтобы сменить диск, но Линда остановила его: — Погоди. Хорошо поют... Кто это? — Да один из новых фольклорных ансамблей. “Китеж” называется. Как-то услышал их, и понравилось. Такое, понимаешь, многоголосие, мощь... как будто в средневековье попал. Но ведь этого не может быть. Не мог я перепутать... Чтобы один диск в другую коробку положить — такого со мной никогда не бывало. Мистика. — Ну вот видишь, все к лучшему. Музыка-то хорошая. — Ладно. Я пошел. Против ожидания, народу в сберкассе оказалось немного. Карелин быстро разделался с оплатой, сунул квитанцию в бумажник и направился к машине. Подойдя, он остановился от неожиданности. Линда сидела с закрытыми глазами и напряженным, даже побелевшим лицом. — Что с тобой? — спросил Карелин, садясь за руль. Линда взглянула на него огромными отрешенными глазами. Иван выключил плейер: — Что случилось? — Знаешь, Иванушка, мне сейчас видение было. Я вот слушала-слушала — и вдруг как будто прозрачные стены вокруг отпали. Понимаешь, я подумала, что, наверное, вот такие же мелодии пели на Святой Руси. И только я это подумала, как увидела ночь, поле, огоньки костров. Пахло вялой травой, лошадьми и еще чем-то страшным. Так, наверное, пахнет кровь, засыхающая на железе. И было кругом — как после битвы, когда уцелевшие воины сошлись у костра и вдруг запели. — Странные дела творятся в Сретенском... — пробормотал Карелин, тронув машину с места. — Ладно, не бери в голову. Это ты у меня больно впечатлительная. Но когда-нибудь я тебе такое расскажу про древнерусские мотивы — не поверишь. — Ты куда меня привез? — удивилась Линда. — Что значит “куда”? В загс. Чего время терять? У нас с тобой и так его много потеряно. — А, теперь понятно, что ты за госпошлину платил. За регистрацию, да? — Конечно. Я тут сделал пару звонков, выяснил, какие документы нужно брать и все такое. Паспорт у тебя с собой? Вот и ладно. — Ну, Иванушка, у тебя и темпы... — Время — деньги. Ну что, трусишь? Минут двадцать, смущаясь и краснея, они заполняли бланки. Строгая пожилая дама, приняв документы, сообщила им о дате регистрации. Получалось — через два месяца. — Эх, ну что за формальности? — вздохнул Карелин. — Мы же не юнцы какиенибудь. Никак нельзя пораньше? А я вам за это сделаю для вашего Дома бракосочетания что-нибудь этакое... Хотите — входную дверь, лучше, чем у английской королевы? — Ага. А меня потом в суд поведут. Нет уж, молодые люди, не вы первые, не вы последние. Ступайте с миром и два месяца подумайте. Еще десять раз разругаться успеете, чего я вам, конечно, не желаю. Но, знаете, практика показывает, что время для раздумья — не лишнее. Да-да, это я вам как специалист говорю. — Да мы уже ветераны, можно сказать... — начал было снова Карелин. — Вы не поверите, но именно среди “ветеранов” всякие скандалы чаще всего и случаются. Идите-идите. Столько лет ждали и еще подождете несколько недель. — Продешевили вы, Людмила Васильевна! — сказала женщина из-за стола напротив. — Надо было попросить Зал торжеств отделать сусальным золотом. — А что? — встрепенулся Карелин. — Не слабо. Хотите? — Вы уверены, что правильно указали фамилию? Может, вас по-настоящему звать Гарун аль-Рашид? Нет, товарищ Карелин, работу из-за вас я терять не собираюсь. — Везде формализм! — сказал Иван. — Ладно, пошли, дорогая. Жар наших сердец здесь не оценят. — Ох, что-то мне нехорошо... — прошептала Линда, останавливаясь на гранитных ступенях Дома бракосочетания. — Голова кружится... — Тогда поехали. — Куда? — На Соборную площадь. Карелин сам не понимал точно, почему именно сюда нужно было приехать. Но душа инстинктивно требовала чего-то высокого. И Соборная площадь с ее торжественной святостью словно притягивала к себе. Они вышли на строгую гранитную мостовую. Огромный кафедральный Успенский собор сверкал белизною стен, и его золотые купола казались парящими в небесной синеве. Но храм был закрыт. Там шла реставрация, сновали туда-сюда молодые реставраторы-иконописцы, в гулкой полутьме громоздились леса. Зато были распахнуты двери соседнего зимнего собора Дон¬ской иконы Божией Матери. Снаружи храм был пестроват (воздвигнутый в середине XIX века, он нес на себе черты пряничного “русского стиля”, играл прихотливой белокаменной резьбой на красно-кирпичном фоне). Но внутри собор оказался простым и по-византийски величественным. Литургия уже давно отошла, но дыхание ладана все еще стояло под сводами, и сквозь дымку в глубь храма косыми лучами падал свет. Отовсюду глядели новые образа, написанные по старой технологии XVI—XVII веков. Лишь одна икона на правом столбе, около иконостаса, судя по серебряному окладу и темному лику, была старой. — Это, наверное, и есть Донская икона... — тихо сказала Линда. — Давай свечу поставим перед ней. — Для того я сюда и приехал, — ответил ей Карелин. — Надо как-то благословиться. Большое дело начинаем, а все эти бланки, формальности... это все не то. Они купили свечу, поставили ее на большой латунный подсвечник. — Пресвятая Богородица, — прошептал Карелин, — благослови рабов Божиих Иоанна и... как тебя в святом крещении? — Лидия. — ...и Лидию. Они уже собрались было уходить, но у самой двери остановились. На западной стене висела огромная картина. Именно картина, а не икона, хотя над головой одного из людей тонкой золотой нитью был написан нимб. И понизу шла славянская вязь: “Въезд в Трехреченск святого благоверного князя Димитрия Донского”. На картине толпились люди, дружинники, громоздилась надвратная башня, а в арке стоял епископ с крестом, благословляющий Донского. — Кто это? Сергий Радонежский? — спросила Линда. — Нет, это здешний владыка. Тогда Трехреченск уже был центром епархии. Только не помню, как звали владыку. Герасим, кажется. Мимо проходил невысокого роста, плотного телосложения человек. Из-за толстого свитера он казался еще более круглым (в соборе было прохладно). — Заинтересовались? — спросил он, поблескивая небольшими веселыми глазками. — Да... — неопределенно ответил Карелин. — Картина заслуженного художника России Геннадия Павлова, — не без гордости заявил добровольный гид. — Недавно собору подарил. — А скажите, — спросил Карелин, робея, — кто этот человек, справа от святого Димитрия, со шрамом? — Это же воевода трехреченский. Никола. — А откуда шрам? Фантазия художника? — Нет, летописная деталь. В одном из документов упоминается о его ранении. У него даже прозвище было Никола Татарская Печать. — А почему этот воевода так тебя заинтересовал? — спросила Линда, когда они вышли из храма. — Да ведь, говорят, он под Сретенским похоронен. — А, ну да, правда... Куликовы кустики. Видишь, Иванушка, как все сошлось. Будто сами древние богатыри нас благословили. — Только венчаться будем не здесь, а в Москве. У Большого Вознесения, там, где Пушкин венчался. — Как скажешь. Только почему у Большого Вознесения? — Знаешь, как-то получилось, что я туда чаще всего хожу. С первого раза почувствовал: это моя церковь... — Ладно, Иванушка, — улыбнулась Линда. — В Москве так в Москве. Высадив Линду у редакции, Карелин проводил ее взглядом и, когда новая лакированная дверь за¬крылась, вернулся по Астраханской к центру, в направлении кремля. На Житной площади, напротив храма Иоанна Богослова с его величественной и высокой колокольней, тормознул свой джип и, поглядывая на свежую позолоту шпиля, стал прикидывать планы. Времени у него оставалось часа три. Иван созвонился с трехреченским пчеловодным комбинатом. Их продукция давно интересовала его: московская сеть аптек могла только выиграть от пестрого набора медов с целебными добавками, кремов и напитков из прополиса, цветочной пыльцы и прочих сопутствующих веществ. Когда Карелин выехал в пригород, пересек речку на юго-западе, ему показалось, что за ним повис “хвост”. Он остановился и сделал вид, что разворачивается обратно. Однако машина, которую он подозревал, с шумом пронеслась мимо. Выждав для страховки пару минут, Иван отправился по прежнему маршруту. На комбинате он погрузился в мир граненых штофов, банок и склянок, наполненных золотистым и янтарным сверканием. Пока формировался заказ, пару раз пришлось созвониться с Сергеем, договориться насчет оплаты и транспортировки. Наконец договор подписали, Карелин распрощался с коммерческим директором комбината и рухнул в машину, вытирая со лба капли трудового пота. Выключив кондиционер, Иван сидел на легком сквозняке внутри автомобиля и неспешно считал на калькуляторе. Прибыль от новой сделки получалась солидная. Карелин зажмурился, представив себе роскошную рекламную витрину со сверкающей трехречен¬ской медовой продукцией, и, хитро подмигнув себе в зеркальце, спрятал машинку. Взглянул на часы. Время шло к пяти, а это значило, что пора было ехать в редакцию. По дороге позвонил Линде: — Это я. Ты готова? Выходи. По дороге еще раз проверил: мало ли что? Слежки не было. Когда он подъехал к парадному “Трехреченской правды”, Линда уже открывала дверь. — А теперь домой? — спросил Карелин, усаживая ее. — Ишь какой быстрый... У нас же с тобой сегодня праздничный ужин, забыл? А для него у меня в холодильнике бедновато. Заедем в магазин. — Извини, совсем забыл. Надо было все это самому сделать. — Пустяки. Я люблю по магазинам ходить. Так что не комплексуй. Пока Линда бегала по Дому торговли, в просторечии именуемому “Торгушкой”, Карелин позвонил в милицию: — Никита? Ну, что-нибудь прояснилось с моими клиентами? — А, товарищ с вальтером! — обрадовался Баталов. — Хорошо, что позвонил. Твои подопечные уже в СИЗО сидят. — Так быстро? — Что ж, думаешь, ты один такой шустрый? Тот, у которого ты вальтер изъял, у себя на квартире травку держал, почти кило. А второй — десяток гранат противопехотных. — Не слабо! Зачем ему столько? — Вот и мы тоже удивились. Я как глянул — ё-моё! Не Трехреченск, а Чикаго какой-то. Ну идиоты! Теперь они долго свободы не увидят... Так что спасибо. — Не за что. Про “Регион-нефть” ничего не слышно? — Да нет пока. Тебе что, этого мало? Ладно, если еще какого-нибудь бандюгу скрутишь, звони, не стесняйся. Пока. — Давай, — ответил Карелин и перевел дух. “Оперативная работа”, — подумал он и, поскольку Линда еще не вернулась, набрал номер Батюшина. — Матвеич? Привет! — захрипел Батюшин в трубку сорванным за день голосом. — У нас все в порядке. Завтра вечером собирается оргкомитет, главным образом городские. Настрой деловой. Лясы точить не будем. Официально организуемся — и сразу за сбор подписей. Приходи в семнадцатую школу к пяти вечера. Знаешь, где она? Это в Филиппово. — Найду, не проблема. — Ну а у тебя какие дела? — Жениться собрался, — просто ответил Карелин. — Постой... Как это жениться? По-настоящему, что ли? — По-настоящему, по-настоящему, — засмеялся Карелин. — Ну и когда свадьба? — До свадьбы еще далеко. Дай зарегистрироваться. — Ну ты, брат, даешь! Поздравляю тебя с первой победой. Думаю, остальные тоже будут за нами... С меня подарок. Ну, прощай, что ли. — До завтра. Карелин увидел идущую с покупками Линду и открыл ей дверцу. Линда принялась распихивать пакеты с продуктами. — Работа кипит? Даже в машине покоя нет? — спросила она. — В машине самая работа и есть. Чем еще заниматься, ожидая любимую жену около магазина? От выпитого шампанского слегка кружилась голова. Линда прихлебывала чай и счастливыми глазами поглядывала на Карелина. — Я, наверное, должен у тебя попросить прощения,— тяжело вздохнув, сказал Карелин. — Я слишком глубоко влез в эту историю с нефтезаводом. Боюсь тебя потерять, потому и поторопился сегодня с оформлением наших отношений, а главного тебе не сказал. Испугался, как мальчишка. — Да в чем дело? — насторожилась Линда. — Выкладывай все начистоту. Что там у тебя? Вторая жена? Любовница? Карелин поперхнулся чаем. — Да нет, что ты. Тут все гораздо проще. И одновременно все сложней. Ну, короче, мой визит в “Регион-нефть” прошел не так безоблачно, как хотелось бы. Они “наехали” на меня, и довольно крепко. — В каком смысле? — Ну... В общем, дело не ограничилось одними разговорами. Двое охранников пытались меня помять, но мне повезло гораздо больше, чем им. Пришлось связаться с милицией. Одним словом, теперь эти два голубчика сидят в следственном изоляторе: один — за наркоту, другой — за незаконное хранение оружия. А я, получается, и тебя с собой тяну. Тебе надо все бросить и уехать ко мне в Москву. Серега там тебя устроит. — Не бойся ты за меня. Ничего со мной не случится. Это во-первых. А во-вторых, никуда я от тебя не уеду. — Пойми, — возразил он ей, — я не хочу и не могу тебя теперь терять. А оставить Сретенское на произвол судьбы не имею права. Я тогда не то что людям — в зеркало, себе самому в глаза посмотреть не смогу. — Интересно же ты ко мне относишься, Иванушка. Я начала заниматься Сретенским еще до того, как ты приехал, и бросать эту тему не собираюсь. А что касается опасности... Журналистика вообще опасная профессия. Так что я с тобой до конца... — Линда вздохнула и потерла виски. — Ты вот говоришь, что не все мне сказал... Я ведь, Иванушка, тоже тебе не все сказала. После того как из Эстонии вернулась, оказалась я в Трехреченске без работы, без угла. Думала устроиться в школе, да никто меня там не ждал. И тут мне как раз Сашка Фирсов встретился. Он рассказал, что ты женат, имеешь крупную фирму. Как-то пригласил меня к себе в редакцию. Я возьми да и скажи, что там у себя в чухон¬ских краях подрабатывала внешкором в молодежной газетке. А он обрадовался. “У меня же, — говорит, — вакансия есть”. Я стала было отнекиваться: какая из меня журналистка? Закончила ист¬фак, практики газетчика нет, так, пописывала под настроение. А Шурка меня на смех поднял. В том смысле, что с журфака в газете вообще никого нет, а “историков” — не меньше половины. “У тебя что, есть другие варианты? Попробуй — риска тут нет никакого. Не понравится — уйдешь”. Я согласилась. И втянулась. Дальше — больше. Шурка мне и с квартирой помог... Ну и человек он интересный, весело с ним. Не подумай, что здесь нечто серьезное... но несколько раз у нас с ним было... Как это обычно бывает: профессиональный роман... С точки зрения строгой морали это, конечно, грех. Если со стороны судить. Живешь одна, сын в Москве, на работе — дым коромыслом. Но ведь нужно еще что-то, кроме обыденности и рабочей напряженки. Хочется чувствовать, что ты женщина, что ты кому-то нужна... Поэтому у нас с Сашкой получилось быстро. Да и другая есть сторона медали: многие уже знали о наших отношениях, и никто из мужиков ко мне больше не приставал. В общем, покровительствовал он мне всюду... Конечно, мне надо было тебе об этом раньше сказать, но я же не предполагала, что ты все в один день устроишь. Не объясняться же мне в присутствии заведующей! Я боюсь потерять тебя. И если это случится, я не знаю, как смогу жить... Она закрыла глаза, словно ожидая удара. Карелин взял ее руки в свои: — Кто я такой, чтобы тебя судить? Ты правда любишь меня? Линда кивнула, из-под ресничек выкатилась слезинка. — Ну что ты, моя вишенка, не надо, успокойся. Мы теперь вместе. Да? — Вместе. — Будем драться до победы? — Будем. Карелин крепко прижал ее к себе, так крепко, что даже через джинсовую куртку она чувствовала удары его сердца... — Задавишь... Медведь, — шептала Линда, прижимаясь к нему всем телом. Она принялась покрывать его голову тихими поцелуями, а он целовал ее руки. И наступил полумрак, и они плыли вдвоем в этом полумраке... Иван перебирал волосы Линды, пропускал их сквозь пальцы, словно струйки песка. — Странно... — промолвила Линда. — Что? — Карелин наклонился над ее лицом. — Странно устроена женщина. В молодости — почти никакого удовольствия от любви. И только к сорока, когда красота начинает уже отцветать, пробуждается страсть... — Не знаю, — ответил Иван. — Наверное, какой-то высший смысл в этом есть. Главное — рождение детей. А потом, когда долг выполнен... дается что-то вроде десерта — на сладкое. Линда рассмеялась и уткнулась ему лицом в грудь. Они лежали сплетясь, как две виноградные лозы. И не было им сейчас дела ни до завода, ни до угроз Фельцмана — им просто было хорошо вдвоем. Под утро Ивану приснился странный сон. Видел он сретенские поля, колеблющиеся густой травой. Одно поле было целиком выкошено, и лишь посредине его остался нетронутый участок в виде огромного креста. И этот крест жил, дышал, двигался под порывами ветра. “Почему его оставили? Почему не скосили?” — удивился Карелин и от удивления проснулся. Рядом дышала Линда. Он обнял ее и долго лежал и думал, к чему бы этот сон. Оргкомитет Актовый зал школы был набит до отказа. Тут не то что яблоко — слива бы не упала. Народ гудел, переговариваясь между собой. Сретен¬ские сидели рядышком и балагурили вполголоса. А народ все подходил и подходил. Кому не хватало места, разыскивали стулья и ставили их в проходах. Чтобы собрание для подготовки референдума было правомочным, требовалось двести голосов. Но в актовый зал школы пришло более пятисот человек. Собрание вел Карелин. Выступающих — от городского комитета охраны природы, от клуба экологов, от здравоохранения — набралось человек пятна¬дцать. Отредактировали обращение в область с требованием прекратить строительство, обращение в городскую и районную администрации с извещением о намерении провести референдум, избрали оргкомитет по подготовке референдума и его председателя — учительницу биологии Надежду Викторовну Корнееву. Потом Карелин собрание распустил, а оргкомитету предложил остаться. Притомившиеся люди толпами повалили из школы. Актовый зал быстро опустел, безлюдно было и в фойе, только сиротливо стояло несколько столов, за которыми перед началом собрания учителя-добровольцы записывали фамилии и паспортные данные всех пришедших. Когда народ разошелся, Иван почесал в затылке и оглядел членов оргкомитета. — Неуютно как-то... — сказал он Корнеевой. — Может, в класс какой-нибудь переберемся? — А давайте в “думную комнату” поднимемся. Это у нас так кабинет краеведения называется, — предложила Надежда Викторовна. “Думная” была задекорирована под деревенскую избу. На фоне картонной русской печи стояли медные самовары, прялки, на стене висели полотенца, на полу лежали цветастые половики. За стеклами шкафов желтели страницы книг, поблескивала старинная домашняя утварь. Расселись, сретенцы — обособленной кучкой. Началась обычная организационная работа: кто возьмет какой район для сбора подписей, сколько потребуется подписных листов, сколько нужно экземпляров и в какие инстанции. Набросали текст листовки и определили, где их расклеивать. Когда эти вопросы решили, Карелин попросил слова. — Тут вот еще какое дело... Нам всем надо помнить, что обстановка в городе серьезная. Мы с вами не в игрушки играем. Не исключено, что на каждого из нас в той или иной степени будет оказываться давление. Я вот легкомысленно согласился, чтобы председателем нашего оргкомитета выбрали Надежду Викторовну, а сейчас думаю: может, надо было мужчину вы-брать, да покрепче? Не буду от вас скрывать. Ходил я на переговоры к Фельц¬ману, и вот послушайте наш с ним разговор. Карелин вытащил магнитофон и включил его... — Ни хрена себе, — высказался Воронцов. — А еще люди с высшим образованием. — Я даже больше скажу, — добавил Карелин. — У меня эту пленку пытались отобрать, да не вы¬шло. А теперь как бы получается, что я за женскую спину прячусь. — Вы напрасно, Иван Матвеевич, делите опасность по вторичным половым признакам. Прошу прощения за профессиональную терминологию, — ответила Корнеева и решительно тряхнула черными как смоль волосами. — Зря беспокоитесь. Меня не запугаешь. — И тем не менее вы все-таки должны согласиться, что положение весьма сложное. Как бы нас не переколотили всех, пока мы тут соблюдаем процедуру подготовки референдума, исходя из буквы закона. — Ну а сам-то что предлагаешь? — поинтересовался Батюшин. — Я предлагаю сформулировать второй вариант развития ситуации. Если вдруг начнется серьезное давление на оргкомитет, физическое давление, — что мы можем сделать уже сейчас, не дожидаясь референдума? Я так думаю: надо выводить народ на улицу в случае чего. — В воскресенье через Трехреченск должны проносить эстафету... ну этот... огонь олимпийский... на детскую, понимаешь, Олимпиаду, — выступил молчавший до этого Ефим Фомичев. — А что если мы эту эстафету остановим, пока власти ясность не внесут? — Ты, Ефимушка, ясность в свою голову внеси! — в сердцах ответила ему Линда. — Дети-то тут при чем? — А как же еще внимание привлечь этой, как ее... общественности? — забормотал, оправдываясь, Фомичев. — Спокойно, — вскочил Батюшин. — Я знаю, что надо делать. В одном я только с тобой не согласен, Иван. Надо не отвечать ударом на удар, а бить первыми. Коли отрепьевцы перешли к угрозам, надо немедленно организовать митинг. Завтра же добьюсь в городской администрации разрешения. Соберем всех сретенских, думаю, и городской народ подойдет, и устроим такой карнавал, что у администрации задница задымится. — Это навроде шахтеров на Горбатом мосту? — спросил Воронцов. — Гораздо хлеще, — ответил Карелин. — Шахтеры разместились в Москве не от силы — от слабости. А наша акция— это демонстрация силы. Это же не просто так людишки соберутся. Это избиратели. Уже через год — выборы. Так что есть о чем задуматься и мэру, и его окружению. — Я палатки организую, — сказал Батюшин. — Кажется, знаю, где взять. — Погодите, — вмешалась Корнеева. — Это что же получается? Бессрочный митинг, что ли? — А хотя бы и бессрочный. — Но ведь это дело серьезное, — с каким-то укором произнес молчавший до этого председатель комитета по экологии. — Надо же кормить этих людей, охранять, чтобы провокаций не было, медпункт должен быть, туалет, наконец. — Все организуем! — успокоил его Батюшин. — С охраной “афганцы” помогут, — подсказал Карелин. — А насчет туалетов дело можно просто решить, — предложил один из городских. — На площади стройка, забором бетонным огороженная. Банк там хотел строиться, а потом прогорел. Вот туда и будем ходить в знак протеста. — А ведь раньше там памятник стоял к 800-ле¬тию Трехреченска... — произнес кто-то. — Ну и что? Не зря его в народе “тульским пряником” прозвали. Действительно пряник, только здоровый и зачем-то “на попа” поставленный. Идиотское произведение. Нашли о чем жалеть. — Да не в этом дело. Все-таки памятник... — Ладно, давайте заканчивать, — предложил Карелин. — Короче, — подытожил Батюшин. — Завтра же я выбиваю разрешение на митинг, и в понедельник выводим народ на площадь. Я всех обзвоню. Кстати, у кого телефоны есть — оставьте номера. А сретенских мы и так известим. Они будут в первых рядах. — Будут! — крикнула тетка Пелагея и шарахнула кулаком по столу. — Будут! — заорали сретенцы. Лето в Трехреченске обещало быть жарким. — Как думаете, поддержат нас городские? — спросил по дороге в село Карелин (рядом с ним сидела Линда, сзади — дед Лука и тетка Пелагея). — Ну а что ж городские, другим воздухом, что ли, дышат? Каким человек равнодушным ни будь, а жить каждому хочется,— произнесла Линда, глядя в окно. — Вопрос-то особый. — Да уж, — согласился дед Лука. — Когда приходится выбирать — дышать тебе или задыхаться, тут поневоле активным гражданином станешь. — Тут, пожалуй, и на пулемет броситься можно, как Александр Матросов, — вступила в беседу Пелагея, вспомнив увиденный в школе портрет. — Ну конечно, — поддакнул дед Лука, — особливо тебе, Пелагеюшка, это сподручно. Ты их целых два одной грудью накроешь. — Зачем же сразу два? — не осталась в долгу Пелагея. — Тебя, что ли, деда баскервильского, от пуль защищать? Да оно вроде бы и ни к чему: ты такой тонкий да юркий, что, пожалуй, и между пуль сиганешь. — А вот интересно, — вступил в беседу и Карелин, — говорят, Матросов до войны шпаной был. А в критической ситуации вон как все обернулось. — Война... — вздохнул дед Лука. — Во дни испытаний все в человеке проявляется: и лучшее, и худшее... Бывает, и так себе человечишка, а вдруг вспыхнет огнем героизма... А бывает, что человек уж такой положительный, что ему только нимба не хватает: и на устах мед, и в церковь ходит. А испытаешь его огнем да кровью — тут и полезет наружу всякая дрянь. — А отчего, дед, так получается? — спросила его Пелагея. — Раз уж мы перешли на церковные вопросы, объясни. Ты ведь у нас это... духовный наставник. — Да какой я духовный наставник... Обычный человек, грешный, как и все... Только больше вашего книг прочитал на своем веку. Да и размышляю чаще... Грешны мы по природе своей — в этом и вся разгадка. И в то же время каждый человек — образ и подобие Божие. И вот эта небесная природа — можете назвать ее совестью, если хотите, — таится в любом из нас. И всегда сохраняется возможность покаяния — вот ведь какова милость Божия! До самой последней минуты ждет от нас Бог смирения, признания и любви. Помните двух разбойников, что со Христом на Голгофе висели? Они-то ведь правильно повешены были, за дело. И вот один из них покаялся... даже не то что покаялся, а просто понял, что рядом с ним — Бог, и прохрипел запекшимися губами, из самой смертной муки своей прохрипел: “Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!” — и пошел в рай. От великой муки рождаются такие слова, ох, от великой муки... А мы не хотим страданий. Мы хотим лишь временного благополучия. Мы любим притворяться благост¬ными, вежливыми, образованными, святыми... а в душе — бес. — Как у Фельцмана? — улыбнулась Линда. — Да о нем какой разговор... Он одиннадцатую заповедь формулирует, бедняга... — Приехали. Карелин притормозил у правления. На улице уже смеркалось. Медное вечернее сияние рыжими отсветами ложилось на тополя, на правление, на холм, где стояла раньше сретенская часовня, и снова они были втроем: Карелин, Линда, дед Лука... — Куда вы сейчас? Может, ко мне, а? — спросил старик с надеждой. — Извини, дед... Может, завтра? — Ладно, завтра так завтра... — И дед, сгорбившись, пошел к себе. Когда отъехали, Линда спохватилась: — Слушай! Мы же очень важный вопрос забыли. Насчет прессы. Надо ведь не только по области шум поднимать, но и на центральные СМИ выходить. У Сашки Фирсова ниточка на НТВ. Может, туда информацию толкнуть? Думаю, заинтересуются. Материал горячий. Карелин пожал плечами: — А смысл? Там ведь такие же фельцманы сидят. Если и сделают материал, так обязательно извратят. Тут скорее из “Русского дома” людей позвать надо. Линда вздохнула и устало положила голову на плечо Ивана. Карелин подумал: ехать бы вот так и ехать, никуда не опаздывая, не пугаясь от мысли, что дело, за которое ты взялся, прогорит и снова будет торжествовать над тобой победу этот отменный злодей крутого замеса. Злой рок сводит его с этим Фельцманом вторично. Как ни ершись, а у того за спиной сильные покровители. А что ты, Карелин, можешь ему противопоставить? В самом деле, ну что? На народ надеешься? А вот он возьмет и не выйдет на площадь. Что тогда делать будешь? Сам ляжешь на амбразуру? Но тут не один пулемет стрекочет, тут развернутое поле боя. Главного не видать, одни шавки... А кто все-таки стоит во главе этого дела? К кому тянется ниточка? Машина уже выскочила к мосту через железнодорожную ветку. Карелин хотел прибавить скорость, но вдруг перед самым мостом увидел гаишников и чуть притормозил. В руках одного из них взметнулся жезл. — С чего бы это? — пробормотал Карелин, чувствуя подозрительное покалывание в ладонях. Что-то было не так. Проехав метров двадцать, остановился, но двигатель вы¬ключать не стал. Милиционеры быстро направились к машине. Их было двое. Третий остался стоять возле желтых “жигулей”, оглядываясь по сторонам. Что-то знакомое показалось Карелину в лице этого милиционера. И когда двое уже почти вплотную подошли к машине, он вспомнил: Стаков¬ский Леонид Михайлович! Вот так коммерческий директор! Ну что ж, встретим как полагается. — Ложись! Вниз, быстро! — скомандовал Карелин Линде. Потом врубил заднюю передачу, резко нажал на газ и рванул назад. Один “гаишник” отлетел на дорогу, сбитый ударом машины. Карелин со всего маху врезал бампером по носу стоявшего сзади “жигуля”. Тот скрипнул и беззвучно покатился под уклон. Взвыл двигатель, и Карелин рванул вперед, на второго “гаишника”. Тот уже поднимал пистолет, но выстрелить не успел. Сочным ударом его подсекло, подняло в воздух и перебросило через ограждение на трамвайные пути. Оказывать медицинскую помощь Иван не стал. Он пригнулся и на полной скорости пошел вперед. И вовремя пошел: из-за кустов выскочил Стаковский и стал стрелять по машине. Джип “чероки” словно под железный град попал. Иван оглянулся. На заднем стекле вечерней радугой сверкали три пробоины. — Приятно иметь дело с профессионалом. Всю обойму одним разом выпустил, подонок. Ладно, кажется, все кончилось. Отбой! Линда выбралась из своего укрытия: — Зачем ты это сделал?! Ты знаешь, что тебе будет за милиционеров? — Они такие же милиционеры, как я — президент. Это переодетые отрепьевские охранники. К счастью, я одного из них узнал, а то неизвестно, где бы мы с тобой сейчас были. Нет, все-таки есть Бог. Ты понимаешь, вишенка, что мы сегодня с тобой второй раз на свет родились? Линду начало колотить. — Куда сейчас? — спросила она, запинаясь. — Не знаю. К тебе, наверное. Или сразу в милицию? Но он все-таки поехал к Линде, подчиняясь какому-то неясному инстинкту. Заехал в старый двор с ходу. Стена кустов и вдоль дома три-четыре тополя. — Смотри! — Линда указывала в угол двора, где у дет¬ской песочницы примостилась белая “тойота”. — Похоже, обложили... — пробормотал Карелин, оглядываясь. “Тойота” мигнула фарами. Открылись дверцы, и из машины вышли трое. Карелин включил ближний свет и выхватил из сумерек двора фигуру Петровича. Вырубил мотор и откинулся на сиденье. — Вот сукин сын! Напугал до полусмерти... Вечер уже вступал в свои права. Почти во всех окнах горел свет. — Что-то припозднились. Откуда это вы? — спросил подошедший Петрович. — С того света, — ответила Линда, вытирая платком бледное лицо, которое уже потихоньку начинало оживать. Узнав, что произошло, Петрович беззвучно, одними губами выругался. — Надо тревожить Никитку. Поздновато, конечно, но, думаю, он не будет на нас в обиде. Такой кусок аппетитный, настоящее дело со стрельбой. Здорово они твой багажник изрешетили! Пули должны застрять... Да, ребята, в рубашке вы родились. “Ребят” ждала бессонная ночь. Показания, опознание двух покалеченных лжементов, так и оставшихся на дороге и доставленных в отделение радушными блюстителями порядка. Стаковский сбежал, а охранники утверждали, что их было двое... Ответный ход Карелин проснулся оттого, что услышал, как барабанит по крыше дождь. Разлепил глаза, спросонья не соображая, где он. Но, увидев низенькие окна с белыми занавесками и старинный шкаф, понял: у деда Луки. На диване спал Петрович. Карелин вспомнил: вчера вечером Линда затеяла дома стирку, ну а они с Петровичем махнули в Сретен¬ское: надо было навестить деда Луку и сосредоточиться. Дед на радостях выставил на стол бутылку водки. Одной, конечно, не ограничились. Под огурцы и помидоры водка казалась родниковой водой. Вода-то вода, но конец этого вечера он помнил смутно... Карелин встал, натянул брюки, вышел на крыльцо. Над селом висело одно-единственное облако, из которого и брызгал, дразня, слабый дождик. Он был легким и быстрым, словно босоногий мальчишка. Из будки высунулась морда Суджи. Псина вяло гавкнула на дождь, сонно огляделась и убралась обратно. Пахло цветами, зеленью с грядок и землей. Выбежал из сарая встрепанный петух, проорал звонко, голосисто и, увидев лужицу, подлетел к ней, принялся деловито клевать дождевое серебро. Иван негромко рассмеялся, сошел со ступенек в мокрую траву. Ему казалось, что все это он уже когда-то видел. А впрочем, наверное, так и было. Ведь все эти места он обежал в детстве вдоль и поперек. Сзади послышались шаги. Карелин обернулся. На крыльце стояли дед Лука и Петрович. — Болит небось головушка-то? — улыбнулся дед. Карелин скривил губы. — Хлебни кваску холодненького — сразу полегчает, — предложил дед Лука. — Вон Петрович уже присосался. Иван взял из рук деда литровую банку и двумя-тремя глотками осушил ее. — Горит, однако, внутрях, — улыбнулся старик, принимая пустую банку. — А петух шустрый у тебя, — не обращая внимания на дедов¬скую колкость, заметил Карелин. — Вояка жуткий. К своим курам никого не подпускает. — А справляется? Вон их у тебя сколько!.. — Я так подозреваю, что он успевает и сосед¬ских курей топтать, — ответил дед Лука. — Жгучих кровей петух! Едва вошли в дом — зазвонил телефон. “Линда?”— подумал Карелин. Но это был Батюшин. — Докладываю об успехах, — пробасил он. — С митингом все улажено. Разрешили-таки нам площадь. Не решились на столкновение с народом. Мы тут листовок целую кучу наксерили, городские добровольцы расклеивают их чуть не на каждом углу. Начинаем завтра, в одиннадцать утра. “Афганцев” потереби: мало ли что, а то зашлют к нам какого-нибудь “казачка” и начнется... “инцидент”. Тут надо в оба смотреть. Радио не слушал? — Нет. — Зря. По радио уже сообщили, а вечером по местному ТВ прозвучит информация, ну и на сегодняшнем “олимпийском огне” народ с листовками ознакомится. Если уж не весь город к нам придет, то половина — точно. Под это веселье и подписи соберем. Сам-то не собираешься на встречу огня? — Не знаю. — Ладно, до свидания. Завтракали втроем на веранде. — Ешьте, ешьте, — потчевал гостей дед Лука. — Хорошо у вас тут, — говорил Петрович, подцепляя вилкой горячую рассыпчатую картофелину. — Я ведь тоже деревенский. Вот выйду на пенсию — и к земле вернусь. Ягода с куста, овощи с грядки... Эх!.. — Вернуться к земле... Непросто это, — заметил дед Лука.— К ней сызмальства привыкнуть надо. И работать на ней всерьез, а не для забавы. Да и деревня теперь не та. Все мельчает... Да чего далеко ходить: взять хоть наше село. На моей памяти несколько раз его переиначивали. Одно — доколхозное, о котором рассказывал отец... Как сказка какая-то... Главное — уклад был, вековой уклад. Люди жили, как десятки, сотни лет назад: чтобы воровство, пьянство или блуд — Боже упаси! И все в достатке жили. Много скота, птицы, подворья большие. Тяжело народ работал, но труд этот в радость был. Для себя ведь... Опять же кто-то на фабрике подрабатывал, кто торговлишкой промышлял — место бойкое: рядом купеческая дорога, переправы, Ока...— Дед потянулся за чайником. — Второе село, при Сталине, видел уже я сам. Бесконечный каторжный труд. Мы даже ночами при керосиновой лампе работали. — На своем огороде, что ли? — перебил Петрович. — Зачем на своем? На колхозном поле, язви его в душу! Несладко тогда жилось... Но мы любили Родину. Нужно было против немца стоять. Между прочим, и на трудодни что-то давали: масло, мед... А творог и молоко всегда были. Даже в войну держались: хозяйство крепкое было. Беда пришла после объединения колхозов. Было это, кажись, в шестьдесят первом или около того. Ведь в каждом селе свои отношения сложились. Все знали, какому человеку какую работу поручить можно. А когда всех в одну кучу свалили — разладился механизм. И аккурат об это время стали приусадебные участки отрезать. А ведь ими деревня и держалась. С той поры все и рухнуло. — Ну а третье какое? — поинтересовался Карелин. — А третье — нынешнее... — отозвался дед Лука с горьким вздохом. — Сегодняшнее... Не село — призрак какой-то. Кто здесь кровно связан с землей? Молодые да здоровые — все разошлись-разъехались. Вот и вы оба уехали и не вернулись. А почему, я хочу спросить вас? Но ни Карелин, ни Петрович не успели ничего ответить. Под окнами остановилась машина и протяжно засигналила. Потом хлопнула калитка, и они увидели, как во двор под грозный собачий лай входит богатырь Воронцов. Через секунду он уже отворял дверь веранды. Глаза его сверкали, полурасстегнутая рубашка обнажала могучую загорелую грудь. — Здесь вы? Ну хорошо! — облегченно вздохнул тракторист, опускаясь на табуретку, которая жалобно скрипнула под тяжестью грузного тела. — А то думаю: вот если здесь не застану, где вас искать? Дело-то серьезное. — Он перевел дух и, увидев на столе квас, взмолился: — Дед, угости кваском! В горле горит. — Ты откуда такой шальной? — не подозревая беды, спросил Карелин. — Погоди, — ответил тот, благодарно хватая литровую банку. Опустошил одним духом, поставил на стол и повернулся к хозяевам. — А теперь слушайте. Чтоб все было понятно, начну с начала. Договорился я на прошлой неделе доставить одному мужику навоз. Да все некогда было. Сегодня колхозная машина свободной оказалась. Ну, нагрузил я в нее товара и повез в город. Дед, нахмурившись, глянул на Воронцова. — Чего ты на меня так смотришь? — вскинулся Воронцов. — Да, украл! А кто мою семью кормить будет? Колхоз уже шестой месяц зарплату мурыжит... — Да ладно вам! — оборвал их Карелин. — Рассказывай дальше. — Ну так вот, — пряча глаза от деда, продолжал Воронцов. — В Ильинской слободе дело было. Ну, свалил, значит, золото, рассчитались мы с хозяином, как уговорено было, и собрался я отъезжать. И вдруг вижу — к дому напротив подкатывает какая-то иномарка. И очень меня эта иномарка заинтересовала, потому как на такой же приезжали с этой “ядрен-нефти” поганые лазутчики нашу молодежь вербовать. Это еще до схода было. Я у этой машины заднее стекло запомнил: с пижон¬ской такой наклейкой в виде тигра в обнимку с красоткой. И как увидел этого тигра, что-то мне подсказало: “Погоди-ка, Воронцов, давай посмотрим, кто из нее выйдет”. И что же вы думаете? Выходят оттуда два здоровенных бугая, а с ними и третий — наш Наумов. Интересные, думаю, дела... И только я это подумал — вижу: один из них открыл дверцу и вытаскивает оттуда, Иван Матвеевич, твою Лидку. Она упирается, кричит — что именно, мне через улицу не слышно было. А один из бугаев рот ей лапищей зажал, подхватили под руки и в один момент заволокли в дом. — Что ж ты сидел и ничего не делал?! — заорал Карелин. — Ну ты даешь, Матвеич! Что бы я мог сделать против трех амбалов? Да они небось и с оружием. — Да, извини... Не подумал. — Ладно, чего там... В общем, ударил я по газам — и сразу сюда. — А ты не перепутал? Может, это была не Линда? Мало ли похожих женщин. Воронцов с обиженным видом уставился на Карелина: — Что ж я, инвалид по зрению, что ли? Лидку от других баб не отличу? Некоторое время сидели молча. — Это похищение... — протянул Петрович. — И, судя по всему, ждать тебе, брат Иван, телефонного звонка в самое ближайшее время. — Ну нет уж, ждать я не буду, — вскочил Карелин. — Собирайся, Петрович, надо их опередить. Я им устрою желтую жизнь!.. Поедешь с нами? — обратился он к Воронцову. — Об чем речь, Матвеич? Только вот я адреса не запомнил, номер дома в смысле. Показать могу, а номер не помню. — На чьей машине поедем? — Давайте хоть на моей, — заржал Воронцов. — М-да... Машина навоза этим подлецам не помешала бы, — буркнул Петрович. — Да на моей поедем! Мой джип броневику не уступит. Одну их машину я уже под откос пустил, — ободрился Карелин. Петрович как в воду смотрел. Едва они подъехали к городу, засигналил карелинский телефон. — Здравствуйте, Иван Матвеевич. Карелин секунду молчал. — Я узнал вас, Марк Абрамович. — Вы оказались очень шустры, друг мой. Очень шустры. Примите мои поздравления. Организовать общенародный митинг — это ход. Так что мы вынуждены были принять контрмеры, сами понимаете. Ваша жена у нас. — Заложника взяли? — Называйте это так, если хотите. Дело не в терминах. Здесь нет никакой проблемы: вы получите ее живой и здоровой. Но с одним условием. — Убраться из Трехреченска? — Теперь этого уже недостаточно. Вы должны немедленно отменить свое сборище. Всю эту пугачевщину. Нам этот бунт, “бессмысленный и беспощадный”, совсем ни к чему, знаете ли. — Это невозможно. Объявления расклеены, информация прошла по радио и телевидению. — Вот и отмените все. Расклейте другие листовки, дайте другие объявления. — Сколько у меня времени? — Два часа, чтобы принять решение и дать нам гарантии. Если вы твердо пообещаете разрядить обстановку, завтра в одиннадцать жена будет в ваших объятиях. В противном случае — пеняйте на себя. — Я думаю, что смогу вам дать гарантии значительно раньше,— ответил Карелин и прервал связь. Вскоре машина уже миновала Старый город, кремль, переехала мост через речку. Началась Ильинская слобода. Воронцов уверенно показывал дорогу. — Стоп. Приехали. Вот он. Все посмотрели в сторону добротного пятистенка. Было видно, что недавно бревенчатые стены снаружи обложили кирпичом. У ворот стояла красная “ауди”. За широким палисадником виднелась просторная терраса с крыльцом. Карелин медленно проехал мимо и остановился метрах в пятидесяти. — Дай-ка мне телефон, Никитке звякну, — попросил Петрович. Узнав про похищение, капитан встрепенулся: — Сейчас выезжаю. Без меня ничего не предпринимайте. Слышите?! — Слышим-слышим. Поторопись. — И что? — спросил Карелин, когда Петрович вернул трубку мобильника. — Так и будем сидеть? — Зачем? — улыбнулся Петрович. — Пошли толк¬немся к соседям. Через забор и проникнем. Им отворила сухонькая старушка с морщинистым и потемневшим от солнца лицом, в полинявшем платке и ветхой одежде. Петрович показал ей удостоверение и начал расспрашивать про соседей. — Недослышиваю я, — махнула рукой бабка. — Соседи, говоришь? Да какие соседи?.. Подлинно бандиты. Денно и нощно везут и везут во двор: ворованное, что ли? И по ночам от них покоя нет. Музыка до утра; я глухая, и то слышу. Перешли к забору. Воронцов отодвинул пару досок, и они проникли во двор. Петрович бесшумно подкрался к окнам, а Карелин и Воронцов подошли к крыльцу. — Ну что? — Их всего трое, — доложил обстановку старый снайпер.— Один, кажется, наклюкался изрядно. Пиво пьют и в карты играют. Линда сидит на диване. Кажется, телевизор смотрит. Парни крепкие, особенно один — здоровый, как шкаф. — Это, наверное, Антон Наумов, — догадался Карелин. — Ну, тогда пошли, — скомандовал Петрович. — У меня газовый пистолет есть. Со стороны вполне за настоящий сойдет. Рискнем? — Пошли, — кивнул головой Карелин. Воронцов тронул дверь веранды. — Открыто, — удивился он. Вошли. На веранде было захламлено. Единственная умиротворяющая деталь — рыжий кот на табуретке. Увидев гостей, он потянулся, подошел к двери в дом и стал царапать ее, мяукая. Внутри раздались шаги. Кто-то шел. Видно было, что котофей пользовался в доме авторитетом. Дверь открылась, и на пороге остановился белобрысый парень в спортивном костюме. Не успел он опомниться, как между глаз ему уперся пистолет Петровича. — Иди сюда, — прошептал “афганец” и ласково поманил парня к себе. — Ну что, увиделись, паскуда? — засипел Воронцов. — Попался, Антон Наумов? Мать опозорил на все село... Что с тобой делать? Кончить на месте? Антон вытаращил глаза и потряс головой, беззвучно разевая рот. — Сколько охранников в доме, кроме тебя? — спросил Петрович. — Двое. — Вот что, — сказал ему Карелин. — Сейчас ты поедешь домой и будешь там сидеть тише воды и ниже травы. Если вдруг милиционеры тебя схватят по дороге, скажешь, что сам нас навел на этот адрес. Я подтвержу. Понял? А теперь ноги в руки и бегом! Белый, как привидение, Наумов исчез, даже половицы под ним не скрипнули. — Сивый! Скоро ты там? Твой ход! — раздался из дома гнусавый голос одного из охранников. Нападающие быстро вошли в комнату: — Всем сидеть! Не двигаться! Руки на стол! Пока Петрович держал на прицеле обалдевших парней, Карелин произвел быстрый обыск. Кроме ножей и кастетов, у них ничего не было. Нашлись, правда, еще наручники, которыми Иван тут же сковал похитителей. Так они и стояли у стены, тупо уставившись в стол, заваленный картами. Линда сидела на диване напротив. Работал телевизор. По местной программе показывали трансляцию спортивного праздника в городе. Карелин сел рядом: — Привет! — Тере тулемаст! — ответила она по-эстонски. — Значит, развлекаемся, телевизор смотрим? А кто репортаж писать будет? Ох и влетит тебе от Сашки! — Влетит! — Она не выдержала, бросилась Карелину на грудь. — Как все случилось? — спросил ее Карелин, когда она немного успокоилась. — Да вот на этом празднике, — кивнула Линда головой на экран. — При всем честном народе! Затолкали в машину, я и понять ничего не успела. А чтоб не вырывалась — приставили нож к горлу. — Всем сидеть! Руки вверх! У входа стоял Стаковский с пистолетом в вытянутой руке. — Господин коммерческий директор! — радушно вскричал Карелин, поднимая руки. — Не этим ли пистолетиком вы продырявили мою машину? Я вас уже давно ищу. Заходите, будьте как дома. — Заткнись. Ты, думаешь, самый крутой здесь? Давно я говорил шефу, что от тебя избавляться надо. Достал всех. А ну давай выходи во двор... — Брось оружие! — раздался резкий голос за спиной Стаковского. Физиономия члена правления вытянулась. Он бросил пистолет на потертый палас и медленно обернулся. В живот ему смотрели два автомата. За спинами автоматчиков улыбался капитан Баталов. — Я же говорил, без меня не начинать, — назидательным тоном сказал он, заламывая Стаковскому руки. — Эх вы, шерлоки холмсы! — иронически оглядел мужчин Никита. — А если бы этот подонок вас всех сейчас перестрелял? Да, Иван Матвеевич... Пора тебе действительно в Москву возвращаться: нам уже, можно сказать, народ сажать некуда. Того и гляди, весь Трехреченск арестуешь. Потом помолчал и добавил, ласково жмурясь: — Теперь точно майора дадут... Вече Городская площадь еще дремала в хмуроватой, пасмурной тишине. Дребезжание стареньких трамваев не нарушало ее покоя. Но вот на площадь ворвалось мощное гудение трех “Икарусов”. Они остановились у “Торгушки”. Из автобусов повалили нарядные сретенцы. Не успели все собраться вместе, как подлетела батюшинская “Волга”. За ней следовали четыре грузовика. — Машины-то зачем? — удивился Карелин. — Все продумано, Иван, из собственного опыта, так сказать, — улыбнулся Батюшин, похлопывая Карелина по плечу.— Ты считаешь, что это грузовики? Это сцена! Сюда не то что одного оратора — целый президиум втащить можно. Тем временем ребята из автоколонны уже ставили усилители и микрофон. — Погоди, вот еще из артиллерийского училища духовой оркестр прибудет... Железно обещали. — А пушки не обещали дать? — весело спросил Карелин. — Пока нет. Хотя, может быть, пара гаубиц и не помешала бы. Чтобы обратить внимание общественности, так сказать. Незаметно поднялся западный ветер, погнал облака быстрее, разрывая их монолитную хмурость голубыми просветами. Пробившись через облако, на середину площади упал солнечный луч — плоский, широкий, похожий на меч. В толпе обнаружились два-три баяниста-гармониста и одновременно заиграли в разных углах. На одном конце площади зазвенели частушки, а на другом сдержанно-глуховато бухал “Варяг”. С каких-то неведомых складов гражданской обороны привезли машину противогазов. С большим воодушевлением этот груз приняли студенты местного пединститута. Расхватав средства индивидуальной защиты, они тут же надели противогазы и стали живописно изображать задыхающихся трехреченцев, кто-то периодически пускал цветной дым — “агонизировали” студенты весьма впечатляюще. Время от времени студенты снимали противогазы и начинали скандировать хором: Фельцман, Фельцман, прикрывайте дельце! А тут и оркестр заиграл. Замелькала армейская форма, золотом за¬сверкали трубы, забухали барабаны, полетели над толпой бравурные марши, и кричать что-либо стало уже бессмысленно: все равно никто ничего не поймет. Народ прибывал. Наиболее организованной и многочисленной оказалась колонна “Трудовой России”. Ее оформление было несколько экзотичным: на фоне серпастых-молоткастых знамен и слегка повыцветших портретов Ленина и Сталина довольно странно смотрелись свежие плакаты с изображением Христа Вседержителя. Несколько поодаль развевались синие флаги ЛДПР. Отдельной кучкой стояли строгие монархисты с бело-желто-черными флагами, неприязненно поглядывая на своих оппонентов. Здесь же гордо прохаживались профсоюзные боссы. Махали своими полотнищами “зеленые”, которые не только цветом знамен, но и бородами, а также фанатично горящими глазами напоминали “воинов ислама”. Грузовики давно уже были сдвинуты. Сверху положили настил. Временами над толпой раздавалось: “Раз, раз. Раз, два...” На помост вели свежеструганые лестницы. Наконец музыканты опустили свои инструменты. Все замерли в ожидании чего-то важного. Замерли митингующие, замерло милицейское оцепление, замерли “афганцы” с желто-красными повязками на рукавах, стоявшие по периметру площади и в центре ее, около импровизированной трибуны. Все ждали, и Карелин почувствовал тяжесть, материальный, физически ощутимый гнет этого ожидания. Батюшин подтолкнул его. Ноги вдруг стали ватными, во рту пересохло. Иван понял, что вы¬ступать перед целым городом — это не на сретенском сходе беседы вести. Но спрятаться уже было нельзя. Он стоял у всех на виду. И, твердо ступая, Карелин пошел, думая про себя: “Ладно, главное — начать, а там посмотрим...” Людское море распахнулось перед его глазами. Карелин уже никого не мог различить здесь. Линда, Батюшин, дед Лука и тысячи других незнакомых трехреченцев слились в единый образ. И тут у Карелина вырвалось: — Товарищи! Братья и сестры!.. Какая-то невидимая сила понесла его. От волнения он сам едва понимал, что говорит. Он рассказывал почему-то о древних богатырях, о своих предках, о Сретенском, о детстве, витающем над зеленью трехреченских полей... Народ слушал его, затаив дыхание. Видно было: что-то хватало за живое в этой вроде бы не очень складной речи. Когда он закончил, все долго стояли в молчании. И тогда на трибуну поднялся Батюшин. Он вколачивал свои слова в толпу, словно гвозди. — Вы помните, что говорили наши солдаты в сорок втором у Сталинграда? “За Волгой для нас земли нет!” И мы сейчас можем сказать: “За Трехречен¬ском для нас земли нет!” Вы понимаете, что отступать нам некуда? Если мы позволим убить свою родину, мы никуда не сможем уйти, уехать или сбежать. Мы останемся умирать здесь, потому что в заморских краях и в других городах нас никто не ждет. И никто не даст нам другую землю. Поэтому я предлагаю стоять здесь до конца. Будем держаться, пока администрация не отменит преступный план строительства НПЗ. Будем стоять? — Будем!!! — заревела площадь. Казалось, что воздух содрогнулся от этого крика, дрогнул “Белый дом”, и даже раскаленный купол полуденного неба, уже свободный от облаков, покачнулся и загудел, точно колокол. Народ будто прорвало. Один за другим поднимались выступающие. Партийные различия отошли куда-то в сторону. Конечно, речи коммунистов отличались от речей “правых”, но никаких словесных стычек при этом не происходило. Тут был редкий случай, когда единое мнение складывалось у самых разных людей. Как ни говори, а жить всем хочется, будь ты хоть из “зеленых”, хоть из “Трудовой России”. Неожиданно течение митинга прервало появление технического подкрепления. Мерно тарахтя, грозной колонной на площадь въехали десять комбайнов. — Ура! Броневики приехали! — весело закричал кто-то, и вся площадь захохотала. Напряжение росло. Все понимали, что этими “броневиками” можно в случае чего перекрыть Астраханское шоссе — главную городскую магистраль. А это было уже серьезно... Все чаще и чаще с трибуны раздавались призывы к общегородской забастовке. Пусть немного, пусть хоть на полдня, но нужно остановить работу на основных предприятиях города. Уж тогда администрация не сможет “не заметить” тех событий, что разворачиваются у нее перед носом. И как раз в это время администрация города засуетилась. Какое-то непонятное шевеление образовалось сначала на границе митинга, потом кто-то стал пробираться сквозь толпу. Это в сопровождении трех милиционеров шла секретарша главы города. Разыскав Карелина и Батюшина, она сообщила им, что Орлов ждет делегацию от митингующих в зале для совещаний на пятом этаже здания администрации. — Парламентеров вызывают! — съязвил Воронцов. — Ну что же, — сдержанно кивнул головой Батюшин, — может, это и к лучшему, хороший признак. Минут пятнадцать ушло на отбор делегатов, и “парламентеры” отправились в “Белый дом”. — Вы смотрите там, не капитулируйте! — кричали им. Снова заиграл оркестр, и посланцы под военный марш вошли в здание администрации, над которым вместо привычного плаката: “Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи” колыхался на ветру российский триколор. Зал заседаний делился на две части. В первой находилось несколько полированных столов, выстроенных в одну линию посередине помещения. Вторая часть была заставлена креслами с откидными сиденьями. Когда все устроились, дверь зала отворилась и вошел невысокий человек с красноватым лицом и светло-русыми волосами. Одет он был в белую рубашку с короткими рукавами. Глаза его имели обычное административно-отсутствующее выражение, но какая-то живинка в них пробивалась. — Здравствуйте. Глава города сел на председательское место и сцепил руки перед собой. — Я надеюсь, что мы встречаемся как единомышленники, — после некоторой паузы заявил он. — Я поддерживаю вашу позицию. Город с таким большим населением должен владеть полной информацией и оперативно реагировать на то, что происходит в районе. В первую очередь необходимо, чтобы контролирующие организации дали добросовестное, объемное заключение о влиянии завода на окружающую среду. — Вячеслав Павлович, — вежливо перебил его Карелин,— строительство уже готовится вовсю. И народ собрался, чтобы решительно прекратить это раз и навсегда. Людей вряд ли убедят разговоры о бумажках и экспертизах. Мэр устало взглянул на Карелина: — Вы думаете, что такие вопросы решаются с помощью митингов? Забастовку задумали, людей собираетесь отрывать от работы... Разве все это так делается? Надо выходить на администрацию области, добиваться отмены решения. А чтобы разговор был предметным и требования аргументированными — конечно, нужно грамотное экспертное заключение. — И дело заболтают, затаскают по коридорам, — подал голос Батюшин, не сводя с Орлова пристального взгляда.— Трехреченцам-то это зачем? У нас есть гораздо более эффективное средство. Референдум. А против него никакая администрация ничего возразить не сможет. — Я уверен, что область примет разумное решение и без попыток силового давления, — вымученно улыбнулся глава администрации. — Что вы называете силовым давлением? — с недоверием спросил один бородач из делегации. — С каких это пор митинг называется силовым давлением? — Но вы угрожаете! — раздраженно повысил голос Орлов. — Вы призываете прекратить работу, комбайны привели! Вы заняли площадь и не собираетесь уходить. Убедите людей разойтись, и я обещаю вам лично обратиться в администрацию области и разрешить этот вопрос. Если же вы оставите толпу на площади, придется, вероятно, принять свои меры. Он внезапно замолчал, сообразив, что сказал совсем не то, что следовало бы. — Это что же, разгонять будете, пальбу откроете? — воскликнул Батюшин и даже вскочил со своего места. — Против кого? Против своих избирателей? А вы не подумали, Вячеслав Павлович, что напротив “Белого дома” собрался серьезный народ? Электорат, так сказать, ваш. Среди нас и армейские есть, и ветераны“афганцы”. Мэр покрылся красными пятнами. — Я очень надеюсь, что лобового столкновения не произойдет... — произнес он глухим голосом. — Надеюсь, что и с вашей стороны провокаций не будет. — Насчет этого не беспокойтесь, — заверил его Батюшин. — Дисциплина у нас железная. Мне бы хотелось, чтобы вы довели, Вячеслав Павлович, до сведения областного руководства нашу тревогу и все напряжение ситуации. Основное наше требование — отмена строительства НПЗ. Если область добровольно не пойдет на это, придется организовывать референдум. За стенами этого здания сбор подписей идет. — Я думаю, — добавил Карелин, — что необходимое число уже собрано. Так что референдум неизбежен. Его исход тоже очевиден. Стоит ли идти на ненужные расходы, затевать всю эту канитель на избирательных участках? Может быть, область просто даст задний ход? И бюджет целей будет. — Держать связь с областным правительством — моя обязанность, — не задумываясь, ответил Орлов. — Я сделаю все, что возможно в данной ситуации. Глава города поднялся, дав понять, что беседа закончилась. Все встали со своих мест. Говорить, в принципе, больше было не о чем. — Ну и наворотили мы делов! — воскликнул Карелин, оглядывая друзей, когда они вышли на раскаленную солнцем площадь. Батюшин подошел к микрофону и кратко доложил о ходе переговоров. Он передал пожелание мэра всем разойтись подобру-поздорову. Но трехреченцы освистали благоразумное пожелание своего градоначальника и дружно проскандировали ответные, весьма нелестные для город¬ского начальства предложения. Затем началось серьезное обсуждение ситуации. Было решено перевести митинг в бессрочную (до победы!) забастовку. Карелин нашел Линду возле автобуса столичных телевизионщиков. Они уже собрались уезжать, чтобы успеть смонтировать “трехреченский сюжет” к вечернему выпуску теленовостей. Неожиданно в толпе Карелин увидел Сашку Фирсова. Редактор “Трехреченки” двигался целенаправленно, именно к Ивану, и делал ему какие-то знаки. Увидев встревоженную физиономию Фирсова, Карелин пошел ему навстречу. — Что случилось? — Полный абзац, Ванец. Строго говоря, я тебе, конечно, не имею права все это сообщать, но мы же друганы старые... Администрация города готовит разгон митинга. — Вранье. Не может быть. Мы только что с мэром разговаривали. — Не знаю, с каким мэром вы разговаривали, — в сердцах ответил Фирсов. — Но ты слушай, что тебе говорят, толоконный лоб! В “Белом доме” тоже не дураки сидят. В общем, я получил достоверную информацию, от кого — тебе не важно знать, что этой ночью, когда часть народа разбредется по домам, ОМОН и милиция вытеснят митингующих, а тех, кто будет сопротивляться, повяжут. Но акция осуществится только в том случае, если людей останется немного. Против большой толпы, как сам понимаешь, они не пойдут. Так что проводи работу со своими, чтобы никто не расходился. Чем больше людей останется на ночь, тем лучше. На меня не ссылаться, понял? — Понял. Спасибо. Фирсов хотел было уйти сразу, но задержался: — Мне Линда все рассказала. В общем, поздравляю. Наверное, к лучшему, что все так обернулось. Пока, не поминай лихом. На свадьбу не приглашай: не приду. — Не буду уговаривать, тебе видней. А за помощь спасибо. Сашка кивнул и ушел в толпу. Иван потерял из виду его понуренную голову. Впрочем, времени на переживания не осталось. Карелин подозвал Батюшина, Петровича, других мужиков. Объяснил ситуацию. — Будем созывать своих, — сказал Петрович. — Надо усиливать группу. Батюшин полез на трибуну и предложил всем мужчинам остаться на всю ночь “во избежание провокаций и для поддержки порядка”, как он выразился. К Ивану подошел местный казачий генерал и предложил в помощь три десятка казаков. Карелин отказываться не стал. Площадь бурлила. Духовой оркестр сменили рок-музыканты, задорные гармонисты уступили место скрипачам из музыкального училища. Какое-то лихорадочное веселье охватило всех. И от этого веселья точно давняя короста свалилась с человеческих душ. Это была свобода! Может быть, впервые люди понимали, что и от них что-то зависит, и они тоже способны направлять свою судьбу. Свобода опьяняла, словно вино, хотелось двигаться, петь, кричать. В таком лихорадочном ритме прошел весь день. И вот уже солнце, понемногу ослабляя свой жар, покатилось на закат. И вновь тревожное ожидание повисло над площадью. Атмосфера сгущалась. Вместе с сумерками появились усиленные наряды милиции, началось угрожающее движение. Все разом ощетинились, но до драки дело пока не дошло. К вечеру на площади раскинули палатки. Жители ближайших домов в термосах, кастрюлях, чайниках подносили горячее питание. Милицейское окружение вокруг площади пока скучало. Была уже поздняя ночь, но еще слышались кое-где разводы баяна; у нескольких палаток играли на гитарах бородатые мужики, а сквозь призрачное сияние ламп виднелся огромный черный купол с одинокими блестками звезд. И казалось, что там, наверху, устроилось на ночлег древнее войско. Будто сидит перед кострами небесная дружина, готовится к бою и ждет только знака, чтобы двинуться на помощь своим земным братьям. И послышался Карелину оттуда, сверху, давний распев, и вновь повеяло ковыльными степями, дымом, битвой. Иван тряхнул головой — и видение ослабло. Между тем к милицейским отрядам присоединились шеренги омоновцев со щитами и в пластиковых шлемах. Охрана митинга стала стягиваться, строиться в ряды, раздавались военные команды, отряды людей шли, занимая стратегические участки. И вдруг напряжение разом спало. Увидев грозную массу беспокойного народа, милицейское начальство дало отбой. Исчезли, будто растворились в темноте, омоновцы. Ушло оцепление. Это была победа. Утром весь табор (а иначе такое скопление народа и не назовешь) всколыхнулся как-то разом. Вновь начались суета, галдеж. Вечерне-ночная трапеза сменилась утренним пиром. Часов в восемь включили музыку. И под залихватское пение “Машины времени” отряды сонных трехреченцев постепенно стали стягиваться к трибуне. Снова начались речи, скандирование, опять завопили рок-музыканты. На утреннем митинге трехреченцы решили сменить тактику и от ожидания перейти в наступление. Предлагались самые разные варианты, и чаще других — перегородить Астраханское шоссе комбайнами. Ближе к полудню на площадь пожаловал мэр со своей свитой. Все затихли и расступились, образовав живой коридор, по которому Орлов прошел к трибуне. — Дорогие мои земляки! — начал он с подъемом. — Благодарю вас за ваше мужество. Долгая и неприятная история с нефтезаводом подошла все-таки к концу. Сейчас, только что, я получил по факсу распоряжение губернатора области, которое однозначно запрещает строительство НПЗ под селом Сретенское. Дальнейшие слова потонули в общем реве. Громадное многоголосое “Ура-а-а!” океанской волной раскатывалось по площади, рассыпалось в плеске поднятых рук. Люди обнимались и целовались друг с другом. В воздух летели противогазы, мужчины снимали пиджаки и размахивали ими. Водители грузовиков беспрерывно сигналили, военный оркестр играл туш. *** Небывалый стол растянулся на половину Сретенского. Из домов вынесли столы, лавки, скатерти, натащили всю снедь, что заготовили впрок в расчете на долгое стояние, прибавив к этому многое множество бутылок. На площади во избежание “эксцессов” было решено придерживаться сухого закона, но здесь, после победы на родной земле, ограничиваться не приходилось. Сретенцы усердно отмечали викторию — кто магазинной, а кто и самопалом. Прошел уже не один час, народ раскраснелся, завеселел. Песни полетели в раздольном хмельном многоголосии. Люди беседовали неторопливо, подходили друг к другу, обнимались, чокались. К “оргкомитетчикам” подошла мать бедолаги Антона. — Спасибо, Иван Матвеевич, что моего дурака прикрыли. И тебе, Воронцов, спасибо! — Она поклонилась им в ноги. — Если бы не вы, сидел бы сейчас Антон за решеткой. — Да ладно, Ульяна, — сказал Карелин. — Что же мы, своему селу враги? Чего было парня губить? Небось выправится еще... Уже не по одному разу “прошумел камыш” над Сретен¬ским, не раз уже “бродяга Байкал переехал”, когда неожиданно дед Лука очнулся от глубокого раздумья, налил стопку водки и полез на лавку. — Ты чего, дед? — испугался Карелин. — Шею свернешь. — Молчи, Ваньша. Все молчите! Речь говорить буду. Изумленные неожиданным явлением деда Луки на лавке, сретенцы примолкли. — Братья и сестры! — начал дед. Глаза его увлажнились и заблестели. — Мы вот тут сидим, выпиваем и закусываем, а главного-то не сделали. Из-за чего вся напасть на нас свалилась? Обасурманились мы, опоганились, вот что! Самих себя забыли! Чем всегда держался русский человек? Верой! А мы что со своей верой сделали? Продали ее, сами над ней надругались. Что ж теперь дивиться, когда всякая нечисть на Русь лезет? Народ притих и внимательно слушал старика. — Братие! — продолжал дед Лука и взглянул на Карелина. — Когда вся эта история начиналась, я обет дал: восстановить сретенскую часовню. Стыдобища всем нам, что на святом месте — только оплывший холм и боле ничего. Завтра с утра выхожу на расчистку часовни, буду освобождать ее от земли. Кто хочет — приходите! — Придем, придем! — раздались голоса. — Эх! — Карелин грохнул кулаком по столу и вскочил.— Даю деньги на восстановление часовни! Утром народ стал собираться к холму. Дед Лука прочитал “Царю небесный...”, и работа пошла как-то на удивление ходко. Уже через пару часов весь фундамент, сложенный из ровных белокаменных плит, вы¬ступил на поверхность. — Надо же, уцелел... — разводили руками сретенцы. — А это, наверное, оттого, что часовню не сразу сломали. Почитай, два десятка лет она стояла пустой. И вот за это время постройка вросла в землю... — размышлял дед Лука. — А когда у дураков “дошли руки” сломать святые стены, в землю лезть поленились. Фундамент и сохранился. Что ж, тем легче восстанавливать будет. — Смотри-ка, дед, — перебил его Карелин. — Странный камень какой-то. Не вплотную к часовне лежит, а чуть поодаль. — Интересно. А ну-ка, мужики, навалимся! И вскоре глазам изумленных крестьян открылся... зеленый крест. Огромный каменный крест, вырубленный из цельного куска редкостного мрамора. По темнозеленому фону шли более светлые прожилки. Он был почти целый, даже полировка сохранилась. Только по самой его середине шла трещина. — А тут какие-то буковки есть, — заметил Ефим Фомичев, счищая глину ладонью. Дед Лука присел рядом и ахнул: — Да ведь это же памятник воинам Куликов¬ской битвы! Ну конечно! В 1880 году было пятьсот лет сражению. И тогда у Сретенского памятник поставили, недалеко от сретенской часовни. Саму часовню, говорят, установили еще тогда, в четырнадцатом веке, в знак того, что тут встречали победителей, и в память о погибших воинах. Тогда часовня была деревянной, конечно, ну а потом ее в камень перевели. Смотрите, вот и надпись: “В память 500-летия Куликовской сечи”. А когда потом святотатцы пришли, они же первым делом крест сбросили с постамента. Он и раскололся. Потом лежал какое-то время, вот его землей и затянуло... Зеленый крест... — Иванушка, выходит, сон-то твой в руку, — сказала Линда и серьезно посмотрела ему в глаза. — Жалко, что расколотый, — посетовал Иван. — Не беда, — сказал дед Лука, вставая и отряхивая колени. — Мы его в стену часовни вмонтируем. Над входом. Чтобы каждый входящий поклон отдавал. Через два дня Карелин, Линда и красавец Тоомас уезжали в Москву. Дед Лука настойчиво предлагал им забрать семейный ларец. — Стары мы стали с Суджой. Ну как помрем? А у вас надежнее будет. — Нет, дедушка, — ответила Линда. — Ты еще крепкий. Храни. Чем дольше вещи у тебя останутся, тем здоровей будешь. Только вот четки я взяла бы. Можно, Иванушка? — Можно. Посидели на дорогу. Вышли на крыльцо. Рвалась на цепи и подвывала Суджа. — Не грусти, псина! — махнул ей Карелин рукой. — Скоро вернусь. Проводить их вышло все село. Пелагея смахнула слезу: — Эх, милые... Счастья вам, да поболе! — Уезжаете... — ворчал дед Лука. — Телефон вместо себя оставил. На кой хрен он мне нужен. Не было печали... Теперь покоя не будет. То одного к нему пригласи, то другому дай позвонить... — Зато на людских глазах будешь! — смеялся в ответ Карелин. — А то живешь один как сыч. А теперь с одним переговоришь, другим новость какую передашь — все веселей будет. Телефон — дело большое. Да и мне, если что, сразу же в Москву звякнешь. Ветер врывался в машину, трепал золотистые волосы Линды. Карелин включил музыку. На сей раз он не ошибся. “Битлз” пели “Вечер трудного дня”. Но у Карелина и Линды все еще только начиналось. — Еще не вечер, — сказала Линда. — Правда? Карелин снял правую руку с руля и, положив ее на плечи Линды, прижал жену к себе. Когда выехали к кремлю и миновали Златоустов¬ский монастырь, их обогнал свадебный кортеж. Гирлянду шаров трепал ветер. Два из них оторвались и угодили как раз под колеса карелинской машины. Раздался хлопок, будто разом выстрелила пара бутылок шампанского. Глаза Линды засверкали веселыми искрами. — Хорошая примета, — усмехнулась она. — В смысле? — Двойня будет. — У кого? — не понял Иван. — Не знаю, — она лукаво пожала плечами. — Может, у нас? Ни Иван, ни Линда сейчас не могли, конечно, предугадать, что будет с ними через месяц, через год. Но зато они твердо знали одно: пустой и бесплодной получается жизнь человека, не испытавшего великой и жертвенной любви.