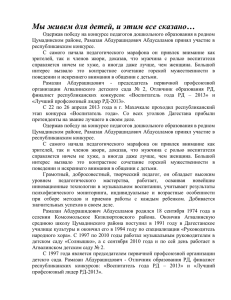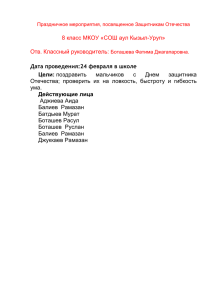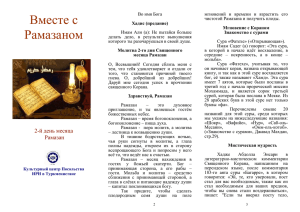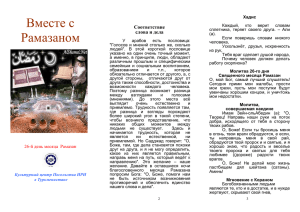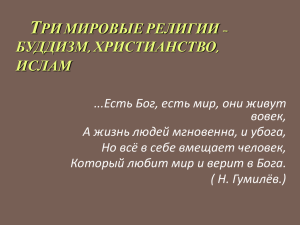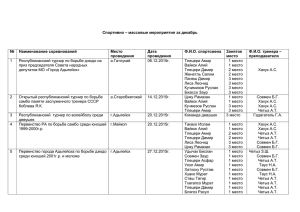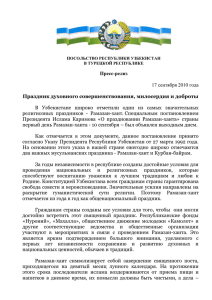doc - akramaylisli.info
реклама

Акрам Айлисли Белое ущелье Повесть ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Запах черешни Оказывается, можно и так проснуться: открыл глаза — и будто родился заново; во всяком случае, Саида давно уже не просыпалась такой легкой, такой невесомой, и давно уже мир вокруг не казался ей таким привольным и тихим. Саида увидела небо, на небе луну и звезды. Увидела, что небо уже не ночное — звезды выцвели, луна поблекла, — и поняла, что ночь на исходе. Пахло черешней, хотя черешня, единственная из фруктов, что прославили эту деревню, лежавшую сейчас под белесым небом, давно уже отошла. В полном разгаре была шелковица. Начали поспевать абрикосы, дозревала алыча — желтая желтела, красная краснела, — а самые пахучие, самые ароматные плоды здешних мест — яблоки, белые и румяные, на вкус не менее великолепные, чем на вид, тоже уже наливались соком. Но пахло черешней... Может, где-нибудь на большом дереве, на самом, самом его верху, на ветке, до которой не дотянуться, уцелели не склеванные птицами ягоды? А может, запах исходил не от ягод, а от самих деревьев, истерзанных, измученных, с ободранной листвой и поломанными ветвями; они стонали от боли, наказанные за хрупкость свою и нежность, и запах этот был запахом их беды... На небе еще поубавилось света; звезды были пока на месте, но уже меркли, мутнея, словно яркое расплавленное их нутро вытекло, слившись с голубоватой жижей неба; казалось, звезды медленно погружаются в его глубины. Луна же, напротив, поднялась еще выше, и пятна на ней все больше темнели и набухали. С поезда они сошли засветло, но в деревню попали уже в темноте; и Саида, не видевшая родной деревни с тех пор, как однажды вечером — двенадцать лет назад — уехала с братом в Баку, и теперь еще не разглядела ее толком; подъехали, уже стемнело, а по дороге от мостика, где они вышли из машины (русло речки глубокое, и вброд ее не переезжают), и до самого дома лишь в одном-единственном месте горел на столбе фонарь; только это освещенное фонарем место — родник да желтоватый холмик — и смогла она разглядеть; ну и, конечно, дом, где жил теперь ее средний брат Хабиб. Хабиб женился в тот год, когда она уехала в Баку, женился на Пакизе — Саида училась с ней в одном классе, — живут вроде бы хорошо, Саида ревнивым глазом приметила это еше за ужином. Много лет они с Пакизой были неразлучны, хотя родились не в соседних домах и даже не на одной улице. Уже через шесть лет после своего рождения они каждое утро и каждый вечер ходили за водой к одному и тому же источнику, вместе собирали на горных склонах чабрец, серебрянку и мяту, а когда в клубе показывали кино, всякий раз садились вместе. С годами, когда подросли, айлисским парням тоже, скорей всего, вместе являлись во сне. Саида от души полюбила подругу, потом девочка понравилась и ее матери, а позднее дело обернулось так, что Пакиза, полюбившаяся матери и сестре Хабиба, пришлась по сердцу ему самому. И вот уже двенадцать лет она живет в этом доме. После того как Саида уехала, Пакиза первое время писала ей почти ежедневно, потом, не имея возможности отвечать на каждое из частых писем золовки, отвечала сразу на несколько, не оставляя, однако, без внимания ни одной мелочи, которая могла представлять интерес для Саиды. Саида была осведомлена обо всех мало-мальски значительных деревенских событиях: кто на ком женился, кто как живет с мужем, у которой из девушек свекровь оказалась «ведьмой», у которой золовка — «сучка», у кого родился сынок, у кого девочка — именно эти новости интересовали Саиду. Пакиза родила одного-единственного ребенка — Мехти. После сына детей у нее не было и, похоже, не будет... На крыше мальчику постелили рядом с Саидой (он сам попросил об этом). По другую сторону от нее спала Лейли, дочь Рамазана. Девочке исполнилось двенадцать лет, она была на несколько месяцев старше Мехти. Рамазану Пакиза тоже постелила на крыше, рядом с дочерью. Сами же хозяева ушли в спальню и, может, единственные из всей деревни, ночевали в доме, потому что в такую жару больного и то не уложишь дома: на крышах спят, на айванах, а проще всего — во дворе, под деревом. Но, пока Рамазан здесь, Пакиза и Хабиб все время будут ложиться в доме — негоже старшему брату видеть жену младшего в постели. Рамазан наверняка не придает этому никакого значения, да и Хабиб тоже, и тем не менее, останься тут Рамазан хоть навечно, он не увидит, ни как ложится невестка, ни как поднимается с постели. Молча, ни слова не говоря, Пакиза выполнит этот долг добропорядочной женщины, и не потому только, что Рамазан — старший в доме, что он заместо отца, но и потому, что тут, в Айлисе, среди этих гор, у любого человеческого существа, именуемого «женщина», кроме бесчисленных дел, забот, хлопот и болезней имеется еще образец, идол, и, хотя он невидим на своем постаменте, женщина, если она ценит свое женское достоинство, то постоянно — с тех пор, как стоит мир — должна отрывать что-то от своей жизни и приносить в жертву этому идолу, чтобы стоял он вечно. Привольно разбросав руки и ноги, Рамазан так широко раскинулся на тюфяке, постеленном на серой земляной крыше, словно пытался жадно — спиной, ногами, руками, — всем телом своим вобрать, впитать в себя вместе с желтовато-серой землей крыши и свет луны, и свежий утренний воздух. Саиде вдруг стало жалко его. Она вообще всегда жалела Рамазана. Когда он уезжал в Баку, ее еще не было на свете, но в доме были его фотографии и полно было разговоров о нем, а непонятные и потому пугающие слова «Чего ж он, мальчик мой, опять не приехал?» не сходили у матери с языка, особенно в такую вот летнюю пору. На протяжении многих лет Бике не расставалась с ними: вместе с обедом ставила она их на стол, вместе с выстиранным бельем развешивала на веревке, а когда уставала сетовать на судьбу и долгий летний день проходил без жалоб и ворчания, густую тень этих сердитых слов Саида все равно видела повсюду: на айване, где мать сидела, на дороге, по которой ходила, на дворе, который мела. Матери уже нет. И года не прошло после смерти Билала-киши, отдала богу душу. Когда умер отец, Рамазан был уже женат, на похороны приехал вместе с Розой. Тогда только и увидела Бике долгожданную свою невестку. Недели две Рамазан и жена пробыли в деревне и уехали очень довольные. А вот хоронить свекровь Роза не явилась, и по этому поводу в деревне долго шли суды и пересуды. (Кто знает, может, они уже и тогда часто ссорились?..) Во всяком случае, сейчас — Саида свидетельница — невестка не виновата; пускай они еще с весны в размолвке, все равно, скажи Рамазан жене одно только ласковое слово, обойдись с ней поприветливей, она, не задумываясь, поехала бы с ними. А он будто нарочно не хотел сказать этого слова. Роза даже и на вокзал не пошла: не проводила их, дочку не поцеловала на прощание. Под слабым светом меркнущей луны белела — так видно было отсюда Саиде — одна-единственная вершина из окруживших деревню гор, остальной Айлис — крыши, дворы, ограды — скрыт был во тьме... Лишь кроны больших деревьев, словно паря в воздухе, недвижно высились над домами. Саида закрыла глаза — может, снова заснет, — но спать не хотелось, она давно не помнила, чтобы так хорошо выспалась, хотя спала сегодня меньше обычного. А можно было еще вздремнуть. Еще не погасли звезды, еще не зашла луна; пожалуй, нет четырех; тут, в горах, и летом раньше пяти не светает. Часов в пять или чуть позднее воздух начнет светлеть, становиться все ясней и прозрачнее, погаснут последние звезды, но луна долго еще будет сиять в небе: до той поры, пока солнечные лучи не окрасят багрянцем вон ту светлеющую вершину. Багрянец, растекаясь, будет медленно спускаться вниз, и солнце еще не высунет макушку из-за горы, когда желтоватые холмы по ту сторону деревни засветятся, загорятся в чистоте и прозрачности воздуха, словно сами источают свет. Потом из-за горы высунется солнце, заглянет в очи родников, и те, ослепительные, будто само солнце, засияют сквозь прозрачную воду. Айлисское утро, каким виделось оно Саиде из Баку, всегда начиналось так... Но до утра было еще далеко. Саида лежала на спине и смотрела в небо. Интересно, а над Баку оно, это небо или свое, бакинское?.. Бакинское небо, бакинская луна?.. Нет, быть не может, чтоб в каждом месте своя луна, тогда их было бы столько же, сколько городов и деревень. Луна одна, и Саида знает это, не зря девять лет ходила в школу и географию учила, и астрономию. Но все равно, что бы ни говорили и ни писали, а айлисская луна особенная. И небо тут свое, айлисское. И голос, который она все время слышит, и запах, которым наполнено все вокруг, могут быть только здесь, под этим небом, под этой луной: голос матери и запах черешни... И тогда, наверное, было вот как сейчас — предрассветные сумерки. Поспевала черешня, и, наверное, потому, что рассвет еще только пробивался, во всех дворах полыхали высокие шатры черешен... Мать шла впереди, Саида за ней. Они шли за рутой, собрать ее было нужно сейчас, на исходе ночи — только рута, собранная до первых петухов, и сможет возродить Рамазана. Его надо окурить; дымок руты оживит, расшевелит парня, разгонит душевную вялость, порушит «шайтаново гнездо», что паутиной оплело сердце: в ту весну Рамазан приехал из Баку «совсем никуда»... Саида еще не ходила в школу, не знала, когда и зачем уехал Рамазан в далекий Баку, но знала, что уехал он не по своей воле. Всякий раз, когда об этом заходил разговор, люди почему-то вспоминали ливни, обрушившиеся однажды на Айлис. Рассказывали о тех ливнях одну и ту же сказку, страшную и непонятную. Все годы, что Саида пробыла в Баку, сказка эта оставалась здесь, в Айлисе. Она и теперь жива, эта сказка, она здесь, под этим небом, под этой луной, как запах черешни, как голос матери, тенью слов ее лежащий на земле. Этим голосом и сказала она тогда Саиде: «Не смотри долго на луну. Луна притянуть может...» Саида зажмурилась. Ей показалось вдруг, что на луне паутина, а из той паутины прямо к ней тянутся тонкие невидимые нити — опутают и утянут. Закрыв глаза, она сразу увидела себя там, в каменистой степи, вдали от деревни, от ярких шатров ее черешен. И тогда стояла над степью эта вот луна. И под этой луной мать опять говорила ей, только на этот раз не про луну — про змей и зловредных насекомых, обитающих тут, в камнях. Самая страшная средь них фаланга — черный большой паучок. Ужалит и сразу — на кладбище. Приползет куда-нибудь на могилу и сидит, ждет, пока ужаленного человека не принесут хоронить, — эта тварь знает силу своего яда. Саида, объятая ужасом, боясь взглянуть под ноги, смотрела вверх, на луну, и ей казалось, что там, как раз посреди луны сидит огромный паук. А другой такой же прячется где-то здесь, на земле. Саиде было страшно, она вся дрожала. С тех пор она и стала бояться. Если б не так всего боялась, не сидела бы чуть не до тридцати лет в девках... Привычная ноющая боль прошла по телу, наполнив ощущением безысходности, и, придавленная ее тяжестью, Саида сразу огрузла, мгновенно утратив чудесное чувство легкости, впервые за много лет испытанное сейчас. И вместе с ушедшей легкостью ушли, отодвинулись и луна, и небо, заняли свои места, далекие и недосягаемые, как обычно. Все в мире стало на свои места, даже жуткий паук под названием фаланга... Теперь это страшное насекомое сидело не на луне и не где-то посреди мира, сейчас фаланга обитала тут, на знакомом айлисском кладбище, притаившись на могиле Бике-арвад. Подавленная ощущением своего одиночества, столько лет наполняющего все вокруг отчаянием и страхом, Саида с трудом подняла веки. Увидела, что стало светлее, и села. Не будь прямо перед домом деревьев, она, и сидя, могла бы сейчас увидеть айлисские крыши. Но прямо перед глазами торчали широкие кроны и Саида не видела даже крышу тети Досты, темневшую неподалеку. Ей были видны лишь крыши домов, что стояли на той стороне, за речкой. Под рассветным небом с поблекшими звездами серовато-желтые земляные кровли казались светлее, а рядком расстеленные на них большие и маленькие постели, покрытые серыми одеялами, издали (господи, боже мой!) удивительно напоминали могилы... Рассветет, и лучи солнца еще не коснутся крыш, а расстеленные на них «могилы» одна за другой исчезнут. Сперва поднимутся матери и, торопливо поругиваясь, начнут будить старших дочек. (Девочку, если ей исполнилось десять лет, никто не должен видеть в постели ни издали, ни вблизи.) Потом встанут мужчины, они, если не предстоит особо важных дел, поднимаются позже женщин. Самыми последними вскакивают ребятишки, и каждый из них — лишь бы хватило силенок — сам сворачивает постель, берет ее в охапку и тащит вниз; если малыш не переложит эти хлопоты на старших, его право спать на крыше будет признано всеми. А спать летом на крыше — великое удовольствие: ни на айване, ни во дворе под деревом, ни тем более дома ничего подобного не испытаешь. Хотя эти далекие кровли было не отличить друг от друга, особенно сейчас, в предрассветных сумерках, Саида точно знала, под какой кто живет. Пока она оставалась в Баку, под этими кровлями народилось полно детишек; сейчас они сладким сном спали на крышах своих домов. Они, может, и понятия не имеют, что живет на свете такой человек — Саида... От этой мысли ей стало грустно, но грусть эта тут же прошла, потому что она сообразила: это же не Баку — Айлис и просто невозможно, немыслимо, чтоб деревенские ребятишки ничего не знали о ее существовании. Немыслимо потому, что для здешних, айлисских ребят она не просто какая-то Саида, она «тетя Мехти», «сестра Хабибамуаллима»; матери нынешних школьников учились с ней в школе, и быть не может, чтоб ни разу не обмолвились о человеке, с которым девять лет проучились... «Саида, тетка Мехти, та, что в Баку живет, она со мной в одном классе училась». Или: «Если б у меня был такой брат, как у Саиды, я б тоже в Баку жила». Или: «Ума нет у тех, кто девчонок в Баку увозит. Уедет и будет, как Саида, до старости в девках куковать». Среди одноклассниц Саиды не было ни одной незамужней. Она знала это из писем невестки. И вот уже сколько лет, ложась спать, Саида одну за другой перебирала в памяти подруг, их мужей, их детей, золовок — всю их неведомую ей семейную жизнь, начиная со сладких тревог брачной ночи и светлой муки рождения первенца; хотелось хотя бы в мечтах своих прожить жизнь этих молодых женщин со всеми ее радостями и невзгодами. Раздумывать о замужней жизни Саида начала с того самого августовского вечера — это было после окончания седьмого класса, — когда деревню вдруг охватила паника: Мансуру по прозвищу Сорока, самую некрасивую девушку из их класса, застали с парнями в сухом арыке. Прозвище свое Мансура получила не зря. Вертлявая, быстрая, болтливая, во все на свете совавшая нос, не стыдившаяся и при мужчинах вскарабкаться на любое дерево и скакать там с ветки на ветку, Мансура и впрямь смахивала на сороку. В школе она всегда плелась в хвосте, числясь в злостных лентяйках, зато в работе — помыть, постирать, скосить траву, ходить за скотиной — Мансуре не было равных. Характером она была похожа на мальчишку, от нее можно было ожидать всего, но такого... И не то чтоб насильно, своей охотой... То, что Мансуру застали в саду, в сухом арыке, где трава по стремя коню, застали сразу с тремя, в тот же вечер узнал весь Айлис. Такого вечера Айлис не запомнит. Ужас, словно плотный туман, окутал деревню; казалось, листья на ветках недвижны не от духоты — от страха, страх был растворен в воде источников, и пища, сготовленная из этой воды — даже на вкус! — отдавала в тот вечер страхом. Второй раз в жизни — после той сказки о фаланге — поняла Саида, что страх сильнее всего на свете. Девушек, все дни проводящих в садах, в поле, у родника, в тот вечер не выпускали на улицу. Чтоб отгородиться от опасной греховности, каждый покрепче запирал дверь; в тот вечер все вокруг — небо, земля, воздух, — казалось, набухло кровью. Но обошлось — даже нос никому не раскровянили. Наутро стало известно, что Мансуру отвели в дом к одному из троих парней — тому, кто был первым. «Припугнули парня», — утверждали одни. «Деньгами его прельстили», — уверяли другие. Но, так или иначе, Мансура стала женой, невесткой. Один ребенок, второй, третий... Прошлый год Пакиза писала, что Мансура родила девятого: три девочки, шесть мальчишек... Старшему сыну Мансуры было сейчас семнадцать, а Саида еще и понятия не имеет, что это такое — муж... Видно, судьба ей — прожить без мужа. И, если бы Рамазан, твердо решив вдруг, что он один виноват в горькой участи сестры, не привез ее сейчас в деревню, Саида, может, и не помышляла бы о замужестве. Раньше они ездили летом в Нальчик. В двадцатых числах июля Роза и Рамазан брали отпуск, и через день-другой все уже садились в поезд. Лет семь тому назад, когда дочке было пять лет, Розу послали на курорт, принимать ванны, ванны помогли ей, поясница перестала болеть, а главное — Розе так понравилось тамошнее нежаркое лето и чистый воздух, что, уезжая, она оставила хозяйке задаток, чтобы на будущий год приехать всей семьей. С тех пор они каждое лето ездили в Нальчик, живя у одних и тех же хозяев. Двухэтажный дом, окруженный деревьями, стоял на взгорке, над речкой; полчаса езды от центра. Снимали две комнаты наверху, в одной спали Роза с Рамазаном, в другой Саида и Лейли; хозяева жили внизу. Этот месяц был самый спокойный в году; никто никому не мешал, каждый занимался чем хочет: Лейли целый день не вылезала из речки, Роза с утра до вечера с книжкой в руках валялась на кровати под деревом, Рамазан большей частью бродил где-нибудь. Саида присматривала за девочкой и собирала на берегу чернуюпречерную ежевику — каждый день не меньше полведра; что не съедали, несла домой. Вечером все отправлялись в кино. Так проходил отпуск. Этот год с самого начала весны Рамазан ходил хмурый. С женой у них давно уже не ладилось. Несколько раз Саида замечала, что Роза тайком плачет. Провести месяц в Баку или в Нальчике — для Саиды особой разницы не было, потому что, находись она хоть в Баку, хоть в Нальчике, мыслями все равно в Айлисе. А справлять домашние дела, ходить на базар, готовить не составляло для нее труда; отводя же девочку в парк или отправляясь с ней в кино, Саида и сама радовалась не меньше ребенка. Рамазан взял отпуск, даже не предупредив Розу. Он то весь день торчал дома, то где-то ходил с утра до вечера, а потом жаловался, что ноги гудят. Дня три тому назад ушел с утра, весь день пропадал где-то, а вернулся — таким его еще не видели — совершенно пьяный. «Где моя красавица сестра?! — раскинув руки, Рамазан двинулся к дивану, на котором сидела Саида. Обхватил руками ее голову, прижал к груди, стал целовать глаза, волосы. Из глаз у него полились крупные слезы. — Радость моя! Сестричка моя! Бедная девочка! Обездолили тебя!.. Я этого не допущу! — набросился он на жену. — Я не хочу, чтоб она была несчастна!..» Все смотрели телевизор, когда пришел Рамазан. Роза сразу ушла. Лейли тоже вскочила: «Ой! Пьяный!..» — и убежала к себе. Они остались вдвоем: брат и сестра. От ярости у Рамазана тряслись руки. «Поедем в деревню!.. К нам! В деревню! Может, мужа тебе найдем... Ох, и свадьбу я закачу!..» Если бы Рамазан не напился, он никогда в жизни не сказал бы ничего подобного. ...Саида глядела на брата, спящего на этой крыше, под этим небом, по которым он тосковал столько лет, глядела и глядела, пока на глазах не выступили слезы. Потом села; уже развиднелось, и можно было различить за деревьями дом, в который той ночью привели Мансуру. Это был один из самых старых домов; низкая крыша, маленькие оконца, высоченная ограда со всех сторон. Если встать, и сейчас можно увидеть ее. Только зачем теперь смотреть на ту ограду? Что было, быльем поросло. Зато Мансура первой из их класса выскочила замуж, некрасивая, похожая на сороку... За высокой оградой, на крыше старого дома спокойно спит теперь ее муж. А арык, где трава коню по стремя, то ли есть он, то ли нет его уже. Была беда, миновала, мало ли случается на свете бедствий: град, сель, ураган, землетрясение... Главное, чтоб не повторилось такое. «Чтоб конь под тобой не спотыкался!» А Айлис чего ж, он не только строг и взыскателен, он ведь еще и милосерден. Рамазан все так же лежал на спине. И Лейли не шевелилась, дышала спокойно, ровно. Зато Мехти все крутился, бормотал что-то. Интересно. Что ж это ему такое снится?.. Саида вдруг почувствовала, что продрогла, легла, натянула одеяло. Спать не хотелось, да и не было смысла засыпать — до рассвета всего ничего. На небе рядом с луной возникла большая серебристая звезда; и, наверное, ее сияние, от которого всегда радостно билось сердце, вновь избавило Саиду от земного притяжения и, воздушную, невесомую, перенесло в мир детства, где все такое легкое, легкое... Опять ей шесть лет. И опять рядом мать. И высокая гора, у подножия которой растет чудодейственная рута, тоже здесь, рядом, и все вокруг такое мягкое, ласковое — Саиде шесть лет. А гора-то как живая стоит, только что говорить не может, серебристая звезда, дивясь чуду, удивленно глядит на живую гору... Руту они собрали вовремя, и им было уже не важно: светает, не светает. Мать сидела на пне, конец ее головного платка был завязан узелком, в узелке собранная рута. Другим концом платка Бике-арвад тайком вытирала слезы; горько на душе у человека, когда далеко за деревней, в самом конце колхозного сада, у подножия живой горы глядит он на обломанные ветки и ободранную листву черешен, замерших вдоль сухих арыков, забитых колючкой и чертополохом. Ведь надо же так случиться: и сад этот, и черешневые деревья, с которыми так жестоко расправились люди, был не просто колхозный сад, он принадлежал еще отцу Бике-арвад, был землей их дедов и прадедов. Каждую из этих старых черешен Бике-арвад называла по имени, знала, какой сколько лет, знала нрав каждой, Вот та, например, с двумя обломанными большими ветвями — ровесница ее сестре Малейке, что без времени ушла из жизни, в великом горе оставив своих родителей; черешню так и звали «Малейка», а известна она была тем, что плакала: каждый год, как сходила ягода, по стволу текли чистые, прозрачные капли. Рядом с «Малейкой» высилась черешня единственного брата Бике-арвад Бахрама; эта была «супротивная», а супротивность ее заключалась в том, что на теневой стороне дерева ягода созревала намного раньше, чем на солнечной. «Серьги», «Жемчужная», «Птичий клюв», «Девичьи соски» — каждое дерево имело свое название соответственно виду и форме ягод. И даже запах у каждой был свой!.. Только запах этот в отличие от запаха других фруктов - яблок, груш, абрикосов, персиков, — державшегося стойко, возникал лишь на заре, под утро, когда еще не проснулись птицы, не пропели первые петухи; запах черешни вдруг наполнял все кругом и также вдруг бесследно исчезал... «Проклят будет, кто привадил сюда шайтана!» — уж лучше бы не дожить до этого дня! С нижних ветвей ягоды были содраны вместе с листвой, повыше, где трудно рвать, обломаны все тонкие ветки; «безбожники» не пощадили и того, что от века богом самим предназначалось для птиц — на самом верху, в недоступных для человека местах, они, ненасытные, простонапросто отломили от дерева несколько больших ветвей... И этой обиды, этого горя Бикеарвад не избыть уже никогда. Лет через пять на смертном ложе (было это в самый мороз!) она вдруг запросит черешни... А в этой деревне, пока стоит мир (чего только не бывает на свете!), в предутренних сумерках всегда будет пахнуть черешней... ...Саида не заметила, как погасли звезды. Лишь та одна все еще виднелась, сияя, как серебряная пуговица на истертом добела воротнике небосвода. Чем прозрачнее становился воздух, тем выше и выше поднималось небо. Вершины гор уже не упирались в него, теперь они взирали на небо снизу. И чем дальше уходило ввысь небо, тем, казалось, быстрее спускается на деревню его чистота и прохлада. Опьяненная этой чистотой и прохладой, Саида задремала. Когда она открыла глаза, горы были ярко освещены солнцем. Рамазан уже проснулся, лежал, глядел в небо. Лейли и Мехти еще крепко спали. II Разноцветные звуки Отсыпаться сюда приехали, скажет позднее соседка тетя Доста; отоспались, черти, Валида, беднягу, до беды довели и укатили... Но скажет это она не скоро, недели три спустя. Сейчас же пришла поздороваться, поздравить с приездом, сказать прибывшим «Добро пожаловать!». Не с пустыми руками явилась, принесла два румяных яблока и желтую-прежелтую айву; с прошлого года фрукты (в этом-то и вся их ценность, если б они сейчас повсюду на ветках, какие б это гостинцы!..). Тетя Доста как пришла, так все и сидела молча, держа руку в кармане, потом вынула из кармана еще одно яблоко, такое же румяное, и протянула Мехти — единственному сыну хозяина. — Возьми, детка, — сказала тетя Доста. После этого она вроде бы малость отошла, вот глаза только — то на Саиду глянет, то на девочку, то на Рамазана покосится, и все исподлобья, недобро, Сайда, бедняжка, сидит, головы не поднимет. — Чего ж чай-то не пьешь, тетя Доста? — громко, но не слишком приветливо спросила Пакиза. Потому что не годится так зыркать на людей, хоть они и из Баку приехали. — Выпью, чего не выпить! — тетя Доста внимательно оглядела стол — брынза, лаваш, вареные яйца, блюдечко с маслом, растаявшим от жары, — все в отдельности оглядела. — И чайку выпью, и закушу. Я ж не где-нибудь, у себя дома! — Поджарь яичницу тете Досте, — вполголоса сказал Хабиб, подмигнув Пакизе. Пакиза поняла, чего он мигает, но особой торопливости не проявила. Налила гостье свежего чаю, пододвинула коробку конфет, привезенную гостями. — Какая-то ты сегодня не такая, тетя Доста, — сказала Пакиза. — Растревоженная вроде чем... — Растревоженная? — тетя Доста оторвала тяжелый взгляд от груди Саиды, заметно пополневшей в Баку. — Конечно, растревоженная. Если мне не тревожиться, кому ж еще и тревожиться? Я ж их обоих, можно сказать, на своих руках вынянчила! Не станем утверждать, что в словах тети Досты не было преувеличения, но этот высокий немногословный пятидесятилетний мужчина, белизной лица разительно отличавшийся от айлисцев, и полненькая молодая женщина, что еще десять — двенадцать лет назад козленком скакала по этому двору, а теперь от городской жизни отрастила такие груди, что платье распирают, конечно, сидели когда-то у нее на руках. Соседи. Да еще такие близкие — оградой только и разгорожены; и в радостный, и в черный день тете Досте первой положено отворять дверь этого дома. И, хотя в айлисской книге приличий и правил запись по вопросу о том, можно ли являться с поздравлениями во время завтрака, сделана достаточно яркими чернилами, никто не осмелился бы обвинить тетю Досту в неучтивости. Прежде всего потому, что, поскольку в книге айлисских приличий запись по данному вопросу сделана четко, тетя Доста еще вчера вечером полностью соблюдала все, что указано по этому пункту: услышав голоса приехавших, она, хотя дом ее в десяти шагах, даже из-за ограды не выглянула; пускай люди отдохнут с дороги, пускай посидят своей семьей, поужинают, выспятся. К тому же, хотя сегодня утром тетя Доста и не заваривала дома чай, у нее было достаточное основание прийти сюда именно в это время: солнце-то вон уже из-за горы торчит, скоро цикады заведут трескотню — в прошлое время настоящие мужчины об эту пору уж за обед принимались. Они сидели за столом в тени большой черешни, а черешневые деревья испокон века славятся густой тенью. От арыка тянуло прохладой, успокаивающей сердце. Только тетя Доста не собиралась ни охлаждаться, ни успокаиваться. — Забрал ребенка! — с места в карьер понеслась она, в упор глядя на Рамазана. — Продержал столько лет в Баку, а теперь обратно — замуж выдавать? Кто ж ее тут возьмет? У ее ровесников по пятеро ребятишек бегают! Бледное лицо Рамазана стало багровым, заметнее обозначились залысины на лбу. — Стареешь... — сказала тетя Доста, решившая не давать ему спуску. — Вон и волосы повылазили. А все твоя! Надо ж так оплошать: инженер, собою картинка, а баба над тобой верх взяла... — Она покачала головой. — Сколько лет Саида у жены твоей в прислугах ходит? А?.. Увез сестру, от учения оторвал... Теперь чего ж? Не нужна больше жене прислужница? Сама не приехала, чего ж она не приехала? А то, что не приедет она сюда! Ей из-за ребенка, — тетя Доста ткнула пальцем в Саиду, — в глаза людям глядеть совестно! Рамазан улыбнулся, улыбка у него вышла жалкая: правду говорит старая, чего возразишь?.. От старухиных справедливых слов сердце сразу упало, опять подобрался страх — одна из примет душевной слабости, обретенной за годы городской жизни. А ведь где-то в самой, самой глубине души Рамазан испытывал сейчас наслаждение и от слов, что сказала старуха, и от самого ее голоса, потому что и слова, и голос ее были голосом Айлиса: в нем было что-то от воды, текущей в арыках, от тени этой раскидистой черешни, а раз так, значит, Айлис есть, существует, значит, главный, настоящий кусок его жизни не выдумка, не химера — факт. Вон как старуха взялась за него! Вкус ее круто перченных слов был так знаком, так приятен Рамазану!.. И хоть давно не доводилось ему попробовать этого перца, он все еще ощущал его во рту. К тому же это был первый день, первое его утро в деревне. — Розу не отпустили с работы. — Он едва сумел выдавить из себя эти несколько слов и, виновато улыбаясь, взглянул на Хабиба, потому — что в том, что Саида до сих пор не замужем, виноват был действительно он и ответственность за эту вину нес прежде всего перед братом. — Пожарь яичницу тете Досте! — Хабиб громко произнес эти слова, и Пакиза, застывшая у самовара с чайником для заварки, наконец-то шевельнулась. — А ты, тетя Доста, не больно-то расходись... — А что? Чего такого?.. Не правда разве? — тетя Доста обиженно покосилась на Хабиба. — Братец! — Пакиза с другого конца айвана окликнула Рамазана. — Может, и тебе яишенку? Ведь не ел ничего. — Нет, не нужно, — Рамазан опять виновато улыбнулся. — Я вижу, не нравятся ему мои слова, — тетя Доста пальцем показала на Хабиба. — Может, и не сказала бы, да сердце жжет. Я ведь это к чему? А к тому, что должен был ей среди тамошних человека сыскать, должен был пристроить сестру. Жалко небось. И грех это. В таких годах девушка, и не замужем!.. Странно, даже и после этих слов улыбка, жалкая улыбка не сошла с лица Рамазана. Что же касается Саиды, она так смутилась, что Хабиб испугался — вот-вот разрыдается. Даже Мехти почувствовал это, и ему стало жаль городскую тетю, которую он лишь вчера вечером впервые увидел, так жаль, что впору самому расплакаться. Лейли сидела надутая; говорившая только по-русски, она не очень-то понимала, о чем толкует незнакомая бабка, но чувствовала, что та говорит неприятное для Саиды, и потому глядела на старуху с ненавистью. Только Саида поняла, что, ставя стакан на блюдце, девочка нарочно разбила его. Тетя Доста вздрогнула. Хабиб, скрывая растерянность, начал, не спеша, собирать в бумажную салфетку рассыпавшиеся по столу осколки. Саида подняла голову, взглянула на разбитый стакан, потом на хитро поблескивающие глазенки Лейли, хотела улыбнуться, но улыбнуться не хватило сил; она снова опустила голову. Пока Пакиза не поставила перед соседкой шипящую в масле яичницу из четырех яиц, никто не проронил ни слова. — О-о, это кто ж так здорово раскокал?! — Едва ли хозяйке доставляет удовольствие вид разбитой посуды, но в голосе Пакизы, со смехом произнесшей эти слова, не чувствовалось ни малейшей натяжки. — Никак паша красавица умудрилась? Да как разбила — вдребезги! — Тетя, пойдем в деревья! — Лейли сказала это по-азербайджански. Хотела сказать: «Пойдем в сад», — Саида часто рассказывала ей о здешних садах, о деревьях, которые там растут. Губы сердито нахохлившегося Мехти тронула улыбка. Пакиза и Хабиб переглянулись улыбаясь. Саида тоже попыталась улыбнуться, и опять у нее не хватило на это сил. Рамазан, опасаясь, что дети и впрямь могут увести Саиду, на всякий случай выразительно поглядел на сестру. Но в этом не было необходимости. Уехав в шестнадцать лет, Саида за все эти годы не забыла ни одного из твердо и неизменно соблюдаемых здесь правил приличия: пока гость сидит за столом, подняться и уйти — великая неучтивость. — Пойдете, пойдете в сад, — сказала Пакиза девочке. — И в сад сходите, и деревья посмотрите... — Она легонько погладила ее чисто вымытые светлые волосы. Волосы эти, как и весь облик девочки, были какие-то особенные, городские. — Мехти тебя всюду сводит. Вон гора, видишь? Там у самой горы такой родник красивый... Лейли повернула голову, куда показывала женщина, дружелюбно глянула на Мехти и снова уставилась на тетю Досту. А та отламывала кусочки лаваша, макала их в растопившееся масло и молча, с удовольствием жевала. По мере того, как она насыщалась, лицо ее все больше светлело — Хабиб знал, что делал, когда велел поджарить гостье яичницу. Насухо подчистив сковороду, она сунула в рот последний кусок лаваша, не торопясь, запила чайком и, утеряв всю свою агрессивность, уже совсем другим голосом сказала Пакизе: — Спасибо, дай бог тебе здоровья, да сохранит он единственного твоего сыночка. — И, оборотясь к Рамазану, заметила: — Жене твоего брата сынка бог дал — вот его, Мехти. Хоть и единственный их детеночек, а сынок. Ты-то что ж оплошал? Если б у этой красавицы да братец такой же — плохо ли? — Совсем бы не плохо, — Рамазан усмехнулся. И добавил негромко: — Нет тут моей вины, тетя Доста. — Неужто не хочет? — Не хочет... — Это ж надо, чего вытворяет!.. — старуха хлопнула ладонью о ладонь. — Помнишь, я тебе говорила — еще Бике, покойница, жива была, да будет земля ей пухом, — строже жену держи! Она ж свекровь свою хоронить не приехала! Помнишь? — Хватит тебе, тетя Доста! — Хабиб опасался, как бы опять не сгустились тучи. — А чего такого? Я правду сказала. Детьми дом богат. Если бы ей бог дал, твоей Пакизе, у вас бы их уже целая отара бегала. Хорошо, всевышний не без милости: пускай одного послал, зато сыночка, да еще такого разумника! Пакиза тут же воспользовалась случаем повернуть разговор в другое русло: — Знаешь, дядя Рамазан, Мехти у нас круглый отличник. По всем предметам пятерки. У отца и то рука не поднимается меньше пятерки ставить. — Это так. Это ты чистую правду! — Тетя Доста с удовольствием поддержала разговор. — Про его учебу по всей деревне слух. И не то что по деревне, во всем районе нету равного! — Отец учитель, положено хорошо учиться, — заметил Рамазан. — Дело не в отце, — наставительно заметила Доста, ей почему-то не понравились слова Рамазана. — Вон их в деревне сколько, учителей, у каждого дети, а любого возьми: у того голова не сообразит, чего у Мехти ноготь знает! Верно я говорю, учитель? — Она дружески подтолкнула Хабиба. — Чего сидишь, хмуришься? Хабиб преподавал в школе историю; он действительно молчал сейчас, может быть, молчал из «педагогических соображений». А вот насчет того, чтобы хмуриться, Доста была не права, лицо его просветлело, и не было ни малейшего сомнения, что разговор о сыне доставляет Хабибу удовольствие. — Пока учится хорошо, — сдержанно заметил он. — Посмотрим, что дальше. — А дальше, бог даст, в тыщу раз лучше будет! — с уверенностью подхватила Доста. Заметно было, что разговор этот нравится и самому мальчику. Мехти с довольным видом поглядывал то на дядю Рамазана, то на отца, то на Лейли, хотя мысли его заняты были Саидой; больше всего он не хотел, чтобы соседка опять завела разговор о ее замужестве. — Знаешь, тетя Саида, — Пакиза, стоявшая по другую сторону стола, пододвинула табуретку и села рядом с золовкой. — Он мало того, что учителей иной раз в тупик ставит, он и в книжках ошибки находит. А иногда вдруг такое скажет, прямо оторопь берет... Тут как-то говорит вдруг, у каждой, мол, буквы свой цвет... — Пакиза вопросительно взглянула на мужа и, увидев, что тот улыбается, повторила: — Да, да, у каждой, говорит, буквы свой цвет! — Не у буквы, у звука, — смущенно поправил мальчик. — Буква — это знак звука. — «Хеерф» — значит, буква, папа? — не все понимая, спросила Рамазана Лейли. — Да, — по-русски ответил Рамазан. — Мехти считает, что каждая буква имеет свой цвет. — Не буква, звук, — вместо сына поправил Хабиб и покраснел. — Значит, звуки имеют цве-ет? — удивленно протянула Лейли и, видимо, забыв, что она в чужом месте, среди незнакомых людей, вскочила вдруг и запрыгала. — Тогда ты... Тогда скажи!.. Ну вот... «А»... «А» — какой? — Черный! — ни секунды не колеблясь, ответил мальчик. — «А» — абажур. «А» — Андрей. «А» — арка, Аврора, адмирал, аптека, аист... Нет! Они не черные! — Насчет других слов не знаю, а вот «Андрей» уж точно не черный! — Рамазан рассмеялся, видимо, пришел в себя. — Но я же не про имена, — Мехти потупился — Я про звуки. — Ладно. «Зе»! Звук «Зе»! Ну-ка скажи! — Лейли сверкнула глазенками. — Красный! — выпалил Мехти, словно ответ был готов заранее. — «Зе» — знамя, заря... Верно! Надо же!.. — Лейли уселась было на место, но тут же опять вскочила. — А зеркало? — Так ведь Мехти же не про русские буквы... — несмело вмешалась Саида. — А-а... Ну сейчас... я азербайджанские... Скажи, Мехти... «Пе», звук «П»? — Звук «П» — серий цивет, — по-русски ответил Мехти. И будто только это и надо было ему — произнести несколько слов по-русски. Выговорил, и понесло!.. Оказалось, что даже у звуков одинакового цвета множество всяких оттенков. Вот, например, «Ш» и «Ч» — оба желтого цвета, но у «Ш» желтизна, как у цветущей вербы или кизила, а «Ч» — как солнечные лучи... Выяснилось также, что эта солнечная желтизна есть в каждом звонком согласном; «3» и «Ж» — красные, но отдают в желтизну... Мехти словно бы рассказывал сказку про звуки, вернее, про цвета, в которые окрашены звуки. Все молчали. Даже Лейли не прыгала больше; в ее взгляде, устремленном на Мехти, удивление было смешано с чуть заметной насмешкой, и казалось, она не просто смотрит на мальчика, а издалека разглядывает его. Пакиза и Хабиб переглядывались, думали, что Мехти слишком уж спешит понравиться гостям, и прежде всего двоюродной сестре, что, наверное, не следовало бы мальчику так выставлять себя. Тетя Доста нисколько не сомневалась, что все эти премудрости Мехти вычитал из достойных книг, а потому даже сидела сейчас иначе, чем раньше; по твердому ее убеждению, слушать слова, написанные в книге, следует не так, как обычный разговор, и любой человек, знающий толк в приличиях, должен проявлять особое внимание к говорящему. Рамазан тихонько раскачивался на стуле, он вроде и слушал, и не слушал мальчика — чтото напряженно обдумывал, целиком уйдя в себя. Саида же, захваченная сказкой, во все глаза глядела на Мехти, наяву видя странный сон про цветные звуки. А Мехти было не остановить, да и жестоко было бы прерывать его сейчас, потому что, уж не говоря ни о чем другом, все сидевшие за столом чувствовали, что, превратив алфавит в невиданную радугу, Мехти потерялся в этом обилии красок. Цветные звуки увлекли, заманили его неведомо куда, и, казалось, мальчик где-то высоко, высоко, рядом со своей радугой, и уже по одному этому все молчали, боясь словом вспугнуть ребенка. А Мехти все говорил, говорил, словно видел, осязал всю пестроту разноцветных звуков и одновременно слышал их голоса, и в каждом звуке слов, произносимых сейчас, обнаруживал новые, еще не виданные краски и изумлялся им; яркие эти краски отражались в глазах мальчика, быстро сменяя друг друга. А может быть, то были не цвета, не краски, а свет — разные оттенки света, а может, и не свет, какие-то голоса, и голоса эти безмолвно сменяли друг друга, словно стрелки секундомера. Мехти только сейчас обнаружил, что от соединения гласного с согласным может возникнуть совсем новый цвет. И еще обнаружил, что, если гласные и согласные не соединять, может — не больше, не меньше! — нарушиться равновесие в мире: если в слове будут только согласные, солнце сожжет все живое, если же слова будут состоять из одних гласных, наоборот, наступит холод, день и ночь будут литься дожди; не станут распускаться цветы, не будут петь птицы... — Верно говоришь! — тетя Доста заявила это так громко, с такой категоричностью, что если б поблизости пела птица, то наверняка осеклась бы, умолкла и, скорей всего, никогда больше уже не осмелилась бы запеть. — Людям для того и дан язык, чтобы понимали друг дружку! — Довольная, что с такой легкостью подвела итог разговору, который Мехти, казалось, никогда не закончит, тетя Доста обернулась к Рамазану. — Помнишь ту вербу... Ну, во дворе у Шахсувара. Возле хлева стояла, большое такое дерево... Как засохла она, так беды на него и навалились. Тогда и дожди пошли... Когда во дворе у Шахсувара засохла верба, Рамазан не помнил: может, в тот год, а может, и позднее; может быть, верба во дворе Шахсувара отдала ослепительную желтизну своей жизни в жертву айлисскому солнцу в те дни, когда он уже был в Баку, в чужом и далеком мире, и сердце его колотилось при одной мысли о здешней весне, о цветущей сирени, о той пушистой вербе. Он помнил ту вербу, хорошо помнил, где-то в глубине души даже не очень верил, что вербы той больше не существует. Но дело не в вербе. Рамазан сразу понял, куда клонит тетя Доста. — Да, — сказал он, — это все дожди. Их вина, что я в Баку оказался. Не будь этих дождей, кто знает... Может, и не уехал бы... — То есть как? — Хабиб нахмурился. — Учиться не поехал бы? В тот год, когда лили дожди, Хабиб еще лежал в колыбели, но разговоры про них он слышал с малых лет и знал, почему Рамазан оказался в Баку именно после дождей. — Учиться?.. Ей-богу, не знаю... Учиться, может, и поехал бы... — Конечно, поехал бы! Как это не поехать? — Тете Досте не понравилось, что Рамазан вроде без интереса упомянул об учении. — Поехал, человеком стал! А ее вот, — тетя Доста показала на Саиду и понизила голос, — ее зря в город увез. Это ты маху дал. — Взглянула на Хабиба, прочла на его лице: «Не больно-то расходись», — и, поднимаясь изза стола, торопливо сказала, чтобы покончить с опасной темой: — Ну, как говорится, что было, то прошло, а ты, доченька, не больно горюй. Бог не без милости. Найдем тебе человека здесь, в деревне... И, обнадежив всех, тетя Доста ушла с легким сердцем. III Дожди Когда лет двенадцать тому назад Рамазан приехал за Саидой, он знал, что затеял неладное. Права старуха: прислугу вез жене. Это и дураку понятно. Саида тогда только что пошла в десятый, но, бог свидетель, забирая ее в Баку, Рамазан и представить себе не мог, что она не закончит десятилетку. А сестра походила, походила в школу — месяца полтора ходила, а потом говорит: трудно, учусь хуже всех в классе. И бросила. Скорей всего, так оно и было. Но все равно то, что он позволил Саиде оставить школу, легло на совесть Рамазана: не будь маленькой Лейли и бесчисленных домашних забот, Саида как-нибудь справилась бы с учебой, дотянула бы, во всяком случае, не осталась бы без аттестата. И, хотя Рамазан обычно во всем обвинял жену, не мог он не понимать что главная вина на нем. Не имел права везти сестру в Баку, чтоб она нянчила девочку, стирала, стряпала, пеленала — стала прислугой... Когда Саида приехала, Лейли было месяца три. И, едва ребенку сровнялся годик, Роза сразу же вышла на работу, так что Саида, можно сказать, одна вырастила племянницу. Рамазан не придавал этому значения и лишь в последнее время спохватился. С весны этого года ему вдруг начали сниться жуткие сны. В снах этих обязательно лили дожди, все вокруг было покрыто водой, потоки чудовищной силы с корнем вырывали деревья на берегу каких-то рек; где-то тонули кони, быки, коровы. И во всех его снах плакала Саида, он отчетливо слышал ее тоненький жалобный плач, хотя за все годы, прожитые вместе, ни разу не видел слез на ее глазах. Говорят, видеть во сне воду — к добру, легче становится на душе. Может, оно и так. Однако, с чем бы ни связано было то, что привиделось человеку, облегчение он получает лишь в случае, если кому-то расскажет сон. Рамазан никому не рассказывал снов. Дело в том, что не только дома, во всем огромном городе не было у него настолько близкого человека, чтобы взять да и рассказать сон. Сестра чуть не вдвое моложе... Попробовал как-то, пооткровенничал с женой и пожалел об этом: видел, что Роза слушает из вежливости, не без иронии, этого, мол, только не доставало. Кроме того, многое из Рамазановых снов просто нельзя было рассказать жене. Мог ли он, например, сказать Розе, что совсем недавно ему приснилась двуспальная деревянная кровать, та самая, которую он вскоре после женитьбы с великой радостью приволок в комнатушку, где они тогда обитали; кровать эту он увидел плывущей в бурном потоке среди множества таких же поломанных кроватей. Вода накрыла город; люди гибли: одни молча тонули, другие отчаянно кричали, творилось что-то невообразимое. И посреди этого ужаса Рамазан плыл на их двуспальной кровати, плыл один, Лейли, голенькая, как пингвин, то и дело ныряла в воду, Роза барахталась, билась в волнах, звала его на помощь, а он не знал, что делать, потому что откуда-то издалека опять слышался плач Саиды, она плакала в этом бескрайнем водяном пространстве, а он не понимал, где его сестра, откуда доносится ее голос... Двуспальная кровать, которую он когда-то, не посоветовавшись с Розой, приволок в их комнатушку, медленно погружалась на дно... Целый месяц ругала его тогда Роза за это приобретение: «Хватаешь, что в руки попадет! Будто нам всю жизнь сидеть в этой чужой халупе!.. Куда мы денем это страшилище, когда получим квартиру?!» Она и рожать не хотела, пока не получат квартиру. И Лейли появилась на свет, когда Рамазану было уже под сорок. Только давние это дела. Роза, скорей всего, и забыла, что была у них когда-то эта двуспальная кровать. Но дело не в этом. Дело в том, что, услышав во сне жалобный тихий плач Саиды, Рамазан потом неделю не находил себе места. В его снах с их ливнями и потопами жалобным плачем Саиды словно плакала вся их деревня: дома, крыши, ограды, вода в арыках, корни деревьев, что впитывают ее... Женский плач, наверное, запомнился ему с войны; а вот ливни, страшные эти ливни случились года три спустя после ее победного окончания. Рамазана, который после десятилетки помогал отцу на баштане, в тот год поставили бригадиром полеводов; в колхозе тогда было три бригады: садоводческая, полеводческая и животноводческая, объединявшая все фермы. Шелководами же управлял человек, которого присылали из района, бригадирствовал он всего сорок дней: от раздачи шелкопряда до сдачи коконов. И, может, поэтому его называли не «бригадир», а «испес» — то есть специалист по шелку. Рза-испес побежал на чудесный запах, А Садык — с шашлыком от него вприпрыжку. Сам бежит, сам куски на шампур сажает. Рза-испес мчит за ним и слюну роняет... (Подобного рода частушечки сочиняла когда-то тетя Доста, и сочиняла, наверное, затем, чтоб такие знаменательные события навсегда запечатлелись в памяти айлисцев...) Бригадиром Рамазана поставили в начале весны. А едва наступило лето, начались те чудовищные дожди. Был конец июня, а может, начало июля; пшеница только-только стала наливать колос, только начали белеть абрикосы; еще не косили траву, еще не собирали коконы. И вдруг зарядили дожди. Да какие! Все вокруг залило водой. Вода стояла выше травы; посевы в поле, пырей в садах, клевер, огородные грядки — все было скрыто под водой. Баштан сплошь залило водой — родники превратились в реки, а река вышла из русла, разрушила переправы и небольшие мосты, вода в ней неслась с ревом, вода ревела денно и нощно, и от рева ее глохли уши. Фрукты стали невкусными, клеклыми — одна вода. Пчелы набрасывались на фрукты, на хлеб, даже на брынзу и на огурцы. За всю историю Айлиса никто не помнил такого. У людей уже лопалось терпение. Сидеть под крышей, сознавая собственную беспомощность, было невыносимо; все стали злые, желчные и только ждали случая схватиться, обругать друг друга... «Продырявилось небо!» — говорили люди. Да что небо — господа бога уже не боялись задеть. «Понос прохватил всевышнего!» — говорили в деревне. Дожди эти, начавшись не то в конце июня, не то в начале июля, не прекращались до середины августа. К вечеру иногда вдруг прояснялось, иной раз и днем на часок выглядывало солнце, потом все начиналось сначала. Но странное дело: пшеница вызрела. И горох налился, поспел. Но дожди не давали возможности ни сжать пшеницу, ни убрать горох, и для руководителей колхоза это могло иметь весьма печальные последствия. Председатель Шахсувар то и дело мотался в район или звонил туда по телефону. Каждые два-три дня он привозил из района людей, показывал им покосы, пшеницу, баштаны и, накормив досыта, провожал обратно. Тем не менее, еще июль не кончился, а в деревне уже поговаривали, что не спастись Шахсувару — посадят его, обязательно посадят. Слухи эти ходили от дома к дому, от калитки к калитке. Женщины в черных чадрах обсуждали этот вопрос, кучкой собравшись возле мечети или у чьей-либо калитки под деревом; женщины помоложе, что повязывали голову красным платком или марлевой косынкой, перешептывались, моя посуду у источника, хлопоча у тендиров или доя коров на пастбище, шептались о том, что Шахсуваром дело не кончится; и его посадят, и бригадиры все погорят — вообше все начальство: кладовщик, счетовод, учетчик, заведующий фермой может, и Мурсал-киши, хоть ему и семьдесят шесть, как-никак председатель ревизионной комиссии. "Не упоминали только «испеса» Рзу. Этот роздал в мае шелкопряда, собрал кое-как коконы, и только его и видели. Ничего еще не случилось, а мужчинам уже не было спасения от причитаний матерей, жен и сестер тех, кто попал в «список». Когда Чичек, жена бригадира Агаяра, каждый вечер причитала, оплакивая мужа, у людей дыбом вставали волосы, хотя пока что никто ему слова худого не сказал. Может, вышестоящим товарищам еще и в голову не приходило затевать против кого-либо из айлисцев судебное разбирательство, а Нубар, жена кладовщика Имана, всякий раз по дороге к источнику, сердито звякая ведрами, осыпала проклятьями и самих вышестоящих, и детей их, и внуков, и правнуков... У восьмерых дочек Мурсала-киши, председателя ревизионной комиссии, и у целой отары его внучек тоже не просыхали глаза. У матери Рамазана Бике-арвад глаза распухли от слез, плакала она тайком от людей, зато бедняге Билалу-киши, на свое несчастье, давшему согласие, чтоб сына поставили бригадиром, устраивала такое, что у него кусок не лез в горло. Мало того, Джавахир — никто еще Рамазана и пальцем не тронул — тоже словно надела траур. Рамазан как мог успокаивал мать, старался уверить ее, что во всем повинны дожди; когда такое творится, обязательно начинают что-нибудь выдумывать; но черная тень ужаса, не спеша, надвигалась на Рамазана. Каждый раз, когда он встречал Джавахир, страх таившийся где-то внутри, почему-то сразу же вылезал наружу; и Рамазан уже не сомневался, что впереди одни неприятности. Джавахир в то время было пятнадцать. Родственницей она Рамазану не доводилась, но была младшей дочкой Хилала-киши, самого близкого отцова друга. А поскольку старшие дочери Хилала-киши уже были выданы, Джавахир не сомневалась, что Рамазан, сын отцовского друга, почитавшегося им за брата, предназначен в мужья именно ей. Хилал-киши работал на току, на току он провел всю свою жизнь. Билал-киши, отец Рамазана, с ранних лет состоял при баштане. Дома приятелей построены были далеко друг от друга, но издавна, когда еще не было колхоза, угодья их находились по соседству. Дружили еще их отцы и в доказательство крепости своей дружбы дали сыновьям такие похожие имена. Но и потом, когда земли отошли колхозу, Билал и Хилал милостью божьей снова оказались соседями — ток находился возле баштана, где ему еще и находиться: и вода рядом, и дыни с арбузами; когда начиналась молотьба, Билал-киши приглядывал за током, Хилал-киши — за баштаном приятеля. Хилал-киши побывал на войне, вернулся. Что же касается Рамазанова отца, его даже в военкомат не вызывали, потому как во всей округе не было равного ему баштанщика, а руководители района, надо думать, и во время войны не меньше теперешнего умели ценить хорошие дыни и арбузы... В тот год, когда зарядили дожди, Билал-киши, как обычно, засеял для колхоза гектара четыре дынь и арбузов. Он по штучке высадил несколько мешков семян: вдоль арыков, тянувшихся через баштан, и вокруг баштана. Как обычно, посеял подсолнух, фасоль, коноплю, кукурузу. Но дело даже не в потраченных силах, а в том, что бесценные семена дрбузов и дынь, которых никогда не бывало на колхозном складе и которые люди без всякого на то указания берегут как зеницу ока, передавая из поколения в поколение, гнили теперь, залитые водой. Семена эти были самым ценным имуществом Билала-киши. Билалкиши будто лишь для того растил все эти арбузы и дыни, чтоб продлилась их жизнь, не пресекся их род. С первого дня, как арбузы и дыни начинали созревать, и до поздней осени, пока не опустеет баштан, он собирал семена, рассыпал их на солнышке возле шалаша и сушил, охраняя от птиц и зверюшек; зимой же с мешком за плечами ходил от дома к дому, собирая оставшиеся семечки. И, скорей всего, именно они, семечки от дынь и арбузов, и спасли его в свое время и от списка подлежащих раскулачиванию, и наверняка — от фашистской пули... Рамазан вспоминал, как в тот год, не глядя, ливень — не ливень, отец каждый день спозаранок отправлялся на свой баштан и как наконец потерял всякую надежду не только вырастить арбузы и дыни но даже сохранить семена. Хилал-киши загодя, еще до начала дождей, как обычно, неподалеку от баштана подготовил хорошее место для тока, собственными руками расчистил его от камней, скосил траву. Но уже через неделю скошенная трава вновь буйно поднялась, а потоки воды натащили полно камней. Можно было б, конечно, заново расчистить ток — дело не такое уж хитрое, но ведь надо, чтоб хорошенько просохла земля, а на это, самое малое, клади две недели... Пшеница к тому времени поляжет. А какая вызрела пшеница — глядишь и сердце кровью обливается. И вот наступило время, когда Шахсувару осточертело наконец названивать в район и вызывать комиссию за комиссией. Как-то вечером он собрал в клубе всю деревню. «Пусть каждый душ себя косит, — объявил он, — и пшеницу, и горох, и траву на сено... Берите, сколько управитесь, сушите, как знаете, молотите, где сумеете. Одно только — колхозу сдадите зерно на семена. А председательству моему, выходит, конец... — Он вдруг приуныл, понурился и сказал, чуть не плача: — Если есть бог на небе, видит он, я не враг народа...» Затем Шахсувар собрал колхозное начальство — счетовод, кладовщик, бригадиры, звеньевые — и повел за собой в правление. Хилал-киши и Билал-киши тоже были там. На столе горела семилинейная керосиновая лампа с дочерна закопченным стеклом (электричества в Айлисе тогда еще не было). Собирая в правление этих людей, Шахсувар имел свою цель — на крайний случай, если подопрет, иметь хоть какое-то оправдание. «Сейчас составим акт, — сказал он, — и все подпишемся... «Мы, нижеподписавшиеся... по исключительно неблагоприятным природным условиям... с целью уберечь пшеницу и другие злаки от гниения...» И так далее, и тому подобное». Акт этот под диктовку председателя левой рукой писал Микаил Иманов, самый молодой из инвалидов войны, потерявший правую руку; подписали акт все, кроме бригадира садоводов Агаяра. Теперь ливень был людям не помеха. И десяти дней не прошло — начисто скосили пшеницу. (Не шуточное дело, изголодались в военные годы!) Убрали горох до последней травиночки, на колхозных покосах каждый накосил себе вволю сена и клевера. Хотя в тот год коровам и курам, может, и досталось зерна побольше обычного, но ни единый сноп пшеницы не пропал даром: пшеницу, сжатую на колхозных полях, рассыпали дома на айванах, в коридорах, даже в комнатах — на полу, под паласами — и прямо на колосьях спали. Разводили костры возле скирды, посреди лета топили в домах печи; дыханием своим, телом своим отогревали пшеницу, жаром сердец своих сушили ее; обмолотили, провеяли и, довольные, денно и нощно поминая в молитвах Шахсуварова отца и деда, и прадеда, ссыпали в мешки. Но, когда пришла пора отдать часть зерна на семена, они, те же самые люди, того же самого Шахсувара единогласно послали подальше!.. Никто не пожелал отнести в колхозный амбар ни килограмма из стоявших в домах мешков с зерном. Уж если что попало в дом к айлисцу, получить обратно — дело нелегкое. Сперва председатель посылал кладовщика, чтоб передал: с каждого дома причитается по пять пудов отборной семенной пшеницы, пускай несут в колхозный амбар. Три дня подождали, ни один мешок в амбаре не появился. Председатель решил пойти на уступку, скостил два пуда — теперь из каждого дома надо было сдать три пуда зерна, — но и тут ничего не вышло. Тогда они целой толпой — председатель, кладовщик, счетовод и бригадиры — сами пошли по домам: уговаривали, убеждали, доказывали, просили... Они обходили по много домов в день, кое-где им просто не отворяли дверь, а те, что отворяли, твердили, как сговорились: «Чего вы зря стараетесь? Все равно всем вам в тюрьме сидеть». А что они такого сделали? Рамазан никак не мог взять этого в толк. «Лучше бы вам с голоду сдохнуть!.. — негодовал Шахсувар. — Я-то, дурак, надумал их хлебом кор- мить... Да ведь, если теперь посадят, выходит, вы посадили! Собственными руками!» А всем уже плевать было на Шахсувара. «Мы-то тут при чем, председатель?.. Кому положено сажать, дело свое лучше нас знает», — так прямо в лицо и говорили. У Шахсувара не было уже сил ни спорить, ни доказывать, ни ругаться, и слов у него уже никаких не осталось, кроме привезенных с войны: «Мать твою!..» Жена Шахсувара Гюльдесте после бесконечных ссор и схваток с айлисскими женщинами больше не говорила с теми, кто загодя отправил ее мужа в тюрьму она вообще теперь ни с кем не разговаривала, не отвечала даже, когда здоровались; а чтоб никто не знал, что дома она только и знает, что плакать, Гюльдесте, выходя на улицу, на самые глаза опускала свой белый крепдешиновый платок. Всеми правдами и неправдами добились — семена были засыпаны в колхозный амбар. Только это еще ничего не значило — план-то ни на процент не выполнили, ни центнера государству не сдали. Как только дожди стали пореже, в Айлис нагрянула новая комиссия. Эту новую комиссию Шахсувар не вызывал, явилась без его ведома. Комиссия была, похоже, из самых что ни на есть «верхов». Полей они не осматривали, обстоятельства дела не выясняли. Вызвали несколько человек, пошушукались о чем-то и уехали. У председателя стакана чаю не выпили, а ведь до той поры ни одной комиссии не было, чтобы обошла стороной дом председателя Шахсувара. В середине августа, когда дожди прекратились, в Айлис понаехало пропасть начальства: и из милиции, и из прокуратуры, и из оайкома комсомола, и еще каких-то учреждений, дотоле даже не слыханных в Айлисе. И поскольку Шахсувар и этим людям без конца повторял «Матьтвою!», то именно в те дни и получил свое прозвище: «Ох, и разозлился Шахсувар, «Матьтвою!..», «Матьтвою у правления пса привязал — настоящая тигра!..» Потом стали поговаривать, что Шахсувар вроде бы того... спятил... Может, Шахсувар нарочно прикинулся малахольным, чтоб не попасть в тюрьму. Но малахольный, не малахольный, а только такое стал нести про себя — прямо глаза на лоб. Ну, например, будто ему каждый вечер «испесално» — это слово он говорил по-русски — звонит из Кремля товарищ Сталин, справляется о самочувствии его матери, столетней бабушки Шаисте, который год уже не встающей с постели; голуби, обитающие на крыше колхозного амбара, превращались у Шахсувара в «японских солдат», они по очереди с автоматами на груди несли караул перед амбаром и, перешептываясь на своем, японском языке, сговаривались, чтоб, как только Шахсувар появится поблизости, схватить его, утащить в амбар и заточить там пожизненно. Кроме этих голубей-японцев еще и Гитлер покоя не давал Шахсувару: Гитлера этого нарочно подослали с того света, чтоб во что бы то ни стало сыскал Шахсувара и сунул бы его в Германии за колючую проволоку; теперь эта сука Гитлер каждую ночь торчит на минарете айлисской мечети с биноклем в руках — у него там оборудован постоянный пост наблюдения, — только Шахсувар не такой идиот, чтоб попасться на гитлеровский ржавый крючок, он из этого «консулагеря» в войну-то чуть живым вырвался... Как обстояло в дальнейшем с ночными приключениями Шахсувара, Рамазан точных сведений не имел. В одну из темных, безлунных ночей перепуганный насмерть Хилалкиши вместе с Джавахир явился к ним в дом. Видимо, с Билалом-киши у них уже раньше было договорено, как уберечь Рамазана от тюрьмы. В ту ночь они приняли окончательное решение: пока суд да дело, Рамазан должен спрятаться у Хилала-киши в сарае за сеном, а в деревне надо пустить слух, что сбежал, мол, в Баку, в Тифлис, в Ереван — мало ли городов на свете; главное, подальше от здешних дел, а там видно будет, бог не без милости. И Рамазан послушался. В такие годы сидеть в тюрьме хуже смерти, а уж если такой человек, как Шахсувар — войну прошел, — от страха перед тюрьмой прикинулся сумасшедшим, почему парень, спасая свою молодую жизнь, не мог убежать в Баку, в Тифлис, в Ереван, в любой большой город... В ту же ночь, для осторожности пустив вперед дядю Хилала и Джавахир, Рамазан прокрался вслед за ними. Явился и видит, место ему готово — за снопами сена, наваленными друг на. друга, устроено логово: внизу на метр настелили соломы, прикрыли ее вполне приличным ковриком, в нише стоял фонарь в железной сетке с плоской железной ручкой, фонарь этот Хилал-киши всегда имел при себе, ночуя на току или в темноте поливая землю, фитиль был опущен до отказа и еле тлел. Под самой крышей баджа — небольшое окошко без стекла. Хилал-киши закрыл его, положив один на другой пяток кирпичей; тоска одолеет, станет невмоготу, отложи кирпичи, да и выгляни, сказал он Рамазану. — Вот так, сынок, с этой ночи нету тебя в наших местах. Сбежал. А где, куда, никому не ведомо... Джавахир к тебе захаживать будет: чайку принесет, поесть чего... Ее честь — твоя честь. Не чья-нибудь, твоя нареченная. Очень может быть, что Джавахир и стала бы его судьбой. Но не стала, стала судьбой учетчика Микаила. Теперь, в пятьдесят лет, особенно когда между ним и Розой все заметнее ощущался холодок, Рамазан часто подумывал об этом. Тогда Джавахир была для него лишь одной из красивых девушек, каких немало в деревне. Днем они чувствовали себя, как брат с сестрой. Зато ночью, когда Рамазан лежал, растянувшись на своем мягком ложе при слабом свете фонаря, один бог знает, как хотелось ему, чтоб Джавахир оказалась тут, рядом с ним, на соломе... А когда наступало утро и девушка приходила, он не смел поднять головы, не смел взглянуть на нее. А Джавахир так и цвела, наверное, в те дни она была самой счастливой девушкой в Айлисе; казалось, всю свою недолгую жизнь только и ждала, когда сможет подавать ему чай, приносить еду — с утра до вечера бабочкой порхать, всячески угождая Рамазану... ...Ровно семнадцать дней и ночей прятался он в сарае дяди Хилала. Джавахир таскала ему из библиотеки книги: «Отверженные», «Меч и перо», «Манифест молодого человека...». Но читать не хватало терпения; большей частью Рамазан спал; отоспавшись, осторожно сдвигал в сторону кирпичи и, высунув в отверстие голову, с тоской глядел на горы, на овечьи отары, пасущиеся по склонам, на приткнувшийся у айлисских гор райцентр, вокзал, на дороги, ведущие в города. После тех бесконечных дождей Айлис было не узнать, будто весна, лето, осень — все смешалось. Глядишь на листву, на траву — весна, да еще самая ранняя; склоны гор, днем ярко-красные в лучах солнца, вечером погасшие, серые, свидетельствовали о том, что стоит лето, а о наступлении осени давали знать стаи серых птиц — птицы прилетали к ним осенью. Рамазан не видел, как на заходе солнца эти веселые птицы, которые в тот год прилетели вроде раньше обычного, взмывают в небо, парят там, почти не взмахивая крыльями. Но Рамазан знал, что эти странные птицы, ежегодно на месяц-два прилетающие в Айлис, словно для того, чтоб справить здесь какойто свой праздник, сейчас, под вечер опять поднялись в небо; знал, что чистая-пречистая айлисская речка опять течет, как текла, что дни, полные яркого света, и вечера под прозрачным небом — все это есть, существует... И, лишь сознавая это, он был способен сколько понадобится оставаться здесь: неделю, две, месяц, два месяца, пока все не уляжется. Даже умывался, не выходя наружу. Джавахир приносила ему воды, а когда он в сумерках выходил по нужде, напяливал папаху хозяина, накидывал его шубу, чтобы, если глядеть с улицы, признали бы за Хилала-киши. Только всю жизнь в сарае не просидишь. Кроме того, Чичек, жена бригадира Агаяра, уже пустила слушок, что никуда, мол, Рамазан не уехал и уезжать не собирался, тут он, в деревне... И однажды Джавахир, придя с пастбища, где доила козу, принесла совсем уж плохую весть: жена кладовщика Имана, поглядев на козье вымя, сказала: хитрюга ты, Джавахир, у животины-то брюхо к хребту прилипло, не иначе два здоровых мужика ее сосут... А поскольку в доме у них, кроме Хилала-киши, других мужиков не водилось, намек был яснее ясного. И в тот же вечер пришли они к такому решению: надо Рамазану уходить, потому что заберут, как пить дать, заберут. Да это еще полбеды, сможет ли он людям в глаза смотреть, если семнадцать дней в сарае сидел, от них таился? А у него как-никак в Баку родня — брат матери Бахрам, Рамазан некоторое время поживет у него; по представлениям айлисцев, ничего проще и быть не может. Страх, пережитый в ту ночь, когда Рамазан уходил из Айлиса, ему не избыть, живи он хоть сто лет. Горные дороги, по которым никогда раньше не ходил в ночное время, уханье сов и звезды, бесчисленные звезды, сверкающие во тьме, как глаза этих сов... Хорошо хоть Черный был рядом — пес, много лет охранявший ночами баштан Билала-киши. Если Рамазан благополучно доберется до станции, он должен привязать псу на шею веревочку... Перевалив через последнюю гору, завидев вдалеке белеющие в лунном свете рельсы железной дороги, Рамазан привязал ему на шею веревочку и крепко затянул узелок. «Иди, Черный, — сказал он. — Иди домой...» И Черный тотчас сорвался с места и умчался, как ветер. Когда пес скрылся за перевалом, Рамазан впервые в жизни увидел настоящее лицо одиночества, мертвенно-серое, бескровное, безнадежное... Может быть, именно с той минуты, с того момента, когда пес скрылся за перевалом, и остался он одинодинешенек на свете, хотя дома была семья, на работе — товарищи, в институте — приятели-однокурсники... Теперь, когда ему почти пятьдесят и он, пытаясь осмыслить свою жизнь, вспоминает ту жуткую совино-звездную ночь, ему часто приходит в голову, что не надо было бежать из Айлиса, хотя совершенно ясно, что, останься он в деревне, как миленький отсидел бы года четыре: за то, что бригадир, и за то, что подписал акт, продиктованный Шахсуваром учетчику Микаилу. В ту осень, в октябре месяце, выездная сессия суда, три дня заседавшая в айлисском клубе, приговорила к шести годам лишения свободы председателя Шахсувара; посадили и счетовода, и кладовщика, и даже Агаяра, не подписавшего акт, — бригадир; Мурсала-киши, учитывая его преклонный возраст, присудили к принудработам, и лишь однорукий учетчик Микаил Иманов, как инвалид войны, благополучно избежал наказания. Когда слух об этом суде достиг Баку, дядя Бахрам и его русская жена, которую он привез с фронта, радовались, что Рамазан не попал в тюрьму, но сам он, странное дело, совсем не испытывал радости; той ночью, когда, выйдя из темноты ущелья, он простился с собакой и пошел вдоль сверкающих под звездным небом рельсов, впервые в жизни воочию увидев серое лицо одиночества, он, как потом оказалось, навсегда утратил способность радоваться. В Баку он с помощью дяди Бахрама устроился на нефтепромыслы в Сабунчах, назывался оператором, а работа его заключалась в том, чтоб восемь часов — когда днем, когда ночью — прохаживаться меж нефтяными вышками. В то время он уже снял каморку у сабунчинца дяди Мустафы. Было очень далеко еще и до Розы, и до разговора о деревянной кровати, которую он, не посоветовавшись с женой, приволок в их комнатушку из мебельного магазина. Саиды еще на свете не было; о рождении сестры он узнал из письма Джавахир, когда, проработав год на промыслах, зачислен был в институт. Рамазану приятно было сознавать, что теперь у них в доме, кроме брата Хабиба, появился еще один маленький человечек. Сколько же лет прошло с той поры!.. И подумать только: за все эти годы не запомнилось ему ни настоящей радости, ни сильного огорчения, способного потрясти душу. И, если б эта тревога, тревога за сестру, с начала весны не дававшая ему покоя, не овладела всем его существом, может, и это чувство закаменело бы где-нибудь в глубине его души, не подавая признаков жизни... IV Удельный вес пустоты После того как тетя Доста ушла, все ощутили какую-то странную давящую тяжесть. Трудно сказать, очень ли в том была повинна тетя Доста, скорее всего, и не явись она, не заведи свой разговор, все равно получилось бы так — в самом воздухе этого утра не могла не возникнуть напряженность. Шутка ли, больше десяти лет не сидели они вот так друг против друга: ни Рамазан не показывался в деревне, ни Хабиб не бывал у него в Баку... И Роза... Почему она не приехала?.. То, что жена Рамазана не приехала с ним, несомненно, задело и Пакизу, и Хабиба. Рамазан и Саида, понимая это, ощущали неловкость и молчали. Обсуждать причину, по которой не приехала его жена, Рамазану не доставило бы удовольствия, но было ясно, что от разговора не уйти. Хуже того: обходить стороной это важное для всей семьи обстоятельство значило бы разрушить атмосферу искренности и сердечности, издавна свойственную этому дому, атмосферу, которой в равной степени дорожили вое присутствующие. Хабиб все искал подходящие слова, чтобы заговорить о Розе. Рамазан ждал, когда это у брата получится. Мехти с его чуткостью еще с вечера ощутил неблагополучие и, прекрасно понимая, почему отец помалкивает, сидел, испуганно сжавшись; Лейли же крутилась на стуле, ковыряла пол мыском босоножки, царапала ногтем скатерть. Пакиза и Саида поглядывали друг на друга и невесело улыбались. — Ну что вы? Ну пойдем же! Пойдем, тетя Саида! — Вскочив вдруг, девочка бросилась Саиде на шею, и ее звонкий голосок, в котором уже слышались слезы досады, вроде бы всколыхнул застывший от напряжения воздух. — Идите пока с Мехти, — сказала девочке Пакиза. — Потом с тетей Саидой в сад сходите. Переглянувшись, дети бросились к калитке. Пакиза и Саида ушли в дом. И, лишь когда братья остались одни, Хабиб наконец, спросил: — Розу что, правда, не отпустили? — Если б очень хотела, отпустили бы, — не глядя на брата, сказал Рамазан. — Я особо не настаивал. Видел, не больно ее сюда тянет. — Так она совсем не приедет? Чего ж она там будет делать в жарищу? — А ничего... На работу и обратно домой. — Почувствовав вдруг, что на этом можно и закончить неприятный разговор, Рамазан с облегчением поднялся из-за стола. — Да ты не волнуйся. Ничего серьезного... Так... Может, пойдем пройдемся, а? — Куда пройдемся? — Ну... По деревне... Людей повидаю. — Кого ж ты сейчас в деревне найдешь? На работе все. — Кажется, Хабибу не очень-то хотелось выходить из дому. — Куда сейчас денешься? Странное дело: только что Рамазану казалось, что пойти можно в тысячу мест. Ну, например, туда, где прежде был отцовский баштан, ток дяди Хилала... Или дойти вверх по речке до самой мельницы, а нет, так вниз, до самых садов; посидели бы где-нибудь в теньке под ивой, подышали бы в свое удовольствие... Но стоило Хабибу произнести: «Куда сейчас денешься?» — все, что Рамазан только что так живо представлял себе, словно исчезло с лица земли. Последнее время у Рамазана часто случались такие перепады настроения. Но дело не в этом. Дело в том, что ни той мельницы, ни тех садов, ни тенистых ив над рекой теперь действительно не существовало. На месте, где отец выращивал когда-то свои знаменитые дыни и арбузы, арыки давно пересохли и по этой причине наверняка не рос даже репейник. Больше двадцати лет в Айлисе не сеяли пшеницу — какой может быть ток? А ивы, росшие над рекой, давно уже свели на дрова. Утопающий в зелени Айлис с его обильными родниками, где выращивали пшеницу, дыни, арбузы, фрукты, числился теперь плодоводческим совхозом. Старые сады, что рядом с деревней, были заброшены, а подальше, на склонах гор, где веками паслись овечьи отары заложены были новые сады — виноградники. Но беда в том, что каждые три-четыре года морозы под корень сжигают лозу. И все начинается сначала — на месте засохшей лозы сажают новую. И словно все в порядке, словно так и быть должно. Со стороны глядя, людям даже и выгодно: урожай, не урожай, все при деле, зарплата от государства идет. Будто в том только цель, чтоб зарплату эту получить, а будет, не будет прок от работы, уже не твоя забота. Один бог знает, кому пришло в голову закладывать виноградники в Айлисе, где в разгар зимы редко когда не трещат морозы. И вот ведь какая глупость: никто не осмелился возразить, мол, бессмысленное это занятие. Словом, деревня сейчас другая, совсем не похожая на ту, где Рамазан когда-то работал бригадиром. Что деревня теперь не та, он понял, еще когда приезжал за Саидой. Но что делать, если человек жив еще и памятью своей. А в памяти Рамазана деревня была прежняя: те же сады, тот же ток, баштан; та же речка, бегущая в тени развесистых ив... И теперь, когда Рамазан осознал вдруг, что от всего этого в Айлисе осталось одно пустое место, в сердце у него тоже вдруг стало пусто. Идти уже никуда не хотелось. — Что, скучать начинаешь? — спросил Хабиб, потому что внезапное изменение душевного настроя изменило и лицо Рамазана. — Да нет, чего же скучать?.. — Подняв голову, Рамазан стал разглядывать листву черешни; листья были такие сочные, такие зеленые, что, казалось, вот-вот закапает сок. Небо, проглядывавшее сквозь листву, было и не небо вовсе, а что-то другое, будто море перевернули вверх дном и водрузили туда, наверх, только вода была не морская, а родниковая, и не из обычного, а из самого чистого, самого прозрачного родника, — Кажется, недавно дожди были... — Рамазан оторвал наконец глаза от неба. — Да, были, сильные были дожди. Но вряд ли еще будут. — Хабиб почему-то улыбнулся. — Как там Шахсувар-киши? Жив-здоров? — А чего ему делается? — Так ведь небось за семьдесят? — А что ему семьдесят лет? Он до ста доживет, не охнет. — Работает где-нибудь? Хабиб удивленно взглянул на Рамазана. — Кто это сейчас в семьдесят работает? Сейчас люди сорока лет мечтать начинают, как бы на пенсию выйти да дома засесть. У каждого какое-нибудь хозяйство. А Шахсувар — не хуже меня знаешь — с хозяйством управляться умеет. — Что ж, дай ему бог, — сказал Рамазан, но опять холодная тень, скользнув, коснулась сердца — последние несколько месяцев она частенько касалась его души, черная тень давних туч. Воспоминание о том, что он прятался в сарае, все чаще и чаще донимало его. И каждый раз внутри что-то рушилось — ничего нет страшнее руин, тех, что в душе человека. А теперь, в последние месяцы, в руинах тех словно бы обосновалась сова, чтобы уханьем, завываниями своими напоминать ему, что он сам разрушил свою жизнь. Он понимал, что мог бы и не разрушить ее. И нужно-то было всего ничего — безмолвно и безропотно вынести испытание дождями. Чтоб черные тучи, дождем разразившиеся над его головой, ушли потом раз и навсегда, надо было лишь не бояться тюрьмы, надо было помнить, что после любых самых тяжелых, самых густых туч небо все равно очищается. И лишь потому, что у него не хватило терпения ждать, пока очистится небо, он с того лета уже ни разу в жизни не видел его по-настоящему ясным. Не нужно было ему идти в инженеры. Ему нужна была жизнь такая, как, скажем, у Шахсувара, жизнь обыкновенного крестьянина со всеми ее радостями и огорчениями. Во всяком случае, сейчас холодная тень снова скользнула по сердцу. — Шахсувар не хуже других живет. Овец держит. Корову. Круглый год фруктами из своего сада торгует. Рамазан привез с собой семьсот рублей — целый год откладывал из зарплаты. Думал, приеду, отдам Хабибу: если Саида останется в деревне, неплохо для начала помочь им деньгами. Сейчас он подумал: а что если на эти деньги купить корову? — А может, и нам корову купить? — спросил Рамазан. — Корову? — Кажется, Хабиб не совсем понял брата. — Они сейчас очень дорогие. — Ну, а все-таки? — Хорошая — тысячи полторы. Бывают и по две тысячи. — Такие дела?! — Больше Рамазан ничего не сказал, умолк, будто, кроме коровы, говорить не о чем. Он даже не столько поражен был ценой (хотя не помнил, чтоб корова стоила в Айлисе дороже пяти тысяч, на нынешние деньги — пятьсот), сколько тем, что так отстал от жизни. Роза давно уже твердит ему: ты отстал, безнадежно отстал от жизни. И Лейли последнее время частенько повторяет ее слова: «Ты слишком отстал от жизни, папа». Он как-то не обращал внимания и лишь сейчас мало-помалу убеждался, что так оно и есть — отстал. — Значит, учителю не по карману иметь корову? — заметил он после долгого молчания. — А инженеру? — Хабиб криво усмехнулся и почему-то вспомнил вдруг, что должен поехать в район. — Не хочешь со мной? Газ кончился, надо баллон сменить. А то не надо, отдыхай, к обеду вернусь. Взял баллон и ушел, и вид у него был такой, будто не газа в баллоне — в атмосфере этого дома не стало сейчас чего-то такого, что срочно необходимо добыть. Так, во всяком случае, показалось Рамазану, потому что ему и впрямь давно уже не хватало чего-то в воздухе, он все пытался определить, назвать это «что-то», но всякий раз, когда вроде бы был близок к разгадке, внимание его рассеивалось; словно для того, чтобы по-настоящему осмыслить, чего именно ему не хватает, то ли в воздухе, то ли в нем самом явно недоставало ясности. Тоска по этой непостижимой ясности давно уже жила в Рамазане. Там, в Баку казалось, что ясность эту он найдет тут, в Айлисе. Но и в прозрачном айлисском небе не было сейчас ясности, по которой он так истосковался... И потом еще эти цикады... И непонятно было, сейчас только завели они свою невыносимую трескотню или только сейчас она стала невыносимой. Во всяком случае, он обратил внимание на цикад, как только ушел Хабиб, и ему казалось, что, не будь этого немолчного стрекота, он, может быть, и достиг бы желанной ясности, и не просто достиг — набрал бы ее полные пригоршни и пил бы, пил, как изжаждавшийся пьет родниковую воду… Рамазан встал и начал прохаживаться по двору. Двор был небольшой, вытянутый; метров сто в длину, в ширину — не более десяти. В Айлисе не было заведено иметь много земли при доме, потому что с незапамятных времен место, где стояли дома, было лишь местом зимовки. Угодья айлисцев всегда располагались за околицей. И от последнего дома до самых гор все утопало в зелени садов. Когда-то сады были частным владением, потом отошли колхозу, а теперь, можно сказать, и вовсе бесхозные; кто смел, тот и съел... Рамазан плохо помнил то время, когда сады были в частном пользовании и летом все жили в саду, но и тогда, когда сады стали собственностью колхоза, баштан, на котором самолично управлялся Билал-киши, был в этом смысле их прибежищем. С начала весны и до поздней осени. И долгие годы — с начала весны и до поздней осени — Рамазан не замечал, как проходят дни. Наверное, это и есть жизнь: каждое мгновение знать, видеть, как поднимается травинка, как вытягивается крошечный росточек арбузной плети, душою и телом ощущать тепло солнца и прохладу луны, понимать, отчего так радостно запела птица, знать, по какой необходимости без устали и с превеликой осторожностью волочит зерно муравей. Все это осязать, чувствовать, замечать и не ощущать лишь одного — как проходит время… ...Нет, сидеть тут без дела настоящая мука. Это тебе не Нальчик, в Нальчике безделье и есть главное дело, тысячи людей только этим и заняты. В Айлисе этот вариант не подойдет. Здесь, чтобы время шло, человек постоянно должен быть при деле. А у него впереди целых двадцать дней.... Опять вспомнился отцовский баштан. Существуй он сейчас, Рамазан нашел бы себе занятие: днем окучивал бы арбузы и дыни, обрывал бы листву на подсолнухах, обламывал кукурузные початки, пропалывал горох, фасоль, растущие вдоль арыков, а вечером при свете луны пускал бы на баштан воду. Всю эту науку Рамазан в свое время перенял от отца, и, останься в Айлисе хоть какое-то подобие баштана, даже теперь, пожалуй, не сыскали бы для него более умелого баштанщика. — Гектар, полтора гектара! — Рамазан говорил вслух, обращаясь неизвестно к кому. — Любой, какой угодно земли!.. Нет родника, пускай речушка шириной с лопату... Главное, чтоб вода, чтоб текла, текла без перерыва — и днем, и ночью. Без воды нельзя, она должна быть рядом, и неважно, есть сейчас нужда поливать или нет, баштанщик должен быть спокоен за воду. И не только баштанщик, арбузная плеть, плеть дыни, пьет, не пьет она сейчас воду, всегда должна слышать ее журчание, иначе плети могут засохнуть от тоски по воде и не будут ни цвести, ни плодоносить. Если растение не будет ощущать близость воды, у него, у этой тоненькой плети может не хватать сил, чтобы вырастить, удержать на себе огромные пудовые плоды... Не хватит, товарищи, не хватит... — Рамазан в изумлении несколько раз повторил эти слова. Он сам не понимал, чему изумлялся: огромности и великолепию дынь и арбузов, росших когда-то на отцовском: баштане и на всю жизнь запавших ему в память, или содрогнулся при мысли о непостижимой силе, таившейся в таких слабых на вид, тоненьких, как бечевки, арбузных плетях?.. Может, это она, почти недоступная для понимания, но реально существующая сила давала ему надежду когда-нибудь обрести и собственную свою силу, и жизнестойкость, возродившуюся из небытия? Во всяком случае, между тонкими стеблями, способными взрастить огромные арбузы и дыни лишь потому, что они чувствуют над собой солнце, а рядом воду, между ними и Рамазаном раньше существовала какая-то сходность — сейчас Рамазан отчетливо ощущал это. Он уже видел воду, бегущую по полям на баштан. Она бежит из речки Айлис, бежит, веселя душу чистотой и прозрачностью, а вдоль арыка трава, зеленая-презеленая; и фиалки цветут, и мята, мальва, козлятник, тысячелистник... Арык тянется посреди баштана, и, насколько хватает глаз, сверкает вода, чуть отливая то в зелень, то в желтизну, потому что вдоль арыка стоит молодая кукуруза и только что расцветшие подсолнухи клонят к воде свои тяжелые светло-желтые головы... Фасоль, помидоры в красно-белом цвету. Гроздья перца на коротких стебельках крохотные, с цветок фасоли, но такие, что хочется сорвать их и сжевать прямо с листвой, со стеблем... Гектар, полтора гектара айлисской земли — это целый мир, совершенно особый мир. Вода тут своя, особая, и солнечный свет особый. А плети арбузов и дынь, спокойно зреющие на этой серой земле, такие сочные, такие живые, в самое нутро земли, словно ястреб когти, запустили они свои корни; кажется, вспугни их — шевельнутся и взмоют ввысь... В мыслях своих Рамазан рыл арыки, выхаживал арбузы и дыни. Он как бы пытался тем самым обмануть время, сбить его с толку. И, как ни удивительно, ему это удавалось. Вода, что текла из речки в арык, словно струилась сквозь него. Каждый цветок, каждая травинка, которую он мысленно вырастил, прибавляла на земле света, рождая совсем новые, небывалые краски. Тот баштан — с его солнцем, — подсолнухами и плетьми арбузов и дынь, заполнял зияющую пустоту в душе Рамазана. Оказывается, удельный вес времени, его содержимое соответствуют удельному весу пустоты, образовавшейся в человеке... Удельный вес пустоты — мысль эта, неожиданно пришедшая в голову, озадачила Рамазана. Вроде бы нет в физике такого понятия «удельный вес пустоты»... «Удельный вес пустоты измеряется количеством недвижно прошедшего времени, — Рамазан попытался уточнить свою мысль, но уточнение не удовлетворило его. — Недвижно... Недвижно прошедшее время... Нет, время не может проходить недвижно, ибо оно само движение. Может быть, «бесследно» прошедшее... Удельный вес пустоты равен количеству бесплодно потраченного времени... — Он вдруг обрадовался. — Пустота, то есть вакуум», — сказал он. В памяти сразу же возникло много раз слышанное на лекциях и потому запомнившееся «вакуум-насос», «вакуум-пресс», «вакуум-фильтр»... Нет, тут речь не об этом вакууме. Вакуум как физическое явление не может быть связан с понятием «время», потому что понятие «время» связано лишь с человеком, с его сознанием и бытием; ничто в мире, кроме человека, не соединено так конкретно и так органично со временем. Короче, только для человека время может быть «бесплодным» или «небесплодным», полезным или бесполезным, потому что сознание свойственно только человеку и то, что называется «время», наличествует лишь благодаря наличию сознания... И если сознание хотя бы в данном его конкретном проявлении можно считать моральной, нравственной категорией, значит, и время — категория моральная, а не материальная. Удельный вес пустоты измеряется временем, проведенным впустую. Но тогда как же «вес»? Разве вес может быть не материальным?.. Рамазан ходил и размышлял, а вода из речки, весело журча, по-прежнему текла по арыку на баштане. И желтые отсветы подсолнухов так же ложились на воду, в мире по-прежнему был еще один, особый мир; его воздух, свет, цвета по-прежнему с легкостью заполняли пустоту в душе Рамазана. «Удельный вес пустоты измеряется количеством силы и времени, затраченным на дело, которое не по душе...». Это, последнее заключение понравилось Рамазану, потому что в таком случае материальное и моральное легко, органично совмещались и сама пустота в данном случае и материальный вес, способный наполнить ее, превращались в реальную силу. Значит, пустоту возможно заполнить... Мысль эта так обрадовала, так воодушевила Рамазана, что он вдруг реально ощутил свою силу. Выходит, пустота, которую он так давно ощущает в себе, существует лишь потому, что он давно уже не радовался воде, текущей по арыкам из той речушки, не вырастил ни единой травинки, без него светился желтизной подсолнух, набухали на тонких стеблях арбузы и дыни; а раз так, значит, пустота, сосущая, изнуряющая его, тоже что-то земное, здешнее, а не результат его безысходной духовной немощи. Если бы в то лето, испугавшись тюрьмы, Рамазан не сбежал в Баку, ему, проживи он хоть сто лет, в голову никогда бы не пришло, что нечто, называемое «пустотой», тоже может занимать «место» в этой странной, полной загадок жизни. Твердо убедившись, что все, что он потерял, он потерял именно тогда и именно от страха перед тюрьмой, и чуть было не закричав от горечи своего открытия, Рамазан вскоре снова вернулся в состояние полной апатии. Снова все вокруг заполонил ни на секунду не замолкающий стрекот цикад, невыносимый в своем беспощадном однообразии. И Рамазан подумал о том, почему эти звуки, без которых нельзя представить себе деревенский полдень, так мучают его сейчас, почему они так невыносимы, может, и тут повинны дожди — то черное лето?.. Может, в то лето из-за больших дождей цикад в деревне было больше обычного и, когда после окончания ливней они с Шахсуваром ходили по домам, вымаливая зерно на семена, именно немолчный треск цикад сделал всех настолько глухими, что люди в деревне уже по одной этой причине не способны были слышать друг друга... Если бы люди смогли тогда услыхать друг друга, может, и не страшны были бы им те дожди. И очень даже возможно, что, если бы люди смогли тогда услыхать друг друга, гнев тех, кто сидел за большими столами в районе, в Баку и еще дальше, не мог бы сделать воздух в Айлисе таким беспросветно-черным... И в Айлисе был бы баштан. И на току по сей день обмолачивали бы пшеницу. И Рамазан, может быть, не лишился бы родного дома. Ведь, если подумать, так ли уж нужен он был тем нефтяным вышкам и была ли необходимость пять лет учиться на инженера... Дни и часы в эти пять лет были похожи на формулы и уравнения на темно-серой доске в аудитории и так быстро стирались, превращаясь в белую пыль; во всех тех формулах и уравнениях не было, по твердому убеждению Рамазана, и частицы той природной силы, той необходимой для жизни на земле основательности, что заключена в одной лишь арбузной плети на отцовском баштане. Год, проведенный на промыслах, когда он охранял нефтяные вышки, по сравнению с пятью годами учебы был для него все же жизнью хотя бы потому, что в памяти сохранилась широкая степь — на ней разбросаны были нефтяные вышки. Во всяком случае, густые, темные ночи этого года под широким простором неба, под мерцающими звездами наполняли его сердце не только страхом, но и сладким трепетом надежды. Он и Мустафа-киши обслуживали около двухсот пятидесяти вышек, работающих и «мертвых», расположенных в широкой степи между поселками Забрат и Сабунчи. Поскольку днем Мустафа-киши трудился в другом месте да еще занят был собственным хозяйством, то дежурил он большей частью ночью. Они ставили чайничек и часами просиживали, ведя неспешные беседы. Дядя Бахрам тоже иной раз наведывался к ним на огонек. Бахрам, вскоре после войны приехавший с Украины в звании майора и поселившийся под Баку, в Сабунчах, жену свою, медицинскую сестру, устроил в тамошнюю больницу, а сам поступил туда заместителем главного врача по хозчасти. Мустафа-киши работал в той же больнице на бельевом складе, но работа его не обременяла. Два раза в день мимоходом заглянуть в палаты, принять грязные простыни, наволочки, полотенца и выдать вместо них чистые. Остальное время Мустафа-киши возился в саду. Когда-то у него был в Сабунчах прекрасный дом с садом, доставшийся от отца и деда. Года за два до войны дом этот вместе со всем кварталом снесли «в соответствии с планом». О тех пор Мустафакиши оказался в «казенном», как он выражался, доме. У него была просторная квартира с высокими потолками в трехэтажном каменном доме, расположенном в самом лучшем месте. Но, хотя и место было хорошее, и дом каменный, и потолки в комнатах высокие, Мустафа-киши — тут уж ничего не поделаешь! — не хотел умирать в «казенном» доме. И вот однажды, ни у кого не спрашивая разрешения, он на свой страх и риск далеко за поселком, на пустыре занял кусок земли, и пока что, скоро четыре года, никто не мешал ему хозяйничать. Он посадил там гранатовые деревья, абрикосы, виноград, инжир; большинство деревьев уже плодоносило. Один бог знает, каким путем Мустафа-киши провел себе на «дачу» воду, электричество, газ. Там же у него стояла хибарка, и Рамазан, прожив первые месяца полтора у Бахрама, остальное время, пока, поступив в институт, не получил общежития, обитал в этой самой хибарке. Здесь Рамазану было куда просторней, чем потом в общежитии. К сожалению, Рамазан не имел возможности видеться с дядей Бахрамом так часто, как ему хотелось. Во-первых, учиться было трудно — мучили чертежи, — и ездить в Сабунчи не хватало времени. Что касается самого дяди Бахрама, тот не переносил толчеи и езду в электричке считал чистой мукой; так и получалось, что они не встречались месяцами. У Бахрама было много привлекательных черт. Но такого жизнелюбия, такой неподдельной веселости Рамазан не видел больше ни у кого. Всегда спокойный и ровный, прямой и решительный, он, казалось, не замечает в этом мире ничего темного, ничего неясного, и именно это его свойство, очаровывая Рамазана, сильнее всего повергало его в изумление. Бахрам был лет на пятнадцать старше Рамазана; когда тот, окончив педтехникум, пришел в айлисскую школу учителем, Рамазан, кажется, был в третьем классе. И в тот же год Бахрам, подав в военкомат заявление, добровольно ушел на фронт. Война пометила его пятью пулями, но чудо заключалось в том, что даже такая огромная война не смогла изменить в нем ровным счетом ничего. Приехав в Сабунчи, Рамазан нашел дядю Бахрама точно таким же, каким тот ушел когда-то из Айлиса, и ни разу, ни тогда, при первой встрече, ни позднее не слышал он от Бахрама слова «война». Дядя Бахрам был единственным человеком на свете, при воспоминании о котором у Рамазана веселела душа. За все эти годы Бахрам один только раз побывал в Айлисе — на похоронах своей сестры Бике-арвад. Рамазана поражало еще и то, что на Айлис, бывший для Рамазана чуть ли не землей обетованной, дядя Бахрам умел смотреть как бы со стороны, со снисходительной улыбкой. И вовсе не от высокомерия, не потому, что Айлис стал ему чужим, наоборот, Рамазан замечал в дяде Бахраме какую-то удивительную общность, даже сходство с Айлисом, тем Айлисом, что остался у него в памяти. Словно он был живым куском этого Айлиса и создан был для того, чтобы пройти полмира, вернуться и обосноваться в Сабунчах... Стоило Рамазану подумать о Бахраме, как ему — в который раз! — нестерпимо захотелось понять: почему же он сам, Рамазан, не такой, как дядя Бахрам, почему он безвольный, слабый?.. И опять Рамазан пришел к тому же выводу: это случилось с ним тогда, под теми проливными дождями... Видимо, в том и разница между ними, что Бахраму не довелось увидеть того лета. Правда, он видел войну. С первого ее дня до последнего. Но только кто знает, может, даже война не страшнее тюрьмы, от которой Рамазан спасся такой дорогой ценой. На войне хотя бы известно, кто враг твой, кто друг, и, если человек погибал на войне, он знал, за что погибает. Если б Рамазану, как Бахраму, было в то время восемнадцать, он наверняка добровольцем ушел бы на войну, но так... Почему в свои семнадцать лет он должен был оказаться в тюрьме? — Нет, дядя, я не трус! — вслух произнес Рамазан. — От врага я не стал бы прятаться. Но, поверь мне, я до сих пор все еще не понял, кто был тот враг. Может быть, именно потому мне так невесело живется на свете? А остальное все пустяки, предлог, повод для раздражения... Вот так, обращаясь к Бахраму, он продолжал разговор с самим собой. И разговор с самим собой вдруг ожесточил Рамазана. Он не хотел, чтобы гнев этот остывал; гнев и ярость нужны были ему — в них была сила, действие... И еще он надеялся, что, может быть, гнев, охвативший его, разгонит привычный страх, засевший в душе с того дождливого лета. Но страх сидел глубоко, очень глубоко, и даже гнев, охвативший Рамазана, не мог проникнуть туда и вытравить из души его страх... V Сиреневый свет Когда родился Мехти, в Айлисе не было уже никаких баштанов, но, как и у Рамазана, у Мехти тоже был свой особый зеленый мир, и существовал он там, куда каждое лето уезжала из Айлиса Шамсия; когда она вместе с родителями уезжала туда, сердце Мехти перелетной птицей устремлялось вослед, чтобы с утра до вечера порхать над тамошними цветами и травами. А там, над этим зеленым миром, стояли высокие, высокие горы, и на их недоступных вершинах никогда не таял белый-пребелый снег, а по склонам тех высоких, высоких гор росли густые леса, и не ступала там нога человеческая, а внизу было светлое ущелье и текла по нему серебристая речка. Ночью, когда светила луна, горы, холмы и речка — все было сиреневого цвета; по утрам и на закате солнца речка тоже была сиреневая, потому что по утрам Шамсия умывалась в ней, а вечером мыла ноги... ...Там, куда каждое лето родители увозили Шамсию, стоял всего-навсего один дом. За домом был цветущий сад, перед домом огород. А вдоль серебристой речки, два раза в день меняющей свой цвет, по черным рельсам проходил на рассвете поезд. Проходил он и вечером, когда опускались сумерки, — проходил два раза в сутки. Отец Шамсии встречал и провожал поезд, в том состояла служба его. Остальное время он копался в огороде, занимался пчелами, ловил рыбу... Иногда он с двустволкой в руках шел охотиться в лес, что высился у подножия гор, и, случалось, брал с собой Шамсию и двух ее младших братьев. В лесах было много фиалок, и до самой середины лета Шамсия набирала их полные охапки... Вечером над горами, на чьих белых-пребелых вершинах никогда не таял снег, пролетал самолет. И каждый вечер они стояли где-нибудь на холме и смотрели вслед самолету, а самолет бросал на снежные вершины красноватые отсветы своих огней.» Ближе к ночи они разводили на берегу костер, пекли в золе кукурузные початки и картошку, и Шамсия потом до самой весны не уставала рассказывать обо всем этом. Только вот про сиреневый свет она не говорила — никто, никто, кроме Мехти, не знал, что в тех местах, куда каждое лето увозят Шамсию, все залито этим удивительным светом. Что это был за свет? Когда он возник, с каких пор существует? Стоило Мехти бросить взгляд на Шамсию, глаза его загорались отраженным сиреневым светом. А может быть, сиреневый этот свет таился в глубине его собственных глаз?.. Или все-таки глаза Шамсии и правда были сиреневого цвета? Он не знал этого и никогда не узнает, чтобы узнать это, нужно было хоть раз в жизни взглянуть ей прямо в глаза, взглянуть так на Шамсию Мехти был не в состоянии. Стоило ему посмотреть на Шамсию, собственные его глаза становились как бы совсем и не его глазами. И сиреневый свет, что ослеплял его в эти мгновения, будто и создан для того, чтобы ослеплять мальчика. И шел этот свет из дальнего далека, где Мехти никогда не бывал. А может, и бывал, только очень давно, тысячи тысяч лет назад... Понять этого мальчик не мог и от этого становился еще беспомощнее, еще слабее и меньше — маленький, жалкий и совсем одинокий... С самого начала весны Мехти, днем — за партой, ночью — лежа под одеялом, шел и шел, пробираясь сквозь густые леса, росшие по склонам высоких гор с покрытыми снегами вершинами. Ему не было страшно в лесной чащобе, потому что он был не один, с ним рядом была Шамсия, и потому что сиреневый свет, освещающий их путь, не меркнул и в темноте, а белый-пребелый самолет, пролетая над горами, бросал на заснеженные вершины отблески своих огоньков. Они шли уже много дней, но Мехти нисколько не устал. Уставала иногда Шамсия, уставала и жаловалась, что болят ноги, и тогда Мехти устраивал ей матрасик из цветов. Девочка отдыхала на этом ложе. Потом они снова трогались в путь. Мехти рвал для нее в лесу самые спелые, самые сладкие фрукты. Проголодавшись, они ловили рыбу и жарили ее на костре, а воду пили из самых чистых родников. Но порой никакой родник не мог напоить Мехти, он был готов идти и идти, идти до конца своей жизни, чтобы испить хоть одну из слезинок Шамсии и тем утолить свою жажду. На тех бесконечных лесных дорогах девочке порой надоедало идти, она останавливалась и плакала, и тогда Мехти жадно пил ее слезинки и говорил ее плачущим глазам самые прекрасные слова на свете. И они снова шли; шли и шли под сиреневым светом. Им далеко, очень далеко надо было уйти, чтобы никто на свете не мог отыскать их, чтобы никто на свете не мог узнать место, где они останутся жить. Место, где они навсегда останутся жить, должно быть не видно и с самолета, бросавшего на вершины гор красноватые отсветы сигнальных огней... Мехти сам не знал, зачем он уводит девочку так далеко от людей. Но все равно уводил, днем — сидя за партой, ночью — лежа под одеялом. И они шли и шли, озаренные сиреневым светом. Когда этим летом, ровно через день после окончания занятий, Мехти увидел на том берегу речки огромную машину, пришедшую за Шамсией и ее братьями, он вдруг остолбенел. Такое с ним случилось впервые — Мехти не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Словно это был не он, а камень с него величиной. И, чтобы хоть чуть продвинуться вперед, Мехти надо было не просто одолеть собственную тяжесть, а еще и оторваться от этого камня... Шамсия стояла наверху, в кузове машины, ее маленькие братишки прыгали вокруг. Отец выносил вещи из дома, мать шла к машине, держа на руках котенка... Пока машина не отъехала, Мехти не трогался с места. Потом медленно перешел мост, словно решив подышать воздухом в том месте, где только что была машина. Стоял, смотрел вслед машине, бегущей по извилистой горной дороге. Когда же машина скрылась из вида, он вдруг помчался за ней и, сам не зная как, единым духом пробежал от моста до развилки — целых восемь километров. Да он и не бежал — он летел. Как в снах своих. Там, у самой развилки Мехти и проснулся — открыл глаза и долго не понимал, когда он улегся тут, на обочине и сколько проспал... Первое, что он увидел, открыв глаза, была белая-пребелая дорога, бегущая по склонам гор. Все остальное было серым, словно мир заволокло пеленой серой пыли, и под этой серой пеленой уже не различить сиреневого света, за которым он так долго бежал... ...Сейчас сероватая пыль тоже, казалось, висела в воздухе. И даже не пыль — душное серое марево. От духоты кружилась голова, туманилось в глазах. А может, и не от духоты. Может быть, всякий раз, когда рождалась еще одна совершенно новая краска, мир должен был окутаться серой пылью?.. Так или иначе, но Мехти не в состоянии был осознать, что с ним происходит. С приездом Лейли что-то изменилось в мире, но, что именно, понять он не мог... Они шли и шли по айлисским улочкам, а дорога все не кончалась. Там, где кончается последняя улица, начинаются старые сады, и в самом последнем из них, где деревья притерпелись ко всему — к морозам, к засухе, к безводью, к своей заброшенности, — у этого крошечного озерка с чистой родниковой водой сейчас прохладно и пусто... И эта удивительная трава, живущая в прозрачной зеленоватой воде, словно в волшебной сказке... Его сердце, сердце перелетной птицы, сто раз в день готовое сменить пристанище, оказалось у сказочного озерка сразу, едва они вышли из дома, и ему не терпелось, чтоб и Лейли поскорей увидела эту сказку. На девочке был сарафанчик из голубого шелка, выше колен открывавший загорелые ноги. Плечи и спина до пояса тоже были оголены, и это беспокоило Мехти — мальчишки могли крикнуть ей вслед поганые слова. Сейчас, когда они шли по деревенской улице, именно этого боялся он больше всего. К счастью, по всей деревне мальчишек пока что не было видно. Девочки, кучками сидевшие в тени деревьев где-нибудь возле калиток, в великом изумлении оглядывали Лейли. Женщины, возвращавшиеся с родника или из лавки, тотчас догадывались, чья она. «Никак Рамазанова дочка? — говорили женщины. — И как же тебя зовут, красавица? Папа с мамой здоровы?» Некоторые, большей частью пожилые женщины, обнимали Лейли и целовали ее. Лейли это очень не нравилось, она морщилась и тыльной стороной ладони вытирала щеку. Мальчишек они увидели уже за деревней, неподалеку от кладбища, те были увлечены игрой, похоже, играли на деньги. Если бы, проходя мимо, Лейли не заговорила, мальчишки, скорей всего, и не заметили бы их. Но Лейли что-то громко сказала и все разом подняли головы. То гадкое, темное, что будет сказано о плечах и спине Лейли, о ее красивых голых йогах, пока что, чернея, витало в пропыленном душном воздухе, а может, эти слова, которые неизбежно будут произнесены, и делали все вокруг таким серым и душным. Больше всего Мехти боялся Сейрана и несколько приободрился, убедившись, что его нет; другие-то не особенно глазели, как там она одета. И свист, от которого он сразу похолодел, Мехти услыхал уже позднее, когда они проходили мимо совхозной конторы. Свист этот донесся из-за высокой каменной стены, огораживающей фруктовый сад, разбитый рядом с конторой. Мехти поднял голову и увидел Сейрана. Тот смотрел на них, стоя в провале стены. Кажется, с ним был еще кто-то. Скорее всего, Валид, его дядя. Валид работал бухгалтером в совхозе и сад этот заложил для себя. Мехти угадал, Валид действительно стоял за стеной. Иначе Сейран не начал бы сразу задираться. — Это кто еще? — спрыгнув с ограды, Сейран преградил им дорогу. — Сестра двоюродная. — И куда ты ее ведешь? — В сад идем. Сейран размахнулся и влепил Мехти затрещину. У мальчика потемнело в глазах, и сквозь эту темную пелену он вдруг увидел, что в проломе стены появился Валид. — Эй, ты чего парня лупишь? — нехотя прикрикнул он на племянника. Так прикрикнул, для вида. — Добавить? — спросил Сейран дядю и, довольный собой, скосил глаза на Лейли. — Ладно уж... Смельчак нашелся! — притворно-сердито сказал Валид и взглянул на голые ноги Лейли. — Рамазанова? Мехти молчал. — Дядя тоже приехал? — Приехал, — еле слышно произнес Мехти. — И тетя? — Тебе-то какое дело? — Мехти уже трясло. — Что? Спросить нельзя? . — Нельзя. Заметив, что Валид подмигнул Сейрану, Мехти нагнулся, чтобы схватить камень, но вдруг услышал громкий звук пощечины — это Лейли угостила Сейрана. — Гадина! — по-русски сказала она и посмотрела на свою руку. — А ну, пошел отсюда! Сейран рванулся вперед, но ударить девчонку не решился. — Видал? — Он недоуменно оглянулся на дядю. Валид захохотал, и Сейран совсем смешался: и пощечину схлопотал от девчонки, и дядя над ним смеется. — Пошли! — Лейли дернула Мехти за рукав. — Ну его к черту! Но Мехти уже никуда не хотел идти. Не существовало больше ни того удивительного озера, ни травы, круглый год зеленеющей под прозрачной водой, померкло вдруг солнце, потускнел дневной свет. И самой дороги не стало — вдаль тянулось что-то тусклое, неживое. Такая дорога никуда не вела. И, самое странное, с дорогой, ведущей обратно к дому, произошло то же самое — идти было некуда. Легко сохранявший в памяти не только всех, кого встречал на пути, но помнивший, чья калитка какого цвета и даже куда, в какую сторону падает тень от любого из деревьев, стоявших вдоль дороги, о той, обратной дороге Мехти не сохранит в памяти ничего. И у него не будет ни малейшего сомнения, что отрезок времени, никак не отразившийся в его памяти, был смертью, настоящей смертью и лишь спустя время он родился заново. И всю свою остальную жизнь Мехти будет жить под впечатлением сна, увиденного им в ту ночь. Клочок земли, кусок неба или просто глоток воздуха из этого сумбурного, кошмарного сна будут бессчетное число раз являться ему в снах, которые ему когда-либо предстояло увидеть. В этих снах он будет, изнемогая, карабкаться вверх, выбираясь из глубокого узкого ущелья, впервые привидевшегося ему в ту ночь… Ущелье, что привиделось в ту ночь Мехти, было глубоко, как бездонный колодец. У подножия мертвенно-серых гор, покрытых колючкой и иссохшей от зноя травой, пиками вершин своих вонзавшихся в небо, внизу, далеко внизу вилась чуть заметная речка. Вода в ней не текла, стояла недвижно, и в снах, которые будут сниться потом Мехти, вода в реках будет такая же плотная, густая, недвижная, похожая на смолу... И во всех своих снах он будет убегать от тысяч сверкающих глаз, привидевшихся ему в ту ночь, будет стремиться к свету, к простору, к ясности, что едва брезжила в расщелине меж огромными скалами в том мире камней. Кусочек неба, голубевший в узкой расщелине, станет позднее небом лучших из его снов — небом надежды. Но крошечная узкая расщелина, ведущая к свету и к ясности, не сразу появилась в том сне. Да ему еще и не нужен был этот свет, потому что Мехти не сразу понял, кого высматривают бесчисленные человечьи глаза, мерцавшие над ущельем, что ищут они в кустах на каменистых склонах над смолисто-недвижной речкой. Люди что-то кричали, махали руками, всем видом своим показывали: в Айлисе свершилось неслыханное. И вдруг его осенило: ищут его, Мехти!.. Эти люди узнали: сегодня в саду, возле озера он поцеловал свою двоюродную сестру. Мало того, открылось и другое: в толпе людей, карабкающихся по скалам, чтобы схватить и растерзать Мехти, был и отец Шахмсии, и ее мать. Но в расщелине между скал он вдруг увидел свет и понял, что где-то еще жива ясная голубизна неба, осмелел и нашел в себе силу двинуться туда, к расщелине, спасаясь от этих сверкающих злобой глаз. Но к самой, расщелине подобраться было нельзя — перед нею стоял Валид. Он стоял на камне на самом верху, меж двумя скалами, сунув руки в карманы. И почти у самых его ног, возле серого камня, съежившись, сидела птица зеленая-презеленая, хвост, голова, перья — точь-в-точь как трава в том озере. Валид не замечал, что возле него с добытым кормом в клюве притаилась зеленая птица и что чуть выше, под кустом, копошатся в гнезде зеленые-презеленые птенчики. Но птица-мать давно уже заметила Валида. Напутанная скопищем людей, карабкавшихся по склонам там, внизу, она теперь увидела Валида и не смела приблизиться к гнезду. И Мехти вдруг забыл и о грозной толпе, и о том, для чего собрались эти люди. Птица вдруг овладела всеми его помыслами, птица, не похожая ни на одну из тех, что он видел раньше; такая зеленая, такая сверкающая, она наверняка была единственная в мире. И эта прекрасная, единственная в мире птица, сжавшись в комочек, притаилась у ног Валида, у камня, на котором он стоял. Мехти слышал, как трепыхается птичье сердце, как колотится сердце у него в груди. А крошечные зеленые птенчики щебетали, подзывая мать, и Валиду был до них один шаг... Но свет, пробивавшийся сквозь расщелину в мир камня, скал и колючек, становился все ярче, сильнее. ...потому что, пока Мехти маялся во сне, под ясной голубизной неба нарождалось новое айлисское утро. VI Кизиловая палка Ночь кончалась, но похоже было, что Досте, еще не сомкнувшей глаз, так и не удастся заснуть. Доста без сна лежала на постели, разостланной на старой циновке в самой маленькой из восьми комнат красивого двухэтажного дома, доставшегося ей от мужа и, бесспорно, бывшего когда-то одним из лучших домов Айлиса; сейчас дом уже разрушался, кое-где даже обвалилась кровля. В комнате стоял полумрак, но предутренний сероватый свет проникал сквозь два небольших — под самым потолком — оконца, были хорошо видны и стоящий у дверей старый медный кувшин, и кучка красного лука, и пуда полтора насыпанных горкой сушеных абрикосов. Кроме постели, на которой лежала сейчас Доста, в комнате находился еще старый сундук. В нем были спрятаны расшитая узорами тюбетейка Аликузу, пяток сморщенных яблок, несколько штук айвы прошлогоднего урожая и тонкая длинная палка из кизила, предназначенная для взбивания шерсти; тот факт, что палку эту как величайшую ценность Доста хранила в сундуке, нужно считать одним из чудес, особенно если учесть, что Аликузу, за семь лет их совместной жизни не поднявший на жену руки и вообще никогда не позволявший себе ничего подобного, однажды так отходил Досту этой самой кизиловой палкой, что, стоит ей вспомнить об этом, по всему телу бегают мурашки. Причем самое-то чудо не в том даже, что Доста столь бережно хранит эту палку для взбивания шерсти, а в том, что, когда при виде этой палки по всему ее телу пробегают те самые мурашки, тетя Доста нисколько не сердится на мужа. Наоборот, когда мурашки пробегают по ее телу, она счастлива, словно боль, причиненная когда-то, и есть самое прекрасное из того, что ей довелось испытать за всю долгую и нелегкую жизнь; во всяком случае, эта палка — убедительное подтверждение того, что Доста целых семь лет состояла в законном супружестве с прекрасным, всеми уважаемым человеком. Но только дела это сами понимаете, давние, с тех пор, как Доста последний раз доставала палку из сундука — взять, потрогать ее, — уже миновало лет тридцать... На сундуке лежат и стоят ее припасы: полтора пуда муки, полученной за сено, что скосили в саду нынешней весной, пяток лавашей, испеченных в тендире, и большая стеклянная банка, где плавает в рассоле несколько кусков домашней брынзы... Похоже, до утра оставалось немного, потому что вместе с сероватыми рассветными сумерками в окошки без стекла вливался прохладный сероватый воздух, и тетя Доста уже не так завидовала тем, кто наслаждался сном на открытом воздухе. Сама она давно не спала так, потому что лет тридцать тому назад среди ночи ей привиделось, что на подушке у нее свернулась клубком змея. С тех пор тетя Доста как огня боится этой черной змеи. В то время как все остальные змеи — сколько бы их ни было на свете — не вызывают у нее ни малейшего страха. То, что, увидев во сне, будто на подушке у нее, свернувшись клубком, лежит змея, она до утра не могла уснуть, тоже дела прошедшие. Вообще-то Доста на сон не жалуется, тут у нее все в порядке, а что касается сегодняшней ночи, эту бессонницу Саида как бы специально привезла ей из Баку. Подбирая Саиде мужа, тетя Доста раз сто из конца в конец мысленно обежала деревню, но, сто раз обегая деревенские дома, замедляла шаг лишь у одного дома. Да это и не дом — дворец, два этажа, черепичная крыша, веранда за стеклом... И построен-то как — не на скопленное по копеечке, а на настоящие мужские деньги. Только деньги, добытые торговлей, тетя Доста и почитала за деньги, потому что муж ее Аликузу все свое добро и богатство приобрел именно таким путем — был он из первейших купцов. А что добро это бесследно ушло из ее рук, в том Доста не винила мужа, тут только бог повинен — с самого начала не послал ей детей. Ну и времена, конечно, не наступи такие времена, не грузил бы ее муженек ковры, золото и другие ценности на лошадей да на ишаков, не увозил бы по ночам в Иран, а если бы и уехал туда, не остался бы там навечно, не сгинул бы на чужбине, а хоть время от времени навещал бы ее, законную свою супругу. Аликузу начал переправлять ценности в Иран сразу, как только из Баку, из Батума и из других больших городов стали доходить вести о новой власти. Сестра его была выдана замуж в Марагу, на той стороне Аракса. От Айлиса до Мараги ровно день пути, вернее, ночь, потому что, переправляя в Иран ценности, Аликузу всегда действовал ночью. Вечером, как стемнеет, грузил свое добро и отправлялся в путь, а к утреннему намазу был в Мараге у сестры. Когда он последний раз отправлялся в путь, было уже близко к ночи. В тот вечер Доста приготовила кашу с мясом, обильно приправленную ароматными горными травками. Наевшись досыта, напившись чаю, Аликузу долго потом отдыхал — полулежал, облокотившись на подушку. Вроде бы не хотелось ему уезжать, вроде бы побаивался чего или чудилось, что не вернется больше, что навсегда отрывает свое сердце от дома. Подозвал жену — шея, мол, замлела, потри... Только дело-то было не в шее. В тот день он с раннего утра донимал Досту ласками. Слыша, как похрустывают ее косточки в мужниных сильных руках, Доста точно знала, что не хочется ему уходить от нее, никак не хочется, а потому ей и на ум не могло прийти, что в этот раз муж уйдет навсегда. Под вечер Аликузу вернется, отдохнет денек, и завтра, крайний срок — послезавтра, они вместе проделают этот путь, от Айлиса до Мараги. Только не ночью, а днем. Распрощаются как положено с односельчанами, сядут в фаэтон и уедут. Назавтра Доста еще с утра взялась готовить ужин. Послала к мяснику Кулу за кишками ягненка: долму из кишок, нашпигованных рисом, горохом, перцем и травками, Аликузу почитал за шахское блюдо. Под вечер, управившись с готовкой, Доста согрела воды, чтоб помыть мужу ноги, положила в самовар угли, заварила чай, поставила его на конфорку. И всю долгую ночь провела она у того самовара. Много дней подряд Доста каждый вечер грела воду, ставила самовар и ждала Аликузу. В том, что муж не вернулся, она винила себя — кому нужна нерожаха?.. И все чаще, размышляя о том, что никому она не нужна, стала сторониться людей, избегать их, малопомалу превратилась в нелюдимку. Только Аликузу, одного Аликузу не могла она забыть, не могла от него отвыкнуть. Ей казалось, что она лишь потому живет на свете, что Аликузу, ее муж, рано или поздно должен возвратиться домой. Когда Советская власть окончательно утвердилась в этих местах, границу закрыли и все, что по ту сторону Аракса, было отрезано. Но все равно, уверенная, что муж вернется, Доста жила одинокой совой, крепко-накрепко затворившись в доме. Муки, гороха, фасоли у нее имелось лет на десять. Выходить, чтобы постирать, помыть посуду, нужды не было — арык протекал по двору. А ведро питьевой воды она приносила с родника ночью, когда жизнь на улице замирала. И долго еще после закрытия границы каждый вечер до поздней ночи стояла Доста перед окном, поджидая мужа, и ждать его все еще было для нее удовольствием. А потом в одну из таких ночей удовольствию этому пришел конец и многое на светe изменилось. В Досте даже зародилось сомнение. Она ли та женщина, что долгие годы стояла по ночам у окна, поджидая мужа. В один прекрасный день Доста наконец твердо убедилась, что, конечно же, то была не она, и с этой минуты сидеть взаперти ей стало невыносимо. Настежь распахнув двери, она словно вышла из темноты в огромный божий мир и как бы назло той женщине, что долгими ночами стояла под окном, она объявилась в этом огромном божьем мире такая развеселая, что никому и в голову не приходило, что из глаз этой женщины может выкатиться хоть одна слезинка. О самых грустных страницах этой истории в Айлисе так никто и не узнал, тем более что айлисский фольклор, в котором по части оптимизма дело и без того обстояло более чем благополучно, заметно — смею утверждать — обогатился за счет стишков, сочиненных Достой о самой себе. К примеру: Аликузу сбежал в Иран. Провалиться ему там!.. Или еще: Из дому сбежал в Иран, Мне на голову на...рал!.. А я стала «ахдивис» — Приходи да подивись! Добавлять к были небыль, видимо, неистребимое свойство творцов айлисского фольклора. Можно также предположить, что вовсе не обязательно понимать слово в прямом его смысле. Во всяком случае, в утверждении, что тетя Доста стала «ахдивис», то есть активисткой, нет ни крошечки, даже подобия правды. А коли пришлось к слову, отметим, что тетя Доста с самого начала не очень-то была довольна новой властью, прежде всего из-за закрытия границы. Отметим также, что позже, в годы колхозного строительства, когда, соединив все земли, богатых уравняли с бедными, а бедных с богатыми, отношения тети Досты с правительством несколько нормализовались. Но пойти работать в колхоз — на этот счет у нее все было решено окончательно и бесповоротно. Прежде всего потому, что, кроме особо ценных вещей, увезенных мужем в Иран, в доме оставалось еще полно добра: фаянсовая посуда, серебряные ложки и вилки, медные тазы, казаны, пилы, топоры, седла... Часть этих вещей Доста продавала, часть меняла на муку, сахар, чай, лук, картошку... Когда вещи были прожиты, она в розницу распродала огромную застекленную веранду, нипочем спустив резные перила, стоившие «мешок золота», оконные решетки, рамы, опорные столбы, и некоторое время жила, не зная нужды. Правда, со стороны глядя на дом, который утерял свою былую красоту, Доста каждый раз ужасалась: как расстроится Аликузу. А это значило, что даже после стольких лет разлуки где-то в глубине ее сердца теплилась надежда, что муж вернется. Когда началась война, надежда эта вспыхнула с новой силой. По ночам тетя Доста снова стояла теперь у окна, не выпускала из рук тюбетейку Аликузу и каждую ночь, нежно погладив ту самую кизиловую палку, убирала ее обратно. За все годы войны дня не было, чтоб тетя Доста не ходила по домам и не доказывала самым убедительным образом, что Аликузу не сегодня-завтра вернется из Ирана, а того, кто выражал сомнение, она независимо от возраста и занимаемого положения проклинала и ругала последними словами. Кое-как продержавшаяся в войну — день сытая, день голодная, — она сразу же после окончания войны решила в корне изменить образ жизни и стала вытворять нечто удивительное. Разузнав тайком (но во всех подробностях), где, в какой деревне у кого имеются родственники и приятели и как их зовут, тетя Доста на неделю, а то и на месяц исчезала из Айлиса. Она рыскала по горам и долам, брела по лесным и степным дорогам — отыскивала в дальних деревнях совсем незнакомых ей людей и передавала этим людям от айлисской родни или знакомых ею же самой по дороге сочиненные новости: сообщала о свадьбах, родинах, похоронах... В тех же деревнях тетя Доста, не теряя даром времени, иной раз подбирала невесту какому-нибудь парню или жениха девушке. Таким образом, по три, по пять дней она жила то в одном, то в другом доме. Живя в тех домах, тетя Доста рассказывала детям сказки; одни сказки она знала, другие выдумывала. Была среди них «сказка про Аликузу». Эту сказку, особенно нравившуюся девочкам, тетя Доста всегда припасала под конец. С детьми все было в порядке, но, случалось, хозяева, узнав, что все ее свадьбы, родины и похороны — брехня, сурово расправлялись с Достой и кусок хлеба, полученный этим необычным путем, выходил у нее, как говорится, кровью из носа; Досту немедленно выгоняли из теплого дома на улицу: в дождь, в метель, в стужу... Но, странное дело, в этом бренном мире и страх для нее уже перестал быть страхом, а болезням к ней было не подступиться. Что касается того, как и на какие средства жила тетя Доста начиная примерно с пятидесятого года и посейчас, это в Айлисе ни для кого не секрет. Только одна сторона ее жизни истолковывалась, быть может, несколько неоднозначно. А именно: после Аликузу зналась ли она с мужчинами? Не все, разумеется, в равной мере были убеждены в этом. А дело обстояло так: тетя Доста вышла замуж за мельника Шахбудага, будучи уже под шестьдесят. Ему же тогда перевалило за семьдесят. Потом ее мужем стал молла Мирмухсин, и, хотя тот был лет на пять моложе Шахбудага, он, и это всем было известно, едва таскал ноги. Последний же ее муж — недавно умерший лудильщик Абдулла — достался тете Досте уже прикованным к постели. Доста обстирывала мужей, готовила им пищу, ну и, конечно, сама кормилась при них. Так что и в этом отношении ни перед Аликузу, ни перед самим господом богом греха на ней, как говорится, не было. Последние же годы тетя Доста жила за счет сада, это сейчас запросто. Урожай с одного дерева — пуд сахару. Трава, один раз скошенная в саду, — четыре пуда пшеничной муки. А осенью она еще пускала во двор овец на пастьбу и с этого тоже имела в год рублей сорок. Кроме того, Доста в почтенные свои годы обрела наконец умение копаться в земле. Несколько грядок фасоли да лука много ли ей надо? Словом, тетя Доста жила — не жаловалась, годы свои особо не чувствовала, со здоровьем у нее был полный порядок. И — это мы уже отмечали — никогда не страдала бессонницей. Потому есть полное основание думать, что сегодня ночью с ней что-то случилось. В том, что, мысленно отыскивая Саиде мужа, тетя Доста, как золу в угасшем очаге, раздула воспоминания своей жизни — с первых лет замужества до нынешних времен, прежде всего вспомнив Аликузу, — нет, пожалуй, ничего удивительного, потому что ночи ее, проведенные без сна, на девяносто девять процентов связаны были с ним, а следовательно, бессонное одиночество данной ночи создавало для этого, если так можно выразиться, благоприятные природные условия. И все равно то обстоятельство, что кизиловая палка, о которой она столько лет не вспоминала, этой ночью вновь возникла из сундука, безусловно, достойно удивления. Прежде всего потому, что тете Досте было уже под восемьдесят, и здравый смысл не в состоянии постичь, чтобы в таком почтенном возрасте женщина испытывала трепет при воспоминании о боли, полученной от мужчины, которую мы в данном случае решили воплотить в образе некоей кизиловой палки. Вовторых, если хорошенько подумать, какое, собственно, касательство имеет эта кизиловая палка к вопросу о замужестве Саиды? Где те настоящие мужчины, что в наше время охаживают жену палкой? А если и охаживают, какое это имеет отношение к Саиде: Саида не та, что была в свое время Доста, да и человек, за которого Доста прочила ее замуж, не тогдашний Аликузу. Так что появление кизиловой палки из сундука именно в эту ночь — случай действительно на редкость загадочный... Вечером, после ужина, в часы, когда тетя Доста ежедневно выходит «промяться», она успела вдоволь посудачить с соседками о Рамазановой сестре, засидевшейся в девках. Кое-где был уже упомянут Валид, потому что в Айлисе и правда не было сейчас для Сайды более подходящего жениха. Кроме того, тетя Доста прекрасно помнит, что в свое время Валид ходил как помешанный из-за этой самой Саиды. Сведя в могилу библиотекаршу Сафуру, без матери выращенную сборщиком налогов Алибалой-Интеллигентом, Сафуру, при взгляде на которую огнем полыхали сердца мужчин, когда она, еще будучи девушкой, верхом на красавце коне разъезжала по горам, чтобы читать газеты и книги чабанам и работникам ферм, Валид уже больше десяти лет ходил холостяком. В свое время ему крепко повезло в торговле: после пяти лет, проведенных на бакинских базарах, Валид отгрохал себе крытый черепицей двухэтажный особняк с застекленной верандой, и, если бы Сафуру, дочку сборщика налогов АлибалыИнтеллигента, не постигла такая злая участь или если бы эта участь постигла не Сафуру, а какую-нибудь другую женщину, ради одного этого двухэтажного особняка самые красивые девушки мечтали бы выйти за Валида. Другой такой, как Сафура, такой скромной и такой красивой, в Айлисе никогда больше не будет. И то, что проделывал с ней Валид, скорей всего, тоже никогда не повторится. В Айлисе помнят, как он измывался над женой, и тетю Досту, добровольно взвалившую на себя обязанность выдать замуж Саиду, больше всего беспокоило именно это обстоятельство. В том, что за Саиду Валид ухватится не одной, а пятью руками, тетя Доста почему-то была совершенно уверена. Рамазан же, по соображениям тети Досты, был сейчас слаб в коленках, чтоб особо-то встревать в это дело (она пришла к такому убеждению, понаблюдав за ним сегодня утром). Кроме того, ему позарез нужно выдать сестру здесь, в Айлисе. Сама же Саида, поскольку годиков ей — дай боже, спит и видит, как бы наконец заполучить мужа. Единственно, кто мог подгадить, это Хабиб, потому что история с Сафурой вся у него перед глазами. И, опять же, он хоть и тихий с виду, а если упрется, хуже быка холощеного — с места не своротишь... Так размышляла тетя Доста, лежа в полумраке своей комнаты на старой циновке. А за окном занималось чистое прохладное утро. ЧАСТЬ ВТОРАЯ VII Утренняя прогулка Разговор о том, что тетя Доста найдет Саиде мужа, и Хабиб, и Пакиза, да и сама Саида не приняли всерьез — болтовня. Зато Рамазан, с давних пор знавший тетю Досту и лучше всех понимающий, чего стоят ее слова, отнесся к ним очень серьезно. И сегодня, когда он встал спозаранок, чтобы одному в тишине спокойно пройтись по деревне, в голове у него, словно секундные стрелки на часах, беспрерывно прокручивались одни и те же слова, пять дней назад сказанные соседкой: в нашей деревне подыщем тебе мужа... Хотя Рамазана по-прежнему томили безделье и неприкаянность, он, пробыв в Айлисе несколько дней, чувствовал себя гораздо бодрее. Даже и за Саиду не так уж беспокоился. Да и сама она, весь день находясь с Пакизой, стала здесь совсем другим человеком. Дом этот и этот небольшой двор были для Саиды просторней, свободней, шире, чем огромный Баку. Рамазан убеждался в том каждый день, каждый час и не переставал радоваться этому. Кроме того, и с Розой, похоже, налаживалось: присылала одно письмо за другим. Тяжесть в сердце, которую он привез с собой из Баку, вроде бы понемножку рассасывалась... Сколько раз там, в городе, мечтал он вот так в утренней тишине и прохладе не спеша побродить по Айлису. Один раз мечта его сбылась — во сне: он шел по Айлису в такой вот рассветный час. И теперь в айлисском воздухе, наверное, было что-то от того сна, но то, что видишь во сне, можно увидеть только во сне — краски были гораздо ярче, а свет... Свет был такой, что хоть купайся в нем. Сам он в том сне был моложе, сильней, красивей, вода в арыках текла будто и не вода, а сама чистота и прозрачность. И еще голоса, женские, девичьи... Для Рамазана, приехавшего в деревню с надеждой хоть минуточку посидеть в каждом из дворов — с верхнего края, от мельницы до последних домов у кладбища — и с каждым встречным перемолвиться хоть словечком, для него любой из этих женских и девичьих голосов звучал, как колыбельная песня, и в воздухе утра, что снилось Рамазану, стояла какая-то до боли знакомая щемящая тишина... Солнце, только что вставшее из-за горы, казалось, тихо шепчется с травами, с водой, с камнями... И вода, травы, камни тихо радуются тому, что взошло солнце. В этом удивительном сне травы, камни, вода словно были детьми одной матери и все живое и неживое знало и понимало друг друга. Душа пьянела от мысли, что было это когда-то и наяву, что и сам он когда-то принадлежал ему одному — солнцу, такому ласковому, такому всепонимающему… ...Сейчас до восхода солнца было далеко. Да и Айлис позевывающий, покряхтывающий, нехотя поднимавшийся после ночи не был похож на Айлис его сна. И потом, когда встанет солнце, тоже, наверное, не будет похож. Но Рамазан, наслаждавшийся утренней прохладой, не жалел, что поднялся так рано; улицы и дороги были совсем безлюдны, и от одного этого легко на душе. Лишь кое-где в долине и на склонах гор приметил он несколько человек с овцами, откуда-то издалека доносились возгласы женщин и детей, выгонявших в стадо коров. Выйдя из деревни, Рамазан постоял у развилки дорог: одна вела вниз, к садам, другая шла прямо к кладбищу, за которым виднелась голая пустая равнина. Странное дело: столько лет не видел он эти сады, а мог бы точно сказать, где какое дерево спилено. С каждым из ушедших деревьев словно бы навсегда исчезла с лица земли частица великого таинства, и, с ужасом глядя на заброшенные сады, Рамазан начинал, кажется, понимать, чего теперь не хватает здесь человеку: не хватало этого таинства. Те, кто когда-то сажал эти деревья, наверняка понимали, что значит земля, лишенная своей тайны, понимали, что не хлебом единым жив человек, что земля влечет его не только плодами своими. Поколение за поколением люди трудились до кровавых мозолей, заботясь о том, чтобы сохранить таинство мироздания. В созидании великого этого таинства каждый действовал в одиночку, а разрушали его всем скопом. С исчезновением дерева с лица земли навсегда исчезала и тень под ним. А с исчезновением тени исчезал и кусочек зеленого мира. Навсегда замолкли в садах птичьи голоса... Где они теперь, эти птицы — их было великое множество, как травы под деревьями, как листвы на деревьях... И сейчас, разглядывая прогалины на месте бывших яблонь и груш, Рамазан первый раз в жизни подумал, что даже то, что именуется таинством, может оказаться делом рук человеческих. Под тенью этих деревьев выросло не одно поколение людей. Сады эти учили айлисских детишек — поколение за поколением — видеть таинство мира, радоваться богатству его красок. Одно дело, когда, впервые открыв глаза, человек видит, как сажают деревья, и совсем другое, когда, впервые открыв глаза, он видит, как дерево рубят. Это будут совершенно разные люди — и душой и, если хотите, телом. Человек, не вырастивший дерева, вряд ли сможет вырастить настоящего крестьянина. А в Айлисе уже сейчас полно людей, в жизни своей не посадивших дерева. И тем необходимее во что бы то ни стало сберечь последних представителей человеческого рода, не утерявших естественную связь с землей, с природой. Да, да, тех, кто в крови своей еще несет гены живших истинно крестьянской жизнью, кто, глубоко пустив корни в землю, ходит еще по ее поверхности. Их пора взять под особый контроль, если хотите, записать в Красную книгу. Ибо никто и ничто не спасется от разложения, если гниет корень жизни. Вчера они допоздна толковали с Хабибом. Несмотря на разницу в возрасте и во взглядах, обо всем, что касается земли, они думают одинаково. Ведь до чего дошло — Хабиб взбунтовался!.. Целую стопу бумаги исписал, намерен послать — и не куда-нибудь, в Кремль — свою докладную. «Как и при каких условиях можно в действительности обеспечить продовольственную программу» — так озаглавил он свой объемистый труд. Разобрало человека, чуть не год, оказывается, собирал материал. Куда он только не ходил, к кому только не обращался, большей частью используя свою беспорочную репутацию учителя, а кое-где пускал в ход всемогущую поллитровку, купленную все за ту же нежирную учительскую зарплату. Таким образом, Хабибу стало доступно большое количество документов правления и сельсовета. В качестве внештатного корреспондента районной газеты Хабиб нашел доступ к старым документам, хранившимся в районном архиве, побывал в различных учреждениях. Прошлым летом во время каникул он два месяца ходил по соседним деревням, так что по количеству фактов и цифр записка его была не докладная, а настоящая диссертация. Вчера за ужином он в присутствии всей семьи, доказывая свою правоту, чуть не лекцию прочитал Рамазану. — В Айлисе триста шестьдесят пять хозяйств. Земли у нас, считая с приусадебными участками, около двухсот семидесяти гектаров. Конечно, в Айлисе земли намного больше, чем в остальных деревнях района. Есть деревни, где эта площадь равна пятидесяти — шестидесяти гектарам. Но мы возьмем Айлис. Из этих самых двухсот семидесяти гектаров, согласно официальным документам, в личном пользовании находится сорок семь. Я подсчитал — с этих сорока семи гектаров люди каждый год получают минимум тридцать тысяч дохода. Подели это на полторы тысячи населения — вместе со стариками и младенцами — и ты поймешь, может Айлис прожить за счет своей земли или не может. Айлис имеет полную возможность обеспечить себя всеми продуктами, включая мясо и молоко. Примерно гектаров сорок заброшено и пропадает под камнем, старые сады не в счет. А знаешь, в какую копеечку ежегодно обходится государству этот совхоз? Уму непостижимо! Вкладывать столько средств, чтобы разводить на той же земле винные сорта винограда, загубив при этом сто шестьдесят гектаров плодородной почвы! Если мой ребенок не имеет за завтраком стакана молока, к чему мне это вино?.. — Хабиб вдруг умолк, но видно было, что его распирает, что он готов сцепиться с любым, кто сомневается в правильности его доводов. — Я не ученый, не агроном, я всего-навсего учитель! Но ведь земля — эти двести семьдесят гектаров земли — каждый день у меня перед глазами! И я знаю, что, действуй мы умно, на будущий год вершка не останется не засеянного. Через пять лет приедешь, не узнаешь деревни. Ну так учтите же местные условия, специфику, рельеф и дайте людям лопату в руки, пусть сеют, что хотят. А ведь только в нашем районе семнадцать таких деревень, непригодных для ведения крупного хозяйства. В Азербайджане — сотни, а по всей стране — тысячи. Представь себе, что население этих десятков тысяч деревень перестанет возить из города мясо, масло, макароны, вермишель и повезет туда свою продукцию!.. Да если расширить и личные участки земли, это не сделает крестьянина ни кулаком, ни помещиком. Классовый враг из него уже никак не получится. Раньше-то что было? Раньше на этих двухстах семидесяти гектарах хозяйствовали тридцать человек. С начала колхозного строительства и до нашего времени население Айлиса выросло, по меньшей мере, в три раза. А земли не прибавилось ни вершка. Среди собранных Хабибом цифр и фактов имелся полный список районных учреждений, так или иначе связанных с сельским хозяйством района. Количество сотрудников в них и общую сумму получаемой ими зарплаты Хабиб взял из официальных документов. Собранный материал он месяц назад подытожил, переписал и теперь, похоже, колебался, отправлять или нет. — Прошу тебя, Рамазан, — вмешалась вдруг Пакиза, молча, с великим вниманием слушавшая мужа. — Не разрешай брату посылать эти бумажки. Выгонят его с работы, тем дело и кончится!.. Рамазан не знал, что посоветовать. Если посылать, то в Москву. Но тут есть один вопрос, может быть, даже чисто технический: способен ли человеческий глаз углядеть из далеких городов, с высоты огромных зданий и грандиозных сооружений такую вот маленькую деревушку, скрытую за высокими горами? Может, было бы лучше, если бы человек, перестроив угол зрения, отсюда, снизу, из таких вот маленьких айлисов смотрел на те огромные здания и грандиозные сооружения? Сколько лет уже преследует Рамазана этот вопрос!.. Вот только попробуй узнай, выиграет человек от такого «угла зрения» или проиграет... Но в случае с Хабибом речь вовсе не об этом. Если брать в расчет не только то, как есть, но и как должно быть, расстояние между крошечным Айлисом и огромными городами с их грандиозными делами и величественными замыслами начисто исчезает... А Хабиб и эти большие люди, сидящие в высоких домах и вершащие грандиозные дела, для того и состоят в одной и той же партии, чтобы расстояния этого не было. Кроме того, Хабиб — один из самых уважаемых в деревне учителей. Да, и не будь он учителем, он не вправе не думать об участи родной деревни. А раз так, почему он должен бояться высказать свои соображения, отправить свой материал в самые высокие инстанции — послать их другому члену партии с таким же партбилетом?.. Бояться нечего. И Рамазан посмотрел брату в лицо — обязательно нужно послать! Наверно, Пакиза потому и не собирала со стола, что ждала его ответа. Как только Рамазан произнес эти слова, она начала торопливо убирать посуду, Хабиб просиял. Радостно возбужденный, вскочил с места и долго расхаживал вокруг стола. ...Размышляя о вчерашнем разговоре с братом, Рамазан не заметил, как очутился у кладбища. Но и кладбище айлисское оказалось уже не прежним. Когда-то скромное, с невысокими, тридцать — сорок сантиметров, сероватыми, как сами могилы, надгробьями, айлисское кладбище выглядело теперь очень нарядно. Надгробья торчали одно выше другого, словно вступили в негласное состязание; были памятники в рост человека и даже больше. Все сравнительно недавние могилы обложены кирпичом, побелены известью. Выходит, даже предписание пророка, согласно которому, могиле положено через год сровняться, слиться с землей, не указ для нынешних жителей Айлиса. Пророк не считал нужным разукрашивать кладбища, разрисовывать надгробные камни, а на этих высоченных камнях чего только нет!.. И вдруг пять слов, выбитые на небольшой мраморной доске, несмело выглянув из-за огромных камней с яркими надписями, заставили его остановиться: «Матери моей Джавахир от Рамазана». Рамазан сразу же подошел к могиле Джавахир, но долго простоять там не смог. И не потому, что в нем с новой силой вспыхнуло то, прежнее чувство. Наоборот, именно потому, что ничего не почувствовал, все это угасло в его душе. А стоять у могилы Джавахир с холодным сердцем было невмоготу. Пока он бродил, отыскивая могилу отца и матери, несколько раз останавливался у чужих могил. «ГУСЕЙНОВА АЙЗАНГЮЛЬ. 1929 — 1965». «Вот пришла бы зима, мы бы и побелели...» Эти слова Айзангюль еще с войны врезались ему в память. Сказаны они были во время жатвы, когда все уселись под деревом перекусить; загорелая до черноты Айзангюль произнесла их с глубоким вздохом, и женщины стали смеяться над ней, а бедная девушка смутилась и зарыдала... С чего ж это она умерла в тридцать шесть лет?.. Неужели в Айлисе женщин в молодости умирает больше, чем мужчин: то девичья могила, то могила молодой женщины, почему это?.. «КУЛИЕВА ЭСМЕР ПАША-КЫЗЫ. 1933 — 1946». Значит, ей было всего тринадцать. Эсмер, которую вечно дразнили мальчишки, любуясь ее толстыми, чуть не до пят косами... Будто только вчера утонула она в айлисской речке. И даже не в речке, в озерке, в запруде, мальчишки соорудили ее из камней — купаться, лужа, можно сказать... В Айлисе до сих пор вспоминают, какая тогда стояла жара. Не будь этой немыслимой жары, может, ничего бы и не случилось. Вечером, уже в темноте, воспользовавшись тем, что мальчишки, весь день плескавшиеся в запруде, уже ушли, несколько девочек решили сходить окунуться. Но, едва они влезли в воду, мальчишки то ли нарочно подстерегли их, то ли опять надумали поплескаться, вопя, выскочили из-за кустов. Девочки повыскакивали из воды, кое-как натянули платьишки и с криком умчались. Только она, длиннокосая Эсмер, не успела выскочить из воды — мальчишки подбежали и уселись на берегу. Сидят, ждут, когда она голая выскочит из воды, сейчас они поглядят, какова она, первая красавица Айлиса, в свои неполные тринадцать лет уже не дававшая покоя парням... Но не вышла из воды Эсмер — первая красавица Айлиса. Знали или не знали засевшие в кустах сорванцы, что у девочки бывают сердечные приступы?.. Скорее всего, не знали... Почуяв наконец-то неладное, мальчишки в страхе бросились прочь. Вот так она и утонула, взрослая девочка в луже — метр глубиной. Только ночью узнали об этом. А наутро ее хоронили. И в суд никто не ходил, и виновников искать не стали. Вроде все так и быть должно. Словно она сама повинна в своей гибели и грех свой, состоящий в том, что искупалась в заводи, тринадцатилетней Эсмер положено было искупить ценой жизни. А Айлису, два дня продержавшему траур по усопшей и — в который раз! — продемонстрировавшему незыблемость своих устоев, положено было спустя два дня успокоиться, прийти в себя и вернуться к обычным делам и заботам. ...Рамазан поднял голову и поглядел на небо — не хотелось больше смотреть на могильные камни. То ли надгробья как-то не так открывали ему жизнеописание Айлиса, то ли принять жизнеописание Айлиса таким, каким оно засвидетельствовано в надгробных надписях, ему попросту не хотелось. Прими он Айлис таким, каким тот видится отсюда, с кладбища, может, и небо над головой станет совсем другим и никогда уже не увидеть ему это небо таким прозрачным, таким чистым и непорочным... А если он лишится и этого, что же ему останется в жизни? И он, наверное, понимал, почему именно сейчас, оторвав взгляд от могилы Эсмер и глядя в чистое айлисское небо, он сразу вспомнил дядю Бахрама. Бахрам словно бы был где-то тут, неподалеку, на небе или над небом, и живыми, веселыми глазами поглядывал оттуда на мир. Но одновременно он был там, в Сабунчах; с горделивым видом стоял возле полок с книгами — в большой комнате вся стена сплошь была завешена полками. «Сокровище! — любил хвастаться Бахрам. — Было у кого-нибудь из айлисцев столько книг? У Мирзы Талыба? Да что у него было, у лысого дурака?.. Несколько книжек: «Полистан», «Бустан» да два засаленных экземпляра Корана... Так что запомни: твой дядька — первый в истории Айлиса обладатель собственной библиотеки!» Рамазана всегда поражало, что Бахрам гордится первенством именно в этой области, потому что, если говорить о первенстве, так одним своим воинским званием Бахрам давно уже обеспечил себе это «первое место». Но этот первый в истории Айлиса майор хвастался только книгами. Мало того, лишь на эту тему — о книгах — Бахрам способен был говорить относительно серьезно. По умению над всем посмеиваться, все превращать в шутку он тоже наверняка занял бы первое место в Айлисе. «Ну, что молчишь, племянничек? Давай нахваливай Айлис. Просвети дядьку. Расскажи, какие там люди были. Хорошие, говоришь?.. Трудолюбивые, честные, благородные... — И добавит с чисто айлисским выговором: — Не вешай ты мне лапшу на уши! Я этот твой Айлис как облупленный знаю!» Оторвав взгляд от неба, Рамазан вновь принялся читать надписи на могильных камнях и, читая их, думал, что, пожалуй, Бахрам прав. Не исключено, что сегодняшние дни Айлиса — лучшие за всю историю его существования. Во всяком случае, если брать в пример жизнь людей, лежащих под этими могильными камнями, никак не скажешь, что прошлое Айлиса было светлее, чем сегодняшний его день. Вот тот, что лежит справа, ДжалиОборваиец, такой ходил всегда страшный, драный — сам черт испугается. А Ситара — вон ее могила у ограды — десять лет училась вместе с Рамазаном и все десять лет ходила желтая-прежелтая; наскребет, бывало, глины из поддувала и потихоньку жует на уроке. А вот лежит учительница Забите. Рамазан учился у нее в первом классе. Эта все голову керосином мазала. Сама мазала и ученицам велела, потому что, если мазать голову керосином, вшей не будет, а что керосином воняет, на это никто и внимания не обращал. Да, отсюда, с кладбища хорошо видно, сколько тогда ходило по улицам Айлиса больных людей. Парша, трахома, чесотка... А малярики... Бредут, бывало, желтые, измученные, в чем только душа держится... Никогда еще тот, прежний Айлис не представал перед Рамазаном в таком неприглядном обличий. Ладно, хватит! И Рамазан, уже торопясь, направился к старой части кладбища, чтобы сделать то, ради чего и пришел сюда: навестить могилы отца и матери. Сперва он постоял у могилы матери, могила отца была чуть поодаль — в Айлисе не принято хоронить рядом близких родственников, в том числе и мужа с женой: «Все равно идут в один дом». На могильном камне матери еще не стерлись отметины, по обычаю, сделанные им в день похорон. На надгробии отца он начертил тогда вопросительный знак. Знак этот мог означать лишь одно: «Был ли я тебе хорошим сыном?» Постояв над могилами отца и матери, он сразу же ушел с кладбища. Вообще не собирался идти сюда, другие были у него планы. И, хотя настроение было основательно подпорчено, Рамазан все-таки решил отправиться дальше.». Но, едва он отошел от ограды, отделявшей кладбище от мира живых, кто-то окликнул его. Рамазан обернулся. Шахсувар. Бывший их председатель стоял, опершись на посох, рядом паслись десятка полтора овец. Кажется, Шахсувар еще раньше, на кладбище приметил Рамазана. И узнал его. Поздоровались, уселись на камни... — Приехал, стало быть... — Шахсувар, опустив голову, ковырял землю концом посоха. — Что ж не показываешься? — Да так... Отдыхал. — Рамазан не знал, что ответить. — Не зябко? — Шахсувар взглянул на его рубашку с короткими рукавами (сам он был в телогрейке). — В Айлисе нашем одно только и осталось удовольствие — утра прохладные. — Да... Прохладные... Воздух такой... — Рамазан был несколько растерян, озадаченный этой встречей. — И дядька твой никак сюда не едет. Совсем дорогу забыл. Как он там, ничего? Здоров? — Здоров. Очень даже здоров. — Ну, этот вряд ли здесь покажется... — Шахсувар почему-то вздохнул. — Приедет, если захочет. Встал утром, да и на вокзал. Чего ему не приехать? — Шахсувар вдруг замолк, задумался, может, вспомнил дороги, по которым сам прошел в войну... Рамазан глянул на восход. Солнца еще не было видно, но горы уже розовели в его рассветных лучах. И огромный, заваленный камнями пустырь, что тянулся до гор, до самой кладбищенской ограды, был того же розоватого цвета. Горные потоки нанесли такое множество камней, что кое-где даже возникли холмики причудливой формы. Человеку, не видевшему, как тут колосилась пшеница, и в голову не пришло бы, что эта каменистая пустыня могла быть когда-то прекрасной пашней. А прошло-то всего ничего, что значит для земли тридцать — сорок лет... Шахсувар догадался, о чем думает Рамазан, глядя на пустырь, заваленный камнями. — Вся наша деревня когда-то под ними была, — сказал он, поднимая с земли небольшой камень. — Тут от горы до горы, — он показал рукой на ту сторону речки, — ровно три километра шестьсот пятьдесят пять метров — председателем был, сам мерил. До реки около двух километров, за ней чуть поменьше. Вот и подумай, если такую площадь за какие-нибудь сорок лет прямо у тебя на глазах могло завалить камнем, значит, когда-то сплошь камень был. А ведь за сто — сто пятьдесят лет опять может такое сделаться, и земли не найдешь под камнями. Так или нет? — Так, — сказал Рамазан и, странное дело, вдруг обрадовался. То, что вся территория деревни и ее окрестности были когда-то сплошь завалены камнями, словно бы доказывало, что Айлис, тот Айлис, что существовал в его памяти, способен вновь стать реальностью. — Помнишь, как мы здесь пшеницу сеяли? До самой горы. Рамазан улыбнулся. Еще бы ему забыть ту пшеницу... — Ох и пшеница удалась в тот год! — с восхищением сказал Рамазан. — Такой вроде никогда и не было! Шахсувар удивленно посмотрел на него. — С чего это ты взял? Пшеница у нас всегда родилась — дай бог! Семена-то свои, местные. И как они перевелись, какой вредитель решил извести нашу пшеницу, веришь ли, ума не приложу... — Шахсувар впервые за весь этот разговор с интересом взглянул Рамазану в глаза. — В городе-то хоть что насчет этих дел толкуют? Рамазан пожал плечами. И Шахсувар, до сих пор говоривший спокойно, чуть не шепотом, вдруг резко повысил голос: — Пшеницу в черт-те что превратили!.. До того довели — народ хлеб нипочем считает! Сейчас в деревне кило баранины девять рублей. А знаешь, сколько пшеницы можно купить на эти деньги? Мозги дымятся!.. В Баку на базаре урюка кило — пятерка и пуд пшеницы — пятерка! Дешевле не то что там лука или огурца, а самой что ни на есть распоследней тыквы! Раз кило масла из-под полы за семь рублей идет, и хлеб должен в цене повышаться! А то совсем народ испоганится. И так никуда стали люди... — Будто, если хлеб вздорожает... Шахсувар не дал ему закончить: — Если хлеб пойдет по своей цене, и остальное свою цену получит. Я знаю, что говорю. Щедрые мы больно. Только от щедрости этой больше вреда. Работай не работай — хлеб у любого есть. Потому ловчить научились, у каждого свой способ. А не должно быть хлеба тому, кто не работает. Тогда сразу увидишь, кто чем занимается... Шахсувар замолк и снова стал ковырять землю концом посоха. Овцы его разбрелись по пустырю, но Шахсувар даже и не смотрел на них. — А ты вот мне скажи: тогда было лучше или теперь? — то ли в шутку, то ли всерьез спросил Рамазан. — Когда это «тогда»? — Ну, когда здесь, на пустыре хлеб рос. — С одной стороны, вроде сейчас получше, — неспешно, как бы раздумывая, заговорил Шахсувар, — богаче стали все, денежнее. Как у нас наряжаются, в городе не каждый одет. Только, знаешь, сынок, жизнь человеческая не одежа, не деньги на книжке. Тогдашняя жизнь в каком смысле лучше была — каждый получал за труд свой, ел, как говорится, свой хлеб. И потому в людях человечности больше было. А в нынешних — у другого человеческого-то и не отыщешь, вот в чем беда. Прокормиться — дело нехитрое, нужно, чтоб человек лицо свое не терял. Высказав эти соображения, Шахсувар, похоже, повеселел. Рамазану, давно жаждущему такого откровенного, бесхитростного собеседника, было одно удовольствие слушать Шахсувара. Ни растерянности, ни безысходности не было ни в голосе его, ни в выражении лица. Спокойной, какой-то хозяйской уверенностью Шахсувар напоминал ему дядю Бахрама. Поучиться бы Хабибу у этого старика!.. Внешне-то брат спокоен, но в душе у него смятение: мнительный, безвольный, несмелый... — А помнишь, как по домам ходили, хлеб на семена выпрашивали? — словно невзначай спросил Рамазан. — Ишь ты! — Шахсувар рассмеялся. — Знаю, к чему ты! Хочешь сказать, что, мол, эти, теперешние, не с неба свалились. Ихнее, мол, потомство, тех, что нам тогда с зерном напакостили. Ты вот что, сынок, ты тех с нынешними не равняй. Упрямились они, как скотина, но ведь как рассуждали: я сеял, я жал, сколько муки принял, пока хлеб высушил да в мешки ссыпал, а теперь тебе отдать? Так? Так. А нынешние как рассуждают? Я, говорит, и не сеял, и не жал, а все равно отдай мое... Знал бы ты, что здесь в совхозе творится! Да если бы мы в свое время хоть что похожее учудили, давно бы в Сибири гнить... — Шахсувар опустил голову и долго рассматривал дырки, проколупанные его посохом. Потом вдруг поднял голову. — Ты когда-нибудь видел, чтоб у нас капусту сажали? — Капусту? Нет, конечно... — Прошлый год как раз об эту пору длиннющий список составили. Велели всем расписаться: совхоз, мол, сдал государству столько-то капусты, а ты за эту капусту получил от совхоза столько-то денег. Почти триста человек под тем списком подпись поставили. И спекулянты, те, что круглый год на бакинских базарах торчат. Им-то нужнее всех: работники, мол, свое продают... — А деньги, значит, начальству в карман? — еще не веря, что это так, спросил Рамазан. — Им много чего в карман идет, но здесь не тот интерес. Капуста же никакой нет, откуда деньгам взяться? Это все для бумаги. А в совхозе, мол, дела идут, контора пишет, план выполняется. Ну, будто я посадил, продал, а ты купил и съел. — Невероятно... — пробормотал Рамазан. — Ничего невероятного... — невозмутимо заметил Шахсувар. — Бывает и похуже. Помнишь, сколько мы в свое время коконов государству сдавали?.. Какого труда стоило наладить это дело?.. А теперь по всей деревне и пятерых не отыщешь, чтоб шелкопряда держали, а коконов сдаем столько же. Вот какие чудеса бумага делает. Даже и название придумали, хитрое название: заочный коконовод. Я сам вот уже десять лет шелководзаочник. А чего? Всего и дела — раз в год подпись свою поставить. Все ставят, и я ставлю. Раз начальству бумага надобна, пускай и моя подпись красуется. Чего ж хуже всех перед начальством быть? Рамазан усмехнулся. — И это потому, что хлеб дешевый? — Да большей частью оттого, — совершенно серьезно ответил Шахсувар. — Ну, допустим, продали мы те коконы. Допустим, сами купили потом тот шелк, пошили, сносили, и делу конец. Не будет шелка, и так обойдемся. А представь, хлеба не будет, если мы и с хлебом такую же махинацию?.. Только с хлебом это не пройдет! Платок шелковый пять лет носить можно, а хлебушек-то, его каждый день подавай!.. На хлебе большой аферы не сделаешь. Есть-то чего? Капусту, какая на бумаге записана? — Шахсувар усмехнулся, но глаза были сердитые, безрадостные глаза. — Я это все к чему? Шелк что? Сегодня мало, завтра много будет — да хоть бы его и совсем не было!» Я про то, что ведь рано или поздно откроются их делишки — сколько веревочке ни виться, а кончику быть! Получат свое. И еще что хочу сказать. Молодежь, дети на фокусы на эти любуются. А на такое с мальства глядеть — и глаз лишиться можно. Жалко мне их, ребятишек. Он только родился, а вокруг сплошь обман да выкрутасы, какой из него человек вырастет? Откуда ребенку знать, пяток подлецов орудуют или сверху есть указание. — И Шахсувар снова с живым интересом поглядел на Рамазана. — Стало быть, говоришь, нет об этом в городе разговору? — Да кое-что вроде бы раскрывается... — Ну что ж, дай бог... — Шахсувар поднялся с камня. — К нам, значит, пока не дошло. — И, уже шагнув за овцами, добавил: — Будет время, заходи вечером, дружба крепка хлебом-солью. Рамазан долго глядел ему вслед. Состарился Шахсувар, крепко состарился. (Когда сидел, не так было заметно.) Старик брел за овцами сгорбленный, с трудом переставляя ноги. А телогрейка и стеганые штаны на нем словно еще с тех времен... Рамазан повернул домой, на глазах у Шахсувара без дела болтаться по пустырям было совестно. VIII Самолет терпит аварию Неподалеку от кладбища, у дороги, под тем же ореховым деревом опять собрались мальчишки. Шла игра в расшиши. Игра заключалась в том, что одну монетку клали на другую и били по ней пятаком. Если монета переворачивалась, то доставалась тому, кто бил, проигравший должен был ставить новую. Давно уже наступило утро, но до полдня было еще далеко. И вот сейчас, в эту пору меж утром и полднем мир вдруг снова стал совсем другим, новым. Сиреневый свет исчез, но вместо него сияло, озаряя все вокруг, что-то еще не виданное... А может, ничего такого и не было; может, любовь, влюбленность — чудо, способное творить с миром все, что угодно, сотворило это сияние. Опьяненный нежно-прозрачным сиянием, упиваясь им, жадно глотая его, Мехти шел, вроде бы и не касаясь земли, он скользил в волнах света, как рыба скользит в воде. Сегодня они обязательно увидят озеро. И озеро обязательно понравится Лейли. А она шла сейчас, тоже радуясь этому обилию света, шла, весело припрыгивала, и свету нравилось, что она так припрыгивает. Все будет хорошо, лишь бы миновать тех, под орехом, пройти, чтобы не заметили и еще чтоб возле конторы никто не увидел их. Ничего больше не нужно было Мехти, подольше бы только вот так скользить и скользить в волнах света... Но, лишь они поравнялись с орехом, под которым резались в расшиши мальчишки, Мехти увидел, что, свернув с дороги, Лейли бежит прямо к ним. Он пытался остановить ее: кричал, звал, просил, но она словно ничего не слыхала. На этот раз и Сейран был среди мальчишек, и Лейли, подбежав, остановилась прямо перед ним. — А, ты здесь? — Лейли смотрела на него совсем не враждебно. Наоборот, она улыбнулась ему. Но Сейран ничего не понимал. Боялся, что девчонка опять залепит ему пощечину. — Ну, чего ты боишься? Не бойся, я людей не жую!.. — Лейли хотела сказать «не ем». В Айлисе она быстро начала говорить по-азербайджански, но многих слов ей все еще не хватало. — Пойдем на озеро!.. — Она схватила Сейрана за руку. — Ну! — И опять улыбнулась, Мехти не помнил, чтобы она кому-нибудь так улыбалась. А Сейран стоял перед ней, плечистый, рослый, и рубашка на нем была голубая с золотыми пуговицами, с двумя карманами... — Брось! Пусти руку! — Мехти с такой силой налетел на Сейрана, что тот плюхнулся на землю. — Ты что, сбесился?! — Лейли стала поднимать Сейрана с земли, сердито поглядывая на Мехти. — Дурак!.. Бросив игру, мальчишки с интересом наблюдали за ними. — Пойдем с нами, Сейран! Туда, в сады... Где озеро. — И, снова схватив мальчишку за руку, Лейли потащила его за собой, а никакого Мехти будто и не существовало на свете. Когда она обернулась, чтоб позвать Мехти, тот был уже далеко. Он карабкался в гору, так торопился, так спешил, словно за ним гнались волки. Мальчишки, улюлюкая, свистели ему вслед. — Ну, скажи, не псих? — ища сочувствия, Лейли изумленно взглянула на Сейрана и бросилась догонять Мехти. — Ну куда ты? Мехти, подожди! Куда ты?.. Мехти! — то порусски, то по-азербайджански кричала девочка, но Мехти не останавливался. Вскоре он уже был на самом верху, а Лейли, покарабкавшись еще немного, остановилась — подняться выше ей было не под силу. Девочка стояла на склоне, звала его, чуть не плача, и один бог знает, какая она была красивая сейчас, когда звала его. Как хотелось Мехти откликнуться ей с вершины горы. Но горе, гнев, любовь и отчаяние переполняли его. Мехти не окликнул девочку. ...Никогда еще не взбирался он так высоко, ничего этого никогда не видел. Почему ущелье по ту сторону горы такое узкое, глубокое?.. И вода в речке стоит, не движется. А он и не знал, он понятия не имел, что тут за горой тоже речка, ущелье и лысые серые горы, упершие в небо пики своих вершин. А может, это сон, тот самый сон с его серыми скалами и бездонным мертвым ущельем? Мехти обернулся, глянул в ущелье за своей спиной — то ущелье!.. — и, ужаснувшись, стал тихонько спускаться. Домой они шли какими-то неизвестными тропками, перелезая через чужие ограды. Всю дорогу молчали. Лейли не сказала дома, что Мехти бросил ее, убежал, не упомянула Сейрана. Весь день она пролежала в комнате, читая книжку, которую привезла из Баку. Мехти заглядывал в окно, подходил к двери, но зайти и сказать ей хоть слово у него не хватило смелости. В ту ночь, засыпая на крыше, Мехти попытался было опять пройти с Шамсией бесконечной лесной дорогой, залитой сиреневым светом, но это почему-то не получалось. Он устал, изнемог, у него больше не было сил, ему больше не хотелось идти с Шамсией по той дороге. А идти с Лейли, идти там, где он прежде ходил с Шамсией, было нельзя, потому что деревья, цветы, трава — те, что всегда видели их вместе, помнят это! В ту ночь, засыпая, Мехти долго раздумывал — он отыскивал новый путь, чтоб идти по нему с Лейли, новое пристанище, и в поисках этого нового пристанища его окрыленная душа устремлялась ввысь, к горным вершинам, где никогда не тает белый-пребелый снег... Потом Мехти летел в самолете, красные огоньки которого то гасли, то вновь загорались, бросая отсветы на белый-пребелый снег... Летел не один, а вместе с Лейли, и, кроме них, никого в самолете не было. Потом Мехти сам вёл этот самолет, а Лейли, веселая и красивая махала ему рукой, стоя на горной вершине, покрытой белым-пребелым снегом... Он обдумал тысячи путей, которые могли привести их с Лейли в белые снега, где не ступала нога человеческая и где они были бы совсем одни. В ту ночь, уже засыпая, он сочинил сказку: самолет попадает в аварию, а Мехти и Лейли, упав в мягкий, пушистый снег, покрывающий горные вершины, единственные из всех пассажиров остаются в живых... От места, где упал самолет, далеко тянется белое-пребелое заснеженное ущелье. Сколько дней нужно идти по нему, чтобы добраться до их пристанища, Мехти не знает. Но он готов на все, готов на любые испытания и он знает, что дойдет. ...Мехти смело выпрыгивает из самолета. Место ровное, снег пушистый, как хлопок. — Не бойся, прыгай! — говорит он Лейли. — Я тебя на лету поймаю! Взявшись за руки, они начинают спускаться с горы. И тут вдруг оказывается, что в самолете остался еще один живой человек, тетя Саида, и, чтобы снять ее оттуда, Мехти быстро карабкается обратно — тетю Саиду он возьмет с собой, потому что там, куда они наконец придут и где останутся жить, нет ни деревни, ни города, ни мужчин, ни женщин. И никто никогда не сможет узнать, что тетя Саида, такая хорошая, такая красивая, до сих пор так и не вышла замуж... Мехти проснулся на рассвете от стука в калитку. Стучали к тете Досте. Может, он проснулся и раньше. Но то, как вздрогнул от этого стука, он долгие годы не сможет потом забыть. Тихонько, чтобы никого не разбудить, Мехти приподнялся — взглянуть. Но у калитки уже не было человека, стучавшего к тете Досте, и, чтобы увидеть этого человека, Мехти сбежал вниз, подскочил к ограде и заглянул во двор. Это был Валид! Он стоял перед дверью дома, держа в руке огромную коровью печень. Каким образом по одному лишь стуку в калитку он понял, что это пришел Валид, Мехти не мог додуматься и много лет спустя. И много лет спустя, когда он будет вспоминать этот двор, перед глазами прежде всего будут возникать капли крови, падающие с огромной коровьей печени, хотя непонятно, откуда они могли взяться: даже если корова была забита совсем недавно, кровь должна была стечь, пока Валид нес сюда печень... Мехти не мог слышать, о чем толковали Валид и тетя Доста за закрытой дверью. Но слова, которые сказал Валид, когда дверь снова отворилась, Мехти слышал все до одного. «Пускай радуются, что беру ее. Полный порядок будет. Не вырвется белая кобылица изпод гнедого жеребца!» Мехти никогда не видел ни белой кобылицы, ни гнедого жеребца. И, если бы этим летом, когда он с бидоном в руках шагал вдоль речки на ферму за молоком, ему не довелось услышать в заросшем ежевикой арыке сопение, похожее на сопение ежа, схватившего змею, и он не обернулся бы на этот звук, он, может быть, и не понял бы смысл этих слов. Но тот арык и сейчас у него перед глазами: Валид и «скотная докторица» Гаратель. Ни тот, ни другой не заметили мальчика. Весь день в ушах у Мехти стояло сопение, похожее на сопение ежа, схватившего змею... Валид был этот «гнедой жеребец», Гаратель — «белая кобылица». И, конечно, Мехти никак не хотел, чтоб тетя Саида стала «белой кобылицей» Валида. До самого вечера Мехти не смел взглянуть ей в лицо. А вечером, прежде чем уснуть, он вытащил труп Валида из самолета, потерпевшего аварию средь снежных вершин, бросил его на землю. И они уже спокойно втроем продолжали свой путь: он, Лейли и тетя Саида... IX «Чувиха» После того как, осмелев однажды, Хабиб раскрыл брату «тайну» своей папки, у них теперь каждый вечер заходил разговор об этом. И сейчас, когда они, отужинав, всей семьей сидели под черешней, Хабиб все ходил и ходил взад-вперед, в который раз доказывая Рамазану, что айлисская земля вполне может прокормить деревню, и для подтверждения своих слов то и дело поднимался в комнату и приносил то один, то другой листочек бумаги. Рамазан сидел молча, он не смотрел на брата, но слушал его, казалось, очень внимательно, хотя, если взглянуть ему в глаза, можно было бы заметить, что мысли его далеко, потому что разговор этот осточертел ему донельзя. Пакиза убрала посуду, Мехти стоял, прислонившись к стволу черешни. Лейли сидела поодаль, под лампой, висящей на стене дома, читала. (После того дня, когда Мехти убежал от нее, она никуда из дома не выходила, сидела и читала книги.) Саида была в этот вечер какая-то особенно задумчивая. Поглядывала то на одного, то на другого, то хмурилась, то улыбалась... Когда Хабиб побежал за очередным своим листком, в калитку постучали и во дворе появился Валид. Рамазан не узнал его, но, поскольку, едва тот вошел, Саида тотчас убежала, сразу смекнул, в чем дело. В доме ни о чем таком разговоров не было, но последнее время к ним зачастила тетя Доста, причем ходила она тайком, и тут, безусловно, что-то крылось. — Салам алейкум!.. — Валид стоял перед Рамазаном, глядя ему прямо в лицо. — Я с вами мириться пришел! — То, что Валид явился выпивши, заметно было лишь по покрасневшим глазам, да еще изо рта несло, но по тому, как он говорил, как держался — ни за что не сказать, что нетрезвый. — Идите спать! - бросил Хабиб и, когда ребятишки ушли, сам ушел, чем очень удивил Рамазана. — Я пришел помириться с вами... — Эту фразу Валид произнес уже потише, и в голосе у него заметна была дрожь. Рамазан внимательно смотрел на непрошеного гостя, но так и не смог вспомнить, где и когда видел этого человека. — А когда мы с тобой... Где мы с вами поссорились? — Да в Баку!.. Не помните? Возле центрального базара. Вы мне еще тогда оплеуху отвесили... А-а, «чувиха»! Если б это уродливое слово вдруг не всплыло в памяти, Рамазан так и не смог бы сообразить, с кем имеет дело. Значит, это и есть тот человек, тогда еще молоденький парнишка, который остановил его однажды у базара. Сейчас-то ему лет тридцать пять. Волосы начинают редеть, над высоким лбом залысина. Лицо загорелое, цвета меди, здоровое лицо. И сложения крепкого, будто спортсмен какой... Рамазан смотрел на коренастого парня и вспоминал ту давнюю встречу у базара. Саида тогда месяца два как приехала в Баку. «Я хочу к вам сватов прислать!» — даже не поздоровавшись толком, с места в карьер заявил ему этот парень. «И кого ж сватать хочешь?» — «Вашу сестру». — «Откуда ты знаешь мою сестру?» — «Как это откуда? Я ж айлисский. Брат Адиля-муаллима. Вы меня не узнали?» — «Иди, парень, иди торгуй. Моя сестра тебе ни к чему...» Он больше не стал говорить, пошел к автобусу, но парень снова возник перед ним. «Не отдадите, выкраду! — заявил он. — Имейте в виду (это «имейте в виду» особенно не понравилось Рамазану), я ее люблю! Вы же не знаете... она моя чувиха!» Айлисский мальчишка, только-только нюхнувший городского воздуха, может, и не знал толком смысла этого слова, но Рамазан взбесился — его сестру именуют блатным словом, которое еще со студенческих лет вызывало у него омерзение. И влепил наглецу оплеуху. «Ладно, посмотрим!» — кроме этих двух слов, Валид вроде бы ничего и не сказал тогда... А ведь Валид лишь потому и оказался в Баку, что этот, теперь уже седеющий человек нежданно-негаданно увез в город Саиду. От этого все и пошло: и то, что стал он своим на бакинских базарах и что везло ему там и карманы вроде сами собой набивались деньгами... Не нужны были ему большие деньги, когда он с утра до ночи слонялся по городу в надежде встретить Саиду. Просто не было на обратную дорогу. Впрочем, чтобы добыть денег на обратную дорогу, было достаточно один-единственный день просидеть за прилавком, помогая кому-нибудь из знакомых. И он просидел этот день. И первая же дневная выручка решила все. До середины весны проторчал он на разных бакинских базарах. Так и не повидав девушки, вернулся в деревню. Потом — армия. А когда пришел из армии, сразу же влюбился в библиотекаршу Сафуру и начисто забыл о Саиде... — Я тогда плохо себя вел... Оскорбил вас, — будто виноватый ребенок, Валид присел на краешек стула. — Сиди нормально... Чего уж... — Рамазан улыбнулся. — Большое спасибо! Очень, очень вам благодарен, — Валид обрадованно протянул руку. — А вы здорово изменились с того времени». — Рамазан говорил ему то «ты», то «вы». Словно стоял между двумя Валидами: теперешним и тем, у рынка. — Я знаю, Хабиб-муаллим меня не любит, — Валид беспокойно заерзал на стуле. — Только я ему ничего плохого не сделал. — Ну, это вам лучше знать... — неопределенно произнес Рамазан. — А чего тут знать? Ведь он что... Считает, у меня деньги нечестные!.. — Валид держался уже свободнее. — У кого я хоть копейку украл? А?.. Докажите. Если хоть копейку украл, пускай мне руку отрубят! — Последнее время на базаре вас вроде не видать... — сказал Рамазан, пытаясь узнать, чем занимается теперь Валид. — Да я этого базара пять лет в глаза не видел! — Валид удивленно смотрел на Рамазана: вот человек — не понимает даже, что он, Валид, давно уже обеспечен на всю жизнь!.. — Значит, чем-то другим занимаешься? — Что значит «чем-то другим»?! Бухгалтером здесь, в совхозе работаю, неужели не в курсе? — Ну вот, теперь в курсе. — Каждый по-своему изворачивается. Он учитель, зарплатой обходится, будь я учителем, тоже, может, на зарплату бы жил... Виноват я, что не все умеют деньги делать?! А я умею, чего скрывать?.. Надо было, и на базаре за прилавком сидел. От того сидения сорок тыщ смог на дом выложить. Плохо, что ли, такой дом? И машина имеется. А деньги потребуются, и деньги найдутся. Есть у меня деньги, чего скрывать. Мои, не краденые. — И как же ты без базара деньгу добываешь? — Рамазан не смог сдержаться, не задать этот вопрос. — А вот так: кручусь да поворачиваюсь! Расчеты совхозные в чьих руках? В моих. Но повторяю: людям от моих операций никакого ущерба! Имею я доход, не имею, они свою зарплату получат. — Считаете, у государства воровать — не воровство? Валид вроде малость смутился, но быстро взял себя в руки. — Вон как вы заговорили!.. Точно как Хабиб-муаллим! — А как мне еще говорить, я сам на зарплату живу. — Рамазан говорил спокойно, довольный, что может владеть собой. Валид пожал плечами. — И думаете, много таких, как вы? — помрачнев, сказал он. — Не... думаю... — Вот. Все, как могут, деньгу добывают! Зарабатывают люди!.. Что, неверно? — Неверно, потому что воровать и жульничать — не значит зарабатывать. Воровать — значит, воровать, — Рамазан улыбнулся: хочешь, обижайся, хочешь, нет, ты спросил, я ответил. И тут Валид вдруг резко повернул разговор: — Я точно знаю, она меня любит! — И откуда ж это тебе известно? — Мы с ней, еще когда в школе учились, переписывались. Валид поднялся. Но, странное дело, ноги его не слушались, похоже, развезло уже тут, пока сидел, и это обстоятельство, кажется, немало удивляло самого Валида. — У меня к вам просьба... — Пожалуйста. — Не вмешивались бы вы в мои семейные дела! Ни вы, ни Хабиб-муаллим! — Пожалуйста... — Рамазан невольно улыбнулся. — Ты иди пока. В другой раз зайдешь, потолкуем. — Но, едва гость затворил за собой калитку, Рамазан уже пожалел и о том, что говорил так мягко, и о том, что улыбался Валиду. Еще и водочный дух не успел улетучиться, а Пакиза уже выскочила из дома. — Чего он, братец? — Да... не знаю... Много наболтал всякого... денег, мол, у него навалом. — Это да, — восхищенно прошептала Пакиза. — И деньги у него есть. И дом хороший. И добра полно... — Хабиб знает про эти дела? — Знает. — А Саида что думает? — Не поймешь ее. То так, то эдак. Выпендривается! — бросила вдруг Пакиза и густо покраснела, смущенная тем, что сказала грубость при Рамазане. — А Хабиб? — Ни в какую! — Пакиза вздохнула. — Он, говорит, нам не подходящий. — И, повысив голос, словно для того, чтобы услышал Хабиб, добавила: — А где его теперь искать, подходящего?.. Когда, затворив за собой калитку, Валид вышел с ярко освещенного двора, ему почудилось, что густая уличная тьма прямо вязнет у него на ногах. А было не так уж темно. Ночь выдалась не из лунных, но свету было достаточно — то тут, то там светились окна домов. Слышны были телевизор, радио... Волоча ноги, Валид побрел домой, но сделал шагов пятнадцать и остановился, привалившись к стене, ограждающей двор тети Досты. Что-то странное происходило с ним. Как же это он так оплошал?.. Неужели из-за этой девки? Ну, пускай без восторга встретили его, так ведь и не выгнали... Чего же такая муть на душе, хоть грызи эту проклятую темнотищу!.. Всем своим существом Валид чувствовал, что потерпел неудачу, проиграл в чем-то очень важном, хотя и не мог понять, в чем. А проигрывать он не привык. Всегда брал от жизни все, что хотел, и жизнь покорно ему уступала. Что же произошло?.. Привалившись спиной к стене, бессильно опустив руки, Валид долго смотрел на звездное небо... Вспомнил вдруг Сафуру. Как она гарцевала на красавце коне с притороченным к седлу хурджуном — раз в неделю возила журналы в горы: чабанам и их ребятишкам... Когда, он в первый раз увидел Сафуру на этом коне, лучшем из всей колхозной конюшни, то немедленно решил, что тоже купит коня. И купил! Хотя не так-то это было просто. Тем более что только-только демобилизовался, те, базарные деньги давно уже разошлись. Отца своего Валид не помнил, мать умерла, когда он служил в армии. У брата его Адиля водились деньги — работал-то он учителем, но еще был единственным в деревне столяром, все рамы, все двери в Айлисе сработаны его руками. Только Адиль ни за что на свете не дал бы ему денег на коня, не стоило и просить. С десяткой в кармане Валид сел вечером в поезд, и не прошло месяца, как Айлис ахнул, увидев его однажды утром верхом на красивой белой кобыле. Отсидев на бакинском базаре неполный месяц, Валид на этот раз положил в карман две тысячи; и с конем ему здорово повезло — на обратном пути случайно оказался в одном купе с заведующим фермой из соседнего колхоза и там же, в вагоне, вопрос с конем был решен. Заведующий взял за коня тысячу, но конь того стоил; и, когда Валид верхом на белой кобыле возвращался в Айлис, он уже не сомневался, что взял коня по дешевке. И не осталось в окрестностях Айлиса ни единого клочочка земли, где не ступали бы копыта его кобылы. Даже в реве бушующей по весне Айлис-реки слышалось ее призывное ржание. Сперва Сафура всячески избегала Валида, видно, чуяла, бедная, что из этого может выйти. Долгое время она не выезжала ни к чабанам в горы, ни к рабочим на фермы. Но не так-то просто было спастись от Валида. И, когда той же весной — еще и не перестала реветь бушующая половодьем речка — жители Айлиса увидели мирно въезжающих в деревню Сафуру верхом на гнедом и Валида на его белой кобыле, все только глаза повытаращили. Вскоре у дверей Алибалы-Интеллигента появился брат Валида Адиль, и отец Сафуры как миленький дал согласие — с Валидом шутить не стоило. В конце весны Адиль устроил брату богатую свадьбу. А летом Валид взял коня, продал его в районе на базаре за семь сотен и, пустив в дело капитал, устроился на консервный завод уполномоченным по закупке фруктов. Дело это было хоть и сезонное, но доходное, вроде бы жить ему да радоваться, но Валид не радовался — как-то вдруг оказалось, что не по нему семейная жизнь, тесно ему, тоскливо, душно... Теснота эта давила Валида, и повинна в этом, конечно же, была Сафура, не дававшая мужу выбраться на простор. Валид пристрастился к водке. Прямо у прилавка, опрокинув в рот поллитра, он шел домой. Приходил и, первым делом догола раздев жену, побоями заставлял ее проделывать то, что не станет делать последняя продажная девка. На Сафуре места живого не было. (Позже, когда бабушка Азра, обмывавшая покойников, увидит ее тело, она закричит, и крошечные айлисские девочки, проснувшись в своих колыбельках, расплачутся и долго будут плакать...) Осенью, отрясая орехи, брат Валида Адиль упал с дерева и убился насмерть. (Потом скажут, что это было проклятие Сафуры.) Самые черные ее дни и начались со смертью Адиля. «Ты принесла в дом несчастье!» Валид, словно обрадовавшись новому поводу, стал напиваться каждый день и каждый день тиранил жену. Именно водка и породила в его мозгу сомнения: а был ли он первым у Сафуры? И в одну из ночей, до утра избивая жену, выбил из нее «признание». И сам не знал, зачем добивается этого, может, думал, что теперь жена уйдет к отцу или покончит с собой и перед ним вновь откроются широкие просторы этого мира? Может, видя, что Сафура чахнет на глазах, старался перед смертью осквернить, извалять ее в грязи, чтобы переложить на плечи жены хоть часть своего греха?.. Так или иначе, добившись своего, Валид несколько поутих. Мир, широкий мир не стиснутый ни браком, ни загсами, мир с его базарами, ресторанами, гостиницами, самолетами властно манил Валида... А Сафуре уже оставалось немного, и не было уже у нее сил ни уйти к отцу, ни решиться на чтонибудь. В самом начале зимы она вышла утром за дровами и там же, возле поленницы свалилась. Под вечер ее хоронили. Но, странно, после смерти жены простор и широта мира уже не так манили Валида. Всю зиму он провел в Айлисе. Вдова Адиля готовила ему, стирала на него. Деньги у Валида водились: семьсот рублей, вырученные от продажи коня, он, вложив в дело, в первый же сезон обратил в семь тысяч. Сумма немалая, хотя в сравнении с последующими его доходами, надо полагать, не деньги — пустяк. Одним рабочим, полгода строившим его дом, заплатил он двенадцать тысяч, чуть меньше пошло на стройматериалы, да еще кормежка — баранины каждый день семь-восемь килограммов... И сейчас, привалившись спиной к старой, выщербленной стене, ограждавшей двор тети Досты, Валид мысленно окинул взглядом свой новый дом с огромной застекленной верандой... Но легче от этого не было... Давно он не помнил, чтобы так по-идиотски надрался, а ведь пить-то, можно сказать, не пил, только что в школьном буфете (айлисские пьянчужки всегда собираются там, особенно в летние месяцы) посидел с учителями, перекусил, стакан водки принял... А может, они еще там, учителя эти?.. Валид хотел было направиться к школе, но подумал, что придется проходить мимо Хабибовой калитки, и не решился. Это же надо: он, Валид, боится какого-то несчастного учителишку? Да все они, начиная с директора школы, тянутся перед ним, по стойке «смирно» стоят, а эта слякоть, Хабиб этот ни в грош его не ставит!.. Неужели он и правда боится Хабиба? Валид замер посреди улицы». То, что Хабиб не то чтобы отказался с ним говорить, а просто взял и ушел, больше всего бесило Валида. Нет, если он сейчас же не пойдет и не выскажет все этому мозгляку, ему до утра не уснуть!.. И все же Валид не подошел к калитке Хабиба. Идти домой не было ни малейшего желания, а все Наргиля!.. До чего же осточертела ему заботливость невестки!.. Вот откроет он сейчас дверь, зажжет свет на веранде, и та вскинется, забегает у себя за оградой... «Я сейчас, дорогой... Да я для тебя...» Притащится или с самоваром, или с казаном довги. И, пока не впихнет в него еду, не уйдет, не даст покоя — в собственном доме человек не может дышать спокойно.. Умер брат, ой содержит его семью и дальше содержать будет, но эта Наргиля, чтоб ей… Тихонечко, чтоб не услышали за оградой, Валид отворил калитку. Поднялся на веранду и, не зажигая света, прямо в одежде завалился на кровать. Он не мог бы сказать, долго ли спал или вовсе не сомкнул глаз. Но, когда, словно укушенный змеей, вскочил с кровати, он уже понимал, что спать этой ночью не будет. Быстро сбежал вниз и стал заводить «Жигули».... Х Последняя ночь, самая тревожная Еще задолго до того, как Валид заявился к ним в дом, Саида хотела попросить Пакизу, чтоб не стелила ей на крыше, но каждый раз, когда нужно было ложиться, у нее почему-то не хватало смелости сказать об этом. Может, не хотела признаться, что боится спать на улице, может, думала, что Пакиза должна спать с мужем, а детей то и дело надо укрывать, значит, все равно, кто-то будет спать с ними. Кроме того, Пакиза не должна спать на крыше из-за Рамазана, так что, хочешь, не хочешь, придется укладываться на крыше ей. Двор тети Досты отгорожен был высокой стеной, и место, где они раскладывали постели, можно увидеть, разве что взобравшись на высокое дерево. Вот этих-то деревьев во дворе у тети Досты и стала последнее время бояться Саида. Среди ночи она вдруг вздрагивала и просыпалась. Днем Саида была совершенно уверена, что ерунда, ничего такого быть не может, а ночью все начиналось сначала: ей казалось, что Валид взобрался на дерево во дворе у тети Досты и подглядывает за ней. Дрожа от страха, она с головы до ног закутывалась одеялом и все равно чувствовала себя голой. Она и сама не понимала, почему ей так страшно предстать пред ним обнаженной, ведь с первой же ночи после того, как тетя Доста пришла к ним со своим разговором, Саида в глубине души только этого и хотела, только о том и мечтала. Хотела стать женой Валида. Должна же она когда-то выйти замуж, освободить наконец братьев от лишнего бремени — у них и так хватает забот. На Хабиба иной раз прямо смотреть жалко. А Рамазан?.. Чуть с женой из-за нее не разошелся. Отпуск кончается, с каким сердцем он в Баку поедет?.. Деваться некуда, надо выходить за Валида. И Саида всеми силами старалась внушить себе, что ничего тут нет страшного, человек как человек... И, когда ей удавалось представить себя женой Валида, она вдруг начинала по-новому ощущать свое тело, впервые в жизни чувствуя себя женщиной... Но, как только это ощущение проходило, снова наваливался страх... Тетя Доста давно уже хлопотала, стараясь устроить им свидание у себя, и Саида несколько раз давала согласие повидаться с Валидом, но, когда наступал срок, каждый раз убегала. Теперешнего Валида Саида видела всего раз, издалека, во дворе у тети Досты, сегодня вечером она снова увидела его. Но и сегодня не решилась сказать Пакизе, что боится спать на крыше, хотя с появлением Валида ее страх стал еще сильнее. Саида легла на обычном своем месте, между Мехти и девочкой. Рамазан еще не спал. Пакиза не погасила свет во дворе, слышно было, как она позвякивает посудой, моет ее в арыке. И все-таки Саиду охватывал ужас, стоило ей взглянуть на верхушки деревьев во дворе у тети Досты. По левую сторону от Саиды постелено было Мехти. Мальчик лежал, закрыв глаза, но не спал — дыхание его не было похоже на дыхание спящего. И с Лейли, которая обычно засыпала сразу, стоило лишь положить голову на подушку, сегодня что-то случилось. Девочка молча лежала на спине, разглядывая звезды. Саида хотела заговорить с ней, но не заговорила, потому что именно в эту минуту почемуто вдруг вспомнила Сафуру. Она была всего на класс старше ее. Стройная, тоненькая, большие голубые глаза ее всегда сияли. Когда она вышла за Валида, Пакиза сразу сообщила подруге новость, а когда Сафура умерла, почему-то не написала. И Саида до сих пор не осмелилась спросить у нее, отчего умерла Сафура. Но мало ли женщин умирают в молодости? А если так, почему ей страшно даже упомянуть имя Сафуры? Иногда вдруг придет в голову, и сразу волосы дыбом: а что если дух умершего — не выдумки? Может, вовсе и не Валид глядит на нее по ночам с деревьев, а дух Сафуры?.. Может, дух Сафуры не согласен, чтоб она выходила за Валида?.. Вздрогнув, Саида села. — Ты чего, тетя? — Мехти испуганно смотрел на нее. Рамазан тоже заметил, что сестра вдруг села, но ничего не сказал. У Лейли глаза были уже закрыты — девочка уснула. Немного погодя Пакиза погасила во дворе свет. А еще немного погодя взошла луна и ее беловатый свет словно тончайшей вуалью прикрыл небо, слегка притушив сияние звезд. Саида представила себе Баку, их бакинский дом, вспомнила Розу, к которой за долгие годы привыкла, как к родной сестре, и, укрывшись одеялом, долго беззвучно плакала... Потом Баку остался где-то там. Поезд, что увез Лейли и Рамазана, навсегда оставивших Саиду тут, под этим ночным небом, набрал ход и пошел туда, к тому, еще не наступившему утру, которое уже никогда не наступит для нее. Словно для того, чтоб заранее испытать неизбежное, пережить предстоящую боль, Саида мысленно простилась с Хабибом, Пакизой, Мехти... И в этом мире, в этом звездном, лунном, бесконечном, бескрайнем одиночестве у Саиды остался только Валид. Саида завела с ним разговор, точь-в-точь такой же, что и вчера, и позавчера... «...Я согласна быть твоей женой, — сказала она, — но клянись, что до смерти будешь любить меня...» — «Буду любить, — ответила она за Валида. — И после смерти буду любить лишь тебя... Саида, цветок мой, радость моя, — в глазах у Валида стояли слезы, — никого, кроме тебя, я не любил до сих пор. Я еще с тех пор люблю тебя — помнишь, я написал тебе письмо. Ну, что ты молчишь, скажи. Может, забыла то письмо?» — «Нет, — сказала Саида, — я не забыла... Я буду тебе хорошей женой, Валид. Но только, молю тебя, Валид, не обижай меня, никогда не кричи на меня. А то я умру, как Сафура. И останешься ты на этом свете без Саиды.» — «Не говори этого, не обижай меня... Я тебя так давно люблю. Радость моя... Прекрасная моя жена...» Одной рукой Валид гладил ее волосы, другая его рука лежала на ее обнаженной груди. И, чтоб навсегда отдать этому человеку себя, Саида призывает на помощь все, что видела в кино, что читала в книгах. Но ни книги, ни кинофильмы не в состоянии избавить ее от страха. «Валид, ради бога, я боюсь, Валид!.. — Холод этого страха ознобом проникает ей в душу, — Валид, ну скажи, почему я так боюсь тебя?» Не находя в себе сил принять решение — возможна ли совместная жизнь Саиды с этим бесноватым Валидом — и лишний раз убедившись в том, что он безнадежно отстал от жизни, Рамазан в конце концов выбросил все это из головы и теперь, лежа в постели, думал о том, что сказал сегодня Валид. Это были не просто какие-то случайные пьяные речи. В них есть железная логика, с которой все они сталкиваются каждый день, но которую из-за недостатка времени, из-за множества забот, по той или иной причине не могут осознать до конца. «Будь я учителем, я тоже, может, на зарплату жил бы». Это Валид заявляет, как говорится, с чистым сердцем. И он не считает предосудительным быть учителем, напротив, учитель для Валида — эти учитель, и он готов признать его социальную значимость. Так в чем же дело? А в том, что эту его так называемую социальную значимость Валид, этот невежда, не ставит ни в грош! Умом своим — а ум у него трезвый и цепкий — он принимает сию условную (именно условную!) ценность по той простой причине, что иначе ему не владеть реальными, единственно для него истинными ценностями, и, нацепляя по временам маску уважительности, выглядит в ней вполне пристойно. Человеческое лицемерие, безусловно, имеет корни и там, куда не добраться сознанию. Но как смогли Валид и ему подобные создать, разработать эту, столь выгодную и единственно возможную для них концепцию «мирного сосуществования» с Хабибами?.. Когда этот ловкач и пройдоха успел выработать для себя вполне разумную жизненную программу?.. Где он выучился этой науке, когда прошел обучение?.. И, наконец, какой чудовищный, парадокс дал место в жизни этой беспардонности: «Ты учитель — человек умный, образованный, вот и живи на зарплату. Я не учитель, и умом я не отличаюсь, а потому мне положено жить лучше, чем тебе...» Откуда это? Откуда у подлеца эта огромная сила, эта хватка?.. Покончив с посудой, погасив свет во дворе, Пакиза присела в дверях на табуретке — вроде как отдохнуть. Но это был только предлог, она знала, Хабиб не спит, и ждала, пока его сморит сон; последние дни он стал совсем невозможный; одно слово поперек, сразу из себя выходит. А потом до утра не спит. Хабиб с самого начала был возмущен, когда после стольких лет бакинской жизни Рамазан привез сестру назад, в Айлис, выдавать замуж. Боясь поссориться с братом, он всячески уклонялся от этой темы, избегал оставаться дома. С тех пор как Рамазан приехал, Хабибу каждый день оказывалось нужно в район; уедет с первым автобусом, возвращается под вечер — с последним. И все те слова, которые он так хочет и так не хочет высказать днем Рамазану, по ночам слышит от него Пакиза. А ведь в конце концов не выдержит, напрямую выскажет это брату. И Пакиза делала все, что могла, чтоб удержать мужа от откровенного разговора. Рамазан — гость, не сегодня, завтра уедет. И так, бедняга, не человек, а тень. В таком состоянии, да еще упрекать его — это и перед богом грех. А каково будет Хабибу, если брат из родного дома уедет обиженный? Он же себе этого до смерти не простит... И потом Пакиза вовсе не была уверена, что в затянувшемся девичестве Саиды так уж повинен Рамазан. Про Бахрама и говорить нечего, может, и Розу-то Хабиб зря ругает. Сама Саида во всем виновата: мямля, кислятина... Хабиб говорит, это, мол, ее Баку такой сделал. В чем-то он, может, и прав, Баку ее, конечно, покорежил крепко, только она всегда была рохлей. В школе, у родника, на улице стоит, бывало, какому-нибудь парню взглянуть на нее, сразу побелеет вся, руки-ноги трясутся... А тут еще эта несчастная Сафура, тоже из головы не выкинешь. Конечно, замучил ее Валид, в гроб вогнал, только когда дело-то было!.. Он же остепенился, вон какой мужик стал. Дом построил, на хорошей работе, в Баку уж который год ни ногой... Да если еще у жены два брата, дурак, что ли, он — обижать ее? Отцовский дом, слава богу, рядом. Не сойдутся, домой придет, с братом жить будет. Все лучше, чем сохнуть в девках. А такой случай больше не подвернется. Валид холостяком ходить не будет: не Саида, так другую найдет. Чего б он иначе такой домище строил?.. — Ты что сидишь? — окликнул жену Хабиб. Вот, пожалуйста, опять заснуть не может! — Не спишь? — сердито спросила Пакиза, входя в комнату. — И чего ты себя доводишь? Всю ночь крутится, стонет, охает, так и сердце запросто лопнет! Ну, в самом деле! Ну, что такого случилось?.. Нашелся жених. Хочешь, выдавай, не хочешь, не выдавай. А что ты за человека его не считаешь... «Зачем я ее позвал?!» — с тоской подумал Хабиб. И правда, только-только успокоился, отвлекся от надоедливых мыслей, весь день мутивших кровь. Вошла жена, и все пропало. Хабиб повернулся на бок. — Странный ты человек, — сказал он жене. — Простых вещей не хочешь понять... И пошло, и пошло... ...Попавший в аварию самолет птичкой темнел на вершине горы; они уже давно прошли весь свой путь, и путь их был не из легких; на этом пути Мехти, разумеется, проявил себя героем; во всяком случае, того, что он проделал за долгие дни и ночи пути, было вполне достаточно, чтобы заслужить любовь девочки. Выбившись наконец из сил, Мехти сидел сейчас на зеленом холмике у подножия горы. То место, куда они шли уже много дней и ночей, чтоб навсегда остаться там вдвоем: речушка, поля, деревья чуть приметно темнели впереди, прячась в рассветном тумане. Там он построит дом, посеет пшеницу. У него и топор был, чтобы срубить деревья, и пшеница на семена... И все оттуда, с потерпевшего аварию самолета. Мехти несколько дней все думал, откуда бы им взяться, и придумал: пшеницу какой-то человек вез в Баку на базар, а топор был не просто топор — самый лучший на свете мастер по топорам вез его в Баку, демонстрировать на выставке... Самолет птичкой темнел на белой вершине, а холм, на котором отдыхал Мехти, был последним: впереди уже ни гор, ни холмов, ни опасных спусков. Остаток пути — день, а может, несколько часов — ровная, гладкая дорога среди зеленых лугов. Но — неисповедимы пути господня! — Мехти уже не хочет идти по этой ровной гладкой дороге среди зеленых лугов. И вожделенный уголок земли, едва угадывающийся под пеленой тумана — речка, поля, деревья в цвету, — уже не влечет его. Дом под цветущими деревьями, о котором он так долго, так страстно мечтал, Мехти, наверное, никогда не построит, потому что строить он в этом мире уже ничего не хочет. Он хочет сейчас другого — уничтожить красивый двухэтажный новый дом с застекленной верандой, разрушить его, стереть с лица земли, сжечь! И он видит, как вспыхивает огонь, как занимается застекленная веранда, как пламя охватывает комнаты... Мехти со своего далекого холма любуется вздымающимися к небу багровыми языками пламени, любуется гигантским костром, в котором гибнет дом, подожженный его руками... Из открытого окна доносится голос отца. Мехти не может разобрать слов, но он знает, о чем говорит отец. И оттого, что он знает, о чем говорит отец, огонь, который он мысленно разжигает, начинает жечь его самого, все в нем горит, кипит, клокочет: ночью, сегодня ночью он подожжет этот дом!.. Спички, чуть-чуть керосина... Перед оградой со стороны улицы шелковица. С нее можно спрыгнуть на ограду, а с ограды — во двор. Спички он найдет. Вот только керосин... Где взять керосин?.. — Он плохой, тетя Саида, не выходи за него... — чуть слышно произносит Мехти. Саида повернулась, взглянула на мальчика, решила — во сне. Рамазан тоже слышал. Но не повернулся, не взглянул на ребенка. Он чувствовал, что Мехти только притворяется спящим, чтоб сказать это Саиде, и, стараясь не смутить мальчика, долго лежал неподвижно. Но Рамазан опасался зря: выговорив эти слова, Мехти и в самом деле уснул тут же... Среди ночи он проснется, притащит из арыка большой плоский камень — мать колотит на нем белье — и, откуда только силы возьмутся, взгромоздит его на стену, отгораживающую их двор от двора тети Досты. Сколько времени простоит он там, у ограды, подстерегая Валида, никто никогда не узнает. Сам же Мехти и много лет спустя напрасно будет воспоминать, когда и как упал он с той стены во двор к тете Досте... Тетя Доста, в тот вечер наевшись до отвала и вдоволь попив чайку, проснулась по нужде еще в темноте; вышла во двор и увидела Мехти, без памяти лежащего у ограды. — Да что же это, ребенок на земле заснул?! Доста только это и сказала, не поднимая шума, решила осторожно разбудить мальчика и тут вдруг увидела, что лоб у него в крови. — Хабиб! — крикнула она. — Пакиза!.. Сюда! Скорей! Ребенок расшибся!.. — А про себя подумала: «Не приведи бог, убился до смерти...» Прислушалась, вроде дышит. Может, с ограды свалился?.. Подняла голову, чтоб взглянуть на ограду, и увидела в небе блеклую луну, закричала во весь голос: — Это луна! Луна его притянула! Хабиб!.. Пакиза!.. Скорей! Первым от крика проснулся Рамазан. Увидел, что постель Мехти пуста, спустился, подбежал к стене. Она была не так уж и высока, и все же у него не хватило смелости влезть на нее и спрыгнуть во двор к соседке. — Луна притянула!.. Его луна притянула!.. Не пугайтесь!.. — Тетя Доста уверена была, что успокаивает родителей. Пока Рамазан, обежав кругом, оказался во дворе, Хабиб, перемахнув через стену, уже держал сына на руках. То, что мальчик упал со стены, было ясно. Но когда упал, почему упал?.. Почему ночью, когда все спят, он вдруг оказался на стене? И огромного камня, лежавшего на ограде, тоже пока что никто не заметил... Хабиб уложил сына на свою кровать. Кожа на лбу у него была распорота сучком: или уже на земле всадил, или о дерево задел, когда падал. Крови из ранки вытекло немного, сучок пропорол кожу, но вошел вроде неглубоко. Больше всех перепуган был Хабиб, в глазах появилась какая-то желтизна, во рту пересохло. Саида беззвучно рыдала. Но Пакиза, странное дело, держалась лучше всех: спокойно, будто ничего особенного не произошло, она, наклонившись над сыном, влажной марлей осторожно стирала у него со лба кровь. Лейли стояла в сторонке и испуганно глядела на неподвижного Мехти. А тот все не просыпался, не приходил в себя. — Это его луна... Луна притянула... — Тетя Доста знай твердила свое. — Ничего... Ничего... — Сейчас за доктором сбегаю, за Джафаром... — Хабиб уже раз десять повторил это с тех пор, как принес сына. И все не уходил, не мог уйти, крутился на месте, жалкий, беспомощный... — Да не трепыхайся ты, — сказала тетя Доста. — Не нужен ему никакой доктор. Полежит малость, опамятует. Всегда ты вот так. Кишка тонка, поэтому... — А ты?! А тебе что здесь?! — взвился вдруг Хабиб, совсем, видно, потеряв голову. — Вечно суешься не в свое дело!.. — Это ж надо... — тетя Доста недоуменно взглянула на Пакизу. Потом обернулась к Хабибу. — Ну, спасибо, сынок, разуважил. Видно, крепко я вам насолила... — И она бросила многозначительный взгляд на Саиду. Тетя Доста ушла. И уже на улице громко, чтоб услышал Хабиб, крикнула: — Ибиш, сынок! Беги к доктору Джафару, пускай придет. Скажи, Хабиба-муаллима сын заболел... Рамазан точно знал, что у мальчика сотрясение мозга. И все силился и никак не мог опять вспомнить что-то очень важное, не понимая даже, имеет ли это «что-то» прямое отношение к ребенку. А вспомнив, словно второй раз проснулся. — Лед в холодильнике есть? — Есть, братец, — как всегда, ласково отозвалась Пакиза. — Положи в тряпку и принеси. Холод надо на голову. — А проснется он, как считаешь? — спросил Хабиб, и голос его дрогнул. — Пусть пока спит. Ушибся он когда со стены упал. — А что он там делал, на этой стене?! — хватаясь за голову, простонал Хабиб. — Да... Невероятно... — Его луна притянула, — проговорила Саида, вытирая мокрое от слез лицо. — Мама еще тогда рассказывала... — Папа! Когда мы в Баку поедем? — вдруг громко спросила Лейли, до той поры молча ежившаяся у стенки. — Никогда! — с досадой бросил Рамазан раздосадованный капризным тоном дочери... — Никогда не поедем! — Он положил мальчику на лоб узелок со льдом и сидел, придерживая лед рукой. Вскоре вернулся парнишка, которого тетя Доста послала за доктором. Джафара дома не оказалось. — Ночью авария была, — оживленно частил подросток, и пена вскипала в уголках его рта. — Валид, говорят, со «скотской докторицей», пьяный в доску... На мосту тормознул, а машина раз — и в речку!.. Самому-то хоть бы что, вылез да убежал. А докторица — в кашу!.. Милиция приехала — целый грузовик. Валида поймать думают!.. Поймал один такой!.. А она, туда ей и дорога... Она говорят, с ним всю ночь... — Стоя в дверях, Ибиш громко и весело выпалил все эти подробности. Саида вдруг поднялась и вышла из комнаты. Почему, и сама не знала. Может, в комнате было нечем дышать. Может, не хватало света. А может быть, ужас, который ее охватил после услышанного, заставил немедленно пойти и взглянуть на скрытую темнотой высокую ограду дома, куда когда-то глубокой ночью пришла к мужу Сорока Мансура... Рамазан не был знаком с погибшей, ни разу не встречался с ней, не знал даже, где она живет, но черную тень ее смерти он отчетливо видел над едва занимавшимся айлисским утром. И ему жаль было эту никогда им не виданную женщину. Жаль было и это едва занимавшееся айлисское утро. Хабиб вышел вслед за Саидой — такое уж нынче утро всего можно ждать. И потом он хотел узнать, плачет ли сестра, знать это ему сейчас было необходимо. По логике, вроде бы не должна... И Сайда не плакала. Она только что умылась в арыке, стояла и расчесывала волосы. Хабиб обрадовался. На минуту даже забыл, что сын лежит без сознания." — А эта... Ей так и надо! — слова эти, сказанные об умершей, Пакиза произнесла в затянувшейся тишине, может, для того и сказала, чтоб нарушить эту мертвую тишину. Но, так или иначе, слова были страшные. Рамазан удивленно взглянул на Пакизу. А Лейли все так же стояла, смотрела, задумчивая, сосредоточенная... Пыталась понять одну очень странную вещь: почему Мехти сказал тогда, что звук «А» черный... Доктор Джафар пришел вскоре. Послушал пульс у мальчика, осмотрел ранку, приподнял веки и посмотрел зрачки. — Ничего страшного, — сказал он. — Лед положили — правильно. Придет в себя, еще разок положите. Если стошнит, не пугайтесь, но, кроме кипяченой воды, ничего не давайте. Вставать пока не надо. Вот ранка мне не очень-то нравится. Вечером зайду, посмотрю. Может, введем противостолбнячную сыворотку... Доктор Джафар, старый айлисский врач ни словом не обмолвился ни о мертвом теле, которое отвозил на вскрытие, ни о ночной катастрофе: может, потому, что слышал уже о намерении Валида жениться на Саиде, а может, просто потому, что хотя солнце еще только взошло, ни о чем другом сейчас в деревне не говорили. Во всей деревне не знал об этом один только Мехти. Он ни о чем ничего не знал, не ведал. С той самой минуты, как Мехти, заснув, упал со стены во двор к тете Досте, он, невесомый, движимый одним только страхом, бессчетное количество лет идет и идет по тоненькой нити... Где-то там, внизу, далеко-далеко люди, звери, птицы, деревья — все там, внизу, в этом густом мраке. Но Мехти больше всего страшит то, что и наверху, над ним, над нитью, по которой он движется, нет ни неба, ни солнца. Мир без света, без красок, один сероватый воздух, и Мехти идет по тоненькой нити сквозь сероватый воздух, идет и идет, может, тыщу лет идет... Но, двигаясь по тонкой нити, он знает, что рано или поздно должен дойти, дойдет, и лишь потому, что надежда эта жива в нем, удерживается он на своей нити. Мехти открыл глаза, когда айлисское солнце уже торчало из-за горы. Никого не узнав, не сообразив, где находится, он снова закрыл глаза и погрузился в сон... К полудню Мехти проснулся. В отличие от первого раза теперь в глазах у него был свет. И свет этот помог ему всех узнать и всем улыбнуться. Он только долго не мог понять, почему лежит не на крыше, а в доме, на отцовской кровати и почему все собрались вокруг него... Хотел встать, ему не позволили. Да он и сам почувствовал, что подняться у него не хватит сил. Но Мехти не вырвало, не стошнило. В полдень он охотно поел, выпил чаю. В полдень Пакиза увидела на стене огромный камень, на котором колотила белье, и обомлела. Она не могла поверить, что камень этот взгромоздил сюда Мехти. Поверил в это только Хабиб и, поверив, пришел в ужас, потому что, кроме него, никто в мире не мог бы понять, для чего мальчику понадобился этот камень. Когда все стало на свои места, страх прошел и все успокоились. Рамазан решился наконец произнести то, о чем думал с самого утра. — Нам бы уехать сегодня... — сказал он чуть слышно. И почему-то опустил голову. И Хабиб, и Пакиза словно заранее знали, что именно сегодня, именно сейчас будут произнесены эти слова. — Что ж, коли надо, езжайте, — неопределенно пробормотал Хабиб, и что-то похожее на радость почудилось Рамазану в его глазах. — А чего же так скоро, братец? — спросила Пакиза. Из вежливости спросила. — Едем! Едем! Сегодня! Ура! — по-русски выкрикнула Лейли, словно бы обретя от радости свою привычную речь... Саида сидела, опустив голову. Ее белое лицо вдруг резко побледнело, в нем не было ни кровинки, в нем совсем не осталось жизни. — А я? — тихо спросила она. — Я поеду? — Конечно, — ответил Рамазан. — Мы все поедем. И тут Саида не выдержала. Со стороны смотреть, и не поверишь, что взрослая женщина от радости может плакать, как ребенок... Мехти пришел в себя еще в полдень, а к вечеру, когда гости уже уехали, солнце, небо, земля — все снова было на своем месте, он, ни о чем не ведая, пребывал в глубоком и блаженном сне. Во сне Мехти видел свой двор. Под черешней возле арыка собрались люди, очень много людей... А подальше, там, где начинается арык, стоит Валид... И вдруг он подходит, хватает Саиду за руку и тащит за собой. «Я точно знаю, она меня любит! Не верите, смотрите!..» И Валид крепко-накрепко прижимается губами к губам Саиды... «Ага, вот он! Сейчас я его!.. Я его!..» Схватив камень, который он принес еще с ночи, и дивясь тому, какой он, оказывается, легкий, Мехти с размаху бросает камень в Валида. И все исчезло — и Валид, и люди... Камень треснул посредине, из трещины вырвался странный, но очень знакомый звук, похожий на щебет птенчиков, и молнией ушел в небо... Мехти поглядел вслед этому звуку. Небо было совсем прозрачное, и в этом прозрачном, чистом небе высоко, очень высоко летали бесчисленные серые птицы, опять прилетевшие в Айлис... Вместо эпилога Это были те самые птицы, которых я с тех пор как помню себя, всегда ждал с таким нетерпением. Прилетают они по осени, едва спадает жара, и месяц-полтора, лишь сядет солнце взмывают ввысь и долго-долго, не шевеля крыльями, парят в глубине неба в самом чистом, самом прозрачном его месте... Птицы эти похожи на галок, только серые. У нас их называют «кыргы», и, хотя слово это значится в нашем словаре нигде, кроме Айлиса, я его не слышал и нигде больше не видел этих птиц. Это южные и, наверно, редкие птицы. Я думаю, они гнездятся в горах на недоступных вершинах по ту сторону Аракса. Быстротой, легкостью, стремительностью полета и тем, как строго соблюдают они дистанцию между собой и человеком, птицы эти напоминают орлов. Они и гордые, как орлы, но только не такие огромные и уж совсем не грозные; птицы эти резвые и веселые, как дети... Где они обитают днем, я не знаю. Ни разу в жизни не удалось мне их увидеть на земле, только в глубине неба... Может и правда, что они прилетают в Айлис, чтобы отпраздновать какой-то свой праздник, а потому выбирают самое лучшее время года, когда небо над нашей деревней особенно чистое и прозрачное... Ближе к холодам птицы эти улетают. Но, когда они исчезают, небо, в котором резвилась их стая, долго еще остается голубым, прозрачным и ласкает и манит глаз человека. Кто знает, может, птицы те для того и прилетают каждый год», чтобы, оставив после себя эту бездонную голубизну, напомнить людям, что небо над ними еще совершенно чистое... 1983 Перевод Тамары Калякиной