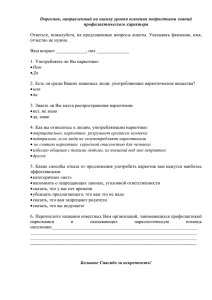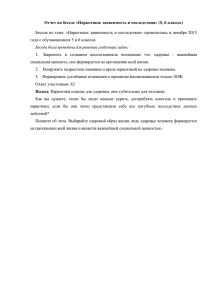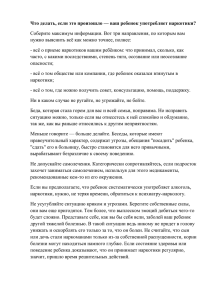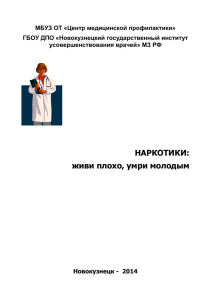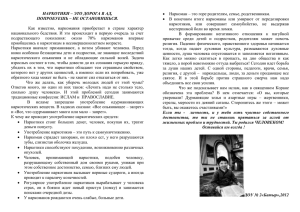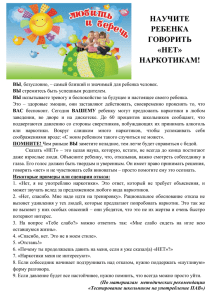книгу - реабилитационного центра "Выбор"
реклама

ТАМАРА НЕСТЕРЕНКО ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ г. Полтава 2005 1 ББК 88.6 Н 56 Автор — НЕСТЕРЕНКО Т. І. Російською мовою Н 56 Нестеренко Тамара Іванівна ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ Полтава: ВАТ «Видавництво «Полтава, 2005. – 352с. Книга видана при підтримці Всеукраїнського батьківського комітету боротьби з наркотиками ISBN 966-7244-35-0 “Возвращение к людям” – продолжение вышедшей в 2000 году книги “Возвращенные из небытия”. Ее содержание – свидетельства людей, которые страдали от наркомании, но смогли найти выход из тупика. Эта книга – не о болезни, а о людях, которые нашли в себе силы выздороветь. Истории своей жизни рассказывают не только сами бывшие наркоманы, их отцы, матери и жены, но и профессионалы – врачи и психологи, которые работают с наркозависимыми людьми. Рассчитана на широкий круг читателей. ISBN 966-7244-35-0 2 © |Полтавська обласна благодійна організація «Допоможемо дітям» © Нестеренко Т. І., 2005 “МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ В УКРАИНЕ” Сергей Тигипко, Председатель Наблюдательного совета Всеукраинского родительского комитета борьбы с наркотиками Со многими героями этой книги я знаком лично. То, что они есть, что они живут полноценной жизнью здоровых, свободных людей, дает надежду другим попавшим в беду людям. От наркомании избавиться можно. Это удалось уже тысячам человек, и, значит, это возможно для всех. В Украине накоплен бесценный опыт лечения и реабилитации наркозависимых больных. От того, сумеем ли мы им воспользоваться, зависит будущее страны. Меня часто спрашивают, почему я так обеспокоен ситуацией с наркоманией в Украине? Я бы поставил вопрос иначе: почему в стране так много политиков, государственных деятелей, управленцев, которых эта проблема не волнует? Ведь какой бы высокий пост ты ни занимал, в стране, где наркотики захватили такое большое жизненное пространство, нельзя быть абсолютно уверенным, что твои дети никогда с ними не столкнутся. И где бы я ни работал, какой бы высокой должностью ни был облечен, я, прежде всего, – человек и отец. Мой интерес к проблеме наркомании начался, когда в стране проводился Всеукраинский общественный опрос “Диалог”. Ко мне приходило огромное количество писем, в которых звучала одна и та же боль: “Уважаемый Сергей Леонидович, спасите наших детей, помогите ради Бога, больше нет никаких сил!..” Именно тогда я всерьез задумался о том, что происходит с тысячами моих сограждан, и сердце, конечно, дрогнуло. Я сам родитель и, когда взывают о помощи отчаявшиеся отцы и матери, их престарелые родители, молящие о своих внуках, через это нельзя просто перешагнуть. Тогда само собой во мне созрело решение: от работы над этой проблемой не отступлюсь, что бы ни пришлось делать, и чего бы мне это ни стоило. Я просто дал себе слово. А если это случилось, ничто не сможет меня остановить. Я видел множество родителей, которые прошли все круги ада в попытках спасти своих детей, встречался с врачами, добившимися успехов в лечении наркомании, общественниками, которые поняли важность проблемы и стали серьезно над ней работать. Именно эти люди открыли мне глаза на многие вещи, о которых я раньше и не подозревал. Официальная наркология, за все время своего существования так и не добившаяся каких-либо результатов, беззастенчиво опустошает карманы родителей, прописывая детям бесполезные лекарства, чтобы хоть как-то оправдать факт своего существования. Сейчас государственные мужи от медицины имитируют бурную деятельность “на благо народа”, предлагая внедрять метадоновую программу и “лечить” наркозависимых детей наркотиками. В то время, как цивилизованные страны отказываются от заместительной терапии или сводят такие программы до минимума, “специалисты” от наркологии пытаются убедить общество, что в Украине метадоновая программа сработает очень эффективно! 3 Хуже всего то, что лоббирующие интересы зарубежных фармацевтических компаний чиновники замалчивают свой, отечественный опыт реабилитации наркозависимых людей. Между тем, уже сейчас в Украине эффективно работают реабилитационные центры, где пациенты успешно учатся жить без наркотиков. Их опыт трудно переоценить. Я побывал в Полтавском Центре “Выбор”, специалисты которого, под руководством врача-психиатра Л. А. Сауты, уже десять лет успешно применяют систему психотерапевтической помощи и социальной реабилитации больных наркоманией, в Хмельницком центре ресоциализации наркозависимой молодежи “Виктория”, где уже более 6 лет попавших в зависимость молодых людей возвращают к жизни. Восхищение вызывают не только результаты, но и самоотверженный труд людей, которые, порой забывая о себе, делают все возможное и невозможное, чтобы помочь другим. Удивительно, но успехов в лечении наркомании добиваются не специально созданные для этой цели наркологические службы, а немногие честные профессионалы и общественные организации, объединившиеся для решения этой проблемы. Кто больше всего заинтересован в спасении детей? Конечно же, их родители. Именно родители, не дожидаясь, когда государство примет необходимые меры, сами, своими силами, начали создавать реабилитационные центры! На средства родителей строится новое великолепное здание реабилитационного Центра в Полтаве, создан общественный Центр в селе Колонщина Макарьевского района Киевской области. Родительское движение уже не остановить. Переоборудуются заброшенные объекты, снимаются квартиры, собираются средства для строительства новых специализированных помещений. Это движение поддерживают представители духовенства, имеющие опыт работы с наркозависимыми молодыми людьми, без таблеток и без обмана излечивающие душу и тело, укрепляющие дух. Мы стараемся сотрудничать со всеми прогрессивными и здравомыслящими людьми, которые, будучи родителями и детьми своих родителей, решают проблему наркозависимости наших, украинских детей, именно с этих родительских позиций, стремясь сделать все возможное, чтобы дети никогда не захотели даже пробовать наркотики, а те, кто уже попал в зависимость, вернулись в общество. Другой позиции и других подходов нет и не должно быть! Я понимаю, что думают люди, которые лично не сталкивались с наркоманией: зачем спасать безнадежных и потерянных, больных и опустившихся людей, не лучше ли помогать талантливым, перспективным и успешным? Я не могу с этим согласиться. В стране уже сейчас работает система кредитования высшего образования и жилья для молодых семей. Да, пока очень медленно, но мы движемся к обществу равных возможностей. Но может случиться так, что, пока мы сосредоточим свои усилия на помощи благополучным молодым людям, помогать оступившимся будет уже поздно. Да и останутся ли благополучные, если наркомания с каждым годом захватывает все новые и новые рубежи? Сейчас она прочно обосновалась в вузах и техникумах, профтехучилищах и школах. Что на очереди? Неужели детские сады? К сожалению, мы в полной мере не владеем информацией, сколько молодых людей погибает от передозировок, от болезней, связанных с употреблением наркотиков, даже не знаем точно, сколько граждан нашей страны зависят от наркотиков. Официальная статистика молчит! Государство не хочет подсчитывать свои человеческие убытки! Мы превратились в общество страусов, которые предпочитают засунуть голову в песок, чтобы не замечать проблемы: авось пронесет. А если не пронесет? Меня очень беспокоит, что широкая общественность пока остается равнодушной к этой проблеме. Я уверен, что, только изменив общественное мнение, сформировав в обществе адекватное отношение к наркомании, мы сможем противостоять стремительному распространению наркотиков среди молодежи. И, конечно, мы должны научиться поддерживать тех, кто хочет избавиться от уже приобретенной пагубной привычки. Протянуть им руку помощи – наш гражданский долг. Я уверен, что эффективная политика против наркомании должна строиться на успешном опыте семей, “возвращенных из небытия”. Всеукраинский родительский комитет по борьбе с наркотиками, в ряды которого влились родители, преодолевшие проблему наркомании в своей семье, психологи, педагоги, работники искусства и культуры, политики, сотрудники правоохранительных органов и 4 просто небезучастные к судьбе и будущему своих детей люди – это уже сейчас достаточно мощная и сплоченная команда, которая с каждым днем находит новых сторонников. Будущее борьбы с наркоманией – в объединении прогрессивных врачей, политиков и общественности. Мы справимся с этой проблемой только сообща. У нас есть опыт такой работы. Мы знаем, что хороший подход – только тот, который дает эффект. Нашей помощи ждут десятки, а может, и сотни тысяч человек. И мы будем бороться за жизнь и здоровье каждого ребенка, рожденного быть счастливым в нашей замечательной стране – Украине. Помочь в этой борьбе и призвана книга “Возвращение к людям”. 5 “ЭТА КНИГА ДАЕТ НАДЕЖДУ” Игорь Куценок, доктор медицины, клинический профессор Калифорнийский университет, Сан-Диего психиатрии, В начале 90-х годов меня пригласили в Киев на конференцию, где я имел возможность встретить коллег, представляющих различные страны, и обменяться с ними идеями и опытом. На конференции мне посчастливилось познакомиться с доктором Леонидом Саутой, психиатром из Украины, представившим структурную теоретическую программу и результаты трудов, проделанных им и его командой в области реабилитации наркозависимых. Я был очень впечатлен его взглядами на сущность причин, приводящих к употреблению наркотиков, на психологию поведения зависимых людей. И, что наиболее важно, – реализацией его идей на практике. Важно помнить, как в прежнем Советском Союзе обращались с наркозависимыми людьми и алкоголиками. К ним относились, как к людям с недостатком силы воли, больным с медицинской точки зрения, или как к преступникам. А в большинстве случаев было в сочетании всё вышеперечисленное. Следовательно, наркозависимых лечили в закрытых психиатрических больницах, используя прежде всего биологические средства, а само лечение проходило в негуманных условиях изоляции и заключения. Их обвиняли, морально подавляли и ставили на них клеймо. Стоит упомянуть то, что такое отношение было типично не только для СССР, но и для многих других стран, включая США. Как я уже отметил, я был поражен, когда доктор Саута представил свой взгляд на наркозависимость, как на всестороннюю дисфункцию поведения, которая охватывает большое разнообразие биологических, психологических, семейных, поведенческих, психосоциологических и других сопутствующих факторов. Однако наиболее впечатляющим был тот факт, что доктор Саута не остановился на структурной теоретической программе, а разработал и осуществил основанную на своих взглядах стратегию реабилитации. Безусловно, это был смелый шаг, потому что его труд фактически был открытым вызовом существующей парадигме наркозависимости. Очевидно, что его модель реабилитации намного опередила ту, что была “одобрена государством” для наркоманов в его стране. Я поделился с ним своими соображениями и искренне пожелал удачи в его работе, но, откровенно говоря, успеха я не ожидал, именно из-за специфических особенностей окружающей среды, в которой он работал. И был очень рад узнать, что ошибался. В течение следующего десятилетия я несколько раз общался с доктором Саутой и был очень приятно удивлен тем, что его программа успешно развивается. Несмотря на огромное количество трудностей и препятствий, он оставался сосредоточенным и последовательным в своей работе, и результаты этого говорят сами за себя. Его стратегия реабилитации основана на идее, что наркозависимость – не суть проблемы; это – признак дисфункции поведения и нарушения социальной сети. Поэтому иметь дело только с наркотиками и не обращать внимания на полный спектр поведенческих дисфункций – все равно, что назначать аспирин для подавления головной боли у человека, страдающего от мозговой опухоли. Другими словами, работа над симптомом, а не проблемой никогда не даст результата. Эта простая идея звучит очень логично, но ее практическое воплощение чрезвычайно трудно где бы то ни было в мире и требует огромных затрат собственного труда и труда команды в работе над поведением пациента. Несколько лет назад доктор Саута послал мне первую книгу об этом опыте. Читая ее, я понял, что он не только преуспел в своей работе. Получила дальнейшее развитие и 6 расширение его модель реабилитации. Я хотел бы упомянуть снова, что это – нелегкая задача для любой точки мира, но особенно трудно ее осуществить в социальной среде, которая достаточно ригидна и нетерпима к любой инновации в этой сфере. Я хотел бы отметить, что современные научные подходы лечения наркозависимости в Соединенных Штатах основаны на принципах, практически идентичных модели доктора Сауты. Однако эти программы лечения в США были разработаны в результате инвестиций миллионов долларов в научноисследовательскую работу, которая проводилась в течение нескольких десятилетий и в которой было много проб и ошибок. Доктор Саута достиг результата и развил свою модель реабилитации намного быстрее, без поддержки со стороны социума и с намного меньшими затратами. Это, безусловно, – фантастическая работа. Недавно я имел возможность ознакомиться с материалами новой книги, которая стала для меня еще одной приятной неожиданностью. Программа доктора Сауты работает: его пациентам становится лучше, они достигают восстановления. Практический интерес представляют множество описаний конкретных ситуаций, представленных в книге. Они сделаны очень полным и методическим способом, представляют детальный анализ поведения зависимого человека и служат превосходными иллюстрациями процесса реабилитации, который проходит пациент. Возможно, наибольшая ценность этой книги в том, что она дает надежду и наркозависимым, и созависимым – пациентам, их родственникам, друзьям, обществу и социуму в целом. Общеизвестный факт, что одно из главных препятствий в лечении наркозависимости во всем мире – явление “заученной безнадежности” у больных и у тех, кто их лечит. Для наркоманов, которые имели неудачные опыты лечения и несколько рецидивов, типична уверенность, что им ничто не поможет и что они безнадежны. То же самое происходит со штатом сотрудников, который работает в программах лечения. Мы часто забываем, что наркозависимость – хроническое рецидивирующее состояние, подобное другим хроническим рецидивирующим состояниям в терапии, вроде гипертонии, диабета или астмы. Лечение этих болезней, в дополнение к медикаментам, требует множества изменений в поведении пациента. Наиболее распространенные причины рецидивов – нарушение предписаний относительно поведения и недостаток поддержки со стороны семьи или других близких. Рассмотрение зависимости как хронического рецидивирующего состояния даёт огромную возможность развивать эффективные способы лечения, которые полностью учитывают поведение пациентов. Таким образом, чувство безнадежности в пациентах и врачах, практикующих лечение наркозависимости, заменится пониманием проблемы и оптимального способа ее решения, а также пониманием, что выздоровление возможно. Доктор Саута и его команда делают это, и их труд заслуживает огромного восхищения. Я убежден, что эта книга должна стать доступной профессионалам и широкой публике. Ее чтение и изучение опыта доктора Сауты может принести огромную пользу не только профессионалам в сфере лечения наркозависимых. Она призвана изменить отношение общества к наркозависимым людям: от обвинения и опасения – к пониманию и поддержке. 7 ОТ АВТОРА Это издание – вторая книга о людях, которым удалось избавиться от наркомании. Первая вышла в 2000 году и называлась “Возвращенные из небытия”. Она состояла из историй, рассказанных от первого лица и переданных почти с документальной точностью. Этот принцип сохранен и в новой книге. Все, что вы в ней прочтете, – свидетельства людей, которые по разным обстоятельствам долгое время страдали от наркотической зависимости, своей собственной или поработившей близких. И всем удалось найти выход из тупика. Комуто – всего лишь за год до начала работы над книгой, кому-то – пять, десять и даже восемнадцать лет назад. Мы написали эту книгу для того, чтобы у тех, кто оказался в наркотическом плену сегодня, появилась надежда, что избавиться от наркомании можно. Я знаю не одну сотню людей, жизнь которых изменилась после того, как они дали себе труд осознать, в каком положении оказались, и приложили усилия для того, чтобы изменить его. Их опыт убедительно свидетельствует, что наркомания – не пожизненный диагноз, а жизненная позиция, основанная на ложных ценностях, изменить которую по силам каждому. Эта книга – не о болезни, а о людях, которые нашли в себе силы выздороветь. Их характеры и сложные взаимоотношения и составляют ее содержание. Истории своей жизни рассказывают не только сами бывшие наркоманы, их отцы, матери и жены, но и профессионалы – врачи и психологи, которые работают с наркозависимыми людьми. Но не стоит пугаться: читатель не найдет здесь заумных формулировок, выуженных из медицинской энциклопедии или словаря психиатрических терминов. Все, о чем нельзя рассказать простыми словами, вообще не стоит того, чтобы о нем говорили. Эту истину исповедуют все герои нашей книги. Потому что мы писали ее, прежде всего, для тех, кто сейчас страдает от наркомании. Мы надеемся, что, прочитав нашу книгу, больные люди убедятся: из заколдованного круга зависимости есть выход. Мы верим, что родственники наркоманов увидят свою роль в судьбах близких, сумеют осознать необходимость изменения собственного поведения, которое создаст условия для изменения образа жизни больных. Мы хотим верить, что подростки, которые проявляют интерес к наркотикам, сумеют понять, что наркотики – это действительно страшно, и к ним не стоит прикасаться. И мы очень хотим надеяться, что материал книги заинтересует тех, кто всерьез занимается лечением наркозависимости. Для тех, кто читал нашу первую книгу, добавлю, что здесь они найдут продолжение историй героев, с которыми уже знакомы, и исповеди новых людей, исцелившихся от наркомании. В новой книге гораздо меньше рассказов о “подвигах”, совершенных ради наркотика, гораздо больше внимания уделено психологии человека, который попал в зависимость и сумел из нее выйти. Речь здесь идет уже не только об отдельных пациентах экспериментального реабилитационного центра, а о целых семьях, отношения в которых изменились настолько, что наркотикам там просто не осталось места. Наркомания – не болезнь в узко биологическом смысле, а следствие неправильного образа жизни, извращенной системы ценностей, инфантильного представления об отношениях людей, о мире и своем месте в нем. Это принципиально новый взгляд на наркоманию. Как же избавиться от наркозависимости? Кто нужен наркоману: врач или хороший воспитатель, который поможет сбившемуся с пути человеку отыскать свое настоящее место в жизни, поставить на место каждую мелочь в картине мира? Ответы на эти вопросы – на страницах издания, которое вы держите в руках. 8 КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КНИГА Прежде, чем познакомить читателя с героями книги, я считаю необходимым рассказать ее предысторию. Если бы двенадцать лет назад, когда я получила диплом Литературного института, мне сказали, что я напишу две толстых книги о наркомании, думаю, я просто расхохоталась бы. В те годы я не только писала, я мыслила в рифму, и меня не интересовали такие прозаические вещи, как медицина и педагогика. Хотя у меня тогда уже росла дочь, ее воспитание сводилось, в основном, к чтению классических детских книг, от которых я получала не меньшее удовольствие, чем она. Я водила дочку в театры, придумывала для нее смешные стишки и считала, что если ребенку с детства привить чувство прекрасного, родительский долг можно считать исполненным. Каюсь, это было легкомысленно. Но веселое студенческое времяпрепровождение в столице не располагало серьезно относиться к жизни. Все изменилось, когда я вернулась в родной город. “Порхание” закончилось, надо было зарабатывать на жизнь. Я вспомнила, что стихи не кормили даже Марину Цветаеву, и пошла работать в газету. Мне достался отдел социальных проблем: образование, медицина, пенсии, пособия, беспризорность и… наркомания. Наркозависимых людей в Днепропетровске было много. Статистики утверждали, что в области живет едва ли не треть всех украинских наркоманов. К несчастью, в том, что их действительно много, мне пришлось убедиться воочию. Эта проблема не обошла и близких мне людей. Из их жизни я знала, какой ужас поселяется в доме, где завелся наркоман. Мне приходилось порой наблюдать столь чудовищные вещи, какие не пригрезились бы ни Спилбергу, ни Хичкоку. Из разговоров с медиками и милиционерами картина складывалась тоже отнюдь не радужная: число наркоманов росло с такой быстротой, что специалисты начали говорить сначала об эпидемии наркомании, а потом – о пандемии. Криминогенная ситуация обострилась до предела: восемьдесят процентов квартирных краж совершались наркоманами, за ними числилось большинство грабежей, разбоев, кустарное производство и сбыт наркотиков. А существующая система наркологической помощи, которая в те годы больше походила на структуру карательных органов, была совершенно бессильна помочь наркозависимым людям. В то время на Западе уже научились небезуспешно лечить наркоманов методами социо-психологии и психотерапии. В Украине это делали только в одном месте – экспериментальном шестом отделении Днепропетровского областного наркологического диспансера. Когда я отправилась туда за информацией, и состоялось мое знакомство с людьми, о которых мне суждено было написать две книги. Жизнь журналиста богата интересными событиями, встречами с замечательными людьми. Но далеко не каждая встреча переворачивает твои представления о мире. Четырехчасовая беседа с Леонидом Александровичем Саутой, заведующим тем самым экспериментальным отделением, произвела эффект землетрясения: оказывается, до встречи с ним я ничего не понимала не только в проблеме наркомании, но и в отношениях людей. Этот человек, разработавший программу государственного эксперимента по лечению и реабилитации больных наркоманией и их родственников, говорил фантастические, парадоксальные, не лезущие ни в какие ворота вещи, а я слушала его, открыв рот, и понимала: а ведь это – правда. Только так и можно объяснить все, что происходит с людьми, когда в их жизни появляются наркотики. 9 Нашу беседу я подробно описывала в своей первой книге. Думаю, то, что говорил тогда доктор Саута, не утратило актуальности и сегодня. И хотя сейчас его концепция лечения наркомании окончательно выкристаллизовалась и приобрела законченную форму, о которой читатель обязательно узнает из дальнейшего повествования, я считаю необходимым привести здесь рассказ Леонида Александровича из нашей первой встречи. Пусть знакомство читателя с этим человеком произойдет сейчас, и, может быть, он испытает те же чувства, которые охватывали меня, когда мы с доктором беседовали, сидя на скамейке во дворе наркодиспансера. “Прежде наркотики были принадлежностью уголовной среды, сейчас – это тотальная болезнь общества. Наркоманами становятся не вчерашние откровенно асоциальные, осознанно выбравшие такой образ жизни люди, а студенты и школьники, молодые отцы и матери, то есть люди, имеющие правильную социальную ориентацию. В личностном смысле всем им свойственны инфантильность, эгоцентризм, эмоциональная незрелость, отсутствие твердой жизненной позиции. Сегодняшние наркоманы, в большинстве своем, – “маменькины сынки”, “шалящие” за спиной у родителей. С наркомиром сейчас сталкивается каждый подросток. Наркотик – “психолог”, знающий наши слабости лучше нас самих, умело заставляющий больного плясать под свою дудку, а в обмен на “кайф” требующий не меньше, чем душу. В результате – улицы буквально “кишат” наркоманами, ими набиты тюрьмы. А что этому противостоит? В застойные времена с наркоманией боролись сугубо насильственными методами, официально не признавая ее существования. Сегодня приходится слышать, как о наркоманах говорят, словно о мучениках, которые требуют понимания, внимания, сострадания и заботы. Того и гляди, учредят “Комитет защиты прав наркоманов”. Наркоман в терновом венце мученика – это, мягко говоря, преувеличение. Страдает этот “мученик” не за идеалы добра и света, а по собственной глупости. Глупость – не святость. Если попробовать выделить черты, наиболее характерные для носителя наркоманического поведения, портрет получится далеко не симпатичный. Наркоман – трус. Боится жизни, ответственности, работы. Боится окончательно потерять уважение окружающих и свое собственное. Убивает себя ради иллюзии своей значимости, которая достигается уколом. Механизм, позволяющий не замечать реальности, доведен до совершенства. Саморазрушающее поведение на бессознательном уровне. Это потенциальный или, точнее, перманентный самоубийца. Каждый день вводит в организм порцию яда. Что он убивает в себе? Настоящее “Я”. Остается “Я”, которым хочется быть. Даже наедине с собой наркоман не может оставаться трезвым. У него разрушены не только почки и печень, но и душа, разум. Люди для наркомана – фигуры, которыми нужно научиться управлять, чтобы иметь возможность вести свой порочный образ жизни. Как правило, он долго не понимает, что дармовщины в жизни не бывает, что за все надо платить. Спохватывается, когда кредит уже превышен. Инфантилен, ни к чему не приспособлен, недоразвит. Духовный импотент. Наркотиком заполняется дефицит веры. Как птенец кукушки выталкивает из гнезда его законных обитателей, так наркотик вытесняет из головы и сердца все мысли и чувства. Даже близкие люди для наркомана – лишь пешки, которыми надо научиться манипулировать, чтобы иметь возможность беспрепятственно колоться. Наркоман всегда – патологический врун. Он не выживет, если не будет врать. Делает это легко и виртуозно, порой с наслаждением и даже без особой надобности. Интуитивно чувствует, что от него хотят слышать, знает, что о нем хотят думать близкие, и с удовольствием рассказывает маме и жене, как он их любит, а психотерапевту – какой он хороший врач. Если наркоман не будет психологом, он не выживет. Безошибочно, на бессознательном уровне, угадывая человеческие слабости, он, как на клавишах рояля, играет на эмоциях нормального человека. Содержанием жизни становится постоянная ложь, содержанием психики – глубоко спрятанный страх, тревога, зависть. При этом – полное отсутствие осмысления своих действий. Самая серьезная проблема – уважение к себе. Нужно много “степеней защиты”, чтобы поддерживать его константу. В глубине души наркоман все прекрасно про себя понимает. 10 Защищается уколами. Постоянное желание все и вся охаять: “Не я один – дерьмо”. Неуемная жажда посадить на иглу другого: “Я просто хочу, чтобы ты узнал, что это такое” (именно тот случай, когда “во многом знании много скорби”). “Подсаживает” даже женщин (чаще – собственную жену, чтобы не мешала колоться), после чего резко начинает их презирать: “За пару кубов готова отдаться первому встречному”. Наркоманы – люди особой субкультуры. Их всегда делает среда. Чтобы стать настоящим наркоманом, нужно научиться жить в этой среде и совершенно разучиться – вне ее. Болезнь неотъемлема от образа жизни, а ее жертвы имеют свои, хоть и ложные, но очень устойчивые ценности. Есть люди, для которых основная потребность – быть такими, как все. Это не патология, а особенность личности. Попадая в компанию наркоманов, они сами становятся наркоманами. Почему они не приспосабливаются к обычной среде? Потому что это – сложнее. Добродетели не слишком ценятся большинством сверстников, а для зависимого человека важно мнение большинства. Если Вы хотите понять, какие люди чаще всего становятся наркоманами, приглядитесь повнимательней к тем, кто не принимает наркотики – к так называемым “нормальным” людям. Вы увидите, что у каждого есть что-то, что он делал в жизни сам: работа, учеба, интересы, увлечения, цели (не обязательно благородные). Наркоман почти никогда ничего не делал. Чтобы снова стать нормальным человеком, ему надо учиться элементарным навыкам, даже таким, как самому застилать постель. В нем всегда живут двое: человек и наркоман. Первый робко протестует против насилия, второй старается его скорей “сожрать”, чтобы колоться без помех. Лечить можно только человека, наркоман – это монстр, существо. Такого можно только убить. В процессе этого “единства и борьбы противоположностей” индивид либо окончательно превращается в аппарат для переработки наркотика, либо стремится выздороветь. Последнее случается несравнимо реже. Как ни парадоксально, наркоман всегда таков, каким ему позволяют быть. В первую очередь – родители. Часто, не имея личной жизни, мать всю себя “отдает детям”, старается обеспечить их всем необходимым любой ценой. Самоотверженно, в гордом одиночестве, тащит тяжелый воз семейных проблем – и все для того, чтобы дети никогда не испытывали никаких трудностей. А в результате – никогда не стали взрослыми и самостоятельными. Но инфант в нашем обществе почти обречен быть наркоманом. Именно родители помогают наркоману не только стать, но и оставаться тем, что он есть. Без их помощи дети, по мировоззрению и особенностям личности не способные к самостоятельному существованию, вряд ли вынесли бы тяжесть наркоманской жизни: безденежье и голод, жесткую конкуренцию, давление уголовного мира, конфликты с милицией. Родители – безропотно или протестуя – кормят и финансируют не желающее работать чадо. Если ропщут, то, как правило, безрезультатно. Наркоман – ребенок, ему нет дела до того, что у папы и мамы болит голова: он хочет эту игрушку и будет орать, плакать, скулить, пока ее не получит. Дитя, сидящее на горшке и жующее непрерывно подносимые бананы, протестует против “необоснованных” претензий: оно не доросло до тяжелой работы. Да и с какой стати ему ломать голову из-за нехватки денег или отсутствия им же “проколотых” вещей? Родители решали за него все проблемы – решат и эту. Жалость родителей только помогает ребенку быстрее двигаться навстречу смерти. Считается, что не дать великовозрастному дитяти кусок хлеба – негуманно. Но гуманно ли – позволять ему и дальше колоться, не испытывая никакого неудобства от своей наркомании? Представьте себе: у ребенка болит живот, и мать из жалости прикладывает к животу грелку – и вот аппендицит заканчивается перитонитом. Исход плачевен, но делать операцию вместо грелки “страшно”: операция – это “больно”. Или такое сравнение: сын на глазах у матери лезет на табурет и просовывает голову в петлю, а мать боится перерезать веревку, потому что, падая, сынок может ушибиться. Скажите, кого из этих двоих надо лечить в первую очередь? Мать оставляет сыну ключи от квартиры, в которой он колется (иногда – “со товарищи”), но попробуйте сравнить ее с хозяйкой притона – обида будет велика. Ведь аксиома: ни одна здравомыслящая родительница не желает зла своему чаду. А если она перестанет его поддерживать – еще вопрос, захочет ли он долго обретаться “на вольных 11 харчах”. Притон только называют “малиной”, а жить там – совсем не малина. Еще, не ровен час, милиция нагрянет. А тюрьма, как и голод, – не тетка. К сожалению, в мире слишком много людей, которым выгодно, чтобы наркоман оставался наркоманом: торговцы наркотиками, чье процветание он обеспечивает самим фактом своего существования, охотно использующие его уголовники, недобросовестные работники милиции, греющие руки на наркобизнесе, врачи, практикующие дорогостоящее лечение наркомании, которое на самом деле – замаскированная торговля лекарствами. В направлении кладбища движется огромная колонна наркоманов, а вокруг нее суетятся продавцы мака, врачи, юристы, родные и близкие живых покойников: на тебе, детка, мак, таблетку, закон, еду, одежду, только не сворачивай с избранного пути. Наркоман – это булка с маслом, от которой только ленивый не откусит. Традиционная наркологическая помощь, где от одних наркотиков лечат другими, предлагая взамен привычного наркотика снотворные, барбитураты и нейролептики, как будто создана под диктовку наркомана для того, чтобы помочь ему оправдать собственное бессилие перед наркотиком. Врач, работающий в такой системе, тоже не верит, что наркотики можно бросить. Один из мифов этой системы – непереносимые муки абстиненции. В наркодиспансерах лечат именно абстиненцию, а ведь она – не болезнь, а начало выздоровления. Что же получается: пока кололся – ничего, а перестал – заболел? Умирают не от абстиненции, умирают от наркотиков. Абстиненция может проходить почти безболезненно, если окружающие не стремятся постоянно приплясывать у постели больного, непрерывно интересуясь, не надо ли ему какого-нибудь рожна. Наши ощущения – это только наши ощущения. Абстиненция – одно из них. Что ценно, в ней больному дана реальность, а не иллюзия. Смешно бояться абстиненции, как смешно бояться царапин, когда продираешься сквозь колючие заросли, убегая от тигра. Наркотик – это тигр, и если бояться царапин больше, чем смерти, она непременно нагонит. Лечить наркоманию снотворными (то есть, другими наркотиками) бессмысленно. Проблему наркомании нельзя решить назначением таблеток и промыванием крови. Эта болезнь не в печени, не в селезенке, не в крови. Она – в мыслях и чувствах. А профессионалы, которые должны заниматься лечением души, высчитывают дозы снотворных, барбитуратов и нейролептиков, “оптимальные” для лечения. Почему-то считается, что, если человека продержать взаперти два месяца, непрерывно пичкая его медикаментами, в нем произойдут перемены, необходимые для того, чтобы он бросил наркотики. Наркотик – это химический костыль, пожизненный гипс, без которого человек боится ходить. Чтобы выздороветь, больной, во-первых, должен этого захотеть, во-вторых – приложить собственные усилия. Мы никого не принуждаем лечиться. Невозможно против воли заставить человека бросить наркотики. Если он хочет быть наркоманом – ему никто не в силах помешать. Самый неблагодарный труд – пугать или уговаривать наркомана. Кому это он должен – не колоться? Мы предлагаем человеку выбор: хочешь колоться – помни: только ты отвечаешь за свои поступки, не жди снисхождения и сочувствия, твоя загубленная жизнь будет на твоей совести. Бросишь – получишь шанс, помощь, уважение. Немало “хитрецов” пытаются “обманывать врачей”, норовя пронести в палату наркотик и незаметно уколоться. Кого они хотят перехитрить? Это все равно, что стараться быстренько повеситься, пока доктор на время отвернулся. Надо, чтобы человек встал перед выбором: наркотики или полноценная человеческая жизнь. У нас лечит среда, в которой манипуляции наркомана безжалостно пресекаются, а проявление человеческих качеств всячески поощряется, в первую очередь – уважением и доверием. И врачи, и социальные работники большую часть рабочего дня проводят среди пациентов. Это не всегда психотерапия, чаще – просто общение, но именно оно создает атмосферу доверия и сотрудничества в борьбе с болезнью. Мы работаем с сознанием пациента, помогаем ему осознать ужас положения и отыскать в себе качества, опираясь на которые он может избавиться от зависимости. Усилия врача и пациента в индивидуальной и групповой формах направлены на реконструкцию личности, развитие ее сильных сторон, мы помогаем пациенту научиться мыслить, чувствовать и, главное – действовать, как это делает сложившаяся личность. 12 Наркомания – очень своеобразная “болезнь”, но и у нее есть свои симптомы. Для лечения воспаления легких обязательно нужны антибиотики. В наркомании тоже есть ряд вещей, обязательных для всех, именно поэтому она – болезнь. Наркоман должен осознать свою зависимость как заболевание, это – фундамент, на котором строится лечение. Добиться этого бывает непросто, чаще, приходя к нам на консультацию, больные изображают из себя бизнесменов или интеллектуалов, мечтателей, которые принимают наркотики для остроты восприятия. Спросите, о чем думают эти интеллектуалы с утра, пока не “раскумарятся”. Совершенно точно – не о “разнице между экзистенциализмом Сартра и Камю”. Да и мечтать умеют только о двух вещах: с утра думают, как побыстрее уколоться, а после укола строят планы, как будут “спрыгивать”. Что касается бизнеса – все они не более чем “директора свежего воздуха”. Мы беремся лечить не всех, а только “избранных” (это слово часто произносится нам в упрек) – тех, в ком видим желание изменить свою жизнь и готовность прилагать для этого усилия. Знаете, что такое – наша работа? Есть большая емкость с нечистотами, в которой “бултыхаются” наркоманы. Люди подходят к ней разве затем, чтобы выбросить мусор. А мы сидим рядом, чтобы подать руку тем, кто хочет выбраться. Картина страшна: тонут миллионы, но у меня – только три десятка спасательных кругов, и я брошу их тем, кто барахтается. Тех, кто безвольно идет ко дну, тащат за волосы. Но это уже – принудительное лечение. Оно существует во всех странах: общество вынуждено защищать себя от социально опасных членов, да и не имеет права наркоман жить лучше, чем тот, кто работает. Правда, на Западе применяются куда более гуманные формы принудительного лечения. Права человека (не путать с “правами” наркомана) там соблюдаются. Там не подсчитывают койко-дни и процент ремиссий: каждый вылеченный – это стопроцентный успех. Я знаю точно, что нет наркомана, который не хочет бросить наркотики. Я видел тысячи наркоманов и среди них – ни одного счастливого. Их жизнь – сплошной кошмар: каждодневный страх и необходимость любой ценой доставать наркотик, дамоклов меч тюрьмы, конфликты с близкими, заведомо ложные клятвы и постоянное вранье себе самому. В нашей стране наркоман не имеет выбора: быть преступником или нет. Плюс гарантированный летальный исход в обозримом будущем. Наркоман, которому перевалило за сорок – редкость, он считается “долгожителем”. Этот страх наркомана и эксплуатируется недобросовестными врачами, наживающимися на чужой беде. Поразительно: чем больше в стране наркоманов, тем больше рекламируется “стопроцентных методов лечения”. Модель проста: чем крупнее животное, тем больше на нем может уместиться паразитов. Но чем абсурднее вещи, тем охотнее в них верят. Недавно заговорили о новоизобретенной “панацее” от наркомании – метадоне. Представляют его как чудо современной науки, которое, якобы являясь более “легким” наркотиком, дает тот же эффект, и поэтому его можно употреблять наркозависимым больным вместо привычных наркотиков. Но метадон – не менее злокачественный наркотик. Он ничего не меняет в человеке и только помогает ему поддерживать видимость существования. Ориентация на метадон (это красиво называется “заместительной терапией”) имеет в основе цель перекрыть кислород наркобизнесу и остановить рост СПИДа, но чем обернется его употребление в будущем, можно только гадать. Героин тоже синтезировали как “замену” морфию, и надо сказать, он, действительно, отлично его заменил. Медицинские наркотики (в число которых метадон, кстати, не входит) можно давать только тем людям, у которых сформировалась настоящая физическая зависимость от наркотика. Я говорю “настоящая”, поскольку то, что подразумевают обычно под термином “физическая зависимость” – еще один миф наркологии. За всю свою практику я видел лишь одного больного, который практически не мог прервать наркотизацию: без привычной дозы отказывали внутренние органы. Вот это и есть физическая зависимость. Она не может пройти, как не пройдет “зависимость” от воды, еды, кислорода. Но обычно картина совершенно другая: организм может обходиться без наркотика, с прекращением наркотизации наступает оздоровление, человек физически чувствует себя намного лучше. Наркоману противопоказана любая “химия”. Он не в состоянии сдерживать рост дозы. Выпивая, отключается раньше, чем успевает почувствовать “кайф”. Действие таблеток 13 похоже на алкоголь, но гораздо быстрее вызывает органические изменения в организме. Под действием нейролептиков человек тупеет, исчезают тонкие чувства – такие, как стыд, стеснение, деликатность, такт. Поэтому единственный эффективный метод лечения – психотерапия. Мы учим пациента строить свои отношения с людьми на иной основе, без присутствия наркотика. После окончания срока госпитализации он возвращается в мир – к людям. Но – к каким? К тем, от которых в свое время бежал в наркоманию. Всю жизнь они совершенствовались в общении с наркоманом. Пока он лечился, в нем происходили изменения, а они так и остались прежними. Каким будет результат? Самым плачевным. Поэтому мы должны лечить не только наркомана, а и его семью – тех людей, с которыми он будет строить новую жизнь. Но проблема, к сожалению, не только в близких людях. В западных странах человека, бросившего наркотики, общество встречает с распростертыми объятиями. Ему помогают в устройстве на работу, социально адаптируют. Специальные социальные работники навещают его дома, на работе, помогают, в случае необходимости, улаживать проблемы, конфликты. Труд таких людей хорошо оплачивается, все понимают, что они нужны обществу. У нас тоже есть социальные работники – это наши бывшие пациенты. Пройдя курс лечения, они добились значительных успехов. Теперь они, вместе с психотерапевтами, работают с наркозависимыми больными, передают им свой опыт преодоления зависимости. Их пример вселяет надежду в других, а помощь, которую они могут оказать, иногда неоценима. Как специалисты, они не хуже профессиональных психологов. Но на наших социальных работников общество по-прежнему смотрит как на наркоманов, и они должны обладать колоссальным иммунитетом, чтобы жить среди людей, которые их не принимают. То же происходит и с пациентами, которые выходят из стен клиники. Их “выздоровление” никому не нужно, их уже давно “похоронили”. Впрочем, это уже не медицинская, а общественная проблема. Врач не может лечить болезнь общества, это должны делать все люди. Наркомания сегодня – это новорожденные с абстинентным синдромом, которых становится все больше. Общество поразила раковая опухоль, ее метастазы проросли в каждую клеточку: в каждую школу, техникум, институт. Учителя не информированы о наркомании в достаточной степени, не могут противостоять ее распространению. Родители – тоже. Все рассчитывают на медицину. Но медицина не вернет обществу бывшего наркомана “готовым” – в целлофановом пакете с бантом. Когда строят здание, сначала закладывают фундамент. Нужна единая концепция борьбы с наркоманией, основанная на опыте и здравом смысле. Пока одни говорят, что наркоманов надо расстреливать, а другие ратуют за легализацию наркотиков, дело не сдвинется с места. Общественное сознание складывается из сознания конкретных людей, и чем больше членов общества будут иметь объективную информацию о проблеме, тем быстрее мы выработаем социальный механизм, который позволит остановить лавину наркомании”. Вот такая “лавина” откровений обрушилась летом 1993 года на мою забитую статистикой прироста наркоманов голову. Я едва успевала записывать афористичную речь Леонида Александровича. Признаюсь, она произвела на меня впечатление. Разумеется, я была заинтригована. Мне хотелось своими глазами увидеть, что происходит в отделении, где наркоманы действительно перестают колоться. Мне предоставили такую возможность. Я беседовала с другими врачами и психологом, с родителями и супругами больных, лечившихся в отделении, писала для газеты истории бывших пациентов, которые стали социальными работниками. Из этих историй и выросла наша первая книга. Пока я собирала для нее материал, шестое отделение было преобразовано в Экспериментальный лечебнореабилитационный центр психиатрии зависимостей. При нем со временем стало работать малое предприятие “Выбор”, цель которого – трудоустройство и трудовая реабилитация пациентов после успешного преодоления зависимости. Мне довелось беседовать со многими пациентами и их близкими, присутствовать на занятиях психотерапевтических групп, записывать истории жизни людей, которым удалось вырваться из плена наркотиков. Все это и стало содержанием книги, главным принципом которой был тот же, что исповедуется в психотерапии: каждый может говорить только о себе, 14 только от своего имени, только о том, что сам пережил. Издавая ее, мы стремились дать читателю правду о наркомании “из первых рук”, точнее, из уст людей, которые на себе испытали всю ее тяжесть. На наш взгляд, главным достоинством этой книги была подлинность, которую не заменят в данном случае никакие художественные эффекты. Рассказы героев были не просто правдой, а свидетельствами. Свидетельствами того, что наркотики – это действительно очень страшно. Того, что отказаться от них навсегда может любой человек, если по-настоящему этого захочет. Того, что единственный эффективный метод лечения – психотерапия, учитывающая индивидуальные особенности личности. И того, что роль близких в выздоровлении больного огромна, о чем они ни в коем случае не должны забывать. После выхода книги я виделась со своими “соавторами” нечасто. Напряженный график работы на телевидении не оставлял такой возможности. Но мы уже стали близкими людьми. И еще я заметила, что, когда в моей жизни складывались непростые ситуации, в которых я не знала, как поступить, я шла за советом к Леониду Александровичу. Мы говорили о том, как правильно строить отношения с людьми, и, в первую очередь, со своими детьми. Благодаря доктору Сауте, я осознала многое, чего не понимала раньше, и это касалось не наркомании, а общечеловеческих проблем. Настало время, когда, чтобы повидаться с доктором, и мне, и его бывшим пациентам, приходилось ехать в Полтаву. По завершении государственного эксперимента, как неправдоподобно это ни прозвучит, Экспериментальный центр психиатрии зависимостей снова превратился в обычное отделение наркодиспансера, где пациентов “лечат” нейролептиками и снотворным. Леонид Александрович с командой ушел работать в общественную организацию – “Ассоциацию помощи страдающим от наркомании”. Потом открылся реабилитационный Центр “Выбор”. Однажды туда приехал первый пациент из Полтавы. Ему удалось коренным образом изменить свою жизнь. И когда он вернулся в родной город, об этом узнали другие полтавчане, в семьях которых была та же проблема. Постепенно в Днепропетровск стали приезжать все больше пациентов из Полтавы. Среди них нашлись такие, кто после реабилитации захотел стать психологом, чтобы работать в этой области. Дело кончилось тем, что в Полтаве появился филиал “Выбора”. И спустя некоторое время центр реабилитационной работы переместился в Полтаву. Теперь, чтобы снять репортаж о Международном дне борьбы с наркотиками, мне приходилось ехать в “духовную столицу Украины”. И я очень рада, что познакомилась с этим городом и узнала его людей. Я встречалась с родителями новых пациентов доктора Сауты, и многие говорили, что изменения в их жизни начались с чтения нашей книги. Для многих людей она стала путеводной нитью в лабиринте беспросветного горя. Я была очень тронута этими признаниями. Значит, я работала не зря, цель, которую мы ставили, достигнута. Зачем же мы решили писать вторую книгу? Дело в том, что за последние годы принципы работы, которые практикуют в реабилитационном Центре “Выбор”, достигли максимального развития. Сейчас здесь применяют системный подход к лечению наркомании. То есть лечат не отдельных пациентов, а целые семьи. И это качественно новый этап реабилитационной работы не только для нашей страны, но и для многих развитых стран Запада. Люди, проходившие в “Выборе” курс реабилитации, приобрели совершенно новый, уникальный опыт семейной психотерапии. Изживая из своих семей наркоманию, они не просто “меняли отношение к проблеме”, они перестраивали весь устоявшийся семейный уклад, всю структуру сложившихся отношений, заново распределяли роли в соответствии с новыми семейными амплуа. Почему это стало так важно? Дело в том, что наркомания в последние годы совсем изменилась. Она помолодела и окончательно превратилась в семейное заболевание. Ребенокнаркоман – не недоразумение, случайно возникшее в благополучной семье с правильными ориентирами. Он – продукт этой самой семьи. Этот молодой человек не потому превратился в животное в человеческом обличье, что стал наркоманом. Нет, он стал наркоманом потому, что вырос эгоистичным, безответственным, ориентированным на сплошные удовольствия иждивенцем. И сделала его таким семья. Конечно, родители не нарочно воспитали его таким. 15 Они допустили ошибки в воспитании. Но эти ошибки возникли не просто так, а на почве разлада семейной системы. Что это такое? Семья – это система, которая состоит из отдельных людей, но представляет собой нечто большее, чем просто их сумма. В семье живут не только люди, в ней действуют их связи и привязанности, способы общения, характер отношений между всеми членами семьи по отдельности и всей группой. Например, у сына может быть одно отношение к матери и совсем другое – к отцу. А когда он общается с обоими родителями одновременно – вырабатывает совершенно новый, третий способ общения. Корень проблем всех пациентов – именно в семейных отношениях, в неправильном распределении ролей, в ложных установках, которые привели к ошибкам в воспитании и от них – к наркомании. Cлово “психотерапия” происходит от греческих корней “psyche” – “душа” и “therapeia” – “забота”, “лечение”. Но в лечении нуждается не только душа наркомана. В заботе и лечении нуждаются и его родители, и все близкие люди, которые живут рядом с наркозависимым человеком. Поэтому большую часть этой книги составляют истории семей – семей, которым удалось изжить наркоманию. Но прежде, чем читатель познакомится с ними, его ждет встреча с героями первой книги – их истории здесь даются с продолжением, ведь за прошедшие семь лет (собирать материал для первой книги я закончила в 1997 году) они успели достичь новых успехов в жизни. Многие из них даже стали ответственными работниками, руководителями разного уровня. Когда я встречалась с ними, чтобы записать продолжение историй, они с трудом вспоминали прошлое, оно представлялось дурным сном, многие говорили, что чувствуют, будто это было не с ними. Что ж, этому можно только радоваться. Давайте порадуемся вместе, дорогой читатель, за этих людей, которым удалось вернуться к жизни из небытия. 16 “НИКТО НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ТАКОЕ ВОЗМОЖНО” История Виктора Когда отец и мать жили вместе, я старался быть послушным ребенком. Я сидел рядом со шкафом, в который не разрешали заглядывать, и изо всех сил боролся с соблазном. Но, оставшись один, я не мог устоять перед желанием нарушить запреты. Однажды мама вернулась домой и увидела меня у открытого шкафа с разбитой банкой варенья. Трудно описать мой испуг и растерянность. Я знал, что должен соответствовать маминым требованиям, делать то, что она ожидала от меня. И я делал это, борясь с желанием преодолеть запреты. Потом мои родители разошлись. Отец жил у бабушки. Я часто бывал у них, и там меня тоже охватывало это чувство. Как только отец переступал порог, я пытался посмотреть, что лежит у него в шкафу. Это было захватывающе интересно: вдруг кто-то войдет и увидит. Я вообще воспринимал старших как людей, которые обязательно должны что-то запрещать. Когда отец приходил выпивши, были сцены, скандалы. Я чувствовал, что мама против того, чтобы он входил к нам в дом. Помню картинку: из-за закрытой двери слышен спор на повышенных тонах, слов не разобрать, но понятно, что ругаются. С появлением отца всегда начинались ссоры. Отец для меня был человек, который доставляет неприятности матери. Когда я приходил в дом бабушки, мы общались с ним более спокойно и находили общий язык. Но там были свои сложности. Я помню, как, разговаривая с бабушкой, настораживался, когда речь заходила об отце или матери. Я ждал от нее оценки: как она видит отношения родителей. Иногда бабушка осторожно расспрашивала о маме, начиная с ее самочувствия до мельчайших подробностей, вроде того, что мама варит на обед. Из этих вопросов, этого тона мне становилось ясно: бабушка не понимает и не любит маму. Я часто слышал от нее слова в защиту отца и обвинения в адрес матери. Мне всегда хотелось сказать что-нибудь в мамину защиту, но я боялся, хотя, как мне кажется, бабушка чувствовала мое несогласие с ней. Дома я рассказывал маме, что происходило у бабушки. Я делал это избирательно, боясь испортить ей настроение, хотя мне всегда хотелось поделиться. Но мама говорила, что бабушка любит вмешиваться в ее жизнь с отцом, невнимательна к ней и ко мне. Я сравнивал маму с бабушкой и видел, что они в чем-то похожи: похоже суетятся на кухне, как-то одинаково оценивают друг друга. Я видел, что от меня что-то скрывают – что-то, что не могло меня не касаться, и старался найти ответ на многие мучившие меня вопросы. Отца я видел глазами матери. Но я искал в нем старшего мужчину, который смог бы мне объяснить, что происходит. Я представлял себе образ, без которого жить очень сложно. Я ездил с отцом на рыбалку и старался повторять все его движения, чтобы у меня получалось, как у него. Я старался быть на него похожим. Но всегда чувствовал мамино беспокойство, нежелание о нем говорить. Мне хотелось, чтобы они жили вместе, и я искал нити, которые могут их соединить. Но нитей не было. Я мучился вопросом: а любят ли они меня? Страх оказаться нелюбимым преследовал меня все детство. Я старался делать то, чего от меня ожидали, выглядеть таким, каким меня хотели видеть, боялся огорчить близких, чтобы не потерять их любовь. Что такое любовь, я представлял очень смутно: если жалеют, дают что-то – значит, любят, если ругают – не любят. Я знал, что меня любили мои няни – не от мамы или бабушки, а именно от них я узнал, что это такое – тепло, исходящее от любящей женщины. В детском саду тоже работала такая нянечка – тетя Маруся. Беспредельная любовь, которая светилась в ее глазах, давала больше, чем все “воспитание”. До сих пор я люблю разговаривать со старушками: их платочки и скромные платья напоминают мне моих нянь. То, что я искал у родных, я получал от чужих людей. Любовь близких была для меня чем-то очень хрупким, что легко утратить. Если матери не нравилось, что я делаю, она 17 говорила: “Ты похож на отца!” Отец в таких случаях сравнивал меня с матерью. Это было равносильно приговору. Я терялся в оценках: кто я? Чтобы не лишиться расположения родителей, я говорил то, что они хотели от меня слышать, не затрагивал больные темы. Я приспосабливался к тому, чего хотят родные, прислушивался к их словам, чтобы понять их мир и настроение, которым я должен был соответствовать. Поделиться своими мыслями я не мог – это было чревато... Только много позже я понял, что, стараясь всем угодить, я постепенно становился зависимым человеком. Эта зависимость от чужого мнения и чужих желаний потом проявилась в компании сверстников. Когда собиралось много ребят, и затевалась игра, я с трудом находил свою роль. Мне казалось, что я едва ли не самый худший из всех, и это чувство мешало мне быть ловчее, проворнее. Я не всегда был последним, но всегда этого боялся, и это было еще хуже. Я выбирал в друзья тех, кто не смеялся надо мной, принимал меня таким, какой я есть. Мной руководили страх потерять окружение, в котором меня принимали, и желание утвердиться в этих компаниях. Их было две – два круга общения. В одном признавались только уголовные “авторитеты”. Уголовный мир был – моя жизнь, в которой я искал свое место. Утвердиться в нем проще всего, преступая запреты. Шалости, курение, потом наркотики – все это давало чувство гордости за себя: я это сделал! Когда я первый раз укололся (на выпускном вечере), мне было очень плохо, как при отравлении, внутри – дикий страх, но я это сделал! Укол – это уже серьезно! Я становился “настоящим наркоманом” – это была определенная ступень, как будто мне присвоили звание. Если бы я не переступил этот барьер – потерял бы уважение. Я был бы просто выброшен из своего мира, из жизни. Услышать: “Ты стал правильным?” – было равносильно катастрофе. Тянуло меня и к другим людям, в компанию, где любили спорт и книги. Там я старался соответствовать совсем другим идеалам. Игры с наркотиками приходилось скрывать, как и дома, где надо показывать себя хорошим сыном. Мне было интересно с соседом, который увлекался музыкой и моделированием. Но по мере того, как наркотики занимали все больше места в моей жизни, я приходил к моим благополучным друзьям все реже. Я не утратил интерес к книгам, но общался только с наркоманами. Меня интересовали сильные личности. Такими казались уголовники: бесстрашные, сильные духом, много “претерпевшие”. Их все боялись, к ним прислушивались. Вот то, что я искал в отце. Одно время он был близок к уголовным “авторитетам”, и некоторые черты уголовной среды наложили на него отпечаток: категоричность в оценках окружающих, упрощенные штампы и тому подобное. Хотя отец умел быть совсем другим: балагуром и заводилой в компании рыбаков, хорошим мастером на заводе, где его все уважали. Эта его двойственность руководила и мной: становясь “настоящим” наркоманом, я пытался сохранить другую жизнь, убеждая себя в том, что наркотики не повлияют на нее. Я изо всех сил стремился стать наркоманом, и изо всех сил пытался не стать им. Трудно представить, что такое противоречие могло укладываться в моем сознании. Но наркотик позволял легко “увязывать” даже это, улаживать все внутренние и внешние конфликты. Ощущение времени у меня было детским. Окончив школу, я не знал, чем заняться дальше. Учебу запустил еще в шестом классе, а в девятом все еще казалось, что впереди – куча времени. Родители решили, что “надо что-то делать”. Нашли возможность подать документы в техникум, несмотря на мой “троечный” аттестат. Но вступительные экзамены я не сдал. Учиться мне, вроде бы, хотелось, но хорошо бы при этом ничего не делать. Родители говорили: “Что ты себе думаешь?” – и я пошел в строительное училище. Несмотря на название, уровень требований там оказался очень высоким, это я понял на первом же занятии. Я оставил его и поступил в другое, правда, тоже на престижную специальность. Неудачи в учебе легко компенсировались наркотиками. Начались первые “кумары”. Случались и периоды “просветов”, когда я чувствовал, что теряю все: и уважение людей, которые знали меня другим, и место в жизни. Я на время приходил в себя, и мне становилось страшно. Беспокойство родных за мою жизнь передавалось мне, я “спрыгивал”, вникал в учебу, и это оказывалось интересным. Но надолго меня не хватало, я снова пускался в погоню за удовольствием. Ко времени окончания училища уколы уже сочетались с 18 таблетками. Такую смесь я принял и накануне защиты диплома, и если бы меня не разбудил товарищ, я бы ее просто проспал. Уколы стали повседневностью. Я искал своих первых ощущений от “ширки”, но способность испытывать опьянение со временем утрачивалась. Я гнался за удовольствием, которое, как и первая любовь, не повторяется дважды. Это была безумная погоня за тем, чего уже не может быть. Я изменился, думал только о том, как обмануть, перехитрить близких, уйти от дел и обязанностей. Потому что времени хватало только на то, чтобы искать наркотики, потом – испытывать удовольствие, потом – отходить от этого. У меня уже не было уверенности, что жизнь прекрасна. Я начал догадываться, что мое удовольствие – только иллюзия. Как бы мне ни хотелось продлить его, все было уже не то. После училища надо было искать работу, но три года учебы “измотали” меня, хотелось отдохнуть. “Отдыхал” я целый год. И кололся безбожно. Однажды, сидя на уколах с таблетками, неделю не появлялся дома. Был в трансе: не помнил не только день, но и год, и время суток. Мама разыскала меня с милицией и положила в наркодиспансер. Среда там была наполовину уголовная, обстановка – полутюремная, традиции зоны причудливо перемешивались с привычками вольной жизни. Но все крутилось вокруг наркотика: как достать, незаметно уколоться, подготовиться к “шмону”. Как сварить чай, который почему-то запрещался, как и сигареты. По вечерам – воспоминания о тюрьмах и лагерях, выяснение лидерства. Больше никто ни о чем не думал. Мне не было восемнадцати лет, и я смотрел во все глаза – учился, как вести себя в больнице. “Расширял кругозор”, изучая полную энциклопедию наркоманской жизни. Даже познакомился с некоторыми “столпами” уголовного и наркоманского мира. Это добавляло мне веса в собственных глазах. Случались разговоры о том, что “жизнь наркомана тяжела”, и “надо бросать”, но всерьез никто не помышлял о лечении. Обсуждали врачей и то, что от них “претерпели”. Как я понимаю, врачи старались устроить так, чтобы наркоманы особо не мешали им “работать”. Если кому-нибудь назначались неизвестные (незнакомые на вид) таблетки, в палате собирался целый “консилиум” из “бывалых”, чтобы решить, что это может быть. Половина всего времени уходила на то, чтобы сварить чай. Для этого выставляли свои “посты”, следили за персоналом. Это был искусственно создаваемый врачами “криминал”, за который можно было наказывать, как за употребление наркотиков. Но ведь это абсурд! Кто может запретить человеку выпить чаю? Мы варили его в плафонах, которые на время снимали с лампочек. “Собаки” (самодельные кипятильники) прятались в лампах дневного света. Как мы хохотали над врачами, которые не могли додуматься, где их искать! Как будто им больше нечем было заняться, кроме “шмонов” и наказаний! Традиционная советская наркология – это не медицина, а уродливый симбиоз врачей и наркоманов. Это советский абсурд: больничная среда формирует преступников. Врач – милиционер в халате. Сестра – маленький “Штирлиц” в юбке. На лице написано: “Вы меня не проведете!” Главная задача – уличить, верх профессионального мастерства – вывести на чистую воду. Это настолько укоренилось, что, наверное, если бы кто-то из врачей попробовал вести себя иначе, коллеги решили бы, что он “продался наркоманам”, или приняли бы за идиота. Вот типичная картина: после “облавы” на чай и сигареты по отделению, вертя связкой ключей на пальце и стуча деревянными каблуками, шествует заведующий. За ним семенит “свита” из “злющих” и “добрых” медсестер, суетятся санитарки. Заведующий входит в изолятор и начинает направо и налево “раздавать” серу, пирогенал и прочие “лекарства”. Сестры записывают. По окончании “раздачи” заведующий величественно разворачивается и стучит каблуками в свой кабинет с чувством исполненного долга. Все это происходило волнообразно, и волны были разной “высоты”: иногда наказания ограничивались уколами серы, иногда – кончались вызовом наряда милиции и отправкой провинившихся в ЛТП. Однажды лечащий врач назначил мне галоперидол, от которого появляются сильные мышечные спазмы и страх. Не знаю, до какой степени меня напугало бы мое состояние, если бы в палате мне не объяснили – детально, на уровне высококвалифицированного фармацевта – что это за препарат, и в чем заключается его действие на организм. И как я смеялся потом, когда врач заявил мне, что если после выписки я уколюсь, со мной будет то же самое! На 19 какую наивность он рассчитывал! И где – в такой “школе”! Неужели врач сам не понимал, что происходит в отделении, где он работает? Выйдя из этой больницы, я и не помышлял о том, чтобы бросить наркотики. Наоборот, чувствовал себя “закаленным бойцом”, лучше прежнего подготовленным к трудностям и опасностям суровой и требующей мужества, но от этого еще более интересной, жизни наркомана. Работать я, по-прежнему, не торопился, но родители в очередной раз сказали: “Что ты себе думаешь?” – и мне пришлось трудоустроиться. Работу мне нашла мама – привела к себе на завод, где со мной носились из уважения к ней. Это был единственный период, когда удавалось совмещать работу с уколами. Дело было летом, “в сезон” – наркотиков было много, их можно было сочетать и комбинировать с таблетками. Загулы заканчивались скандалами дома, а то и в милиции. По утрам появлялся жуткий страх: неужели это было со мной? Я жил в полузабытьи. Многие знакомые потом признавались, что мысленно уже хоронили меня. Я напоминал скелет. Целые недели выпадали из памяти. Однажды в состоянии опьянения “додумался” до того, чтобы угнать милицейский “бобик”. Меня тут же схватили, сначала – избили, потом – отправили в ЛТП на два года. Это было достаточно “мягкое” наказание, по сравнению с тем, что могло мне грозить. Но ЛТП оказалось повторением наркодиспансера в куда более жестком варианте. Больше уголовников, более широкий список наказаний, плюс работа и необходимость самому за себя отвечать. Здесь я столкнулся уже не с “уголовной романтикой”, а с реальным беспределом и подлостью “зоны”, где человек человеку – волк, и надо защищать себя, постоянно скаля зубы. Мне вспоминался дом, мама, родные. Я тосковал и ждал писем. Я был совсем один, хотя вокруг было слишком много людей. Я понимал, что жизнь на этом не заканчивается. Но открывшаяся новая страница оказалась большой и слишком страшной. Для меня не было ничего страшнее, чем позволить кому-то унизить меня, а здесь такая ситуация могла возникнуть буквально на каждом шагу. В ЛТП я впервые самостоятельно организовывал свою жизнь, и помощи ждать было неоткуда. Многое я “переворошил” из пережитого, о многом задумался. Только здесь я понял, что в жизни есть святое – дом, родители. Это было внутри меня и помогало жить. Освободившись, я почувствовал себя новым человеком. Решил, что от наркотиков “претерпел” уже достаточно: даже лишение свободы. Уж теперь-то я знаю, к чему это приводит! Но понятия о “наркоманском братстве” все еще крепко сидели у меня в голове. Я не мог “бросить в беде” тех, кто еще не осознал и страдает без наркотиков, я должен был позаботиться о том, чтобы оставшимся в неволе товарищам передали в ЛТП “ширку”. С этой целью я и отправился в один притон – передать “привет” из зоны и просьбу “помочь”. Когда долг был исполнен, я пришел к мысли, что теперь можно немного “расслабиться” – и укололся. Но это был, как я считал, “эпизод”, который не будет иметь повторения. Я стал устраивать свою “жизнь рабочего человека”: пошел на завод, намеренно искал более тяжелой работы, чтобы еще лучше доказать, что чего-то стою, что я не “конченый” наркоман, и с тем, что мне открылось в жизни, могу чего-то достичь. Отношение ко мне менялось, видимо, потому, что я сам немного изменился. Правда, в маминых глазах все время мелькал вопрос: не повторится ли прошлое? Я успокоил ее, что, если у меня снова возникнут прежние проблемы, ей не придется, как раньше, разыскивать меня и носиться со мной – я сам буду искать выход. Утешая так ее и себя, я изредка принимал наркотики. Я считал, что, поскольку я “построил новую жизнь”, никакой наркотик не сможет ее разрушить. Увы, это случилось раньше, чем можно было ожидать. Я хотел жить по-новому, а получалось – как всегда. Вскоре я уже запасался наркотиками на неделю вперед, говоря себе, что пока я не сижу в “системе”, и меня “тащит”, буду колоться и получать удовольствие, а когда перестанет “тащить” – начну лечиться. Я знал, что этот период скоро кончится, и надо будет лечь в больницу. Бригадир, под началом которого я работал, отнесся к моим проблемам с пониманием: “Иди, лечись сколько надо, бери больничный”. 20 Когда тебя поддерживают хотя бы пониманием, с этим так же страшно расстаться, как и с наркотиком. Я пошел в наркологическое отделение, в котором лежал раньше. Надеялся, что теперь, когда я знаю, чего хочу, мне удастся пережить абстиненцию и бросить наркотики. Три дня все шло как обычно. На четвертый произошло событие, заставившее всех удивиться и насторожиться. Пациентов стали вызывать в кабинет заведующего по одному, задавали несколько вопросов, после чего заявляли, что переводят в другое отделение. Потихоньку запаниковали: куда, зачем? Когда пришла моя очередь, я вошел в кабинет с опаской. Хотя после ЛТП – чем меня можно было напугать? Разве беспределом. А хорошего от наркологии я и так не ждал. В кабинете, кроме заведующего и лечащего врача, сидел еще один человек. Его представили, как заведующего девятым отделением Леонида Александровича Сауту. Но я тогда не особо обратил на него внимание. Подумаешь – еще один заведующий. Вскоре нас пригласили с вещами в автобус. Кто-то из пациентов в панике сбежал через забор. В автобусе нас ждал Саута. Когда отъехали от наркодиспансера, он попросил остановить автобус и открыть дверь, потом сказал: “Кто боится и хочет уйти – можно прямо сейчас. Последствий не будет”. Как я теперь понимаю, это была его визитная карточка: он знакомился с нами по-настоящему. Но тогда никто ему не поверил, решили, что это – подвох: выйдешь – тут тебя и повяжут. Приехали на улицу Мильмана: бетонный забор, колючая проволока, матовые стекла в окнах изолятора, контрольно-пропускной пункт. На окнах развешивали решетки, но разве я к ним не привык? После досмотра выдали красные пижамы, казенное белье. Персонал обращался с нами строго, но без грубости – это было загадочно и непонятно. Обход обычно делал доктор Саута и уже знакомый мне по предыдущему отделению молодой врач. Иногда к ним присоединялась женщина – психолог Надежда Викторовна. Она смотрела на нас круглыми глазами, как и мы на нее. Это была первая женщина-врач в наркологии, которую я встретил. Да еще психолог. Мы считали задачей психолога – определять в пациентах уровень идиотизма, и держались с ней настороженно. Доктор Саута первое время намеренно держался в тени: руки – в карманы, глаза – в пол. Иногда он кивал, глядя на молодого врача, из чего можно было догадаться, что он то ли слушает, то ли думает. Кто он? Чего ждать? Было ясно, что все здесь зависит от него. А он молчал. Постепенно к его молчанию привыкли. На чай в этом отделении глаза закрывали, искали только наркотики и сигареты. Искали странно: просматривали постели и тумбочки, а в карманы никто не заглядывал! Такова, как выяснилось потом, была инструкция заведующего: ничего унизительного. Но на первых порах мы этого не оценили: заигрывание, “замануха”. Веры в порядочность наркологов не было: советская наркология и человеческое отношение, как подсказывал опыт, – вещи несовместимые. Поэтому все эти новшества нас только пугали: привыкли к одному – и тут на тебе! В изоляторе я провел неделю. Как только перестал из него проситься – так сразу и перевели в обычную палату. Во время обеда Леонид Александрович заглянул в столовую, спросил мою фамилию, сказал зайти к нему в кабинет. Наша первая беседа продолжалась полтора часа. Всех, кто, сидя в палатах, напряженно ждал ее результатов, это повергло в шок: о чем можно говорить полтора часа с наркологом – практически с милиционером! Но удовлетворить их любопытство я не смог: нормальный язык я подзабыл, а на жаргоне этого объяснить нельзя. Я молчал, и мои приятели решили, что меня загипнотизировали. А все было так просто! Просто состоялось то, чего я хотел всю жизнь: я говорил, и меня слушали! Я сам не заметил, как увлекся разговором. Леонид Александрович слушал меня, и я чувствовал в нем искренний интерес. Он не выпытывал тайн, не вербовал в сексоты. Он воспринимал меня так, как никто другой. Почему его интересовало, как я планирую свою жизнь, кем собираюсь стать? Но удивительнее всего был тон разговора: уважительный, с исходящей от собеседника ненавязчивостью, деликатностью. Вот что меня “гипнотизировало”! И я откровенно рассказывал о своей жизни. Трудно было при таком отношении говорить неискренне. Бессмысленно выдумывать и врать. Это была не обычная 21 игра в нарколога и пациента, а настоящее человеческое общение. Я и сейчас удивляюсь, откуда тогда во мне все это взялось: человечность, искренность, желание говорить. Я и сам не догадывался, что во мне это было. Оказывается, если не ограничиваться рамками обычной игры, возникает доверительность: не между врачом и пациентом, а между человеком и человеком. Я молчал, и все пациенты были обеспокоены. Хорохорился только один – Володя: “Да когда я зайду к Сауте, я его быстро обработаю! Не видел я, что ли, этих наркологов!” Его вызвали после меня. Через час он вышел и тоже замолчал. В рядах пациентов началась смута: что будет дальше? Так через пару дней все потеряют дар речи! Потом начался “массовый гипноз”. Соберемся в палате выпить чаю, а Леонид Александрович заглянет, проходя мимо: “Ну, поскольку все уже собрались...” – и начинает говорить так, что все слушают, открыв рот. Позже эти беседы уже не пугали и не удивляли. Это было естественно: Леонид Александрович начинает говорить, и довольно быстро устанавливается мертвая тишина. Сидишь, слушаешь, потом случайно поднимешь глаза – и впору смеяться: у всех рты приоткрыты. Но сдерживаешь смех – из уважения. Мне кажется, в Леониде Александровиче каждый находил то, что он недополучил в жизни. И мы начинали осмысливать, чего нам не хватало. Это был, наверное, единственный врач в наркологии, способный по-человечески проникнуть в ситуацию и сопереживать. Надо было отбросить все штампы и что-то сделать. Я думаю, его личный этический комплекс подвиг его на это. По тем временам он сделал не просто героический – сумасшедший поступок: никто не верил, что у нас такое возможно. На то, что он сделал, могла уйти вся жизнь, а у него это уложилось в годы. Может, ему было просто неинтересно работать иначе, а, начав, он уже не мог остановиться на полпути? Но то, что он сделал все это “одной человеческой единицей” – поистине фантастично! Постепенно атмосфера в отделении стала меняться. Исчезала настороженность, меньше времени занимали разговоры о наркотиках. Интерес к тому, что “замышляют” врачи даже вытеснил мысли о том, что пора разжиться маком. Мы увлеклись, и каждый день открывали что-то новое – состояние, совершенно непривычное для наркоманов. Мы как бы вернулись в прошлое. Ведь когда-то все так и было: нормальная жизнь, о которой все позабыли. Мы не подозревали, что это и есть лечение. Сближение происходило в повседневных мелочах: попросят убрать во дворе, сделать что-нибудь. “По понятиям” это было не положено – работать на “режим”. А тут чувствую – стыдно: лежать на кровати и смотреть, как пожилая санитарка, кряхтя, моет под ней пол. И это, как оказалось, тоже было лечением. Вскоре мы сами убирали, мыли полы. Потом выяснилось, что можно поговорить о жизни с сестрами и санитарками – без взаимных спекуляций, как в старой наркологии, когда одна сторона льстит, чтобы заслужить более мягкое обращение, а другая – чтобы легче управлять ситуацией. Человеческое общение здесь стало нормой. Без подозрительности и контроля вступила в права нормальная жизнь. Так длилось какое-то время. Потом встал вопрос: что дальше? В отделении стали появляться новые больные. Мы уже чувствовали себя первопроходцами, хоть и боялись это показать, отдавая дань наркоманским традициям. Наблюдали за новенькими: как они проходят все “этапы”. Мы, старики, уже понимали друг друга с полуслова. Но нас становилось все меньше – пора было выписываться, идти домой. Было страшновато. Помню, мама приходила с немым вопросом: есть ли надежда? Это казалось мне неправильным: она не понимала, что со мной происходило. Уже тогда появились смутные догадки, что родителям тоже нужна помощь, им все непонятно и ново. Родители, как и больные, ищут точку, опираясь на которую, можно вылечиться от наркомании раз и навсегда. А такой точки просто нет. Все складывается из конкретных действий. Есть реальные отношения, которые нужно менять. Выписавшись, я вернулся на завод. Полгода работал без “срывов”. Стало легче общаться с людьми, появился интерес к событиям жизни и уважение к себе. Я с увлечением завязывал новые знакомства, меня охватила жадность к жизни, к общению. Бытует мнение, что “срывы” происходят в “черную” полосу жизни. Но однажды я слышал, что это бывает и по-другому: тебе так хорошо, что не хватает только наркотика. 22 Чтобы усилить удовольствие от жизни, ты его и принимаешь. Так случилось и со мной. Я вырвался из объятий опия “на всю жизнь” – самое время попробовать его снова. Я был один дома. Выпил сухой мак, сел в кресло. Стал ждать ощущений. Но они все не приходили. Может, мак плохой? Да нет же, хороший! И вдруг я стал анализировать, что со мной происходит. В мыслях был сумбур: страх, что пропали ощущения, сменялся стыдом, раскаянием, чувством вины – зачем я сделал это? Опиаты только усиливали страх и вину. Я вспомнил отделение, устыдился своей боязни, что меня не будет “тащить”: что же я за свинья такая? Психологическая отрыжка этого приема была ужасна: я – животное! Что мне остается? Только заколоться! Я затолкал эти мысли в закоулки сознания, но с каждым днем все больше отдавался воспоминаниям о наркотиках и лечении. Эта война внутри была невыносима. Заглушить ее могли только самые сильные средства. Ими стали таблетки в бешеных дозах, они позволяли отключать мысли – до комы. Но даже в этом бреду я понимал, что пора остановиться, иначе конец будет печален. Я попросился в отделение, но и там не находил себе места. Отпросившись в отпуск на день рождения отца, снова ушел в загул. И снова вернулся – другого спасения не было. Помню, как мы начали общаться с Надеждой Викторовной. Она хотела, чтобы мы называли ее Надей, общались просто, на равных. Мы не могли этого принять, и она с трудом пробивалась через нашу зашоренность, явно не зная, на какой результат может рассчитывать. Но не оценить ее желания, усилий и упорства мы не могли. Мы прониклись к ней доверием и стали ждать наших бесед, где по-человечески знакомились и с ней, и друг с другом. Это был первый урок, что человек может заслужить авторитет, пытаясь мужественно говорить почеловечески с теми, кто забыл человеческий язык. И все постепенно стали испытывать уважение к ней: кто – тайное, кто – открытое. Мы говорили о психологии, о типах и темпераментах людей, это была интересная, захватывающая игра. В то время в отделении появился новый врач – Сергей Николаевич Сукач. Он тоже много вложил в меня. Думаю, для него этот этап его жизни был не менее интересным и насыщенным, чем для нас. Ему повезло – он оказался в настоящем деле и с увлечением этому делу отдавался. Он сам менялся вместе с нами и жил этими переменами. Мы много беседовали на самые “острые” темы, старались без приукрашивания говорить о своих недостатках, рассматривать свои поступки, обсуждать отношения с родителями и женщинами, распознавать, что в этих отношениях зависит от нас. Эти разговоры всегда строились на конкретных случаях из личного опыта. Мы проигрывали эти ситуации, распределяя и перераспределяя роли, разбирали отношения и конфликты внутри нашей группы. Постепенно становилось понятно, что граница, делившая нашу жизнь на “лечение” и “собственно жизнь”, – лишь условность. Мы поняли, что такое общение нужно нам и после выписки. Уходя из отделения, мы уговорились встречаться здесь и дальше. Такие встречи стали еженедельными и продолжались до тех пор, пока Леонид Александрович не подал заявления об увольнении в связи с какими-то разногласиями с начальством. Вслед за ним уволился Сергей Николаевич. А Надежда Викторовна ушла в декретный отпуск. Но наши связи с ними не оборвались. Мы встречались на квартирах друг у друга, играли в футбол в парке. И хотя общение с Леонидом Александровичем стало как бы совсем неформальным, он оставался для нас большим авторитетом. Мы общались и чувствовали, что приобретенный опыт переполняет нас и требует отдачи. Читали запоем специальную литературу, анализировали изменение отношений в своих семьях. Все мы приходили к одним и тем же выводам и результатам, но каждый посвоему. Мы понимали, что нам еще нужна помощь в трудных ситуациях, но все больше хотели помогать другим людям, у которых были те же проблемы, что и у нас. Нам хотелось делать что-то реальное, настоящее. Мы вместе ездили в Москву и Ленинград, где были клиники, подобные нашему отделению, печатали статьи в газетах, создали клуб “Возрождение”. К нам приходили алкоголики и наркоманы, но реально помочь им мы не могли: нужна была клиника с ее особой средой. Она появилась, когда повеял ветер “перестройки”. Жизнь требовала перемен, власть давала на них “добро”. Леониду Александровичу предложили возглавить экспериментальное 23 6-е отделение наркодиспансера. При встрече он сказал нам: “Бросайте заводы. Есть работа поинтересней”. Так мы пришли работать в отделение. Поначалу я не очень понимал, что должен делать. Думал, я всего лишь наглядное пособие для тех, кто не верит, что от наркотиков можно отказаться. Дело было новое – никаких разработок, никакой методической литературы. Постепенно мне удалось найти свое место в отделении. Я понял: самое главное, что у меня есть, – мой личный опыт, и этот опыт может помочь другим людям. Не могу сказать, что это было просто. Первые пациенты приходили не по своей воле. Потом я стал замечать, что, глядя на меня, они стараются выглядеть лучше, подтягиваются. Видимо, им было неудобно выглядеть хуже меня – бывшего наркомана, который приходит в отделение не лечиться, а работать. Они придирчиво оглядывали меня, как будто все время старались поймать: а не “принял” ли я? Думаю, первое время им было достаточно того, что “не принял”. Это уже было для них новостью. Наверное, я помогал им вспоминать самих себя – такими, какими они были до наркотиков. Мне непросто было окунуться в эту среду. Мы – первые пациенты – уже далеко от этого ушли. Меня даже возмущало, что новенькие смотрят на меня как на “своего”. После моего лечения прошло четыре года, и я стал совсем другим. Мне не хотелось вспоминать себя – наркоманом. Снова возвращаться к прежним проблемам даже в мыслях было сложно. Но приходилось снова и снова вспоминать и переживать свое прошлое, вытаскивать его на свет и изживать, чтобы оно не мешало работать. Меня захлестнул настоящий шквал событий, в череде которых надо было из каждой ситуации делать общение. От меня все время требовалось творчество. Пациенты пытались манипулировать мной, надо было постоянно ломать наркоманские стереотипы, наркоманскую игру, помогать им осознавать, что они делают и зачем, заставлять их отказываться от манипуляций и просто общаться. Это их обескураживало, но в том и суть: без куража человек становится таким, каков он есть, а не таким, каким хочет выглядеть. Со временем мы это отработали, и главным в отделении стала среда, в которой манипуляциям попросту не было места. Иногда я с трудом выдерживал рабочее напряжение. В некоторых пациентах я видел порой свои собственные нерешенные внутренние конфликты, и когда это достигало пика, хотелось все бросить и уйти. Нужно было время, чтобы разбирать и свои проблемы. От перенапряжения я выбивался из сил. Самый простой выход был – спросить у Леонида Александровича: что делать? Но я почему-то не мог так поступить, а сам он никогда не вмешивался. Однажды после трудного группового занятия я не выдержал и стал собирать вещи. Это было отчаяние ребенка, который не может добиться результата и хочет привлечь внимание взрослых. Хотя я этого не понимал, думал, что я просто устал и хочу отдохнуть. Но в процессе собирания вещей истерика прошла, и я подумал: а что же дальше? Получается, я хочу сбросить с себя ответственность, переложить все на плечи Сауты? Я понял: свобода быть самим собой может пугать. Но осознать себя необходимо. И если меняется группа, я должен меняться вместе с ней. На каждом новом этапе, который проходят пациенты, надо помогать им осознавать что-то новое. А я? Что я должен был ощущать, осознавать, меняясь вместе с ними? Периодически Леонид Александрович устраивал “разбор полетов”. Это высший профессионализм – предвидеть назревающую ситуацию заранее и упреждать нежелательное развитие событий. И еще – понимать: что делают пациенты и что делаешь ты. Возникали разговоры о семьях. В отделении среда и доктор как бы заменяли пациентам родителей. И важно было, чтобы дома родители тоже научились создавать такую среду. Чем меньше будет необоснованных претензий к детям, таких как бросить курить или учиться тамто, а не там-то, тем дальше они продвинутся на пути понимания и решения проблемы. В родительских группах я видел, что старшие по-прежнему стремятся планировать жизнь своих детей. Им было не менее сложно осознать необходимость перемен. Они так же, как и ребята, забыли, что когда-то нормально жили, умели смеяться, радоваться. Они полностью погрузились в “проблему наркомании”, и заставить их расстаться с некоторыми иллюзиями было труднее, чем отнять наркотик у наркомана. 24 Сначала трудно было даже утвердить в сознании родителей, что им нужно участвовать в работе групп. Они не понимали, что были завязаны в одной игре с детьми. Если наркоманы обычно считают, что они сильнее наркотика, родители склонны заблуждаться, думая, что они тут “абсолютно ни при чем”, что они не больны, и им не надо менять образ жизни и меняться самим. Помню, был такой случай: сын сидел в тюрьме, а мама за это время купила ему квартиру, нашла престижную работу и даже присмотрела будущую жену. При этом, она никак не могла осознать, что все время живет за сына, не давая ему возможности проявить собственную волю, совершить собственный поступок. Но для меня это углубление в семейные проблемы обернулось совершенно неожиданными последствиями. Состав наших пациентов менялся. Среди них было все меньше “уголовных романтиков” и все больше – “маменькиных сынков”. Чтобы помогать им, я должен был научиться их понимать. А для этого надо было измениться, перестроиться самому. Это была профессиональная необходимость. Здесь многое держится на личности врача и социального работника: если ты – не личность, пациент тебе просто не поверит. А меня тогда очень давило личное неустройство. Я подошел к возрасту Христа, а мои отношения с семьей, с женщинами остались на прежнем уровне. Люди приходили в наш Центр, чтобы оздоровить семейные отношения, а я не имел опыта таких отношений. Мой опыт был востребован только до определенного предела. Я почувствовал свой “потолок” – я не мог двигаться дальше. Я не мог не понимать, что мало участвую в результате. Для меня семьей стало отделение, а настоящей семьи все не было. Леонид Александрович всегда понимал меня, поддерживал, не нарушая “моей территории”, но эта “территория” достигла максимальных границ и не расширялась. Наверное, мне надо было остаться в этих границах и осознать свое место в жизни. Но я остро чувствовал, что не развиваюсь и хожу по кругу. Я соотносил себя со своим делом и больше ни с чем в жизни. И вдруг эта позиция начала шататься. Жизнь требовала взросления и переосмысления. Мне казалось, что я не могу решить эту проблему в отделении. И я ушел. Все решили, что я просто сбежал – и высказали мне это с той или иной степенью деликатности. Сергей Викторович Рокутов смотрел на меня, как на ребенка, который не ведает, что творит. Только Саута сказал: “Ты думаешь, что так будет лучше?” Может, это были самые главные слова в моей жизни: он сказал их, обращаясь ко мне по-взрослому, на равных, и ему было не все равно. Но принятое решение я не изменил. Оно оставалось сверхценным: я делаю что-то самостоятельно! Наверное, это действительно был самый самостоятельный шаг в моей жизни, хотя, может, и не очень своевременный. Но меня буквально охватил “мандраж самостоятельности”. Первое время я чувствовал себя как рыба, выброшенная на сушу: я привык жить в отделении, по сути, я там родился. Я привык думать о людях, которые там находились, о группах, о том, как разговаривать с тем или иным пациентом. А без этого – что я? Где я сам? Я занялся поисками себя. Надо было искать работу. И еще мне не хватало семьи, собственной семейной жизни. Я связывал тогда эти понятия с одной женщиной – Ириной. Мне казалось, что она меня полностью понимает, и я могу открыть ей все свои тайны. Разве не это – основа, на которой может строиться семья? Я решил окунуться в самостоятельную жизнь сразу и окончательно – пока страх не уничтожит меня. А страх был: отношения были новыми, незнакомыми. Самое время было – остановиться и разобраться: откуда этот страх, чего я, на самом деле, боюсь? Но я отнес его к категории самокопаний (я был к ним склонен) и решил: будь что будет, куда кривая вывезет. Я должен был компенсировать свое ущербное детство безотцовщины созданием собственной семьи. И я лез в воду, не зная брода. У меня в детстве не было примера правильной семьи, поэтому и свою семейную жизнь строить было трудно. Я решил: пусть развивается, как Бог даст. Когда ты так настроен, легче сталкиваться с неожиданностями. К тому же, мне не с чем было сравнивать, так ли развиваются мои семейные отношения, даю ли я женщине то, что ей нужно? Ира – человек волевой, привыкла лидировать, быстро принимать решения. Когда я решился: все страхи в сторону! – мы с ней как бы уравнялись. Сначала мы легко находили согласие. Потом, когда мой запал все изменить закончился, выяснилось, что для прочных отношений нужна еще какая-то основа. Мы вдруг 25 перестали хорошо понимать друг друга, обнаружилось, что мы видим наши отношения поразному. Ира привыкла распределять роли по своему усмотрению. Она всегда была склонна к жесткой директиве – и в отношениях с мужем, и с детьми от первого брака. Я придерживался другого мнения, но я должен был жить по ее правилам. Тем более, что я жил в ее доме, воспитывал ее детей. Со временем она становилась все директивнее, требовала, чтобы все безоговорочно ей подчинялись. Я долго надеялся, что это можно изменить, потом понял – мужчине в ее жизни отводится роль мебели: ты должен делать так, как я сказала! Какое-то время мы делали вид, что все еще хотим жить друг с другом, но это было нечестно, и у нее такая жизнь выливалась в плохое самочувствие, у меня – в пьянки. Когда мы окончательно расстались, первое время я был в шоке: я остался в полном одиночестве и сумбуре. Это было крушение всех надежд. Все, к чему стремился, готовился, чего хотел и боялся – не удалось. И снова – ни семьи, ни цели. Я опустил руки. Пытался занять себя, чем угодно, лишь бы это чувство не раздавило окончательно. Я не переставал ругать себя: какой я идиот! Неудачник! Зачем я все это делал? С родителями – матерью и отчимом – жизнь не складывалась. Они постоянно выясняли отношения, и находиться с ними вместе в ограниченном пространстве было невыносимо. К тому же, они не понимали меня, я не мог поделиться с ними своими проблемами. Не то, чтобы они не хотели помочь – просто помощь понимали очень приземленно: накормить, постелить постель. Не знаю, что бы со мной было, если бы не друг – Сергей. Он разыскал меня, когда мне было совсем плохо, и позвал жить к себе. Я чувствовал исходящие от него внимание, понимание, участие. У меня внутри был ужас, а Сергей был спокоен, и через него я почувствовал: мир не рухнул! Он был православным человеком, и от него исходило удивительное умиротворение. Он не оценивал и не судил меня, просто молча понимал. Я смотрел, как он ходит на службы, читает молитвы – и мне становилось интересно: что его так увлекает? Мне вспоминался дом бабушки. Она тоже молилась, у нее были иконы, и я начинал чувствовать себя спокойнее. Сергей говорил мне: тебе надо пойти в храм, помолиться, и станет легче. Но мне не нравилось слово “надо”! Потом мне в руки попала книга святого Игнатия Брянчанинова о таинстве исповеди. Во мне что-то откликалось на это слово. Для меня открылось, что грех – не пожизненное клеймо, что его можно изжить. Я понял, в чем суть исповеди, и пошел в храм. Я был удивлен, что священник не стал меня отчитывать, а рассказал случай из своего детства. После исповеди я впервые за последние полгода почувствовал себя освободившимся. В ту ночь я спал на удивление спокойно. Я испытал удивительное облегчение души, я никогда этого раньше не переживал! Все куда-то отошло, потеряло значение. Я проснулся, как и уснул, со спокойной душой. Так передо мной стала открываться Церковь. Я постигал суть происходящего в ней. Я впервые почувствовал, что все не так безысходно. Для меня открылся целый новый мир. Я понял, что вера – это что-то очень важное, без чего нельзя жить. Я с огромным интересом читал духовную литературу, я стал воцерковляться, и мне становилось все интереснее. Появились новые знакомые, новые общие дела: строился храм, нужна была помощь. Я стал думать, как строить свою жизнь, чтобы это сохранить. С тех пор, как я бросил наркотики, прошло восемнадцать лет. Сейчас я не мыслю жизни без Церкви. Хотя и на этом пути, в свое время, тоже наделал ошибок. Я слишком торопился, насиловал себя молитвенными правилами, духовным подвижничеством. Я чувствовал в себе “новый дух” и старался как можно скорее стать лучшим, хорошим. Это было суетное желание. К тому же, духовная жизнь плохо сочеталась с мирской. Родители по-прежнему не понимали меня, им не нравились мои духовные искания. Стоило вернуться из храма домой – между нами будто возникал барьер. Я понял: у меня были слишком большие ожидания, что и я сам, и моя жизнь – все изменится без усилий, как по мановению волшебной палочки. А так не бывает. В жизни постоянно надо прилагать усилия. Только тогда можно рассчитывать на результат. 26 История Вадима Меня считали “трудным” ребенком. Я был очень непоседливым. И в детском саду, и в пионерском лагере меня все время таскали за руку. Дома часто наказывали. Когда мне было восемь лет, родители разошлись. Мама мотивировала развод тем, что отец меня бьет, но я не очень верил, потому что она тоже иногда принимала участие... Родители часто ссорились, и случалось, что наутро после страшного скандала вели себя, как ни в чем не бывало. Это было трудно понять. После развода у меня с ними были нормальные отношения, но о доверительности не могло быть и речи. Я их боялся – как я мог с ними чем-то поделиться? К тому же, мама кормила семью, ей некогда было серьезно мной заниматься. А отец стал “воскресным папой”. Пытался меня по-своему воспитывать, устраивал в спортивные секции, спрашивал, почему я не хочу заняться спортом, как другие ребята. Я спрашивал: а сам-то ты что умеешь? Он чтото отвечал, но я не верил, потому что никогда этого не видел. Не было примера. Зато я видел, как чужие отцы делали для своих детей то, чего так хотелось мне. Из их образов я складывал некий идеальный образ отца, наделял его чертами, которые мне нравились, и при этом, возможно, не замечал того, что делает для меня мой отец. Ведь хорошее тоже было. Помню, мы отдыхали на море, и отец учил меня плавать. В двухстах метрах от берега был буй, и мы вместе плыли до него. Когда, преодолев это – такое большое для меня тогда – расстояние, я, наконец, ухватился за буй руками, я был горд собой. Жаль, что это чувство было редким в моем детстве. В компании сверстников я не был последним человеком, но и лидером не был тоже. Мне явно не хватало уверенности в себе. Когда мы играли в спортивные игры, я все время прыгал последним. Часто я заранее ставил себе плохую оценку, говорил: я все равно этого не смогу. Я был толстый и неуклюжий, и сознание этого доставляло много мучений. Еще я переживал из-за того, что я – еврей, наверное, потому, что меня этим дразнили. Я старался не оставлять обиды неоплаченными: если мог – “бил морду”, не мог – подставлялся под удары сам. С наркотиками я познакомился в восемнадцать лет. Как-то поехал отдохнуть на море, а когда вернулся, оказалось, что мои дворовые друзья уже успели впервые уколоться. Они говорили: “Попробуй, это так классно!” И я не видел причин сопротивляться. После первого укола мы всю ночь шатались по городу, не чувствуя ног, но состояние было непривычно приятным, все действия доставляли удовольствие. Наркотик будто снял барьеры, дал ощущение свободы. Он позволял не замечать собственных недостатков. Я уже не мучился от стеснительности, не ощущал своей недалекости, сознание которой прежде не давало покоя. Я мало читал и ничем особенно не интересовался. В четырнадцать лет пошел в училище, потом – работать. Мама одна тянула семью, и ей надо было помочь. Но работа не приносила удовлетворения, я не знал, что делать дальше, чем насытить жизнь, не видел перспектив. Инстинктивно я чувствовал пустоту, которую надо заполнить хоть чем-то. И первой радостью в моей жизни стал наркотик. Находясь “под кайфом”, я познакомился с моей будущей женой и стал с ней встречаться. Вышло это легко, я как будто напрочь забыл о своей стеснительности. Сначала я принимал наркотики очень “осторожно”. Я слышал, что потом может “кумарить”. Поэтому день-два кололся, потом неделю пропускал. Когда “ширки” не было, ел сухой мак. Так продолжалось какое-то время, пока меня не вызвали в военкомат на медкомиссию. Женщина-психиатр обращалась со мной очень пренебрежительно. Видимо, прочла школьную 27 характеристику и разговаривала соответственно. Когда я стал грубить в ответ, принялась рассматривать мои руки, и, обнаружив следы от уколов, направила обследоваться в областной наркодиспансер. Так состоялась моя первая встреча с советской наркологией. Этот момент я, наверное, буду помнить всю жизнь, потому что такого унижения я еще не испытывал от людей. Уже в приемной я почувствовал, что со мной разговаривают не как с человеком, а как с законченным подонком. Потом в отделении раздели догола, искали вшей или еще какую-нибудь заразу. Это было страшно унизительно: и сама “процедура”, и обращение персонала. В изоляторе я впервые увидел, как действуют на людей нейролептики. После укола человек корчится от боли, у него вылезает язык, часто даже лопается перепонка. Это “купируют” другим препаратом, от которого поднимается температура, и человека начинает трясти в лихорадке. Лежали там, в основном, наркоманы со стажем. Многие уже успели отсидеть. Никто из них не собирался бросать наркотики, все обманывали врачей и ежедневно кололись, втаскивая “ширку” через решетки, так что никто из пациентов даже абстиненции не испытывал. И персонал не мог об этом не знать. Почему такое положение вещей было возможным – для меня загадка до сих пор. Но то, что я там увидел, ни в коей мере не способствовало отказу от наркотиков. Я смотрел на “бывалых” и думал: если никто и не пытается “спрыгнуть”, может, в “ширке” нет ничего страшного? Пугало только слово “наркоман”. Но я-то думал, что могу перестать колоться в любой момент! Тем не менее, я в этой больнице все-таки “спрыгнул”. Я знал, что мне это нужно. Солому, которую мне приносили, раздавал. Вышел из диспансера с диагнозом “здоров”. Насколько он соответствовал действительности, показала вся моя дальнейшая жизнь. Когда я спросил будущую жену, не мешает ли ей, что я принимаю наркотики, она ответила: “Нет”. Что она тогда понимала? Быть наркоманом считалось престижным. После укола люди становились раскрепощенными, способными к неординарным действиям, откудато сама собой появлялась храбрость. Пара человек, которые пользовались у меня авторитетом, были наркоманами. Мог ли я избежать этой участи? Маме я старательно разъяснил, что в наркотиках нет ничего страшного. Как-то перед Новым годом она увидела, что я ем мак. Я сказал: неужели ты хочешь, чтобы я валялся пьяным? Она подумала: может, и правда так лучше? Разве могла она предположить, чем это все обернется? И бросил я тогда “кайфовать” только из чувства противоречия. Бросил очень легко, даже не знаю, что со мной произошло. И не кололся до весны. А весной пошел в армию. Служба была тяжелая – на БАМе. На первом году почти каждый день били. На втором – появилась некоторая свобода. В армии встретил наркомана. Вместе с ним укололся. Но укол почему-то не доставил удовольствия. Вернувшись домой, я поссорился с невестой. И хотя все это оказалось пустяком, я не нашел ничего лучшего, чем взять пачку бинтов и поехать с двумя приятелями по селам резать мак. Там неделю кололся беспробудно. Возвратившись, помирился и долго ходил трезвым. Мы поженились, и я какое-то время держался. Мы жили в то время вместе с братом: бабушка умерла, и мама переехала. Мой брат всегда хорошо учился, занимался акробатикой, закончил университет. В детстве у нас не было контакта, он считал меня слишком молодым. А тогда его друзья часто собирались у нас дома, и я проводил время в их компании. Это были люди творческие, работники телевидения. Сначала я слушал их волей-неволей, потом мне стало интересно. Общаться с ними было хорошо и без наркотика. Я понял, что ко мне относятся по-человечески, с уважением и симпатией. Меня принимали. Я и сейчас спрашиваю себя, чем я мог им понравиться? Может быть, искренностью? А может, у них вообще было принято так относиться к людям, и ко мне – в том числе? Но я считал себя сереньким, и потому недостойным внимания. Я не любил себя. Никогда не любил. Не любил за безволие, лень, неумение чего-нибудь добиться. И при этом ничего не делал, чтобы изменить себя и свою жизнь. Меня спросили как-то: если твои близкие любят тебя, разве это не значит, что ты достоин любви? Но не понимал я этого всего: за что меня могут любить. Не видел в себе таких 28 качеств. Не понимал, за что меня любит жена. Был один друг, который говорил, что он меня уважает. Но за что? Этого я не мог понять. Может, потому, что меня почти никогда не хвалили хоть за какие-нибудь маленькие успехи. Зато всегда ругали за неудачи. Мама плакала. Отец лупил. Очень часто. Когда он приходил с работы, я вздрагивал, услышав, как ключ поворачивается в замке. Еще помню, в детстве от меня всегда что-то прятали: то сладости, то другие “запретные плоды”. И если мне запрещали куда-то заглядывать, я думал: там есть что-то интересное. И старался открыть запертую дверь, подобрать к ней ключ. Ругали меня и в детском саду. Помню два случая. Однажды мой вертолетик с пропеллером застрял в ветвях дерева. Я бросил камень, чтобы сбить вертолет, а он, падая, попал в мальчика, рассек ему лоб. А еще подрался как-то с мальчиком – у него кровь потекла из носа. В это время за ним пришел отец – и закатил мне хорошую оплеуху. В обоих случаях я не считал себя виноватым, я вообще никогда никого не бил первым – ждал, когда меня ударят. Только за оскорбление мог дать пощечину. Я был далеко не идеальным ребенком, но очень часто мне казалось, что со мной поступают несправедливо, поэтому я не слушал воспитателей. В школу мама без слез не ходила. Меня ругали за то, что плохо учусь. Учителя, как и воспитатели в детском саду, знали моего брата и все время меня с ним сравнивали. Разумеется, не в мою пользу. Мне кажется, они ругали меня за то, что я не был таким, как он. Но я и не мог быть таким! Я – другой человек! Отец старался меня чему-то научить и при этом все время сравнивал с другими, повторял: почему ты ТАКОЙ? И я завидовал брату, которого все ставили мне в пример. Казалось, что мама любит его больше, что родственники лучше к нему относятся, говорят о нем только хорошее, а обо мне одно и то же: опять что-то натворил! Может показаться, что я в своих бедах обвиняю всех, кроме себя. Но такими были мои детские представления, и я внес их в свою взрослую жизнь. Наверное, я сильно отвлекся от темы, но все это сейчас кажется мне важным. Потому что все это сыграло свою роль в том, что я стал наркоманом. Укол – только маленькая часть того, что представляет собой наркоман. Наркомания – это образ жизни, поведения. И прежде, чем я понял, что стал наркоманом, прошли годы. Через год после армии я впервые попробовал химический наркотик (кстати, именно такой сейчас варят и колют практически все опийные наркоманы). Вскоре стал колоться раз в неделю, успокаивая себя тем, что процесс, вроде бы, под контролем, и, стало быть, я – не наркоман. Хотя кем я мог еще быть, если все, что было вне укола, не имело для меня никакого значения? Жизнь казалась бессмысленным существованием. По большому счету, даже общаться с сыном было неинтересно. Так, “попил-поел”, “одет-обут”, сладкое, немного развлечений – что еще ребенку нужно? Пока все в жизни давалось достаточно легко, не приходилось особенно утруждаться. Были какие-то мечты, но я не считал возможным их осуществить. Не хотелось напрягаться. В реальной жизни я не находил места, где бы мне было интересно. Куда проще было в детстве: побывал в поликлинике – решил стать врачом, увидел по телевизору запуск ракеты – буду космонавтом. Но ведь это все чужое, этого хотят все дети без разбора. Потом каждый находит свое. А у меня не было этой страсти. Сейчас я уже понимаю, что в той – наркоманской – жизни у меня не было ничего, кроме зависти. Я и раньше часто завидовал. Завидовал брату: казалось, что ему достается больше внимания и подарков. Завидовал сильным, которые могут кому угодно набить морду и никого не боятся. Завидовал людям, у которых есть деньги и которые могут позволить себе все, что угодно. Мне и в голову не приходило задуматься, чего им это стоило – иметь то, что имеют. Я просто хотел иметь, ничего не делая. Просто завидовал. И понимал, что все равно ничего не смогу. Какое-то время я работал вместе с братом, мы неплохо зарабатывали. Но потом он сказал, что не может общаться со мной в таком состоянии (я был в “системе”), и будет лучше, если я попробую поработать самостоятельно. Я и сам уже понимал, что стал наркоманом, и что придется что-то делать (по крайней мере, перенести “кумар”). Я уже ощущал дискомфорт, если не уколюсь вовремя. Но проблема не стояла так остро, потому что все еще были деньги. 29 Я зарабатывал их честно, но легко, и потому большую часть прокалывал. Правда, на семью тоже пока хватало. Жена к тому времени свыклась с моей болезнью. Деньги были, а что делать с наркоманом – она не знала. Только ругала за то, что подаю дурной пример сыну. И это действительно было так. Хоть я и думал, что он еще маленький и ничего не понимает. Он видел больше, чем мне хотелось бы. Но я узнал об этом много позднее. Работал я тогда на пару с другом. Вместе ездили в Москву на заработки. Ему было тридцать семь, а кололся он только год. И в этом я свою вину чувствовал: сам ему предлагал. Как-то отработали мы в Москве три месяца без уколов и стали расслабляться. Чаще тянуло домой, где можно без труда достать “ширку”. Работали все меньше, кололись все больше. В один из очередных приездов “присели” серьезно и не нашли в себе сил ехать в очередную поездку. Даже на деньги, которые нас ждали в Москве, плюнули. Я уже понял, как сильно увяз в этой грязи. Пытался что-то сделать самостоятельно, но ничего не получалось. Мама тоже пыталась помочь, предлагала разные способы лечения. Я отвечал, что они мне не подходят, наверное, просто еще не хотел окончательно расстаться с наркотиком. А маме говорил: мне надо сделать гемосорбцию. Нашел подходящую клинику, отлежал там сутки, очистил кровь, утром проснулся после успокоительного укола – вроде, все нормально. Но только вышел на улицу, плохо стало, как никогда. Уколол себе кубик, потом два – не помогает. Так и проколол в тот день одиннадцать кубов. И снова надо было искать выход. Колоться и ни о чем не думать, как прежде, уже было нельзя. Деньги кончились, жена все чаще заговаривала о разводе. Наркотики стали серьезно мешать жить. Тогда мама уложила меня в больницу. Там добросовестно кололи коктейлями, которые вполне заменяли “ширку”. Но после барокамеры и прочих укрепляющих процедур, я через месяц почувствовал себя вполне сносно. И вот что удивительно: вышел из больницы – самочувствие было нормальным, а пришел домой – чувствую: “кумарит” – уже от лекарств. Укололся через несколько дней: всего кубик под кожу, чтобы не “присесть”. На следующий день – еще кубик, и опять пошлопоехало. Вскоре мы с другом решили снова поехать в Москву на заработки. (Он к тому времени самостоятельно “решил проблему” – перешел на разовые уколы). Денег много не заработали, но поднабрались силенок. Отбыли в Москве месяц и решили съездить домой. Занервничал я уже в поезде, все думал: уколюсь – не уколюсь? Нарочно пробежал поскорей все “точки” – от греха подальше, и вдруг возле самого подъезда слышу: “Вадик, “ширка” нужна?” Дальше все происходило, как в дурном сне: я говорю: “Нет”, делаю шаг вперед, тут же разворачиваюсь и кричу: “Стой!” – вспомнил, что в сумке лежит реланиум, и подумал: “вмажусь” последний раз с “релашкой”. Зашел на стадион возле дома – и укололся (позже я узнал, что в этот момент меня видел сын). Дома поднялась температура. Оказалось – желтуха. Попал в инфекционную больницу и стал “добросовестно” колоться. Снова серьезно влип – так, что плюнул на товар, который остался в Москве. Кололся до дня своего рождения – тридцатилетнего юбилея. В этот день я и почувствовал, как велика разобщенность с близкими. Меня поздравила только мама и еще один друг-наркоман. На следующий день я позвонил брату, упрекнул: “Вчера мне исполнилось тридцать, неужели трудно было набрать номер, поздравить?” Он ответил: “А кого поздравлять? У меня нет брата”. Это был сильный удар. Но и способ заглушить боль у меня тоже был – проверенный. И я использовал его на полную катушку. Вскоре деньги “улетели”. Начал варить “ширку” дома. Потом выносил из дома вещи. Проколол все золото жены: оставлял в залог, но уже не мог выкупить. Снова сказал себе: стоп, надо что-то делать. Вот только что? Поехал к маме в село. Снял с себя одежду, сказал: “Прячь. Когда захочу уколоться, ложись на пороге и не выпускай, я через тебя переступить не смогу”. На вторые сутки начал рыдать: не уколюсь – умру. Она не выдержала, отпустила. Делал еще одну попытку – снова с тем же результатом. Потом поехал к отцу. От него убежал без куртки в тапочках, проехал так полгорода, чтобы “раскумариться”. 30 Но надо же было что-то делать! Мама договорилась, чтобы меня положили в психиатрическую больницу. Это было унизительно, но наркотики притупили самолюбие. В наблюдательной палате, кроме меня, лежали больные с психическими отклонениями. Промаялся там два дня, на третий – дождался, когда все ушли на обед, надел чужие штаны, футболку и решился бежать. Дело было в ноябре, и такая экипировка кому угодно показалась бы, мягко говоря, не соответствующей сезону. Но мне было все равно. Ушел бы, в чем был. Только вот вместо входной двери по ошибке открыл другую – и оказался в комнате медперсонала. Извинился, вернулся в палату, лег, а внутри все горит. Что делать? Попробовал второй раз: иду напролом, как ни в чем не бывало. Заметили и вернули. В третий раз – оттолкнул санитарку. Тут на меня кинулись, бросили на кровать, уселись прямо на лицо, связали и что-то укололи. Три дня прошло, как во сне. Единственное, что помню: просыпался ночью мокрый и ходил в постель. Губы сухие, а слюна вытекает изо рта, и ничего не могу поделать. Потом кололи реланиум и еще что-то на ночь. Выписался через две недели – и сразу пошел колоться. В таком “веселом” состоянии гулял как-то по городу и встретил американских миссионеров. Они говорят что-то о Боге, а я – под “кайфом”, тоже чешу языком. Разговорились, пригласил домой. Рассказал о себе. Они сразу загорелись – помочь. Только, говорят, молись на ночь. И телефон оставили: звони в любое время. Сами тоже звонили – я врал, что не колюсь. Потом вдруг приезжают, говорят: нашли экспериментальное отделение, где наркоманов лечат психотерапевты – уже многим помогли. Называют адрес, а я знаю, что там находятся отделения областного наркодиспансера. Вспомнились мне все “прелести” наркологии, и я не поехал. Они снова приезжали, потом увидели, что обманываю – стали бывать реже. Однажды я сам позвонил, они посадили в машину всех: маму, жену и меня – и повезли в отделение на консультацию. Хоть я и был тогда “раскумаренным”, все равно понял, что здесь происходит что-то необычное. Лечиться меня не взяли (в таком-то состоянии!), но разговор с врачом запал в память. Приехал сюда второй раз после того, как снова побывал в психбольнице и уже практически потерял надежду. Приехал трезвым. Консультировал в тот день доктор Рокутов и социальный работник Виктор. Очень сильное впечатление они на меня произвели. Разговаривали, как с человеком, вникали в то, что я говорю, пытались понять. А потом записали в группу. Так начались перемены. Сейчас, когда я вспоминаю все это, даже становится страшно, что, выпади одно звено из цепи событий, которые продвигали меня сюда, и ничего могло бы не получиться. До сих пор не знаю, что это было: случайность, закономерность или, как говорят, перст Божий? Но все тогда складывалось так, как нужно. Первые дни я не понимал, что происходит. Здесь не делали уколов, не давали таблеток, но и абстиненции практически не было. Сначала разговоры между пациентами велись только про “ширку”. А единственным желанием было – поскорее выписаться. Объяснял я его тем, что хочу лежать не на больничной койке, а дома на диване. На самом же деле мое стремление “поскорей увидеть семью” было замаскированным желанием уколоться. Сам себя обманывал. Не жена и не ребенок были мне тогда нужны, а доза. Описать процесс лечения сложно. Хотя, на первый взгляд, все казалось простым: люди собираются на групповых занятиях, обсуждают свои психологические проблемы, ищут причины неблагополучия, пробуют изменить поведение, чтобы добиться желаемого результата. Но, по сути, я здесь заново учился жить. И думать. Я просто физически ощущал, как в голове крутятся “шарики”. Хотя я еще долго не понимал, что со мной происходит. Здесь было много разных людей, и я выбирал тех, с которыми мне было лучше. Вокруг меня были наркоманы, но были и люди, которые хотели помочь. И если я зарабатывал их уважение, я уже боялся его потерять. Жалко было разменивать его на укол. В какой-то момент это стало для меня тормозом на пути к “ширке”. Уколы у меня тоже были. Только они уже играли определенную роль в осознании механизмов, которые мной управляют. На первой стадии лечения я понял, что нет никакого смысла обманывать себя, изыскивая причины для укола. Нет смысла обманывать 31 окружающих, чтобы уколоться, ведь в первую очередь я обманываю самого себя. Если я уколюсь – мне же и станет хуже. Я думал: достаточно перестать обманывать себя, чтобы прекратить колоться. Но все оказалось не так просто. Когда я сорвался в очередной раз, я себя не обманывал, я знал, что хочу колоться. Меня только спросили: “Будешь?” – и я радостно ответил: “Да!” Я понял, что просто не обманывать себя – мало. Если есть желание колоться – ему надо что-то противопоставить. До сих пор у меня были весы с одной гирей. Я должен был найти вторую гирю, чтобы уравновесить чаши. Я еще не осознавал этого, но уже тогда мне нравилось в отделении. Здесь встречались ребята, с которыми было интересно разговаривать – те, что уже не кололись. Я попал туда, где хорошо быть человеком, и понял, что мне нравится общаться с нормальными людьми. Я не кололся и чувствовал себя хорошо. Значит, для хорошего самочувствия и настроения вполне достаточно – не колоться. Я размышлял, какие качества присущи наркоману. И понимал, что, прежде всего, – ложь. Значит, все зависит от человеческих качеств. И если я сильно чего-то хочу, понастоящему хочу – этого достаточно. Если же у меня не получается – значит, я хочу недостаточно сильно или не очень понимаю, чего хочу на самом деле. Я не очень много врал, даже будучи наркоманом. Но кому я врал? Самым близким! Наркоманам не очень соврешь – они никому не доверяют. Обманешь – больше не дадут. Обмануть можно лишь того, кто тебе верит. Но это уже совсем не по-человечески. В среде наркоманов ничего человеческого нет. Как нет и черты, которую наркоман не может переступить. Это только дело времени. Не знаю, что есть в мире такого, что могло бы удержать наркомана, который решился – переступить. Для меня это аксиома. Мне казалось, легко быть человеком там, где за это уважают. Но надо было выходить в мир, чтобы пробовать свои силы. Я приехал домой в отпуск с приятелем. Вечером мы выпивали и беседовали. Утром во мне проснулся наркоман, с которым я не мог совладать. Приятель не подавал признаков желания уколоться, и я решил “подъехать” к нему “по-гнилому”. Мы укололись вдвоем. Причем его я просто “встегнул”, чтобы не колоться одному. Потом был еще один отпуск, когда я пригласил к себе трех приятелей, которых уважал, и которые уважали меня. Уж с таким “тормозом” я никак не мог уколоться! Разве мыслимо променять их уважение на какой-то укол?! Утром, когда мы проснулись, один из них сказал, что ему снились наркотики. Я решил, что он “забрасывает удочку”, и во мне проснулся монстр. Что бы они потом ни говорили, во всем мне чудились скрытые намеки. Я просто чувствовал, что они меня провоцируют: пойди и принеси. В каждой фразе, каждой шутке мне чудился “закидон”. И желание росло во мне все больше. Я сказал им, что выйду по делам, а наркоман во мне думал: уколюсь и посмотрю, как они отреагируют; если они захотят – принесу еще. Когда я вернулся, они посмотрели на меня и ушли. Я почувствовал себя отторгнутым. Я приехал в отделение и обо всем рассказал лечащему врачу. Сергей Викторович посоветовал проанализировать и запомнить, что давало силы удерживаться от укола, и что, наоборот, толкало к нему. Это послужило хорошим уроком. Я понял, что все всегда зависит только от меня, и что моя жизнь будет такой, какой я сам ее сделаю. Я много раз употребил в своем рассказе слово “понял”, хотя, наверное, точнее будет сказать: мне помогли понять. Наступило время, когда я снова вышел в мир. Снова уехал работать в Москву. Однако потребность в общении с психотерапевтами и социальными работниками осталась. Я знал: шестое отделение – единственное место, где меня способны понять, помочь разрешить внутренние конфликты. Мои ожидания не обманулись. По приезде меня встретили с распростертыми объятиями. Искренне радовались моим успехам, моим маленьким “достижениям” в трезвой жизни. Я как будто окунулся в родную среду. Так я оказался в команде и сам начал работать с группами пациентов. Я понял, что могу помочь что-то понять другим – тем, кто попал в такую же беду. Здесь я каждый день доказывал своей жизненной позицией, что без наркотика можно жить – ЖИТЬ 32 полной, интересной жизнью. Я хотел, чтобы ребята посмотрели на жизнь без “ширки” и поняли, что она прекрасна – с ее радостями и невзгодами. Мир нельзя изменить. Но можно изменить свое отношение к миру. И это по силам каждому. Я проработал в отделении, которое со временем стало лечебно-реабилитационным Центром, четыре года. Потом вся наша семья переехала в Германию. Я решился на это, потому что понял: пора “плыть” самостоятельно. Находясь рядом с Леонидом Александровичем и ребятами, я чувствовал себя защищенным, знал: при необходимости мне всегда помогут. Может быть, мне пора было начинать жить своим умом, своими силами? Если сравнивать Центр с миром, который лежит за его стенами, сравнение будет в пользу Центра. Там практически стерильные условия: старшие надежные товарищи, здоровая среда, в которой правильно выстроены отношения. Все просто и понятно. Мне нужно было попробовать свои силы “в миру”. Леонид Александрович одобрил мое решение. В чужой стране нам сначала приходилось трудно. Работа была самая простая: подмести школьный двор, починить парты. Жили в общежитии, посещали языковые курсы. Потом появилась интересная работа, а с ней – уверенность в себе, в завтрашнем дне. Я собирал электронные “шкафы” для различных производств, и мне это очень нравилось. Работаешь руками, инструмент прекрасный, немцы – приветливые, относятся уважительно. Я был доволен и видел перспективы. Но в Германии неожиданно сложилась кризисная ситуация, начался спад производства. Наше предприятие потеряло заказы, и меня сократили. Первое время после увольнения я чувствовал себя так, будто почва ушла из-под ног. Я вообще плохо переношу перемены, долго привыкаю к новому образу жизни. А период безработицы взял, да и растянулся на два года. Оказалось, что я – не такой сильный, как думал раньше. Иногда мне становилось жалко себя, в голову “лезли” разные мысли, но здравый смысл всегда брал верх. Раньше, когда я “варился” в Центре, рядом с Саутой, все казалось легко. Сейчас мне действительно тяжело, но я научился относиться к жизни иначе. Я осознаю свои слабости, но уже не впадаю в панику, не рву на себе волосы. Я стал более рассудительным, и если что-то не получается, ищу причины, стараюсь понять свои ошибки. Хотя сначала у меня и были психологические срывы, сейчас, даже в трудные времена, я не поедаю себя изнутри. Я не все понимаю, ко многому не могу привыкнуть, какието вещи ставят меня в тупик, но я стал спокойнее. Я ведь и не думал, что жизнь должна быть безоблачной. Часто я спрашиваю себя: а правильно ли я поступил, уехав из Днепропетровска? И отвечаю утвердительно. Я вижу, что здесь очень нравится моему сыну. Ему удалось полностью “интегрироваться” в новую среду. Он хорошо учится, занимается спортом, посещает христианский юношеский клуб, говорит, как чистокровный немец, у него много друзей. Он очень занят (каждый день буквально расписан по минутам) и увлечен. Меня это радует. Семья для меня сейчас – самое главное. Я хочу найти постоянную работу, потому что только она дает ощущение стабильности, уверенности в будущем, возможность планировать свою жизнь. Работа позволяет ощущать себя мужчиной, кормильцем. И это для меня важнее всего. Что касается наркотиков, когда я слышу о них, не могу сказать, что это для меня пустой звук – слишком уж много было с ними связано. Но если бы меня попросили сформулировать, как я к ним отношусь, я ответил бы: никак. Здесь, где я живу, мак растет на соседних улицах, я помню, что это такое, но я прохожу мимо. Я давно – уже десять лет – не рассматриваю свою жизнь сквозь призму наркотика. Я даже не курю. Я думаю, моя жизнь изменилась, потому что я изменил отношение к миру. Я меньше завидую. Сейчас если я вижу, что кто-то достиг большего, чем я, то уже не жалею себя, а думаю, что мне надо делать, чтобы продвинуться вперед. Я не чувствую себя плохо оттого, что я не самый удачливый и богатый. Мою жизнь определяют совсем другие чувства. Мне нравятся многие люди. И этот мир меня вполне устраивает – со всеми его сложностями. 33 “Я НАШЛА ТЕПЛО, ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ” История Карины Первый раз я попробовала наркотики еще в школе. Почему? Теперь сложно ответить на этот вопрос. Мне не было и шестнадцати лет, когда у меня появились новые знакомые – неглупые и интересные, как мне тогда казалось, ребята. Они были старше на несколько лет и явно выигрывали в сравнении с одноклассниками. Среди них не было ни зануд-отличников, ни двоечников-босяков. И хотя в их обращении со мной иногда проскальзывал снисходительно-покровительственный тон, рядом с ними я чувствовала себя намного уверенней. Именно уверенности мне не хватало с тех пор, как умер мой отец – человек, который все понимал и никогда не говорил “отстань”. Его смерть пробила какую-то брешь в моей жизни. Даже понятие “отчий дом” утратило смысл. С мамой у меня никогда не было такой близости. И потом – у нее всегда было столько дел! Ведь отец много болел, а в последние три года совсем не вставал. Она работала, ухаживала за ним и двумя детьми. Если бы отец был жив, думаю, все сложилось бы иначе, и мои новые друзья не имели бы на меня такого влияния. А оно, как я сейчас понимаю, было слишком большим. Я смотрела на них снизу вверх, и все что они делали, казалось не только правильным, но и само собой разумеющимся. Когда я узнала, что они изредка “балуются” наркотиками, не возникло ни удивления, ни страха. Только любопытство. Это было начало. Что мне давали наркотики? Об этом я задумалась позже, когда увидела: чего хочешь и что получаешь – не одно и то же. Сначала наркотики только доставляли удовольствие, и не было никакой необходимости что-то менять. Мне тогда и в голову не приходило, что моя жизнь может так измениться. С чего бы? С наркотиком, наоборот, легче осуществлялось задуманное. Все получалось лучше и быстрее. Я чувствовала себя уверенней и всегда находилась в прекрасном настроении. У меня возникло даже чувство превосходства: мне живется интересней, чем другим. Обычная жизнь казалась серой и монотонной, а мне никогда не хотелось тишины и покоя. Зато день с наркотиками был заполнен эмоциями до отказа. Эпизодические приемы постепенно стали “системой”. Как это произошло, я, честно говоря, даже не заметила. Просто еще вчера я принимала наркотик, когда хотела, а сегодня доза стала необходимостью. Многие мои знакомые тоже были в “системе”, но все как-то жили – лучше или хуже. Сначала я не замечала контраста между моим окружением и другими людьми. Хотя “нормальные” люди, которые ходили на работу, смотрели телевизор и болтали с соседями, стали мне совсем неинтересны. Было скучно даже с мамой, которую я к тому времени почти перестала понимать. То, что было утрачено со смертью отца, ничем не восполнялось, и наркотики очень хорошо вписывались в эту пустоту. Только однажды, когда к нам всего на день приехал из Москвы один наш дальний родственник, человек очень целеустремленный и, благодаря этому, многого добившийся, я, пообщавшись с ним, вдруг подумала, что есть и другая жизнь, в которой люди живут совсем другими интересами и получают радость от вещей, казалось бы, вполне обычных. Но все это было слишком мимолетно, и вскоре почти изгладилось из памяти. Может, я не очень похожа на “типичного” наркомана, ведь я всегда работала и никогда не выносила из дома вещи. Просто главным в моей жизни стал наркотик. Нет, я не ходила на работу и ПРИ ЭТОМ кололась. Я кололась и ПРИ ЭТОМ ходила на работу, ела, спала и делала все остальное. Уже ничего нельзя было сделать без укола. Только он давал возможность хоть 34 как-то шевелиться. Удовольствия не было и в помине. И даже постоянное увеличение дозы не позволяло испытывать ничего, похожего на “тягу”. Работа мешала. Единственным ее “оправданием” было то, что она давала деньги, на которые можно покупать наркотики. Меня заполняло равнодушие ко всему. Отпала потребность общаться с кем бы то ни было. У меня росла дочь. Я знала, что это мое дитя, но, говоря о своей любви к дочке, я абсолютно не чувствовала ее. Оставались только внешние проявления заботы и любви, точнее – их демонстрация. За ребенком ухаживала бабушка. Дочка была одета и накормлена, и это оправдывало меня в собственных глазах. Так прошло несколько лет. Я много раз пробовала бросить колоться. Безуспешно. В глубине души я и не думала отказаться от наркотика навсегда, вершиной моих стремлений были уколы “по праздникам”. Каждый раз все происходило по одному сценарию: несколько дней я не кололась, потом – убедившись, что все еще жива, но очень устала от “спрыгивания” – позволяла себе небольшой отдых, в очередной раз решала: буду колоться реже, примерно раз в неделю. Кончалось это всегда одинаково: я снова попадала в “систему”. Понимая свое безволие, я ненавидела себя до такой степени, что становилось тошно жить. Как часто утром не хотелось просыпаться, ведь каждый новый день становился точной копией прошедшего! Одолевало чувство безысходности. Я плакала – было обидно за себя... Но выхода я не видела. Пробовала лечиться в спецамбулатории. Иглоукалывание, капельницы, нейролептики и транквилизаторы только затуманивали сознание и не приносили ни капли облегчения. Единственным результатом этого “лечения” была полная уверенность, что избавиться от наркозависимости невозможно. Но и жить в постоянных поисках “ширки” не было больше никаких сил! Все, абсолютно все, потеряло свою ценность. Уже сидел в тюрьме мой муж, отбывали второй или третий срок друзья-наркоманы. Некоторых даже не было в живых. И все это – прямо или косвенно – было связано с наркотиками. Может, в это трудно поверить, но мне все еще казалось, что среди наркоманов остались люди, не способные на подлость, низость, предательство. Люди, на которых можно положиться. И вот однажды я столкнулась с тем, что человек, которого я знала с детства и которому безгранично доверяла, в одну секунду, не раздумывая, променял долгие годы дружбы и доверия на несколько кубов “ширки”. Это была моя самая близкая подруга. Мы обе сидели в “системе”. Встречались чаще “по делу” – покупали наркотики. Но постоянно перезванивались, делились секретами и переживаниями. Когда от передозировки умер ее муж, она осталась одна, без денег и друзей. После похорон я привезла пару кубов, чтобы помочь пережить трудную минуту... Конечно, это была весьма своеобразная “помощь”, но я оказалась единственной, кто вспомнил о ней в беде. Вскоре она пришла ко мне. Я похвастала золотой цепочкой, которую случайно удалось купить по дешевке. Обнаружив пропажу сразу после ее ухода, я не хотела верить собственным глазам. Если бы была возможность заподозрить кого-нибудь другого, мне и в голову не пришло бы ее обвинить! Но самое сильное потрясение было впереди. Глядя прямо мне в глаза, подруга сказала: “Карина, ты ведь помогла мне тогда, когда никто обо мне и не вспомнил. Неужели ты думаешь, что я могла так тебе отплатить, что я могла ее взять?” Думала? Нет, я знала. Происходящее казалось нереальным, но не верить своим глазам я уже не могла. Она была когда-то хорошей девчонкой, и я всегда считала, что у нас много общего. Если сегодня она смогла сделать подлость, – думала я, – нет никакой гарантии, что завтра того же не случится со мной. Это была последняя капля. Я пришла к маме и сказала: “Больше я так не могу, со мной надо что-то делать”. Через два дня я впервые пришла в шестое отделение, имея за плечами десять лет наркоманского “стажа”, в котором не было ни одного двухнедельного перерыва. Первое, что меня поразило, – люди, которые научились жить без наркотиков. Таких я никогда не встречала раньше. Даже мысли не допускала, что они могут существовать. Но они были! Они жили и не кололись, и от этого – я видела – получали удовольствие: так просто и так неправдоподобно! Постепенно во мне стала зарождаться вера: отказаться от наркотиков навсегда можно. Ее укрепляли врачи, помогая отыскать в себе качества, которые ложились в 35 основу нового отношения к жизни. Но поверить в себя мне помогли именно социальные работники. Удивительно, что они ни в чем не убеждали на словах. Они просто жили – и не кололись. Значит, это возможно? Мое возвращение к жизни было нелегким и растянулось на полтора года. Понадобилось время, чтобы понять: эти ребята бросили колоться не потому, что они были уверенными в себе, жизнерадостными и свободными, наоборот, они стали такими, полностью отказавшись от наркотиков. Были еще неудачи и ошибки, но даже если я плакала, это были не прежние слезы безысходности. Теперь я знала: есть люди, которые понимают меня, радуются за меня и вместе со мной, умеют сочувствовать и сопереживать, всегда готовы помочь. Я нашла тепло, поддержку и понимание – то, о чем я всегда знала: это есть, это бывает! – но чего я была лишена долгие годы. Мне верили, и, может, от этих людей мне передалась вера в собственные силы. Социальным работником я стала незаметно для себя. Работая с группами родителей, на занятия которых меня приглашали, разговаривая с другими пациентами, я почувствовала, что могу помогать другим. Это успокаивало и приносило радость, наполняло жизнь смыслом. Еще в юности, до того, как в мою жизнь вошли наркотики, я думала о работе юриста, потому что она была связана с людьми. У меня всегда был интерес к людям, меня занимали причины их поступков и поведения. В Центре я неожиданно получила то, чего всегда хотела: возможность искренне общаться с другими людьми, принимать участие в их судьбах. Я люблю свою работу. Здесь есть взлеты и падения, нет пустоты и монотонности. Мне не скучно и совсем не надо менять состояние. Даже шампанского я больше не пью – не хочу чувствовать опьянение. 36 “НЕТ НАРКОМАНА, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ БРОСИТЬ НАРКОТИКИ” История Кирилла Моя наркомания началась с интереса. В школе и во дворе я общался с одними и теми же ребятами. Кто был для нас авторитетом и примером для подражания? Спортивный молодой человек в джинсовом костюме с кучей пластинок и своеобразным жаргоном. Поразить мое воображение могли и хулиганистые отпрыски обеспеченных родителей, они рисовались перед нами своей “крутизной” и вседозволенностью. Думаю, многими моими друзьями, как и мной, руководило стадное чувство. Мы вместе выпивали, пробовали курить “план”. В 1981-м я поступил в институт. Еще в колхозе сошелся с несколькими студентами, которые были не прочь “побаловаться” анашой или снотворным, попробовать сухой мак. Первый укол я сделал случайно. Однажды товарищ принес два пропитанных опием бинта, попросил спрятать от милиции. Забирая, отрезал кусок: “Попробуем!” Доза была маленькая, но мы всю ночь пешком гуляли по городу без устали, общались, сыпали откровениями. И хотя тогда я не ощущал потребности в повторении этого опыта, уже через месяц – при малейшей трудности, душевном дискомфорте или необходимости выполнить серьезную работу я вспоминал, что стоит только съесть ложку мака – и настроение станет лучше, а работоспособность повысится. Со временем я стал принимать наркотики по выходным, потом каждый день находил причину. Через два-три месяца уже сидел “в системе”, но наркоманом себя, конечно же, не считал. Наркоман – это кепка, шарф и тому подобное (наркомания считалась престижной, вот и рядились все, как в униформу). Я, разумеется, был выше этого. И к тому же боялся выглядеть наркоманом в чужих глазах. Зависимости я боялся тоже. Когда замечал, что ем слишком много мака, делал перерывы (сначала это удавалось). И размышлял при этом так: я же смог “бросить”, значит – зависимости нет. И, стало быть, можно продолжить: съесть еще “разок”. Каждый прием был “последним”, никогда я не планировал это “надолго”. И искренне верил, что отказаться от наркотика несложно – стоит только сказать “нет”. У меня была непоколебимая уверенность в своих силах. И вкус победы был знаком с юности. В школе я до восьмого класса учился на тройки. Потом задался целью поступить в вуз, стал работать на аттестат. Закончил – чуть ли не с медалью. И поступил в институт. Еще в 1979 году я был троечником, а в 1981-м – студентом престижного вуза. Вот тут и подстерегала опасность: ведь я достиг своей цели и имел полное право расслабиться, тем более, что я считал себя человеком, способным на многое, – стоит только поставить цель. Поэтому и отказ от наркотиков, как мне представлялось, должен быть для меня не ахти каким трудным делом. Рассуждая так, я продолжал ни в чем себе не отказывать. У родителей стали возникать подозрения: несколько раз мать и отец находили у меня мак. Я говорил, что это – корм для рыбок. Мать легко верила, ее выручал положительный образ сына-студента, у которого не могло быть ничего общего с наркоманами. Отец говорил: “Еще раз увижу – получишь”. Но и отцу, наверное, было легче делать вид, что ничего не замечает, чем поверить, что сын – наркоман, и принимать меры. Сначала я определял для себя наркозависимость как вещь чисто физическую. При “спрыгивании” уже через несколько дней меня не ломало, не крутило, живот не болел, организм начинал нормально функционировать. А желание “кайфа” было неосознанным. 37 Однако рано или поздно мне пришлось признаться себе, что я завишу от наркотика, и принять это как факт. Жил я тогда двумя идеями. С утра думал, как бы скорей “раскумариться”, вечером решал, что пора бросать. Но утром снова шел за наркотиком, обещая себе, что это в последний раз. Наркоманы, которых я встречал, тоже признавали, что зависят от дозы, но это лишний раз говорило в пользу укола. А эйфория заслоняла все, и долгое время у меня не было ощущения, что я делаю что-то не то. Когда оно, наконец, возникло, это не было моим выстраданным убеждением. Скорее, сработал стереотип: если долго принимаешь наркотики, значит, ты – наркоман. Сознание этого не приносило особой радости, ведь у меня были другие идеалы в жизни. Усилием воли (которая, очевидно, еще не была полностью порабощена) мне удалось “спрыгнуть” и продержаться почти два года. Правда, я не отказывался от наркотиков совсем, хоть раз в полгода, но принимал мак. В остальное время – частенько выпивал. Думаю, я уже отвык от трезвой жизни, и нужен был хоть какой-то стимулятор. Мне хотелось удовольствий. От жизни я ждал только праздника, от окружающих – заботы о том, чтобы мне было хорошо. Держался я эти два года во многом за счет интересной работы. Частые командировки, ответственность, романтика. Иногда работал по двенадцать-шестнадцать часов в сутки, а к наркотикам даже не тянуло. Тем более, что абстиненцию я переживал очень тяжело, страх перед ней тоже был тормозом. Помимо любимой работы, у меня была семья: жена и ребенок. Жить было интересно. Тем не менее, спустя два года, я снова вернулся к наркотикам. Самое удивительное, что я даже не помню, как это случилось. Скорее всего, хотел облегчить похмелье от спиртного, ведь два дня выпивки всегда выливались у меня в запой. Вообще, возврат к наркотикам всегда был связан с алкоголем: для пьяного нет никаких тормозов. Наступило время, когда я дома кололся, а в командировке – выпивал. Как почувствую, что доза растет, – прошусь в командировку. В работе все очень быстро проходило. Может быть потому, что не было рядом наркотиков. Так продолжалось какое-то время. Но чем дальше, тем больше я втягивался. Вскоре и работа перестала так уж меня увлекать: перевесила та чаша весов, на которой лежал опий. Ездить в командировки становилось все труднее. И я ушел на другой завод, где работа была попроще. Пока был интерес к новизне, удавалось держаться на эпизодических приемах. Я должен был самоутвердиться, показать себя специалистом. Это снова получилось легко. Переквалифицировался за два месяца и даже стал бригадиром, добился особого положения: подчинялся непосредственно главному инженеру. Однако и на новом месте я скоро заскучал и снова оказался в “системе”. Начальство стало замечать, что я “неважно выгляжу”. Я рассказал про больную печень. Потом решил сознаться непосредственному начальнику: я хотел “спрыгивать”, и для этого был нужен отпуск. “Спрыгнул” и какое-то время держался на запретах. Жена получала за меня зарплату и повсюду ходила со мной. Больным она меня не считала, думала – с жиру бешусь, говорила: “Завязывай”. Так прошло девять месяцев. Я все время считал дни и гордился сроком. Потом встретил друга детства. Он начал колоться гораздо позже меня и к тому времени года полтора сидел в “системе”. Я пригласил его зайти. Жена увидела, в каком он состоянии, сказала: “Зачем тебе такие друзья?” Я возразил: “Когда я кололся, он от меня не отворачивался”. А у самого сердце прыгало: если бы он только предложил! На следующий день я укололся. Началось самое страшное. Я стал быстро набирать дозу. Двадцати кубов в день уже не хватало. К “ширке” прибавился димедрол. Мне хотелось так уколоться, чтобы мозги не работали. Иначе трудно было себя выносить. Я стал тащить из дома: кто запретит мне распоряжаться своими вещами? Потом та же участь постигла золото жены. Не думал уже ни о чем, ценней “ширки” ничего не было. Приезжал к родителям, брал у них. Лгал сам себе: возьму деньги до вечера – уколюсь, а там придумаю, как отдать. Обманывал их без зазрения совести, и каждый раз рассказывал новую байку. Сам удивляюсь, как долго они мне верили и давали. Но бесконечно так продолжаться не могло. Сначала меня прогнали с работы: опасно стало держать. Дома присутствовал уже почти на правах гостя. Жена выгнала, отец разрешил 38 жить, но кормить отказался. Только мать еще питала надежду, жалела, чем я и пользовался – брал у нее деньги. Четыре месяца катился в пропасть: все хуже и хуже. Настал момент, когда никто уже не был мне нужен. Если бы дома стояла бочка с “ширкой” – я бы никуда и не выходил. “Раскумариваться” бежал уже в шесть часов утра. Организм совсем истощился. Доза росла – от стыда. Иллюзия, что меня считают порядочным человеком, разбилась, когда меня выгнали из дома и уволили с работы. Я понял, как меня воспринимают окружающие. И хотя не смирился с этим, желания изменить жизнь не возникало, я просто старался обходить знакомых стороной, не попадаться им на глаза. Впрочем, лечиться тоже пробовал. Прочитал объявление о кодировании от наркомании. Пришел, попросил рассказать, что это такое. Ничего мне толком не объяснили, сказали, что случай тяжелый, надо не принимать три недели “химическое вещество”, потом – приходить на сеанс. Пользу из этого разговора извлек только живший во мне наркоман: я вытребовал себе сибазон, который пил на ночь. Больших надежд на больницу не возлагал. Помог мне Вадик. Он был моим другом, мы росли в одном дворе, а потом вместе пробовали наркотики. Я слышал, что он в последнее время не колется, потому что лечился в каком-то экспериментальном отделении. Как и всякий наркоман, я считал себя чуть ли не пупом земли, и уж конечно, на голову выше всех окружающих. Я думал: друг лежал в больнице, потому что он не мог ничего сделать сам, а мне больница не нужна. Я ценил себя выше. Но он настоял, чтобы я пришел на консультацию в шестое отделение. Так началось мое возвращение к жизни. Первые дни было очень трудно. Абсцессы от уколов давали высокую температуру. Три недели я просто лежал, и меня мало волновало, что здесь происходит. Занимал только вопрос выживания в среде пациентов. Люди, которые лечатся от наркомании, мало похожи на обитателей пансиона для благородных девиц. В нашей группе было шесть человек. Все разные, у многих за плечами – тюрьмы. Ценности у них своеобразные. Хвастают тем, что могут залезть в квартиру, и тому подобное. Единственное, что меня заботило, чтобы меня не трогали: не физически, конечно, а вообще. Первые приятные эмоции появились, когда здоровье немного поправилось, и я стал потихоньку заниматься спортом. Потом мне предложили поработать кочегаром (там была своя котельная). Принял я это предложение с восторгом: финансы были на нуле, даже на сигареты и чай денег не хватало. В этом смысле я был скорее исключением из правила. Многим пациентам мамы каждый день сумками таскали отборные продукты. При этом никому и в голову не приходило задуматься, что едят родители дома. Наркоманы ко всему относятся потребительски – даже к людям, которые хотят им помочь. Когда я стал работать в котельной, ко мне относились, как к дурачку. Не ценилось это в наркоманской среде. Хоть на группах врачи и социальные работники старались всех подвести к мысли, что каждый должен зарабатывать и отвечать за свои поступки сам, постулат этот проникал в головы пациентов с большим трудом. Даже мне, как я ни нуждался, надо было себя внутренне переломать: человек с дипломом – и вдруг на самой черной работе. Но ситуация постепенно незаметно менялась. Лидеры, которые днем на группах старательно изображали кротость и смирение, а по вечерам проповедовали уголовные ценности (больше на словах, потому что какие там числились за ними подвиги – еще вопрос: наркоманы – все трусы) начали срываться. Остальные замечали, что на словах у этих “авторитетов” одно, а на деле – другое. Я почувствовал, что заработал уважение: молодые ребята подходили ко мне с вопросами, интересовались моим мнением. Я делал успехи, и месяца через два у меня появилась твердая уверенность, что к наркомании я не вернусь. Я внутренне расслабился – и через неделю укололся. Как это случилось – не хочу объяснять. Отчасти меня спровоцировали, а я еще не умел отличать, когда со мной разговаривает человек, а когда – живущий в нем наркоман. Да и не так это важно – почему я укололся. Глубинная причина одна: я переоценил себя. И сразу потерял все, что добыл в последние месяцы: доверие и уважение. 39 К моему удивлению, врачи не стали разбираться с моим поступком, посмотрели и сказали: иди работать. Сейчас я понимаю, что если бы они меня отругали, напряжение было бы снято. А так я вынужден был казнить себя сам. Хорошо и то, что я работал в котельной: вроде, при деле, и никто не мешает думать. А думал я много. Сначала, пока “ширка” еще бродила в крови, оправдывал себя: не настолько уж я и виноват, просто так сложилось. На второй день я начал думать о последствиях своего укола, пытался вычислить, какие карательные меры будут приняты, строил модели поведения в группе, когда там будут обсуждать мой поступок. Однако, придя на групповую психотерапию, я с удивлением обнаружил, что и Михаил Юрьевич (доктор Щавелев), и Вадик, и Карина относятся ко мне иначе. Раньше они проникались моими проблемами, теперь – почти не хотели слушать. Этот укол отбросил меня так далеко назад, настолько обострил проблему, как будто и не было двух месяцев трезвости. Все надо было начинать сначала. Но я стал думать уже не о физической стороне зависимости, а о том, как научиться жить без наркотика. Я постарался все спокойно обдумать и понял: то, что я пытался делать раньше, мне не подходит, нужно стремиться к естественному поведению. Раньше, когда я кололся, в моей голове жила только одна мысль – о “ширке”. Она была, как надутый воздушный шарик, и заполняла собой всю черепную коробку. Потом из “шарика” выпустили воздух, но я понял, что если мне не удастся “надуть другие шарики”, место для этого, маленького сейчас, останется свободным. Я должен был заполнить пустоту, образовавшуюся там, где раньше роились мысли о наркотиках. И я старался постепенно заселять мозг другими мыслями: я надувал их, как шарики, сначала они были маленькими, но их становилось все больше и больше, и они потихоньку росли. Когда отопительный сезон окончился, я не ушел из отделения. Я остался здесь социальным работником. Я знал, что свою зависимость буду преодолевать всю жизнь. Но если я научился жить по-человечески, значит, то, что я пережил, понял и прочувствовал, может помочь кому-то еще. Пусть мой опыт послужит такому же человеку, как я. Много позже я понял, что этот период был для меня временем реабилитации. Я читал много книг по психологии, старался преуспеть, потом осознал, что моя главная задача – помогать профессиональному психотерапевту, рассказывая о своем опыте. В отделении, которое со временем стало лечебно-реабилитационным Центром, я научился многому. Я понял, что лечить надо не абстиненцию, а душу. Этого нельзя сделать за три дня кодирования или за час гипноза. Я вижу смысл в изменении, возрождении личности, потому что именно так было со мной. В каждом наркомане есть какое-то человеческое начало, вопрос только в том, насколько оно изменилось, говоря грубо, но прямо: сгнило. Я верю, что нет наркомана, который не может бросить наркотики. Наркомания, которая процветает сейчас, – это, скорее, “наркомания родителей”. Без “помощи” мамы и папы многие просто не смогли бы оставаться наркоманами. Ведь существуют они только за счет родителей, которые кормят, одевают, защищают от милиции и тому подобное. И это, наверное, проблема всего общества – что мы дожили до такого. Иногда смотришь: человеку – за тридцать, а он разговаривает с мамой, как пятнадцатилетний подросток. Потому что ему в свое время не отдали ответственность за свою жизнь. Эта проблема появляется прежде, чем человек начинает колоться. Наркомания возникает в семье, где нет взаимного уважения, равноправия, открытости, доброжелательности, где мамы решают за счет детей собственные проблемы: как это у меня, такой хорошей, сын – двоечник? И принимаются “доводить” ребенка “до совершенства”, вместо того, чтобы отдать ему ответственность за учебу. Так возникает ситуация, когда сын или дочь начинают – в действительности или пока только в мыслях – убегать из дома. Я говорю так уверенно, потому что сам был в таком положении, да и в семьях других пациентов наблюдал ту же картину. Но человек, который преодолевает зависимость, должен получить что-то взамен. Он должен взять ответственность за свою жизнь и свои поступки на себя, иначе он останется пассивным наркоманом, и любая психологическая нагрузка будет вызывать мысль о 40 наркотике. Эта мысль появляется и у меня. Но я знаю, что потеряю, если уколюсь: уважение и любовь близких. Это большая цена. Отказавшись от наркотиков, я стал больше себя уважать, хотя вскрылись многие внутренние конфликты, которые прежде снимала доза. Но появилось главное: нити управления жизнью я держал в своих руках. И хотя со временем я ушел из Центра и стал работать по специальности, “школа Сауты” не забылась, и до сих пор помогает мне жить. Я научился лучше понимать людей, строить с ними отношения. Я и сейчас исповедую жизненные принципы Леонида Александровича, моего бывшего врача, потом шефа: порядочность, обязательность, работа на результат. Я не трачу времени на пустые разговоры и споры, стараюсь всегда заниматься делом. Может быть, мое поведение кажется кому-то слишком рациональным, но я дорожу приобретенной способностью решать сложные вопросы в течение нескольких минут. Тема наркотиков давно – почти десять лет – меня не интересует. О своем неблагополучном прошлом вспоминаю лишь тогда, когда встречаю какого-нибудь старого “друга” или по телевидению вдруг что-то покажут “на тему наркомании”. Если раньше такие воспоминания резали, как по свежей ране, сейчас я не реагирую на них эмоционально. А ведь в былые годы я видел (точнее – замечал) на улицах только наркоманов: казалось, других людей нет. Теперь мысли заняты другими вещами. Для меня важны дом, семья и работа. Сейчас не “застойные времена”: хочешь добиться успеха – надо трудиться с отдачей. У меня ответственная должность на производстве. Девять лет назад мне казалось, что для такой работы нужны особые люди. Сейчас я чувствую себя на этой должности “на своем месте”: знаю на своем участке каждую “гайку”. Мне удалось заработать авторитет, благодаря тому, что я смог решить несколько сложных производственных задач. Я научился оценивать ситуации, принимать решения и получать результат. Строить отношения в коллективе непросто. Я стараюсь делать их открытыми, прозрачными, когда всем ясны их обязанности. Я учусь не переделывать людей, а использовать их сильные стороны. Я оставляю за людьми право на ошибки, даю развиваться сложным ситуациям так, чтобы они могли эти ошибки осознать и исправить. Это эффективнее, чем насаждать свое мнение авторитарными средствами. Конечно, работа отнимает очень много времени, но она – основа, на ней строится благополучие моей семьи. Семья тоже требует времени и внимания, и я знаю, что, несмотря на занятость, я должен общаться с близкими как можно больше. Помогаю матери и сестре: после смерти отца я остался единственным мужчиной в семье и чувствую себя ответственным за них. И, разумеется, моя главная ответственность – жена и дети. К счастью, мы понимаем друг друга, возможно, потому, что сейчас в нашей семье роли распределяются правильно. У нас – патриархат: все “мужские” вопросы я решаю сам. Я обеспечиваю свою семью и решаю все проблемы. А жена “отвечает” за уют в доме. Детей стараемся воспитывать самостоятельными людьми. Если жена проявляет излишний интерес к их тетрадям и домашним заданиям, я прошу ее “снизить активность”: школа и уроки – это то, за что они отвечают сами. Помогать нужно лишь тогда, когда дети об этом попросят. Но выполнять не все просьбы, а только разумные, не позволяя им садиться на шею и командовать. Мало ли что они могут захотеть! Конечно, иногда бывает соблазн вмешаться, но я стараюсь останавливать себя. Я понял, что для воспитания детей самое главное – нормальные семейные отношения. Нужно, чтобы все уважали друг друга. И муж, и жена, и дети – все это люди, которые могут иметь свое мнение, и к нему надо прислушиваться. Если в семье есть уважение и правильное распределение ролей, не надо никакой профилактики – дети не вырастут наркоманами. 41 “ВСЕ БЕДЫ – ОТ ПРАЗДНОСТИ” История Сергея Наркоманов я помню с детства. Двое жили в нашем дворе, я часто видел их, разговаривал с ними. Они говорили: “Никогда не пробуй наркотики”. С ранних лет я знал: наркотики – это яд, к ним нельзя прикасаться. Я был твердо уверен, что никогда не стану наркоманом. В школе у меня были друзья. Интересы у нас не отличались разнообразием: девочки, выпивка, приятное времяпрепровождение. Потом закончили школу, друзья поступили в институты, разъехались. Летом я сблизился с другими ребятами, учившимися в техникумах и ПТУ. Они впервые угостили меня марихуаной. Понравилась она мне дико: весело, настроение хорошее, раскрепощение, и нет никаких внутренних барьеров. Курил ее постоянно, осенью трезвым уже и не бывал. Я считал себя взрослым, родителей почти не замечал: кормят, поят, чего еще надо от них? Отец много пил, но зарабатывал хорошо, у него всегда были деньги. Меня это вполне устраивало: у пьяного попросишь – не откажет, или сам возьмешь – не заметит. Мать требовала, чтобы я шел учиться или работать, устроила меня в техникум на вечернее отделение. Я согласился, чтобы отстала, а еще потому, что это было очень удобно: на занятия – к шести вечера, весь день свободен, родители помогают, поскольку учусь. В техникуме стал появляться два раза в неделю, а экзамены и зачеты сдавались просто: приносишь пакет с водкой и закуской – и получаешь тройку. Свободное время проводил с новыми друзьями. В начале зимы один парень из нашей компании укололся в первый раз, рассказал другим. Они собрались, купили мак, сварили и тоже “попробовали”. Я пришел позже, когда друзья уже вовсю “тащились”. Они стали рассказывать, как это здорово. Колоться я не хотел, боялся. Помнил тех наркоманов: один из них уже умер. Но когда мои друзья говорили о своих ощущениях, в груди будто что-то защемило. Утром они пришли ко мне сварить “вторяки”, я немного поломался – и впустил, сказал только, что колоться не буду. Потом, когда все укололись, осталось полкуба. Товарищи мои начали меня уговаривать: это слабенькое, и совсем немного. Я и попробовал. Ничего сначала не ощутил, только в голову ударило, и подташнивать начало. Вечером я купил “нормальную” дозу и укололся уже сам. Я чувствовал, что переступил барьер, но утешал себя тем, что просто должен был это попробовать. А втянуться мне не грозит: я ведь видел наркоманов и пойму, когда надо остановиться. Мое новое состояние мне нравилось: после дозы я чувствовал уверенность в себе, пропадал страх. Я невысокий и щупленький, а наркотик как будто прибавлял мне физической силы, позволял ощущать себя чуть ли не Шварценеггером. Кололись мы сначала раз в неделю, еще было сознание, что это опасно. Но придумывали поводы и сбрасывались, как раньше на выпивку, у кого сколько есть, делили на всех, чтобы получалось по кубу-полтора. Потом надоело мне делиться своей “ширкой”. У меня всегда денег было больше, и никогда я, вроде, не жадничал, а тут стал жалеть: пусть не колются, если у них денег нет. Начал выходить на “движение” сам, появились знакомые наркоманы. Зажил я в свое удовольствие: утром – куб, вечером – полтора. На остальные деньги – сигареты, жевательные резинки, шоколадки. Чувствовал себя хозяином жизни. Утешался тем, что пока не “кумарит”. Потом как-то встретил друга, он на меня посмотрел и говорит: “Шмыгаешь носом? Значит, уже подсел”. И стали мы колоться на пару – каждый на свои деньги. 42 Меня уже понесло. У мамы появились подозрения. И соседи стали замечать меня с разными подозрительными личностями. Мать перестала давать деньги, у отца брать часто боялся. Все открылось, когда я стащил из дома ящик сигарет (мать покупала впрок помногу). Разразился скандал – тут я и признался. У матери была истерика. Она и раньше догадывалась, но боялась до конца в это поверить. Жалко мне ее стало, а себя – еще больше. Пообещал, что брошу. Просидел дома день, на второй чувствую – плохо мне. Сказал маме, что меня уже “перекумарило” – и пошел гулять. Стал колоться в ноги, а руки все время родителям демонстрировал. Они еще не научились различать оттенки моего состояния. “Спрыгнул” по-настоящему только летом. Тогда погиб муж моей сестры – разбился на машине в двадцать три года. Он был для меня авторитетом, потому что многого в жизни достиг сам. И его смерть стала для меня шоком. Я вдруг осознал ценность жизни. После похорон я остался у сестры – и “спрыгнул”. До сих пор помню этот первый “кумар”. Думал, он никогда не кончится. Потом уехал на море – подальше от “протоптанных троп”. Чувствовал я себя уже неплохо. Но колоться очень хотелось, и страх смерти стал забываться. К тому же, мне удалось самому бросить, и я почувствовал в себе силы: если надо, я снова смогу с этим справиться. Вернулся домой и решил “расслабиться”. И началось все сначала. Месяца по три я кололся, потом ненадолго “спрыгивал” и начинал снова. Пробовал лечиться у профессора, который практиковал метод “сбивания дозы”. Суть его заключалась в том, что дозу постепенно снижают, пока она не сойдет на нет. Когда врач спросил меня, сколько кубов в день я принимаю, я ответил, что пятнадцать, хотя на самом деле было восемь. Он сказал: “Начнем с двенадцати”. Мать давала мне деньги на двенадцать кубов “ширки” да еще на такси туда и обратно. Я привозил дозу домой и дома кололся. Мать была спокойна, что я, по крайней мере, не попаду в милицию. Два месяца я “забивал баки” врачу, и его это вполне устраивало, ведь чем дольше я у него “лечился”, тем больше мать ему платила. Он даже говорил ей, что у меня есть положительные результаты. Потом я уезжал в Запорожье к двоюродному брату, чтобы “спрыгивать” там, но выдерживал максимум неделю. Или, на худой конец, кололся эфедрином. Жизнь стала невыносимой: сидя на игле, я понимал, что необходимо бросить наркотики, а когда не кололся – просто ненавидел весь мир. И никакого выхода я тогда не видел. Мать забирала у отца деньги, прятала от меня. Уходя из дома, родители или выгоняли меня, или запирали, чтоб не мог выйти. Я выносил все, что попадалось под руку, стараясь в первую очередь стащить вещи, которые не бросаются в глаза. Клялся, что больше не буду, и делал снова. Деньги были нужны мне, как никогда, потому что уколоться хотелось уже так, чтобы ни о чем не думать. И я добывал средства любым доступным способом. Мог обмануть какого-нибудь “малолетку”: взять деньги на наркотики и пропасть с ними (в наркоманской среде это, кстати, обычная вещь). Кроме наркотиков, меня уже ничто не волновало. Как-то взял припрятанные деньги и хотел идти колоться. Меня не выпускали из квартиры. Тогда я устроил истерику, связал простыни, хотел спуститься через окно. Отец увидел – выгнал из дома. Уколовшись, я вернулся и сел смотреть телевизор, не обращая внимания на родителей. Ведь, по моему мнению, они просто не понимали, как мне плохо. В техникум я совсем не ходил. Но, к моему удивлению, в один прекрасный день оттуда позвонили и сказали, чтобы я пришел “дипломироваться”. Оказывается, мать позаботилась о том, чтобы обо мне не забыли. Диплом стоил мне (а точнее – матери) очень большого пакета с водкой и закуской. Потом меня стали “напрягать” насчет работы. Но как можно колоться и работать? Целый день я проводил “в движении”, ведь оставаться одному – грустно, а кто станет общаться с наркоманом, кроме других наркоманов? Меня стали посещать мысли, что я – “конченый наркоман” и таким умру. Чтобы отвязаться от матери, я устроился на курсы бухгалтеров. Учился и сдавал экзамены примерно так же, как в техникуме. Но по окончании мать взяла меня к себе в магазин, там я на практике изучил азы бухгалтерии. Сначала я старался, чтобы ее подчиненные не заметили, что я – наркоман, не хотел ее позорить. Но потом начал брать 43 деньги в долг под зарплату. Вскоре зарплаты стало не хватать, тогда мать запретила всем ссужать меня деньгами. Я нашел выход – брал продуктами, придумывал разные истории: то едем с друзьями на пикник, то иду к кому-нибудь на день рожденья. Проработал я так полгода, потом ушел, сил уже не хватало, да и утром надо было потратить много времени, чтобы “раскумариться”. Лечиться больше не хотел – слышал по рассказам, что представляет собой наша наркология: снотворные, нейролептики, и все равно все колются. Так продолжалось до 1995 года. Мой день рождения в этом году мы отметили, как всегда. А утром мать вдруг разбудила меня и сказала: “Даю тебе две недели. Если не бросишь – собирай вещи и уходи, я не хочу тебя знать”. Я пообещал и пошел колоться, ведь две недели, как я понял, мои уколы еще согласны были терпеть. И тут мне просто повезло. Я встретил одного знакомого, которого всегда считал “конченым” наркоманом. И вдруг он идет мне навстречу абсолютно трезвый. Заметил мое удивление и рассказал, что лечится в Днепропетровске, в лечебно-реабилитационном центре. Я спросил: “А что там делают?” Он ответил: “Там учат трезво жить”. Через несколько дней я взял у матери денег на дорогу и поехал в Днепропетровск. Когда я пришел в Центр, Вадик задал мне только один вопрос: “Почему ты хочешь бросить наркотики?” Я ответил, что не могу так больше, что мне “все набрыдло”. Он сказал: “Приходи завтра трезвый и с родителями. Врач должен с ними поговорить. Может быть, мы тебе поможем”. Домой я вернулся уже ночью, разбудил мать, все рассказал. Утром она нашла машину, и мы поехали. Поначалу я не понимал, в чем заключается здешнее лечение. Мы собирались на групповую психотерапию, чтобы “решать свои проблемы”. Но я не понимал, в чем именно заключаются мои проблемы, что общего у меня с людьми, которые находятся рядом со мной? Другие пациенты казались мне хуже, чем я, ведь многие из них успели приобщиться к уголовщине. Когда я ближе познакомился с социальными работниками, в моей голове все перемешалось: и желание колоться, и желание не колоться. Разобраться во всем было так трудно! Я часто разговаривал с Кариной, и эти беседы очень помогли мне. Карина – очень добрый и душевный человек. Может, благодаря ей, я увидел в себе какие-то хорошие качества, которые можно было развить. Я смотрел на Карину и наблюдал пациентов, которые не слишком преуспевали в трезвой жизни. Зрелище было контрастным, это был олицетворенный выбор. Я понял, что укол не может быть “единственным”, он может быть только первым, за ним обязательно последуют другие. Но если отказаться от наркотиков смогли Карина, Вадик и другие, почему я не смогу? Разве я менее способный, чем они? Мать и отец по очереди лежали со мной в больнице, помогали чувствовать себя самим собой. Может, без их поддержки я принял бы сторону наркотика. Сейчас я понимаю, какую роль в том, что я захотел лечиться, сыграла моя мать. Ее глаза всегда были заплаканы, и я знал, что обещаниями уже не смогу ее успокоить. Я люблю ее очень сильно. Она помогла тем, что научилась относиться ко мне, как ко взрослому человеку, это позволило мне осознать ответственность за свои действия. Раньше мне казалось, что заработать себе на жизнь не так уж трудно, и я всегда сумею сделать это при необходимости. Здесь я понял, что такое тяжелый физический труд, что такое собственная копейка, которую ты заработал. Я работал в котельной, потом – бухгалтером предприятия “Выбор”. Я сделал свой выбор, и он себя оправдал. Сейчас я не люблю рассказывать незнакомым людям о своем прошлом. Но сам всегда помню о нем. Я знаю, что для меня есть в жизни то, к чему нельзя притрагиваться, как к огню. Наркотики никому нельзя пробовать. Потому что сделаться наркоманом очень легко, а вот чтобы после снова стать человеком – никто не поймет, как это тяжело, если не испытал сам. Зачем обрекать себя на такие эксперименты? Леонид Александрович как-то сказал: “Наркотик – как шулер: сначала даст себя обыграть, а потом будешь должен ему всю жизнь”. И я знаю, какая страшная правда в этих словах. С тех пор, как я начал новую жизнь в Центре, прошло девять лет. Многое стерлось из памяти. Как будто это было не со мной. Прежняя жизнь кажется прочитанным романом, словно не я это переживал. Прошлое вспоминается, когда я приезжаю из Днепропетровска в 44 свой городок. Из “друзей”, с которыми я когда-то вместе кололся, в живых остался лишь один: ему удалось бросить… Сейчас с городом юности меня связывает только семья. Я приезжаю, чтобы повидать близких. Я их очень люблю, но долго не задерживаюсь: мама, несмотря на весь прошлый опыт, все еще старается меня опекать и поучать, а я слишком дорожу обретенной самостоятельностью. Я думаю, что в детстве мне этого очень не хватало, я был слишком привязан к дому, к родительским деньгам и заботе. Если бы не эта чрезмерная опека, может, моя жизнь сложилась бы иначе. Наверное, все мои беды происходили от праздности. Мне кажется, родители должны почувствовать, когда сына или дочь можно отпустить из семьи, когда детям пора становиться самостоятельными. Нельзя всю жизнь оставаться ребенком, за которого все делают и решают родители. После школы у меня было желание уехать в Днепропетровск, поступить в сельхозинститут, но родители сказали: подожди, мы тебя здесь обеспечим. Это было неправильно. Нужно, чтобы человек сам сделал выбор и следовал выбранному пути настойчиво и целеустремленно. Сейчас у меня это получается. Если прошлое вспоминается с трудом, то новая жизнь за девять лет стала уже привычной. У меня узкий круг друзей, но это настоящие друзья. В основном, это ребята, с которыми познакомился в Центре “Выбор” – Кирилл, Ирина, Игорь. Мы вместе работаем, и это очень здорово. Когда Игорь предложил мне устроиться на производство, я сначала сомневался, будет ли мне это интересно. Но неожиданно для себя быстро втянулся в новое дело, начал сам организовывать и налаживать новые участки работы, появился настоящий интерес, меня заметили и даже повысили в должности. Я понял, что мне важна моя необходимость и значимость в общем процессе. Я смог себя проявить – и почувствовал, что у меня появилось “мое” дело. Оно дается порой с трудом, но работать все равно нравится. А в бытность наркоманом я ходил на работу, как на повинность. Оказывается, очень важно было найти интересную работу, на которой от тебя что-то зависит. Мое отношение к людям тоже изменилось. Я не оцениваю и не осуждаю их поступки, принимаю каждого человека как данность: он имеет право быть таким, какой есть. Раньше у меня было много претензий к окружающим, казалось, я имею право чего-то от них требовать. Потом я понял: они мне ничего не должны. Самое главное для меня сейчас – самостоятельность и независимость. Обрести их помогли друзья, и я им за это очень благодарен. Мы прошли через одни и те же трудности, доверяем друг другу, хорошо понимаем и поддерживаем друг друга. Я чувствую уверенность в себе и своих силах. И ни на что не соглашусь променять то, что имею. 45 “Я ХОДИЛА, КАК ЗОМБИ” История ТатьЯны Еще в детстве я знала наркоманов, видела, как они кололись. У меня не было страха перед наркотиком, но я никогда не думала, что могла бы стать наркоманкой. И бесстрашно попробовала сухой мак, когда мне было всего двенадцать лет. Я общалась тогда с одной компанией. Но вскоре она распалась. Все угодили за решетку. Они были старше меня лет на пять, все – из неблагополучных семей. Сейчас я часто думаю, почему мне было весело именно с ними? Почему меня так тянуло в это дерьмо? Когда их посадили, наркотики ушли из моей жизни – не стало среды. Папа, правда, заметил однажды, что я пришла домой в странном состоянии (я наелась снотворных), и какое-то время родители ко мне присматривались. Потом я подружилась с хорошим парнем, они увидели, что он – нормальный, успокоились. Когда мы с ним расстались, мне было восемнадцать лет. В этом возрасте я впервые укололась. Произошло это у подруги. Ее муж был наркоманом, и однажды, зайдя к ним, я застала его за варкой. Он предложил попробовать, я не отказалась: страха не было. Даже смешно: чтобы я – вдруг стала зависеть от наркотиков? Состояние после укола мне понравилось. Вначале я кололась раз в неделю, потом – чаще и чаще. Не понимала, что уже завишу от опия. Просто по утрам чувствовала себя очень плохо, но не знала, почему. Стала ездить за маком. Работу в парикмахерской бросила, хотя раньше очень ее любила, мне нравилось делать красивые прически. Но за два стакана проданного мака я получала больше, чем за месяц работы, а с тех пор, как я стала колоться, деньги сделались главным в жизни, ведь на них покупались наркотики. Мама знала, что я езжу за маком, но криминала в этом не видела, и наивно полагала, что я таким образом просто зарабатываю деньги, а сама не колюсь. Вскоре я вышла замуж. Муж был старше меня на десять лет, и, по сравнению с моими друзьями-наркоманами, выглядел очень серьезным и надежным. Я думала, что, живя с ним, я легко брошу наркотики. Он тоже верил в это, пытался мне помочь, устраивал в больницы. Забеременев, я кололась эпизодически. Знала, что нельзя, но жила уже как в тумане. Мозг работал в одном направлении: приготовить и уколоться. Иногда, случалось, возьму в руки чепчик из детского приданого: он такой маленький! Подумаю: “Вот я уколюсь – а ему каково?” Поплачу – и пойду колоться. Наркотик быстро вытесняет из головы все мысли. Года полтора после рождения дочери как-то держалась на периодических уколах, готовила, кормила ребенка, но все время думала: вот пройдет еще несколько дней, и я уколюсь. Жила только этим. Лишь два месяца после родов выдержала без “ширки”. Потом терпение лопнуло, попросила мужа пораньше приехать с работы, потому что я хочу уколоться. Он приехал. Пыталась лечиться в хозрасчетном отделении областного наркодиспансера. Муж каждый день возил меня туда и обратно. Там накачивали снотворным. Так продолжалось пять дней, на шестой я заплакала, сказала, что больше не могу этого выносить. Он не выдержал, повез меня за наркотиками. Даже ждал, пока варилось. Следующую неделю я приезжала на “лечение”, уже уколовшись. Потом, после очередного скандала, муж все рассказал моему отцу. Нашу квартиру в спальном районе поменяли на центр – подальше от моих “маршрутов”. Папа приводил на дом врача, который делал мне иглоукалывание. Я уже поняла, что болезнь у меня “в голове”, потому что даже после снятия физической зависимости очень хотелось колоться. И я скоро возвращалась к поискам привычного “кайфа”: кололась если не “ширкой”, так но-пэном. 46 Муж настоял, чтобы меня положили лечиться в психиатрическую больницу. Месяц я там не кололась (этот срок был для меня рекордным), стала делать зарядку, даже почувствовала какую-то уверенность, что у меня есть силы сопротивляться. Но тут в мою палату положили еще одну пациентку с таким же диагнозом. Она уговорила меня сходить по одному адресу (ее еще не выпускали), где в частном доме торговали наркотиками прямо из окна. Как только я увидела эту “раздачу”, поняла, что тоже уколюсь. До выписки я ходила к этому окошку раз в три дня. Продала цепочку с крестиком, которую мне подарили на шестнадцатилетие. Новый спортивный костюм “ушел” за три куба. Потом брала деньги у мужа, находя разные предлоги: то надо зуб запломбировать, то еще что-нибудь. Выписалась я уже “с дозой”. Пару раз съездила за “ширкой”. Потом поскользнулась и поломала руку. Муж запретил выходить из дома, но я все равно вырывалась, чтобы достать наркотик. Однажды не успела вернуться до окончания его рабочего дня: звоню – он уже дома. Поругались по телефону, и я решила домой не возвращаться. Осталась у подруги. Кололась очень серьезно, старалась совсем заколоться, чтобы забыть, что меня ждет ребенок, заглушить совесть. Это удавалось, ведь я принимала по пятнадцать кубов в день вместе со снотворным. Ничто меня уже не сдерживало. Вместе с двумя подругами (одна из них уже умерла, другая – девочка из “хорошей семьи” – сейчас зарабатывает на наркотики проституцией) воровали вещи на базарах, сами варили и продавали “ширку”. Нас стала посещать милиция, грозили посадить. Я уехала к подруге, которая не принимала наркотики, чтобы “спрыгнуть”. Потом вернулась к маме – и снова начала колоться. Жить мне тогда приходилось в разных местах, в том числе в притоне – в квартире у знакомых наркоманов. У хозяина на почве уколов развилась гангрена, в комнатах стояла вонь от разлагающегося тела. Однажды он докололся до галлюцинаций, я вызвала ему “скорую”. Его увезли в больницу, но уже через час он вернулся: что ему там делать – без наркотиков? Позже я узнала, что ему отрезали ногу. Сейчас мне даже трудно представить, что все это было со мной. Муж периодически разыскивал меня. Потом перестал. Я звонила папе, просила денег. Он не давал, просил не звонить. С дочерью я не виделась. И стала доходить уже до ручки. У каждого последняя точка – своя. И я тогда почти дошла до нее. У меня не осталось никаких интересов. Ходила, как зомби: украсть, продать, уколоться. Я почувствовала, что или скоро умру, или сяду в тюрьму. Не осталось ни здоровья, ни сил. Организм уже не выдерживал такого издевательства над собой. Как-то после укола стало совсем плохо. Пришла на работу к отцу, вся синяя: “Папа, помоги!” Он положил меня в областной наркодиспансер. Как мне сейчас жаль времени, потерянного в этих больницах! Нельзя в них бросить наркотики, даже если очень хочется! Последнюю веру во мне там убили. Но выписываться все равно не хотела: система доставки наркотиков там налажена – лучше не надо, а что мне было делать на улице? Сюда нам постоянно приносили “ширку” знакомые наркоманы. Мы поднимали ее на веревке через окно. Проколола все, что оставалось. Продукты, которые приносили родители, тоже шли на наркотики. Мы ели пшенку без масла, пачку даже не открывали – его надо было продать, чтобы были деньги на “ширку”. Я уже сожгла себе вены и кололась в пах, ходила, приволакивая ногу. Шея тоже была исколота. Заведующая отделением знала, что я колюсь: мне сделали анализы и обнаружили следы “ширки” и димедрола. Она рассказала об этом отцу. Никогда я лгать не любила, а тут смотрю им в глаза и нагло говорю: “Врут Ваши анализы! Это неправда, я кололась снотворным”. Папа поверил: когда я это говорила, я сама себе верила. Обман был единственным способом не расстраивать его, ведь он так старался мне помочь! Папа приходил ко мне в диспансер каждый день. Удивлялся, как я там нахожусь, говорил: “Если б меня здесь закрыли на сутки, я бы сошел с ума!” А мне было не хуже, чем на улице. Муж тоже приходил поначалу, потом перестал верить, что мне здесь помогут. Однажды папа приехал и рассказал, что есть экспериментальное шестое отделение, где лечат групповой психотерапией. Что могли сказать мне эти слова? Но я согласилась туда поехать – ради папы, сама уже ни во что не верила. Поговорила с Кариной, она сказала: “Приезжай”. 47 Месяца два я не могла понять, что, собственно, здесь происходит. На группах из меня не могли вытянуть ни слова. Но Карина заходила ко мне все чаще, разговаривала со мной. Я начала ей доверять. С этого все началось. Потом мы подружились с Ирой. Постепенно у меня появилось много друзей. Карина все время говорила: “Надо что-то делать!” Я долго не догадывалась, чего она от меня добивается. Потом поняла, что для каждого это “делание” – свое. Кому-то надо учиться застилать за собой постель, кому-то – следить за чистотой в палате. Нельзя ничего не делать. Каждый день нужно осваивать что-то новое, и ни в коем случае не останавливаться. Для выздоровления, думаю, надо поверить, захотеть – и начать делать. Через два месяца после начала лечения мой муж захотел, чтобы меня отпустили с ним в кафе. Михаил Юрьевич и Карина сразу спросили: “Для чего ты хочешь пойти в это кафе?” (В отпуск я тогда не ходила. Один раз пошла – и укололась. Решила: обойдусь без выходных.) Я задумалась над своими отношениями с мужем, начала в них разбираться. Все в жизни у меня было так запутано! Все надо было обдумывать, пересматривать. Я вдруг поняла, что в том мире, откуда я попала в это отделение, у меня, кроме папы, друзей не было. Вскоре мне предложили поработать здесь же, в Центре, прачкой. С каким удовольствием я стирала! Не могла представить себе, что такая прозаическая работа может приносить такое удовольствие. Только заработать на жизнь мне по-прежнему не удавалось, содержал меня папа. Вскоре я решила устроиться кондуктором в депо. Прошла комиссию, пришла на работу, посмотрела: там все пьют! Вернулась в Центр, зашла к заведующему: “Леонид Александрович, я ведь ничего не умею! Но и там работать не смогу, мне нельзя пить. Да и как требовать деньги за проезд у людей, которым не платят зарплату?” Он сказал: “Теперь я вижу, что ты выздоравливаешь. Бери помещение, устраивай парикмахерский кабинет”. Я проработала в этой парикмахерской больше года. Но если положить на одну чашу весов мою жизнь в Центре, а на другую – пять лет уколов, перетянет первая. Здесь у меня, наконец-то, появились настоящие отношения с людьми! А на те больницы, в которых лечилась прежде, только злость осталась: я ведь там кололась так, как на воле не всегда получалось. Такое “лечение” только убивает веру в возможность выздоровления. Наркоман вообще не умеет думать. Мне кажется, врачи должны создать такие условия, в которых он будет вынужден задуматься. Без этого – какое лечение? В Центре все было необычно. Заведующий играл в футбол и теннис с пациентами. Доктор Щавелев вместе с нами пил чай на групповых занятиях. И врачи, и медсестры, и санитарки – все относились к пациентам не как к “наркоманам”, а как к людям. Мне даже хотелось пойти поговорить с заведующей тем отделением, где я так успешно кололась, рассказать, чего мне удалось достичь здесь. Там мне давали по шестьдесят таблеток в день, снотворного можно было пить столько, сколько принесут родители, а здесь было просто человеческое отношение. И его оказалось достаточно. В том мире, где я жила раньше, у меня этого не было. Поэтому я долго не спешила туда возвращаться. К сожалению, моего мужа не было рядом, когда я переосмысливала свою жизнь, он не верил, что я смогу бросить наркотики. Там, где я лечилась прежде, ему сказали, что я безнадежна. Поэтому после лечения в Центре нам с ним пришлось заново знакомиться и решать, сможем ли жить вместе или лучше расстаться. Выводы оказались неутешительными: выяснилось, что мы – чужие люди. С тех пор прошло много лет. Я поняла, что не все в жизни можно легко исправить. Моя дочь, по-прежнему, живет с бывшим мужем. Мы видимся почти каждый день, вместе проводим выходные, но жить она предпочитает с отцом: привыкла. И мне пришлось с этим смириться. За ошибки приходится платить, и не только нам, но и детям. Мы с дочкой дружим, она со мной откровенна, с радостью рассказывает все, что происходит в школе, в ее жизни, и я научилась довольствоваться этим. Теперь я понимаю, что весь мой прежний образ жизни был большой ошибкой. Меня интересовало, в основном, веселое времяпрепровождение: друзья, компании. Сейчас друзей у меня меньше, но они настоящие. Более важное место в жизни заняла работа. Я работаю не только для того, чтобы было что поесть и надеть. Я научилась получать от работы 48 удовольствие: я делаю то, чего без меня не было бы. Но и сознание, что я сама себя обеспечиваю, живу на заработанное собственным трудом, приносит радость и уверенность. В детстве меня не опекали, твердили: ты должна быть самостоятельной. Но тогда я злоупотребляла своей свободой и самостоятельностью. Сейчас я научилась ими пользоваться. Я научилась не бояться нового, того, чего никогда раньше не делала. Когда я открывала свою собственную парикмахерскую, частное предприятие, очень боялась влезть в долги до конца жизни. Но я попробовала, и у меня получилось. Сейчас я освоила азы предпринимательства, чувствую себя уверенно, и мне очень приятно сознавать, что я сумела наладить свое дело, преодолеть препятствия и собственный страх. У меня есть подруга, с которой мы когда-то вместе начинали учиться парикмахерскому искусству. Только в то время, как она совершенствовалась в своем мастерстве, я кололась. Сейчас у нее – собственный салон, в котором применяются все новейшие технологии. Я понимаю, что слишком много времени упущено. Но я не останавливаюсь на достигнутом, учусь на курсах повышения квалификации. Главное – я ни от кого не завишу, словом – “сама себе режиссер”. И пусть я работаю не в салоне, а в маленьком парикмахерском кабинете, я получаю от своей работы не меньшее удовольствие. Даже в выходные мечтаю, чтобы скорей наступил понедельник – скучаю по работе. Я вообще не домоседка. И очень боюсь зависимости. Наверное, это неправильно. Наверное, для женщины естественно – зависеть от мужа, во всем полагаться на него, но у меня так не получается. А еще я поняла, что уступать и поступаться принципами – это разные вещи. Я никогда не согласилась бы на такие отношения, когда я для мужчины – нянька или домработница. Если мужчина считает, что все должно вертеться вокруг него, я порву такие отношения, как бы больно мне ни было. Ведь жизнь состоит из мелочей, и люди должны быть внимательными друг к другу даже в мелочах. Для меня очень важна свобода. Я всегда сразу чувствую, когда мне хотят что-то навязать, и сразу даю отпор. Вообще, зависимости я не переношу, потому, наверное, и наркотики хотела бросить. Независимость дает уверенность в себе и силы преодолевать трудности. Раньше любая проблема сразу вызывала у меня беспокойство: я нервничала, не знала, за что хвататься, в буквальном смысле “теряла покой и сон”. Сейчас научилась относиться к проблемам спокойно: решаю их, не спеша, по мере поступления, и все получается. За девять лет трезвости я научилась радоваться жизни, чего раньше совсем не умела. Раньше каждый мой день начинался плохим настроением. А сейчас мне нравится просыпаться – меня ждет столько интересных дел! Думаю, секрет в том, что я перестала создавать себе проблемы. Ведь многие годы я сама была самой большой проблемой и для себя, и для близких. Я не преодолевала препятствия, а снимала остроту ситуации уколами. Сейчас у меня достаточно сил, чтобы справиться с любыми трудностями. И это ощущение дорого стоит! 49 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ, ПОСТАРАЙСЯ ПОПАСТЬ В ЦЕНТР...” История Ирины В первый раз я вышла замуж за человека, с которым была знакома всего два месяца. Я просто влюбилась и была счастлива. Через некоторое время после свадьбы я узнала, что еще до службы в армии он пробовал наркотики, потом мне рассказали, что и в армию его отправили в срочном порядке – чтобы не попал в тюрьму. Когда я обнаружила, что Гена колется, очень сердилась, закатывала скандалы. Возмущало меня и то, что он никак не может отказаться от своего “кайфа”. Не понимала я, что они в этом находят. Родители говорили: “Зачем тебе такой муж?” Это действительно было трудно понять: он ничего не делал, постоянно от него исходили специфические запахи. В своей семье Гена привык сразу получать все, что хотел. Его полностью обеспечивал отец, который и решал за сына все проблемы. После скандалов Гена обещал золотые горы: вот только сегодня последний раз укололся, а завтра – обязательно бросит. Но ничего не предпринимал, и я злилась еще больше. Не могла понять, почему от этого нельзя отказаться. Потому и решила попробовать. Муж без сопротивления приготовил мне укол. Состояние понравилось: исчезла обостренная реакция на неприятности. Потом было еще несколько уколов. Если бы я знала, сколько горя принесет мне мое любопытство! Со временем у меня появилось чувство, что возиться с мужем бесполезно, ничего не изменится, только злость на него осталась. Я с дочерью ушла жить к бабушке. Отец Гены уговаривал меня не делать этого, даже пытался купить, как покупал все в жизни: “Я буду тебе платить, если ты будешь жить с моим сыном”. Но мне уже не нужны были даже их деньги. Мне было плохо, и, живя у бабушки, я стала колоться раз в неделю. При этом еще больше злилась на мужа: зачем он врал, что не может бросить? Я ведь бросаю без проблем. Однако при малейшей неприятности я искала утешения в уколе. Мне даже в голову не приходило, что я уже завишу от наркотика. Потом я познакомилась с Колей – человеком, который стал моим вторым мужем. Рассказала ему о себе все: и про Гену, и про свои уколы. Полгода к тому моменту я не кололась, и считала, что у меня нет этой проблемы. У Коли был сын. Мы зажили все вместе – и все, вроде бы, было хорошо. Я уже стала забывать свои прежние горести, но через какое-то время встретила старых друзей и укололась. Лишь только я попала в их круг, меня снова потянуло к наркотикам. Вскоре я “присела”. Коля догадался, но первое время молчал, старался сгладить. Потом вдруг укололся сам. Я удивилась, спросила, в чем дело. Он ответил, что просто хотел попробовать. Незаметно, постепенно мы стали колоться вдвоем, уже вполне осознанно и серьезно. Коля хорошо зарабатывал, нам хватало и на жизнь, и на наркотики. Потом в поисках мака стали ездить по селам. Если раньше мы таились, скрывались, теперь закрыли глаза на стыд, уже не думали, как соблюсти приличия. Меня пугало, что у Коли все проходило как-то более остро, чем у меня. Он сделался очень нервным, напряженным. Мы стали кричать друг на друга, появилось чувство, что уже никуда не деться, так и будем теперь жить. Раньше он пытался мне помочь, уговаривал “спрыгнуть” на медикаментах. Я нервничала, говорила, что он меня не понимает, а в голове звенела одна мысль: уколюсь – станет легче, а без укола – вроде, и дышать уже не могла. Теперь муж кололся вместе со мной, и я стала понимать, что обречена, что повернуть назад 50 уже не получится. Состояние было ужасным: я понимала, что ничего не стою. Появилась безысходность, я знала, что только появится наркотик – я уколюсь, и ничто меня не удержит. Каждый раз я обманывала себя, думала: сейчас сделаю укол в последний раз, а потом буду решать, как завязывать. Последние полгода мы с Колей жили у моей бабушки. Его квартиру сначала сдавали, потом пришлось продать. Продали и участок, на котором собирались строить дом. Все пошло прахом, как говорят наркоманы: “ушло по вене”. А ведь Коля был трудягой, работа доставляла ему удовольствие. Пока он не стал наркоманом, он был очень хорошим мужем, внимательным ко мне и детям даже в мелочах. Он не понимал, как избавиться от зависимости, считал, что главное – снять физическую. Я знаю, что когда мы расстались, он ложился в психиатрическую больницу, лечился снотворными и нейролептиками. Потом до меня дошли слухи, что Коля попал в реанимацию – скорее всего, от передозировки таблеток. У меня тоже было желание изменить свою жизнь, потому что жить так становилось все труднее. Отношения с родителями совсем испортились. Только бабушка понимала меня без слов, говорила: “Ну как же нам справиться с твоей болезнью?” Я не знала, что ей ответить. О больницах я слышала от других наркоманов: было ясно, что там мне делать нечего, не стоит и пробовать. Отчаявшись, я стала закалываться и “ширкой”, и феном. Вены “сгорели”. Я пошла на износ, уже ничего не могла делать. Все действовало мне на нервы: стук, шумные компании, люди. Если “ширки” было достаточно, я могла вовсе не выходить из дома. А могла уехать в другой город месяца на два, оставив дочку с бабушкой. Не было уже никаких тормозов. Самым ужасным было то, что моя дочь все видела, понимала, что со мной происходит. Я говорила, что болею, и она спрашивала бабушку, не умру ли я. Потом девочка во дворе сказала ей, что ее мать – наркоманка. Я обещала, что постараюсь сделать так, чтобы все было хорошо, но пока просто болею. Она пыталась меня ободрить, говорила: “Мама, не волнуйся, мы с бабушкой будем рядом”. Когда ей было восемь лет, она нашла в доме шприцы и выбросила, чтобы бабушка не увидела. Потом рассказала мне об этом, и я не нашлась, что ответить. Бабушка не знала, как именно мне помочь, но руки не опускала, говорила: “Я буду сидеть с тобой, пока не пройдет “ломка”, а потом мы найдем людей, которые работают с такими, как ты”. Но вовсе не отлучаться из дома она не могла, и в ее отсутствие я успевала уколоться. Тогда бабушка решила рассказать все отцу. Я ожидала, что он просто меня убьет. Я ошиблась: папа отнесся ко мне так, что я почувствовала себя любимым ребенком. Раньше я никогда такого не испытывала. Уже через два дня он нашел экспериментальный Центр психиатрии зависимостей. Обратиться туда ему посоветовал друг, который работал в областном наркодиспансере. Побеседовав с отцом и со мной, он сказал так: “Если хочешь жить, постарайся попасть в этот Центр”. Когда я собралась туда ехать, дочка очень обрадовалась: наконец что-то изменится. Я не кололась и так нервничала, что пришлось напиться валерьянки. Карине, которая вышла со мной беседовать, я рассказала, что колюсь не пять, а всего полтора года: очень боялась, что с большим “стажем” меня не возьмут. Я знала: мне, во что бы то ни стало, нужно сюда попасть. Карина поразила меня: давно я не встречала человека, который так внимательно слушал бы меня. Мне было так легко рассказывать ей всю правду – все, как есть! Уже во время этого первого разговора Карина понимала меня, как никто другой, и я ухватилась за нее, как за соломинку. В отделении мне предстояло “спрыгивать” без снотворных, и я приготовилась к самому страшному. Но все оказалось легче, чем можно было подумать. Рядом со мной все время были люди, их участие помогало гораздо лучше таблеток. Я ощутила настоящее человеческое отношение. Все обращались со мной с такой добротой, что мне было совестно их лишний раз беспокоить. Я с удивлением обнаружила, что здесь мне было лучше, чем где бы то ни было. Даже в кабинете заведующего я не чувствовала напряжения – наоборот, расслаблялась и говорила все, что думаю. Я знала: он всегда подбодрит, поможет понять, что именно со мной происходит. По выражению моего лица он сразу распознавал, когда мне нужна была его помощь, и всегда указывал на главное. 51 Я начала осмысливать свою жизнь, все свои действия и домашние проблемы. У меня уже получалось выражать мысли словами. Поняла, что многое надо менять, переоценивать все ценности. Мои поступки предстали передо мной в истинном свете, я признала, что во мне было много ужасного. Бывало и такое, что я сама не могла понять, отчего мне плохо. На помощь всегда приходила Карина, и мы вместе распутывали клубки моих проблем. На занятиях групповой психотерапией я понимала, насколько схожи мои проблемы с проблемами других пациентов. Они делали то же, что и я. Это сближало нас. Здесь я нашла хорошую подругу – Таню. Мы понимали друг друга с полуслова и сразу ощутили какую-то родственность. К концу лечения я вдруг испугалась: что будет дальше? До сих пор у меня была одна проблема – бросить наркотики. Когда мне удалось переключить свои мысли на другое, передо мной встало множество проблем. Вопрос колоться или нет, уже не стоял. Зато мысли о том, как жить дальше, не давали покоя. Не сразу удалось наладить отношения с родными. Первое время, приезжая домой в отпуск, я расстраивалась, даже если на меня посмотрят “не так”. Леонид Александрович говорил: “Может, ты слишком много берешь в голову?” Потом родные приезжали в отделение, я почувствовала себя уютнее, между нами постепенно появлялось взаимопонимание. Я поняла, что сама виновата во многом. Приезжая к ним, я делала вид, что все хорошо, у меня нет никаких проблем. Все объяснить было невозможно, было трудно начать, а потом накопилось столько всего, что рассказывать казалось просто немыслимым. Поэтому у нас и не было настоящего общения. К тому же, я была старшей дочерью, всегда училась хорошо, все успевала. Мама была уверена, что у меня все должно получаться, и больше времени уделяла младшим сестрам. А мне так хотелось родительского внимания! Многое еще надо было исправлять в жизни. Я не старалась забыть о том, что раньше кололась. Помнить об этом надо. Надо сознавать, что если захочешь уколоться – повод найти легко, но завтра тебе будет еще хуже. Я знаю, что мне нельзя пить спиртное. Человек, который кололся, пить не сможет. Конечно, на трезвую голову труднее переносить напряжение, очень устаешь от проблем. Но уколы и водка – это не решение, это способ ухода. Наутро проблемы встают перед тобой снова, и решать их становится еще тяжелее. Все это довольно просто: если тебе хорошо – зачем пить? Если тебе плохо – от водки легче не станет. Утром поймешь, что даром потерял время и деньги, а приобрел – головную боль. Зато когда тебе удается справиться с собой, появляется такое чувство радости – из-за каждой мелочи! Это надо прочувствовать, чтобы понять. В Центре я обрела друзей. Кроме родных, они – мои самые близкие люди. После лечения я работала в художественной мастерской предприятия “Выбор” и была счастлива, потому что всегда находилась рядом с ними: с Таней, Кариной, Леонидом Александровичем – людьми, которые стали мне по-настоящему дороги. Коля тоже пытался лечиться. Я очень хотела, чтобы ему помогли, как и мне. Леонид Александрович говорил: “Давай попробуем”. Но сейчас я думаю, что он и тогда был настроен скептически, и соглашался принять Колю только ради меня. Коля приходил в Центр, присматривался, но так и не собрался сделать решительный шаг. Помню, как-то мы все вместе отправились на пляж неподалеку от Центра. Он наблюдал за нашей компанией, потом сказал: “Вы все – как одно целое. А я – чужой!” Я ответила: “Чужой, потому что колешься!” Но он не хотел понимать. Вместо действий предавался розовым мечтам: “Давай жить вместе, все будет хорошо!” Я понимала, что это были только слова, за которыми ничего не стояло. Он пытался возобновить супружеские отношения, но с каждой встречей я чувствовала все больший дискомфорт: мы такие разные, и он несет такую околесицу! Я только вырвалась из плена наркотиков, мне было страшно даже прикасаться к нему! Наверное, во мне заговорил инстинкт самосохранения, а у Коли он по-прежнему молчал. Вскоре он перестал приходить ко мне. Потом Центр закрыли. Команда Сауты стала работать в Ассоциации помощи страдающим от наркомании. Меня взяли туда сестрой-хозяйкой. Какое-то время я была всем довольна, потом почувствовала, что мне хочется профессионального роста. Хотелось найти “свое” дело, хоть и было страшновато. В моей жизни появился новый мужчина – я 52 познакомилась с ним в “Выборе”. Многие смотрели на наши отношения скептически, я же чувствовала, что это важно для меня – мужское плечо рядом. Я видела, что не все меня понимают, и даже потеряла некоторых друзей. Но я всегда чувствовала поддержку Карины. Я училась из всего извлекать уроки, реально смотреть на людей, не разрисовывать их, как картинки. Как всегда, меня поддерживала бабушка. В любой “битве” она оказывалась со мной “в одном окопе”. Я пересматривала свои отношения с близкими, понимала, что часто поспешно судила людей. Раньше я обижалась на своих сестер, потому что они “не понимали” меня, “отворачивались”. Потом поняла: мне на их месте тоже было бы стыдно иметь такую родственницу. Я и сама старалась не замечать своих старых “друзей”, если встречала их гденибудь случайно. Постепенно мои близкие перестали вспоминать плохое, мы научились ценить главное: сейчас мы вместе. К сожалению, не все можно вернуть. В 1999 году умер Коля. Он скончался в страшных мучениях – от рака и, наверное, от СПИДа. Лечившие его врачи удивлялись, как он жил последние месяцы: все внутренние органы уже разложились, но он продолжал принимать наркотики. Это известие потрясло меня, хотя и не вызвало удивления: я давно понимала, чем это должно было кончиться… В моей жизни есть грустные воспоминания. Но есть и достижения. Однажды мне позвонил Сергей, с которым мы долгое время вместе работали в Центре, и сказал, что для меня есть работа. Меня взяли на маленькую, но ответственную должность. Сначала приходилось тяжеловато, но упустить такую возможность было нельзя: на этом предприятии уже трудились трое моих друзей, бывших пациентов Центра. Я работала в поте лица, стараясь заслужить доверие и авторитет. И я добилась успеха: через три года меня назначили начальником отдела. Появился надежный заработок, стабильность, команда проверенных друзей. Мы держимся друг за друга и все проблемы решаем сообща. Я поняла, что люблю работать. Я рада возможности обеспечивать свою семью. Если что-то не ладится, стараюсь рассуждать здраво: попробую один способ, получится – хорошо, нет – буду искать другой. Рядом со мной работают трое надежных друзей – мужчин, за которыми я чувствую себя как за каменной стеной, потому что знаю: я всегда могу рассчитывать на их помощь. С тех пор, как я отказалась от наркотиков, прошло девять лет. Сейчас у меня есть все, что нужно человеку: семья, работа, друзья. И силы прибавляются вместе с тем, как растет уверенность в себе. Я вижу, что нужна людям. Конечно, у меня, как и у всех, есть свои проблемы, но есть и силы их решать. Я стараюсь уделять больше времени воспитанию дочери. Очень боюсь, чтобы она не повторила мои ошибки. Я знаю, что в воспитании важны не разговоры, а личный пример, и стараюсь, чтобы мой пример ее вдохновлял. Мне помогает опыт пережитого. Сейчас я лучше понимаю людей, научилась разбираться в них. Если раньше все казались мне “хорошими”, и я подпускала к себе близко всех без разбора, теперь научилась давать каждому более объективную оценку и устанавливать нужную дистанцию. Я поняла, что не стоит пускать на свою “чистую поляну” тех, кто может ее загадить. Я знаю, какую большую роль сыграло в моей жизни общение с Леонидом Александровичем, и если раньше какие-то его утверждения казались мне слишком категоричными, со временем я убеждалась, что он почти всегда оказывается прав. Теперь я знаю: то, как я живу, зависит только от меня. Конечно, на жизнь влияют разные обстоятельства, но главное – то, что я сама могу сделать. Всего можно достичь, все воплотить, если приложить достаточно усилий. Сейчас я строю свою жизнь сама, по собственным правилам, а не пляшу под дудку “обстоятельств”. Я знаю: если трудиться, все обязательно получится. Я довольна своей жизнью и отношениями с близкими. Есть такое выражение – “душа не на месте”. У меня теперь душа всегда на месте. А это – самое главное. 53 “ПУТЬ, ПОЛНЫЙ ОТЧАЯНИЯ И УНИЖЕНИЙ” История Дмитрия Я вырос на улице. Дома были мать и отчим. Он меня часто избивал – считал, что так нужно воспитывать. Поэтому на улице было лучше. И интереснее. Гулянки, пьянки, веселые компании. Хулиганил, воровал, снимал шапки. В пятнадцать лет попал в колонию. С наркотиками я сталкивался всю жизнь. “План” пробовал еще в школе, лет в четырнадцать – за компанию. Все курили – а я чем хуже? Мне хотелось пользоваться авторитетом, чтобы все ценили, уважали. В колонии впервые столкнулся с “ширкой”: предлагали два раза. Я отказался – к уколам относился с опаской. Хотя вокруг наркоманов и мерцал ореол таинственности, чего-то интересного и запретного, останавливало ощущение опасности. После колонии и “химии” я стал “авторитетом”. Первое время не работал – жил за счет матери или “добывал” на улице. Наркоманов в нашей компании не было. Но как-то на вечеринке после выпивки кто-то предложил уколоться. Мои товарищи колебались, но я всегда должен быть первым! Первым я и укололся, чтобы поддержать свой авторитет: мол, не боюсь ничего! Я думал, что один укол ничего общего с наркоманией не имеет, как и одна рюмка спиртного с алкоголизмом. Наркоман – это “конченый” человек, который без уколов уже не может. А разок-другой попробовать – это не наркомания, а так – баловство. Все равно, что выпить или закурить. После освобождения я встретился с отцом, которого не видел восемнадцать лет. Он чувствовал свою вину, давал деньги, помог устроиться на работу. Я не видел причин отказываться от его помощи. Я считал, что он мне “задолжал”. Да и вообще казалось вполне естественным, что обо мне все должны заботиться. Ведь жизнь моя была “поломана”, и кто был виноват в том, что у меня – отчим, что я попал в колонию? Я думал, что в этом – только их вина. А свое разочарование в жизни заливал водкой, хотя и не всегда успешно получалось. Меня мучила “ностальгия” по уколу, по ощущению, которое он дал: мир казался красочным, а люди – все без исключения – удивительно приятными, их было просто невозможно не любить. Второй раз я укололся уже не случайно, а вполне сознательно. Я рассуждал так, что и этот укол еще не дает основания считать меня наркоманом. Это даже лучше, чем выпить водки. Правда, я помнил, что можно попасть в зависимость. Но был уверен, что уж мне-то это точно не грозит. Перед глазами было достаточно примеров, когда люди “покалывались” – и, вроде, ничего. “Скатился” я быстрее, чем можно было себе представить. Уже через полгода кололся каждый день и даже “ширку” варил сам, дома. На работе меня терпели только благодаря авторитету отца. Первые скандалы начались через год. Сначала мои родные всего лишь подозревали, догадывались. Я ловко обводил их вокруг пальца, сочиняя разные истории. И матери, и своей невесте Тане я мог “объяснить” все, что угодно, очень быстро научился ими манипулировать. С отцом было сложнее. Он сразу начал “принимать меры”: отсылал меня в Дагестан к знакомым – “спрыгивать”, возил в наркологический диспансер. Когда я отказался подписать договор об анонимном лечении, уложил в специальное отделение психиатрической больницы. Я согласился. “Лечение” было необходимо для дальнейших манипуляций. В больнице давали снотворные, и это вполне заменяло опиум. Ни одного дня я там не ходил трезвым. Меня выгнали за нарушение режима, но через день взяли обратно. Четыре 54 раза мне делали гемосорбцию (до сих пор не понимаю, зачем она нужна, какой от нее больному толк). Принимал процедуры: ванны, кислород и тому подобное. Колоться пошел сразу же после выписки, благо отец считал, что я вполне “оздоровился”. Постепенно отношения в нашем доме накалились до предела. Мать я еще мог обманывать, отчима – уже нет. Он всюду вставил замки, одного меня в квартире не оставляли. Потом они на месяц уехали к родственникам в Россию. Здесь я разгулялся: варил “ширку” дома, вынес и продал кучу вещей, даже ковры. Вернувшись, мать выгнала меня из дома. Отец тоже не проявлял большой радости. У него была жена и другие дети, и не было желания нянчиться с наркоманом. Я стал жить у товарища, устроился на рынок реализатором. Какое-то время не кололся: даже есть было нечего, и чтобы заработать на еду, приходилось отодвигать укол. Да и товарищ к наркотикам относился плохо, предпочитал водку. Не колоться – было одним из условий проживания в его квартире. Так что пришлось мне быстренько “спрыгнуть”, причем безо всякой абстиненции: уже на следующий день после “заселения” я продавал на рынке сахар. Работа мне понравилась: каждый день живые деньги (обвешивал покупателей, как все), ежедневные попойки, шумные компании. Время проходило весело. Родители узнали, что я не колюсь и работаю – и сменили гнев на милость. Снова появилась возможность их эксплуатировать. Отец устроил меня в строительный институт по договору, с оплатой обучения. Учеба сначала заинтересовала, и я, как всегда в жизни, стал добиваться первенства. Моя потребность в уважении окружающих здесь реализовывалась другим способом. Скоро меня выбрали старостой группы, причем моя группа быстро стала лучшей на курсе. Все активно участвовали в общественной жизни. Я даже помогал однокурсникам по черчению. Там, где ценится ум и вежливость, оказывается, совсем не трудно быть “хорошим”. Мать была в полном восторге: целых полгода я не вспоминал о наркотиках и хорошо учился! Отец устроил меня подрабатывать на станцию техобслуживания: работы немного, а деньги большие. Они и сбили меня с пути. Если первый семестр я закончил с отличием, во втором стал относиться к учебе с прохладцей. Среди “золотой молодежи”, с которой я общался в институте, было модным говорить о “ширке”. У них, в отличие от обычных студентов, не было проблем с пропитанием. Время проходило в разговорах о бизнесе, сделках, музыке и наркотиках. Жил я в институтском общежитии. Кроме студентов, там обитали рабочие и военные, размещались офисы. Попойки были делом обычным. Наркоманов тоже хватало, даже, случалось, варили прямо в комнатах. А цыгане, торговавшие наркотиками, жили всего через два дома. Однажды, проходя мимо чьей-то двери, я услышал знакомый запах. Голос за дверью сказал, что нет иглы. Я вспомнил, что у меня есть, и предложил. Потом попросил принести и мне дозу. И снова все началось: сразу стал колоться каждый день, прогуливать занятия. Понимая, что я завишу от отца, старался скрывать свое поведение, но пару раз явился к нему домой “раскумаренным”: после укола мне становилось море по колено, и я совсем не думал о последствиях, терял осторожность. Отношения опять стали накаляться: и с родителями, и с Таней, которая тоже подозревала неладное. Она всегда была рядом, все видела. И хоть я дорожил ею, на первом месте у меня всегда стояла “ширка” – у наркоманов иначе не бывает. Инстинктивно я чувствовал, что Таней можно “крутить”: она искренняя, добрая, любит меня, жалеет и – просчитывал я – наверняка не бросит. Поддерживал разговоры о свадьбе. Мы думали пожениться, но это было как-то неопределенно. Наступил момент, когда мне пришлось изменить положение дел. Я предложил Тане выйти за меня замуж. Объяснил, что, став семейным человеком, сразу изменюсь. На самом деле я, прежде всего, хотел отвлечь внимание родителей от моей наркомании. Пусть займутся подготовкой к свадьбе. Отец не очень поверил в мое исправление – сказал, что у него на шее теперь будет и моя семья. Чтобы задобрить отца, две недели перед свадьбой я не кололся. Укололся сразу после. Потом мы поехали на море в свадебное путешествие. Однако длился наш медовый месяц всего четыре дня: на курорте не было 55 “ширки”. Это тяготило меня, и я жаловался, что условия не те, до моря далеко. Мне хотелось скорее вернуться. По возвращении Таня сказала, что ждет ребенка. Я не придал этому особого значения. Я был занят: подсчитывал деньги, оставшиеся от свадьбы, и вычислял, сколько доз на них можно купить. Мы поселились у Таниных родителей. Первое время я осторожничал. Потом снова на все махнул рукой. Когда появилось напряжение в отношениях, решил перейти на уколы нопэном: к нему почему-то относились более терпимо. Но это стоило довольно дорого, и рано или поздно, пришлось возвращаться к “ширке”. Кончилось тем, что я просто “сжег” вены. Таню на пятом месяце положили в больницу на сохранение, я жил у ее родителей, и обо всех ссорах с ними рассказывал Тане, разумеется, в своей интерпретации. Говорил, что они просто не хотят меня понять. Таня улаживала все мои конфликты с ними, рассеивала их подозрения. Рождение сына тогда не произвело на меня особого впечатления. Главную радость я испытывал от того, что мои родители теперь будут отчислять “дотации” на ребенка, и для меня не составит труда их прикарманивать. Вскоре мои отношения с женой стали очень натянутыми, она начала срываться и скандалить прямо на глазах у тещи, которая постепенно увидела все в истинном свете. Но даже тогда мне удавалось манипулировать ими. Я тонко чувствовал малейшие нюансы настроения каждого и умело дергал за нити. Несмотря на все это, наркоманом себя, попрежнему, не признавал, просто думал, что я – несчастный человек, так уж складывается моя жизнь. А складывалась она и впрямь – хуже некуда. Правда, до меня тогда еще не доходил весь ужас моего положения. Я встретил человека, который торговал “ширкой”, и мы договорились, что я буду оказывать ему некоторые услуги и брать за них дозой. У меня отпала надобность “выкручивать” деньги. Однажды у него возникли неполадки в “производственном процессе”, и он предложил мне сырье, которое можно было обменять на десяток готовых доз. Я обменял половину, а половину сделал сам, излишек продал. Я понял, что на “ширку” можно не тратиться, на ней можно зарабатывать, и окунулся в этот процесс с головой. Три месяца я торговал наркотиками, у меня появились большие деньги. Домашние затихли, потому что получили финансовую передышку. Но я вдруг заметил, что относятся они ко мне, как к мебели. И денег моих не брали, будто брезговали. Таня просто стала надеяться, что в один прекрасный день я уколюсь и умру. Основания для этого у нее были. Я и сам не понимаю, как тогда не умер. Через мои руки проходило море “ширки”. Я кололся уже в пах – четыре раза в день по двадцать-тридцать кубов. Доза так выросла, что всего через четыре часа после укола я начинал чувствовать “ломку”. К счастью, в моей торговле случился перерыв – вынужденный, из-за сбоя в “поставках”. За две недели я спустил все “заработанные” деньги. Теща твердо потребовала от Тани развода. Она сказала: “Пусть умирает, но не в моем доме”. С матерью к тому времени я полностью разошелся. Она попросила не заходить к ней, ей было стыдно перед людьми. Когда я позвонил отцу, он заявил: “Умирай под забором. Не желаю тебя видеть”. В это время мне рассказали об экспериментальном отделении наркодиспансера, где вроде бы лечат таких, как я, и довольно успешно. И поскольку все поссорились со мной, а с маком вышла заминка, мне пришлось идти лечиться. На консультацию явился в таком состоянии, что буквально сваливался со стула. Меня отправили, сказав, что если я хочу лечиться, должен прийти трезвым. Что мне оставалось делать? Госпитализировался я с “ширкой” в рукаве. Когда брали кровь на анализ, попросили снять куртку. Я изобразил нервный припадок – и перепрятал в карман. Первые четыре дня я провел в ужасном состоянии, не в силах встать с постели. Один в палате. Лечащий врач – Сергей Викторович, сказал, что выписал мне на ночь таблетки. Я обрадовался, стал предвкушать, как сейчас наемся снотворным, и вдруг мне приносят ибупрофен – от мышечной боли. Абстиненцию перетерпел с одной мыслью: отлежусь, а там, может, будет все по56 прежнему. Казалось, что врачи и медсестры, вкупе с социальными работниками, ничем мне помочь не могут, они просто мешают мне жить. На занятиях групповой психотерапией я присутствовал чисто формально, будто делал одолжение всем собравшимся. Старательно изображал мыслительный процесс, но общаться ни с кем не торопился. Мысленно разрабатывал план, как заставить Таню принести в отделение “ширку” или снотворное. Но ничего не получалось. Таня приходила, уходила, снова приходила, и с каждым разом я все больше замечал, что она ведет себя как-то не так: не так, как раньше, и не так, как, по моим представлениям, должна. Я почувствовал, что с ней кто-то проводит серьезную работу, объясняя ей все “тонкости” моего поведения. Но мысли всерьез отказываться от наркотиков меня, по-прежнему, не посещали. В отделении никто мне особо не досаждал лишними разговорами. Постепенно я освоился и начал играть на жалости медсестер и санитарок. Думая, что мне ловко удается всех обманывать, я два раза укололся в отпуске. Сначала мне объяснили, что в течение двух месяцев выпускать не будут. Но я пошел на крайнюю меру – заявил, что пора идти в институт, сдавать сессию. Уколовшись, свалил вину на Таню: мол, только я стал на путь исправления, а она ссорится со мной – такой удар! Леонид Александрович наблюдал мои безобразия, потом вызвал к себе в кабинет вместе с Таней. Тут я понял, кто с ней “работает”. Я пытался изображать сознательность и раскаяние, но на него моя игра не действовала. Он объяснил мне, что с такой “сознательностью” я гожусь только как учебное пособие – чтобы объяснять на наглядном примере особенности наркоманского поведения. Он сказал: “Ты – никто. Родные от тебя отказались. Ты не можешь заработать на жизнь, обеспечить не только семью, даже самого себя”. Он объяснил, отчего я на всех злюсь, и спросил: “Зачем мне стараться тебя воспитывать, если это гораздо быстрее может сделать прапорщик в зоне? Я не позволю тебе мучить жену и родителей. Ты стараешься меня убедить, что вылечить тебя невозможно? Я поверю тебе – и выгоню. Продержишься до первого милиционера!” Мне показалось, что я куда-то провалился. Потом во всех окружающих я стал видеть Леонида Александровича. Казалось, у всех на лице написано: “Ты – злодей!” Даже удивился, когда на следующий день Сергей Викторович сказал, что мне предоставляется последняя возможность поработать в новой группе пациентов. Постепенно я ощутил, что хоть я вроде бы и человек, но человеческого во мне мало, и оно – очень глубоко. Я подумал, что если мне так настойчиво что-то объясняют, может, стоит попробовать? Я долго боялся в это поверить. Но что мне было терять – после такой шоковой терапии? Мне не дали уйти в себя, помогли понять, что наркомания – не способ времяпрепровождения, а следствие моего образа жизни, что нельзя обманывать себя, надо привести в соответствие мысли и дела, изменить отношение к людям, попытаться заслужить уважение. Здесь, в отделении, обращали внимание не на слова, а на поступки. Я понял, что мне помогли избавиться не от абстиненции, а от потребности в наркотиках. Я понял, что люди относятся к тебе так, как ты – к ним. И чтобы научиться уважать других, я должен научиться уважать самого себя. А для этого надо делать поступки, прилагать усилия. И еще я понял, что именно это и есть жизнь. Вместе с наркотиками я бросил пить и курить. Я понял, что водка и сигареты ничего не добавят к тому, что я имею. Они могут быть только фальшивой заменой настоящей жизни. Мне стало удаваться называть вещи своими именами. Я замечал, что если я помогаю комунибудь, на душе становится лучше. Анализируя прошлое и настоящее, я стал понимать, что гораздо легче и лучше быть самим собой, чем обманывать, меняя маски и играя разные роли. Я осознал, что не хочу стоять с закатанным рукавом в очереди за “ширкой” (сколько сотен тысяч человек стоит в этой очереди сегодня в нашей стране?). Я не хочу жить в ожидании очередного укола, который лишь на короткое время помогает уйти от сознания твоего полного ничтожества в этой жизни, от страха остаться наедине с завтрашним днем, от попыток окружающих отгородиться, отмахнуться от тебя в очередной раз. Я не хочу каждый вечер обещать и напрасно надеяться, что завтра все изменится, отгоняя страшный холодок, 57 поднимающийся откуда-то из глубины, и неумолимо напоминающий, что искаженное сознание утром опять сделает выбор: найти и уколоться любой ценой. После лечения я работал бригадиром строительной бригады предприятия “Выбор”. У меня рос сын, и я должен был обеспечивать свою семью. Я должен был воспитывать сына. Я знал, как это делать, потому что знал, как делать не надо: так, как делали со мной. Я исходил из того, что не должен делать что-то за моего ребенка, я должен научить его делать это самостоятельно. У меня появилось чувство семьи, я совсем иначе стал смотреть на наши отношения с Таней – они сделались искренними. И все это было моей настоящей жизнью. Как хотелось рассказать всем, что мне удалось понять! Ужас наркомании состоит в том, что ею не болеют поодиночке. Наркоманом не становятся за один раз. Это длительный процесс, и протекает он не без помощи родных. Вполне понятно, почему отец и мать до последнего скрывают – даже от самих себя – что поступки и поведение их любимого чада напоминают действия чудовища из фильма ужасов. А любимое чадо бежит от “родной лжи” туда, где, по его мнению, можно делать все, что угодно, быть свободным в выборе: с кем дружить, чем заниматься, пить или не пить, колоться или не колоться. Бежит, не задумываясь о том, что за все свои поступки придется отвечать, потому что никто во всем мире не будет его прощать, жалеть и давать что-то просто так, как это делали родители. Почему родители, обеспечивая своих детей, не учат их ответственности за свои действия? Отмахнуться деньгами – проще всего. Труднее всего – уважать ребенка, когда и себя-то уважать не научились. Платить за это приходится наркоманией, где не бывает “разовых” уколов. Между мальчиком, впервые подставившим руку под шприц, и худым скрюченным доходягой с отнимающимися ногами, искалеченным бесчисленными язвами телом и убитым разумом – разница лишь во времени. Этот полный отчаяния и унижений путь от первого укола до смерти многие проходят быстрее, чем можно предположить. Мне повезло – мне помогли вовремя остановиться. Когда закрыли Центр в Днепропетровске, и Леонид Александрович с командой перебрался в Полтаву, наша строительная бригада какое-то время еще работала, потом каждый нашел свою специальность. Я остался в строительстве. Сначала брал самостоятельные заказы, вникал в ситуацию на рынке, учился идеально класть кафель и паркет, отделывать стены. Чем больше я осваивал, тем интереснее мне было. Я понял, что больше всего мне нравится заниматься дизайном и организацией работ: взять квартиру или офис и довести их до такого состояния, чтобы людям было удобно и приятно там жить и работать. Я купил компьютер, стал следить за специальной литературой, изучать журналы по дизайну, посещать выставки строительных и отделочных материалов. Я научился строить отношения с людьми на равных, когда все – уважающие друг друга мастера. Я понял, что наркоманская привычка унижать других, чтобы возвыситься самому, не конструктивна. Гораздо лучше – партнерские отношения с грамотными специалистами. Если я предпочту руководить людьми, которые ничего не умеют, это, конечно, поставит меня над ними, но и затормозит мое собственное развитие. Поэтому я старался достичь уверенности в себе другим путем. Уверенность дает опыт и профессионализм. Принципы отношений с людьми я взял у Леонида Александровича: быть честным, не лгать, не делать подлостей. Я знал: основа моей жизни – семья. Все остальное учил, как правила дорожного движения: чем больше знаешь и применяешь, тем увереннее движешься. Я понял, что мне не нужны “очень большие деньги”. Главное – возможность обеспечивать жену и сына, уделять им больше времени. Поначалу отношения с Таней складывались непросто. На каком-то этапе я осознал, что я ее просто боюсь: у нее красный диплом, а мне не хватает многих знаний. Я не сомневался, что Таня – именно тот человек, который мне нужен, но я не хотел показывать ей свои слабости. Мне нужно было “догнать” ее во многом, и не только в образовании, но и в человеческих проявлениях, личностном росте. Помню, доктор Саута говорил, что мое главное счастье – жена. Мне действительно было чему у нее поучиться. Таня всегда поступала порядочно, обладала уникальным умением понимать и поддерживать близких людей. Я должен был стать таким же надежным человеком и для нее, и для сына. С ребенком я старался общаться на равных, уважать его личность. Не могу сказать, чтобы это было просто, и все же я старался уделять внимание жене и сыну, даже 58 когда чувствовал большую усталость. Есть ситуации, в которых всегда надо поступать, как должно. Все дается усилиями. Об этом надо помнить всегда. Долгое время я не мог избавиться от претензий к отцу: почему он не жил с нами, почему не помогал мне? Потом я стал понимать, что раньше и сам общался с ним формально – ради того, чтобы получить деньги. Когда стал зарабатывать сам, просить помощи стало не нужно, и какое-то время я даже затруднялся: о чем разговаривать? Тогда я понял, что мои детские претензии были необоснованны. Я вдруг увидел отца другими глазами. Я понял, что он – человек искренний, готовый придти на помощь другим. Когда отец познакомился с Леонидом Александровичем, он решил устроить в Центре “Выбор” секцию тяжелой атлетики. Отец был хорошим спортсменом, спорт всегда помогал ему, и он подумал, что штанга должна помочь и ребятам. Если отец начинал что-то делать, он не останавливался, пока не доводил дело до конца. Он привлек к делу выдающихся спортсменов, чемпионов мира и Олимпийских игр, обеспечил Центр тренажерами, создал секцию. В гости к начинающим штангистам, которые еще только вчера бросили колоться, приезжали легенды спорта – Султан Рахманов, Юрий Зайцев. Отец хотел выкупить на свои деньги спортзал для “Выбора”, но, к сожалению, не успел, скоропостижно умер. Только за полгода до его смерти мы начали становиться понастоящему близкими людьми. И хоть теперь ничего нельзя вернуть и наверстать, у меня осталась о нем самая добрая память. Да и не только у меня – ребята, которые сейчас занимаются тяжелой атлетикой в “Выборе”, решили провести турнир его имени… Я живу без наркотиков уже восемь лет и знаю теперь, что самое сложное – реально оценивать свои силы. Раньше у меня была навязчивая потребность доказывать всем, что я – нормальный человек. Я часто брался за работу, которую не умел делать, потом понял: отказаться порой труднее, чем согласиться, но научиться этому необходимо. Надо не хвататься за все подряд, а делать лишь то, что тебе по силам, и обязательно доводить начатое до конца. Только таким способом можно заслужить настоящую репутацию. Раньше ощущение комфорта мне давали уколы. Теперь я научился чувствовать себя человеком без наркотиков. Я знаю, что самое страшное – когда человек теряет цель. Цель – это самое главное в жизни. 59 “КАК ДОЛГО Я ТЕРПЕЛА!” История Татьяны С Димой мы учились в одном классе. Но встречаться стали много позднее, когда он вернулся из колонии. Я знала, что было время, когда Дима “баловался наркотиками”, но это не останавливало меня. Хотя мне было хорошо известно, какая страшная беда – наркомания (брат моей подруги кололся уже восемь лет), я почему-то думала, что с Димой такого не случится, что у него это – только “баловство”. К сожалению, все оказалось совсем иначе. Очень быстро Дима перешел от эпизодических уколов к “системе”. Он очень часто приходил ко мне в состоянии наркотического “кайфа”. Я возмущалась, но не прогоняла его. И старательно скрывала от своих родителей, что Дима – наркоман. У меня не было с ними взаимопонимания, они часто ругали и подозревали меня во всех грехах, поэтому я многое делала им назло, даже в институт не стала поступать. Зато Диме я прощала все. Однажды, когда его родители уехали, я пришла к нему домой и застала там двух наркоманок за “работой”: они варили “ширку”. Я присутствовала при этом и говорила: “Зачем вы это делаете?” – мне казалось, что, сделав замечание, я исполнила свой долг, и можно не предпринимать никаких действий. Дима знал, что я его люблю, приходил ко мне, чтобы выговориться, брал в долг деньги. Только один раз я сделала попытку выбросить его из головы, даже уезжала к бабушке в Луганскую область, чтобы быть от него подальше. Но мое сердце совсем растаяло, когда он перестал колоться и поступил в институт. Наверное, у меня сильно развит материнский инстинкт, и мне очень нравилось его опекать, заботиться о нем. Я выполняла для Димы разные работы на компьютере, забирала чертежи из кафе, где он забывал их по пьянке, и всегда безотказно позволяла себя использовать. У нас уже зашла речь о серьезных отношениях, когда я обнаружила в его комнате шприц. Он снова начал колоться. Мы редко виделись, но он часто звонил мне по ночам, рассказывал что-то, выговаривался. То подрался, то сломал что-нибудь, и обо всем спешил мне поведать. Я все надеялась, что это скоро прекратится. Ведь он однажды бросил наркотики сам – значит, он не наркоман. Потом он сделал мне предложение, сказал, что после свадьбы “ширка” отпадет автоматически. Я слепо верила, тем более, что у меня был один положительный пример: наш приятель Андрей в молодости любил выпить, а женился – и стал примерным мужем. Значит, и у меня так будет. Однако уже на другой день после свадьбы, когда мы ехали на такси к моим родителям, Дима вдруг попросил водителя изменить маршрут, объяснил мне, что надо отдать долг цыганам. Вышел он от них уже под “кайфом”. Во мне все кипело, но разве я могла рассказать это родителям, которые только что столько денег отдали на нашу свадьбу? Неделю мы провели в Ялте. “Ширки” там не было, и Дима торопился вернуться домой. Дома я поняла, что забеременела. Он сказал, что не бросит своего ребенка. И хотя мы собирались жить в общежитии, решили поселиться у моих родителей, чтобы я, как будущая мать, испытывала как можно меньше бытовых неудобств. На пятом месяце меня положили в больницу на сохранение. Там долежала до родов. Дима исправно приходил каждый день, и поначалу даже трезвый. Потом я заметила, что он укололся. Я выгнала его, но тут же бросилась догонять, даже просила прощения за резкость. Больше он в нормальном состоянии не появлялся. Продукты, которые передавала мне мама, продавал и прокалывал. Придет, сядет – и начинает клевать носом, буквально засыпает сидя 60 – такую дозу принял. Теперь мне самой странно вспоминать: как я могла это терпеть, почему я тогда так безропотно сидела с ним в больничном холле? Так продолжалось до того момента, пока родители не обнаружили у него шприц. Все это, конечно, свалилось на мою голову. Сначала в больницу приехала мама и заплакала. Потом приехал папа и тоже заплакал. Затем явился Дима – с жалобами на родителей. Мама говорила: “Мне противно на него смотреть, не то, что жить рядом!” Я уговорила ее потерпеть, потом Диму со слезами на глазах упрашивала не уходить из дома. Сейчас даже не верится: неужели все это делала я? Когда родился наш Ваня, я решила, что теперь мой муж, конечно же, перестанет колоться, ведь моему ребенку папа-наркоман не нужен. Я строила иллюзии и свято верила, что все так и будет. Но моим надеждам суждено было разбиться уже в день выписки. Дима встретил меня с цветами, привез домой на такси (разумеется, на мамины деньги), выпил водки и ушел. Вернулся, уколовшись. В ответ на мои упреки стал клясться, что это – последний раз, что он просто перенервничал из-за сына. Надо ли говорить, что этот раз вовсе не был последним – он был очередным. Много у наркоманов бывает таких “последних уколов”. Это слово всегда приходит им на язык, если их припирают к стене. Но я отчего-то стала гораздо спокойнее относиться к его безобразиям. Мой материнский инстинкт нашел естественный выход и не нуждался в заменителях. Я подумала: “Да пропади ты пропадом!” Хотя из дома почему-то не выгнала. К Ване подпускала ненадолго, давала мелкие поручения. Помню, он гладил пеленки с закрытыми глазами. Дима, по-прежнему, использовал меня, заставлял просить у мамы деньги “на лекарства”. Потом он сошелся с оптовыми торговцами наркотиками и стал жить на широкую ногу. Зарабатывал по сорок с лишним миллионов купонов в день. Ел преимущественно ананасы. Я не прикасалась к его “вонючим деньгам”. Мне стало страшно, я поняла, что никогда он сам колоться не бросит, что и меня с ребенком когда-нибудь прибьют из-за его наркотиков и денег. Родителей он тоже довел до ручки. И все же я не могла представить, как скажу ему: “Уходи!” Бывало, придет, сядет, уткнется головой в колени – “кайфует”, а я тормошу его, чтобы родители не видели: стыдно! Потом не выдерживаю – гоню из дома. Он начнет собирать вещи, мне сразу становится жаль его – и он снова распаковывает чемоданы. Не было конца моему терпению. Я выходила выбрасывать мусор и заставала его с “друзьями” колющимся прямо в подъезде. Я кричала: “Уходи!” – и тут же принималась плакать: “Я тебя люблю, ты мне нужен!” Голос разума говорил: выгони! – но чувства всегда брали верх над рассудком. Я просто не давала ему шанса опомниться и поразмыслить над своей жизнью. Со временем мы просто перестали обращать на него внимание, относились, как к мебели. Когда у него произошел сбой “в работе”, кончились деньги и “ширка”, когда от него отвернулись и мать, и отец, он оказался в тупике. Сам пришел к моей маме и сказал: “Помогите!” Нам посоветовали лечиться в экспериментальном Центре, где были хорошие результаты. Даже по дороге в отделение он умудрился меня обмануть, выпросил денег “на последние долги”, пронес в палату “ширку”. На другой день, лишь только я вошла, стал меня “грузить”: “Таня, отсюда надо валить! Сюда с такой дозой не ложатся! Я не выдержу”. Я поговорила с Сергеем Викторовичем, и выяснилось, что мой муж спокойно спал ночью. Когда я пришла на занятия групповой психотерапией для родственников, я была поражена сходством историй, которые рассказывали женщины о своих мужьях и сыновьях. Слушая рассказ жены одного пациента, я будто видела собственными глазами, как она с ребенком на руках умоляла его бросить наркотики, а он переступал через них и шел колоться. Я вдруг прозрела: да ведь они все одинаковые, они нас просто используют! На другой день я отправилась к своей свекрови и сказала ей: “Вы тоже должны приходить на групповые занятия. Там из таких дураков, как мы, людей делают!” Самое главное, чему я научилась в Центре, – не обманывать себя, не бояться называть вещи своими именами, не бояться смотреть правде в глаза, трезво оценивать каждую ситуацию, не стремясь, во что бы то ни стало, утешить собственное самолюбие. 61 Но мне не удалось сразу избавиться от всех заблуждений. Я все еще совершала ошибки, хотя они уже не проходили даром, я училась на них, постигала что-то новое. Целых полтора месяца Дима заставлял меня молчать о том, что он колется, когда его отпускают из Центра домой. Я боялась рассказать об этом врачу: вдруг его выгонят – и что тогда? Я не понимала, что от врача нельзя ничего скрывать, ведь речь идет о смертельной болезни. Если бы у него было воспаление легких, мне не пришло бы в голову умалчивать о том, что ночью у моего мужа был жар. Почему же я молчала об уколах, которые были ничем иным, как проявлением его болезни? Разве врач не должен был знать об этом? Когда я решилась заговорить, вся группа мам и жен единодушно осудила мое молчание. Ведь оно было только на руку наркоману: ему удобно колоться, когда люди, которые пытаются ему помешать, не едины в своих действиях. Я училась разговаривать с мужем по-новому, и он реагировал с раздражением: “Что ты на меня так оценивающе смотришь?” А мне уже было с чем сравнивать: я получила передышку и обнаружила, что без наркомана в доме живется гораздо спокойнее. Раньше я злилась на мужа, а шлепала ребенка, который попадался под горячую руку. Почему же я тогда не решалась направить свой гнев на того, кто был его истинной причиной? Даже смешно стало: какой глупой я была, как долго терпела! Дима менялся постоянно, но очень долго. Вот где действительно было необходимо терпение! Но мне очень помогали наши групповые занятия с психологом. Постепенно мы с Димой перестали говорить о наркотиках. Раньше все разговоры были только об этом – даже в первые месяцы лечения. И снова я задавалась вопросами: почему я поддерживала эти наркоманские разговоры, разве это нормально – мне, которая никогда и не думала пробовать этот сомнительный “кайф”, все время говорить о наркотиках? Зато сейчас мы о них и не вспоминаем. Какое-то время я, как и Дима, работала в Центре, помогала женам наших пациентов осознать то, что удалось мне. Потом я окончила институт, устроилась работать по специальности, но отношения с сотрудниками Центра не прерывала никогда. Даже когда Леонид Александрович переехал в Полтаву, мы продолжали навещать его и ребят. Когда по поводу – на день рождения, когда – просто так. Это общение помогало многое понять, чтобы строить жизнь совсем по другим принципам. Я была единственным ребенком своих родителей. Привыкла быть в центре внимания, все решать сама. Сейчас я понимаю: главная роль в семье должна принадлежать мужу. Мы так и делаем. Ответственность за материальное обеспечение лежит, главным образом, на Диме. Все решения мы принимаем вместе, и я ничего не предпринимаю, не посоветовавшись с ним. Раньше я думала, что лучше знаю, что и как надо делать, потом поняла: в семье не должно быть соперничества, у каждого – своя роль. Прежде модель нашей семьи была искаженной: Дима – “плохой”, а я – “хорошая”. Перестроиться было достаточно сложно. Я должна была перестать изображать из себя страдалицу, “жертву обстоятельств”, и, к счастью, мне это удалось. Я освободила Диму от домашних обязанностей, потому что он очень много работает, чтобы обеспечить нас с Ваней. Теперь домашние дела не вызывают у меня раздражения: я поняла, что готовлю и убираю, потому что хочу это делать, а не потому что “должна”. Я стараюсь поддерживать уют в доме и встречать мужа в хорошем настроении, ведь “страдалицы” мало кому интересны. И Дима платит мне тем же. Купил стиральную машину, чтобы мне было не так трудно управляться по хозяйству. И хотя с деньгами тогда было туговато, он сам нашел их, чтобы сделать мне подарок. В нем появилась ответственность, он охраняет свою семью. Сейчас мне с ним совсем не страшно, я знаю: он никому не даст нас в обиду. Я полностью доверяю своему мужу. Сначала все наши деньги были у меня, я выдавала их Диме в случае необходимости. Сейчас у каждого есть свои и общие, которые лежат на видном месте: считаешь нужным что-то купить – бери. Я думаю, в семье каждый человек имеет право на личное пространство, на собственные увлечения и интересы. Раньше я была максималисткой, но со временем поняла: муж не должен каждую секунду думать обо мне. Максимализм не всегда уместен, во всем 62 необходимо чувство меры. Я борюсь с собой, все время “включаю тормоза”, чтобы не давить на близких. Наш сын учится уже в третьем классе. С двух лет он умеет убирать свои вещи, в меру сил помогать мне в домашней работе. Мы стараемся всегда предоставлять ему возможность выбора, объясняем, какие последствия будут в случае того или иного действия. Никогда не бьем и стараемся не унижать, воспринимать сына как личность. Мы хотим, чтобы сын вырос самостоятельным человеком, и все делаем для этого. Заботясь о муже и сыне, я не забываю и о себе. Стараюсь следить за собой, бегаю по утрам. Дима каждый день делает зарядку и принимает холодные ванны, и я хочу ему соответствовать. В семейной жизни нельзя расслабляться, почивать на лаврах. Жена не должна распускаться, толстеть, ходить по дому в застиранном халате, масках и бигуди. Обед должен быть вкусным, а внешность – привлекательной, и не только для мужа, но и для сына, ведь образ женщины у него формируется при взгляде на маму. Я вижу, как счастлив Ваня, если в школе на празднике девочки разглядывают меня одобрительно. Это стимулирует и мужа: он понимает, что такая женщина не будет бояться потерять мужчину, который ей не интересен. Важно помнить и о том, что муж или жена – не собственность супруга, за ними нужно признавать все права свободного человека. Поэтому я стараюсь не зацикливаться ни на чем, не делать проблем на пустом месте. В жизни есть главное. Остальное – пустяки. В нашей жизни главным стало то, что мы живем, не допуская даже мыслей о наркотиках. Я просто не представляю себе: как бы это Дима мог пойти и уколоться. Я уже не воспринимаю его как наркомана, даже бывшего – только как человека. Недавно я перечитывала “свою” главу из книги, которая писалась шесть лет назад, и удивлялась: неужели это – о нас, неужели это было с нами? Ведь мы – совсем другие. 63 “САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ПРАВДА” История Ивана В институте у меня был друг-красавец. Все девчонки к нему липли. Может быть, я хотел быть на него похожим? Как бы то ни было, именно он дал мне впервые попробовать анашу. Зачем я ее курил, не знаю. Все у меня было хорошо. В школе учился на пятерки и занимался велоспортом. Дорос до кандидата в мастера спорта. Уроки, сборы, тренировки – свободного времени не было вообще. И в институт поступил легко, и учиться нравилось. Чего мне не хватало? Наверное, я своему другу завидовал, а когда приходит зависть – начинаются страшные вещи… Говорят, анаша – “легкий” наркотик. Зря говорят: все, что влияет на психику, не проходит без последствий. И потом, после “легких” наркотиков всегда тянет на “тяжелые”. Через полтора года после первого “косяка” я уже сидел в “системе”. Наркотики давали ощущение раскованности. Не знаю, чего здесь было больше: желания острых ощущений или стремления уйти от действительности. Знаю, что мне хотелось быть “крутым парнем”, который всегда – в центре внимания. Сначала проблем не было. На пятом курсе я неплохо зарабатывал ремонтом телевизоров. Денег хватало, никто не контролировал. Утром – работа, вечером – наркотики, пиво, девчонки. Потом я начал чувствовать усталость от такой жизни: беготня, ожидание на лавочках, пока принесут дозу, постоянный страх попасть в милицию – все это сильно утомляет. К тому же, родители нашли шприц, начались подозрения. Обнаружили на руках следы уколов. Мер не приняли, стали уговаривать: зачем тебе это – будешь болеть, потом станешь бомжем… Слова оказались почти пророческими: скоро я попал в реанимацию. Есть такой термин – “синдром позиционного сдавливания”. Если принять наркотик и лежать, не меняя позы, токсины сначала концентрируются в организме, а когда пошевелишься – активно выбрасываются в кровь. Именно это со мной и произошло. Слава Богу, откачали. После этого год не кололся – почему-то не хотелось… Женился. Устроился в супермаркет программистом. Неделю работаешь, неделю отдыхаешь. Мама нашла подработку на базаре – торговать продуктами питания. Там был пятачок, где всегда можно было выпить водки – “для сугреву” с товарищами. А “товарищи” все время мелькали, продавая по дешевке вынесенные из дома вещи. Как-то укололся с ними за компанию, и два года прошли как во сне. Почти ничего не помню из этого периода. Дни мелькали, как при ускоренной перемотке пленки: нашел деньги – купил – укололся. Переболел гепатитом. Чуть не умер. Но и в больнице продолжал колоться: лекарства, которые привозила мать, сдавал в аптеку, а на вырученные деньги покупал наркотики. Это было легко: половина желтушных больных были наркоманами, и все доставали “ширку”. Так я тогда хорошо “полечился”, что печень болит до сих пор. Вскоре мать выгнала меня с базара, из супермаркета тоже попросили, думаю, мой внешний вид стал настораживать. Когда я остался без средств, наркотики начали тяготить. Посидел несколько дней дома, перетерпел. Чтобы отвлечься – работал на компьютере. Если ты занят и не зацикливаешься на своем состоянии, “кумар” проходит достаточно легко. Мне вообще смешно, когда я слышу о “невыносимых муках абстиненции”. Никогда не видел, чтобы кто-то во время ломки “рвал цепи”. Этот миф просто удобно использовать. Я тоже не раз врал родителям, что если не уколюсь – остановится сердце. Абстиненция нужна наркоману, чтобы вызвать жалость. Чтобы его, как минимум, оставили в покое, а как максимум – дали денег на укол. 64 Моя трезвая жизнь длилась недолго. На новой работе встретил старого “товарища”, и вскоре снова сидел “в системе”. Жена стала закатывать скандалы. Иногда доходило чуть ли не до драки. Родителям Маша ничего не говорила: ей было стыдно, что она ошиблась в выборе избранника жизни, и я умело использовал ее стыд. Какое-то время мне удавалось и ее запугивать своей возможной смертью от “остановки сердца”. Потом она прочитала статью о Центре “Выбор” и потащила меня туда. Я не верил в эту газетную писанину, но пошел. Разговор с Кириллом меня удивил. Появилась надежда. Однако и ее я использовал по-наркомански: решил, что, если бросить наркотики можно, я всегда успею это сделать при желании, а пока можно еще поколоться. Потом со мной разговаривал доктор Саута. Он просто сказал, что обо мне думает и как видит мое будущее. Не могу сказать, что это меня не задело. Но, выйдя, я решил сыграть на Машиной жалости: “Этот доктор просто не понимает моей тонкой души!” Начало лечения удалось оттянуть еще на полгода. Правда, Маша уже “проложила дорогу” в Центр. Поговорив с Леонидом Александровичем, она отвела туда и мою маму. Вскоре они “перекрыли мне кислород”: или иди в Центр, или – на все четыре стороны. Сначала Маша выгнала к родителям, а у тех едва хватило терпения на два месяца. Мне не оставалось ничего, как идти “сдаваться”. В Центре было очень интересно, хотя я испытывал постоянные удары по самолюбию. До “Выбора” мне представлялось, что я – красивый, классный парень, физик и немного наркоман. Оказалось: я просто сволочь. Саута лечил правдой, он безжалостно снимал с пациентов розовые очки. Вначале это вызывало шок. Потом я начал думать, приходить в себя, заинтересовался психологией. Я понял, что мою веселую жизнь оплачивали близкие, и это было стыдно. Ролевые игры на группах расставляли все по своим местам. Здесь лечили не наркоманию, а отношения между людьми. Не было разговоров не только о физической, но и о психической зависимости. Говорили о том, кто за что отвечает, и как жить, чтобы не перекладывать ответственность за свои поступки на кого-то другого. Об абстиненции даже и упоминать было как-то неудобно. Стоит ли распространяться насчет чего-то вроде легкой формы гриппа – кашля и насморка, которые проходят через три дня? Тем более, что вокруг было множество людей, которые давно это пережили. Пример этих людей потрясал и вдохновлял. И я делал успехи. Я еще не знал, что от них бывает головокружение. Через полгода после выписки, когда из памяти стерся “негатив” наркоманской жизни, я решил, что могу позволить себе “уколоться разок” на Новый год. Потом был еще один “последний раз”, который “растянулся” на целый год. Все повторилось. Стал прогуливать работу. Маша опять выгнала из дома, родители приняли, но настояли, чтобы я снова просился в “Выбор”. Я уже и сам понимал, что это – мой последний шанс. Леонид Александрович почти не разговаривал со мной, и я почувствовал, что упал “ниже плинтуса”, надо выбираться всеми силами. После “Выбора” я пошел в Центр занятости, нашел самую низкооплачиваемую должность и стал просто работать, не стараясь в самое короткое время заработать самые большие деньги. Я решил выполнять все рекомендации Сауты, я уже научился полностью ему доверять. Никаких базаров, никаких больших денег. Мое пособие по безработице равнялось 280 гривням (половина прежней зарплаты). Я согласился работать за 150 гривень, лишь бы не сидеть, ничего не делая. Я понял, что нельзя требовать всего сразу, надо начинать с малого и всего добиваться самому. И мое терпение было вознаграждено: через семь месяцев меня повысили, а потом предложили ответственную должность. Все получилось, как у Кирилла: он тоже начинал с малого и стал начальником. Сейчас у меня интересная работа, я руковожу целым отделом. Помимо этого, у меня есть клиенты, которым я помогаю с компьютерным обслуживанием. Я зарабатываю деньги для семьи, для жены и ребенка, и уже не высчитываю, сколько наркотиков можно на них купить. Я стараюсь вести здоровый образ жизни. Мой самый любимый напиток теперь – молоко. Отношения с Машей менялись медленно, в ее глазах еще долго жил страх, но постепенно все наладилось. Я наверстывал упущенное в отношениях с дочкой, и с каждым днем в нашей жизни становилось все больше доверия и оставалось все меньше страха. 65 Мне очень приятно сознавать, что я делаю что-то нужное людям и, в первую очередь, моей семье. Что друзья детства снова стали общаться с нами. Что я все дальше ухожу от прошлого. Приятно, что работа, которая требует внимания и нестандартных решений, получается. В голове будто работает компьютер, и я могу успешно решать сложные задачи. Я чувствую, как растет мой профессионализм, и это приносит удовлетворение и уверенность в себе. Так продолжается уже пять лет. Я понял, что самое главное в жизни – правда. Люди должны понимать истинное положение вещей, не испытывать иллюзий. Сбои происходят тогда, когда приходит мысль, что можно расслабиться. Не случайно наркомания в последнее время поражает все больше детей богатых родителей. Им не надо ни о чем заботиться, и это приводит к деградации. У тех, кто не расслабляется, а делает, все получается. 66 “ИЗМЕНИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ДВИЖЕНИЯ” История Марии Выходя замуж за Ваню, я не представляла, с каким кошмаром мне придется столкнуться. Хотя и знала, что близкий друг моего будущего мужа – наркоман. Да и мой жених уже успел побывать в реанимации с диагнозом “острая почечно-печеночная недостаточность” и лишь чудом остался жив. Мы вместе учились в институте, у нас были общие друзья, они делали мне намеки и пытались предостеречь. Но никто не был до конца уверен. Мама плакала: она хотела, чтобы я вышла замуж за другого человека. За мной ухаживал “настоящий мужчина”: сильный, ответственный, у которого слова не расходятся с делом. Я боялась его силы. С Ваней было комфортнее: он казался мягким, податливым. Может, ему было удобно, чтобы кто-то решал за него, бежал перед ним. Это было по мне: отличницы всегда бегают впереди. Мама давила на меня, желая, чтобы я выбрала другого. Наверное, я не вышла – убежала замуж за Ваню. Мне захотелось поступка, захотелось бросить вызов семье. Какое-то время все шло отлично. Муж был заботлив и внимателен, у нас родился ребенок, я чувствовала себя счастливой. Но со временем стала замечать, что мой Ваня меняется: стал необязательным, грубым, с трудом просыпался, раздражался по утрам, днем старался убежать из дома, долго бодрствовал по ночам. Хотя я старалась отгонять дурные мысли, пыталась найти объяснения и оправдания его поступкам, у меня появились смутные догадки. Наконец, мне открылась правда: через год после свадьбы муж снова начал колоться. Как мне казалось, я приняла очень правильные меры: откровенно поговорила с Ваней, он пообещал, что это больше не повторится, и я с радостью поверила, что ради меня и дочери – самых родных и дорогих – он оставит наркотики навсегда. Какое-то время он, действительно, держался. Потом попал в больницу с гепатитом. Через пару месяцев заболела и я. После этого я его просто возненавидела. Решила, что не прощу, и выгнала из дома. Свекровь обвиняла в Ванином срыве меня. Я переживала и постоянно думала о нем. А Ваня, быстро сориентировавшись в ситуации, стал играть роль раскаявшегося грешника. И я снова ему поверила. Я уже понимала, что рядом со мной – наркоман, и надо что-то делать, а раз так, взвалила на себя этот груз и стала бороться. Думаю, мной руководил “комплекс отличницы”. Помню, в детстве меня не хотели принимать в специализированную школу, потому что мы жили в другом районе. И тогда папа, указывая на меня, серьезную, с огромными бантами, сказал директрисе: “Вы посмотрите: это же стоит будущая гордость школы!” Я всегда, всю жизнь, старалась оправдать эту высокую оценку. Мне кажется, жены наркоманов делятся на две категории: одни используют ситуацию, чтобы выкачивать деньги из родителей мужа, другие – дуры, вроде меня, которые думают, что им, больше чем мужу, нужно, чтобы он не кололся. В каком кошмаре я жила – трудно описать. Я хотела, чтобы мой муж жил вместе со мной, а не в своих иллюзиях. Действительность все время обманывала мои надежды. Я пережила все: долги, болезни, брезгливость друзей, неуверенность и недоверие, постоянное чувство страха и ожидания, мольбы и слезы, упреки и прощения, ложь, обман, унижения. Наверное, можно еще продолжать… Я прятала деньги. После того, как “пропало” золото, все ценное отнесла к родителям. Из дома стали “уходить” вещи, правда, только Ванины “личные”: магнитофон, велосипед, туристические принадлежности. Муж этим страшно гордился, 67 полагая, что, раз он продает “свое”, я не имею права вмешиваться. Денег катастрофически не хватало. Если бы не помощь родителей, не знаю, как бы мы жили. Наверное, это было просто помешательство. Два года я “боролась за Ваню”: бесилась, умоляла, плакала, падала в обмороки, унижалась, выслеживала, оберегала (когда ему было плохо, ходила на цыпочках и кормила с ложечки). Двигалась по заколдованному кругу: то выгоняла, то принимала. Я сама была почти наркоманкой: все время думала о наркотиках и наркоманах. Друзья начали отдаляться: кому интересен зацикленный человек? И мы оставались одни – в замкнутом мире, где не было ни света, ни радости. Мы жили в двух измерениях: ходили на работу, общались с родными и друзьями, коллегами и соседями (от многих скрывалось истинное положение вещей), но все это словно через невидимую стену, которая отделяла здоровый настоящий мир от того, где жили мы – тесного, страшного, мрачного, безнадежного. Я стала стыдиться людей. Даже радовалась, что Ваня приходит домой, когда уже стемнеет, и его не видят соседи, ведь он стал похожим на ходячий труп. Пару раз он пытался “спрыгнуть”, высиживал дома несколько дней, а я, отправив ребенка к родителям, героически выносила его капризы. Периодически он старался сбежать, страшно вспомнить, сколько сил потрачено, чтобы удержать его. Мы боролись, порой просто дрались. Я сражалась не с мужчиной – со зверем, и, конечно, проигрывала. Он уходил через балкон или выламывал дверь. Я делала попытки освободиться, но свекровь упрекала: “Ты-то проживешь и одна, а он погибнет!” Ваня эксплуатировал мой “комплекс отличницы” и умело манипулировал: то изображал опору, когда я плохо себя чувствовала, то играл на страхе, делая вид, что собирается покончить собой. Я действительно боялась этого: боялась, что ему надоест убивать себя медленно, и он убьет себя быстро. Каждый раз, когда он давал слово, я думала: это кончится! А потом все повторялось. Я малодушничала и винила себя: не так посмотрела, не то сказала, не то сделала, поэтому он укололся! Я словно теряла целостность, разваливалась на кусочки. Со временем у меня начались нервные припадки. Я стала задыхаться в этом мире. Я уже понимала: сами мы не справимся, нам нужна помощь специалистов. Тут нам попалась статья в газете. Мы решили обратиться в реабилитационный Центр “Выбор”. Честно говоря, я шла туда без особой надежды. Единственное, в чем я была уверена, что наш случай – особенный, что мой муж – не такой, как другие наркоманы: работает, не выносит из дома последнее, бывают моменты “отрезвления”. Чуть позже я увидела жен, которые точно так же думали о своих мужьях. Я поняла: все наркоманы одинаковые, а их семьи одинаково несчастны. И еще я, наконец-то, нашла место, где можно поделиться своей бедой, и тебя не осудят, а поймут. Я стала учиться жить по-другому: перестала уговаривать, терпеть, верить и прощать, судить и обвинять себя. Старалась жить своей жизнью, своими интересами, пресекать манипуляции, реагировать на его поведение адекватно. Я словно прозрела. Будто наяву увидела картину: мой муж находился в центре круга, по которому, как по орбите, вращались все мы: я и дочь, родители, друзья и коллеги, а он принимал это как должное, не считая себя обязанным никому. Я решила, что пора менять траекторию движения. Мне представилось, что раньше я носила на себе много балласта – ненужных грузов, которые теперь стала не без труда сбрасывать. Это было ново, и поэтому достаточно сложно и трудно, но это было счастьем! Мне становилось легко, я словно взлетала! Я начинала нравиться себе. Раньше Ваня – сознательно или подсознательно – пытался меня закомплексовать. Мне всегда были присущи самокопания и низкая самооценка. Муж старался внушить мне, что без него я не проживу. И вдруг, после занятий в Центре, я поняла, что мне легче жить без постоянных мыслей о наркотиках! Ванины родители, помаявшись под одной крышей с наркоманом, тоже поняли, что так дальше жить нельзя. Когда “в бой вступили старики”, ему не оставалось ничего иного, как идти лечиться. И он пошел в Центр. Мы начали меняться. Я думала о том, что такое – созависимость. Может, это боязнь решать собственные проблемы? Ведь чужие решать легче. Почему я боялась сильного мужчины? Потому что со слабым сама чувствуешь себя сильнее? Но это обман. И начинаешь стыдиться: как это я, такая 68 красивая и умная, вышла замуж за наркомана? И скрываешь свое горе ото всех, поскольку стыдно признаться, что совершила ошибку, что позволила сделать такое с собой и своей жизнью. В “Выборе” я сделала открытие: никто не имеет права судить мою жизнь. И сама перестала осуждать других. Пришло такое облегчение! Ведь раньше я жила в постоянном страхе, что меня осудят, выставят мне, отличнице, низкую оценку. Когда начинаешь смотреть в лицо реальности, тебе становится все равно, что о тебе подумают. И тогда главным становится гармония между внешним и внутренним. Главное – это самой себя не осуждать. Я поняла, что не знала себя. И процесс самопознания доставлял мне огромную радость. Я с удивлением обнаружила: я имею право жить так, как хочу. И это – самое большое счастье. 69 “НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ” История Тараса Во втором классе меня перевели в другую школу. В классе были еще новички. Мы с ними воевали со всем классом. Старые ученики нас дразнили, особенно меня: я был толстый. Однажды меня побили портфелями, а новые друзья не вступились. Наверное, тогда я и обиделся на весь мир. В восьмом классе я нашел новых друзей. Они были старше, многие курили, прогуливали уроки, принимали наркотики. Среди них я чувствовал себя “своим”, ходил с ними “на пиво”, пробовал “план”. Наверное, можно было искать друзей и в других местах, например, в спортзале. Но я почему-то считал, что там будет не лучше, чем в школе. А здесь меня принимали, давали “реализоваться”. Мне приходилось пить с ними водку, стоять на “стреме”, когда они воровали, со мной даже делились деньгами. Иногда я носил в кармане наркотики нашего лидера Вити: мне не было четырнадцати лет, и меня не могли за них посадить. Витя предлагал и мне попробовать, один раз я даже согласился, но, увидев грязные шприцы, отказался. Потом наши с Витей пути разошлись. Он был в постоянном “движении”, опускался все ниже. Его стали побивать те, для кого он еще недавно был авторитетом. Он очень быстро деградировал, превратившись из “модного парня”, менявшего девчонок, как перчатки, в грязного бомжа с опухшими руками. Некоторые ребята из моего класса тоже начинали курить план. Я, как более “продвинутый”, частенько доставал его. Мне казалось, что я “правлю бал”: вокруг меня тусовались, меня искали, халявщики пели дифирамбы, говорили, что я – “настоящий пацан”. Я считал их друзьями, а мать – врагом: она меня не понимала, запрещала гулять допоздна, заставляла учиться. О будущем я тогда думал весьма своеобразно: вместе с приятелем строили планы, как быстро разбогатеть, а пока приторговывали “планом”, мошенничали, давая объявления, что поможем найти работу тому, кто пришлет по почте пять рублей (в ответ высылали газетные вырезки). Мы казались себе умными и находчивыми. Потом мать поставила меня перед выбором: армия или университет. В университете я проучился год, постоянно прогуливая занятия, потом бросил: надо было зарабатывать деньги, а не терять время на учебу. Только через год до меня дошло, что я так ничего и не сделал. Некогда было: то нюхал амфетамины, то принимал “экстази”. К ним меня пристрастил одноклассник. Он вскоре погиб – разбился в автокатастрофе вместе с водителем-наркоманом. Помню, на похороны собрались “друзья”, выпили, закусили, потом “нюхнули”, и поминки плавно перешли в дискотеку. Половина “друзей” вообще радовались тому, что он умер, потому что должны были покойнику деньги. Я уже тогда начал понимать цену этой “дружбы”. Мои друзья тоже были рядом со мной, пока у меня были наркотики, а потом – исчезали. Меня пугала перспектива, что я так и не стану никем, “прокурю” всю свою жизнь, и на какое-то время я бросил наркотики, даже стал заниматься спортом. Потом мне предложили попробовать “винт”. Был у меня приятель Миша, его друзья умели варить. Говорили, что от “винта” нет “ломки”, нет физической зависимости. Кроме того, в “винте” содержался йод и красный фосфор, а это – “полезно для мозга”. “Винт” давал много энергии, я мог бегать сутками, потом, правда, приходилось сутками же и отсыпаться, зато под его действием я казался себе Эйнштейном: мозги работали, 70 как заводные. И легко было – будто летал. Перед армией устроил себе “проводы” на 150 кубов, всех угощал, думал: все равно вернусь на гражданку другим человеком… Служил я в Днепропетровске, охранял Южный машиностроительный завод. Дедовщина меня не коснулась: местных обижать опасались. Старшие взяли под крыло: я приносил им из увольнительных “план” и водку. Иногда “кенты” приносили “винт”, и тогда мы гуляли на всю катушку. Потом нас послали в трехмесячный караул на объект, где испытывали ракетные двигатели. Там был цех, в котором на американские деньги уничтожали боевые ракеты. Мы свинчивали с ракетных корпусов алюминиевые люки и сдавали в металлоприемку, на вырученные деньги покупали “винт”. Вообще беспредел там был полный: воровали, спали на постах, большинство солдат курили “план” или кололись. После возвращения в часть начались “отходняки”, депрессия. В таком состоянии попался мне под руку один стукач. Я решил его проучить – и перестарался: разбил голову. Замполит отвел меня на проверку в санчасть. Там обнаружили следы уколов. Мать узнала. Я отвертелся, сказал, что это было один раз. После армии попробовал “ширку”. Она мне понравилась: укололся – и все “по барабану”. А “винт” уже бил по мозгам, от него не “тащило”. От этого наркотика появляется агрессия и развиваются мании. В каждом прохожем начинаешь видеть “мента”, кажется, что за тобой следят и вот-вот повяжут. Многие из моих знакомых сходили от него с ума. Самым страшным был случай с Игорем. Однажды мы с Мишей зашли к нему, сварили “винт” и Миша спросил: “Твоя мама будет колоться?” Оказывается, Игорь “подсадил” на дозу и мать, и сестру. Там был настоящий притон. Через некоторое время у Игоря началась паранойя, он перешел на антидепрессанты и сошел с ума, а его мать и сестра продолжали колоться. Однажды мать застала его с кучей проводов в руках: он собрал переноски у всех соседей. Боялся, что его кто-нибудь задушит этими проводами, когда он выйдет из дома. Картины, которые видел в “винтовых” притонах, меня всегда ужасали. “Ширка” казалась безопасной. Я научился мешать ее с эфедрином (это называлось “фен”), делал разные комбинации. Потом и “ширка” стала напрягать. Как-то я проснулся утром в ужасном настроении. Я сам себе казался сволочью и скотиной: ничего в жизни не добился, “голимый наркоман”. Мать сказала, что нашла клинику в Москве – “Медицина-2000”. Они давали “страховку”. Она даже пообещала дать мне денег еще на один укол, если я соглашусь поехать. В Москве мать заплатила крупную сумму, и меня взяли на лечение. Пятнадцать дней проходил детоксикацию, хотя и сказал, что у меня нет физической зависимости, все равно назначили промедол и другие медицинские наркотики. Потом месяц занимались “реабилитацией”: будили рано, заставляли медитировать – слушаешь музыку и представляешь себе, как заряжаешься на весь день положительной энергией. Три раза в день проводились групповые занятия по системе “12 шагов”. Все садились в круг и рассказывали, как они бессильны перед наркотиком, какая у них “тяга”, как им хочется героина. Запрещали читать, смотреть телевизор и слушать музыку. Мне все это не нравилось, и тоска душевная не проходила. Я стал опаздывать и нарушать правила, чтобы меня поскорее выгнали. Правда, в последнюю ночь передумал уезжать, но меня все равно выставили: правила есть правила. Вернуться позволили через 20 дней. Все это время я кололся беспробудно. Так, что уже “не перло”. Потерял “границу”: что колешься, что не колешься – состояние одинаковое. Даже о Москве пожалел: там появились хоть какие-то друзья. Я понял, что наркотик сам по себе ничего не дает. Ценна иллюзия, что у тебя есть друзья, что ты что-то значишь. Первое время в Москве я даже верил, что лечение поможет. Нас заставляли “анализировать свои чувства”. Это делали все – по списку: что перечувствовал за день. Я старался, и меня хвалили. Хотя и там было много наркоманов, которые получали поощрение, когда выучивались говорить правильные слова. Днем “исповедывались”, а по вечерам пытались достать наркотики. Дома я продержался всего четыре дня. Потом встретил старого “друга”, и все началось сначала. Кололся постоянно. На Новый год попал в нормальную компанию – они увидели, что я укололся, и попросили уйти. Пришел домой обиженный, потом задумался: а как еще могут 71 относиться ко мне нормальные люди? Пробовал бросить наркотики, но просто переходил с уколов на таблетки. Ничего не получалось. Мать заговорила о клинике Назаралиева. Проблема была в том, что туда принимали лишь тех, кто выдерживал 20 дней трезвости. Но меня на это уже не хватало. Решили, что месяц я полечусь в реабилитационном Центре “Выбор” (его адрес матери дали еще в Москве), а потом поеду в Бишкек. В “Выборе” сразу попал на групповое занятие. Карина попросила рассказать о себе. Я начал петь соловьем: о программе “12 шагов”, о своем опыте лечения, представлял дело так, что у меня, вроде, и проблем особых нет. Леонид Александрович послушал меня некоторое время, потом заговорил. Это было очень жестко. Он доходчиво рассказал мне, кто я есть на самом деле. В выражениях не стеснялся – называл вещи своими именами. Иждивенец, ничего не могу, ни на что не способен, и всем близким без меня было бы только легче. Я и сам в глубине души понимал все это. Но на Сауту обиделся, сказал: “Я здесь не останусь!” По дороге домой стал жаловаться матери, однако она не реагировала на мои слова: она уже ходила на родительские группы, и начинала кое-что понимать. Сказала: “Даю неделю, решай – или пойдешь в “Выбор”, или убирайся, куда хочешь”. Что я мог сделать? До меня самого уже начало доходить, что моя прогулка по жизни затянулась. Мне двадцать один год, я ничего не достиг, что будет дальше – непонятно. Я еще находил себе оправдания (из дома не ворую, не такой уж, значит, и плохой), а в душе все больше соглашался с доктором Саутой. Второй раз я пришел в “Выбор” с собственной программой. Думал: посижу здесь месяц, потом буду что-то придумывать, к наркотикам не вернусь, но “план” буду покуривать изредка. На группах молчал, но слушал других и сравнивал с собственным опытом. В “Выборе” группы были другие. Здесь заставляли снимать привычные маски. И в какой-то момент я понял, чего мне не хватает в жизни: искренних отношений с людьми, друзей, которым можно верить! Леня рассказывал на группах, как живет сейчас, и я чувствовал, что мне тоже хочется не бояться людей, дружить с ними. Я не знал до этого, как чувствуют себя нормальные люди. Я думал, что наркотики бросают только тогда, когда выхода нет. Именно здесь понял, что никакие наркотики не сравнимы с настоящей жизнью. Со мной начали происходить перемены. Правда, что делать, я еще не всегда понимал, были колебания. Я не верил, что люди относятся ко мне хорошо. На группах меня уже не критиковали, но случались мысли: выйти, найти наркотик, чтобы никто ничего не заметил. Как-то отпросился за пепси-колой, а сам решил купить трамадол (родители собирались на три дня на море, и меня брали с собой: отдохну – так отдохну!) Вышел и думаю: ну поеду, ну нажрусь, все сначала начнется, на фиг мне это надо? Купил пепси и вернулся в Центр. На море я старался сделать приятное матери и отчиму: приготовить обед, помочь. С удовольствием общался с ними. Эти три дня показались мне райскими: я чувствовал, что нужен им. Мать сказала, что отчим заметил, как я изменился (раньше он предпочитал просто не замечать меня). А когда вернулся в Центр, все обрадовались, восхищались моим загаром, расспрашивали! Я увидел, что они искренне мне рады, и понял, что никогда не соглашусь это потерять, потому что никакие наркотики не сравнятся с этим! Я долго не решался поговорить с матерью. Я почувствовал большую вину перед ней, вспомнив, как много она мне отдавала, как не разводилась с отцом, хотя он пил, потому что я любил его. Я многому у него научился. Он был честным человеком, и хоть он умер рано, я успел запомнить это. Трудно было найти слова, чтобы объяснить матери, что я чувствую, как благодарен ей за помощь, за то, что боролась за меня. Раньше я не понимал этого, думал: что ей спокойно не живется? Когда мы, наконец, поговорили об этом, она плакала и обнимала меня. Я понял, что она стала счастливой. Когда срок моего лечения окончился, Леонид Александрович предложил мне поработать в “Выборе” завхозом. Работал я и с новыми пациентами на групповых занятиях. С тех пор прошло три года. Я активно занимаюсь со штангой, собираюсь сдавать на разряд по тяжелой атлетике. У нас работает тяжелоатлетический клуб “Выбор”, в гости приезжают 72 легендарные спортсмены. Мне довелось общаться с Султаном Рахмановым и Юрием Зайцевым. Разве я мог мечтать о том, что смогу поздороваться за руку с олимпийскими чемпионами, что они будут давать мне советы и инструкции! После встречи с прославленными спортсменами у меня как будто прибавилось сил. Сейчас я – бригадир строительной бригады и студент Полтавского строительного института. С тех пор, как “Выбор” переехал в Полтаву, моя жизнь тоже связана с этим городом. Мы сами строим новое здание Центра. Мне нравится видеть, как движется стройка, как меняется здание. Я уже вижу, каким оно будет. Мне нравится наблюдать, как в Центре меняются ребята. Иногда появляются новые люди – кажется: конченые, отвратительные типы. Через месяц смотришь – они тебе уже симпатичны. И их становится все больше. 73 “Я НЕ ЗНАЛА СВОЕГО СЫНА!” История Галины Петровны Мой муж работал в уголовном розыске, работа отнимала почти все время, и в воспитании сына он почти не участвовал. Зато я старалась за двоих: кормила, организовывала отдых, записывала в секции, контролировала, решала школьные проблемы. Все время переживала, как бы чего не случилось. Если Тарас на полчаса исчезал со двора, у меня начиналась паника. В первую очередь, меня волновало, чтобы сын был здоров и сыт. Остальное было на втором плане. Теперь я понимаю, что не научила его трудиться, все делала сама, считая, что у меня все равно получится лучше. Я все время как будто бежала впереди сына и пробивала ему дорогу, подкладывая “подушки” там, где он мог упасть и ушибиться. Хотела уберечь его от всех мыслимых опасностей. Но главную – проглядела. Однажды, еще когда Тарас учился в школе, я во время уборки квартиры нашла коноплю. Сын заявил, что это – не его, попросили спрятать. Я подключила мужа, он рассказал, что за наркотики попадают в тюрьмы, как там ужасно, какие муки приходится терпеть наркоманам во время “ломок”. К тому же, сотрудник уголовного розыска, у которого сын – наркоман, мог запросто потерять работу. Мне казалось, что самое главное – вовремя отреагировать и принять меры. Друзья посоветовали устроить Тараса в университет: там хорошая среда, втянется и выбросит дурь из головы. Так мы и сделали. Правда, поступал в университет не Тарас – “поступала” я. Договорилась, с кем надо, потом и экзамены за него сдавала: уплатила кучу денег, а преподаватели его и в лицо не видели. На занятия его отвозили мои приятели, забирала из университета я. Чуть ли не за ручку водили. Мне казалось, что главное – контроль. Заставлю его учиться – будет результат. Только потом сообразила: кому такой “специалист” нужен? Да и результата не было. Несмотря на жесткий контроль, Тарас умудрялся прогуливать большую часть занятий, потом и вовсе бросил университет. Я уже совсем выбивалась из сил. Муж умер, справляться с сыном становилось все труднее. Так же, как я водила его в университет, за ручку отвела в военкомат. В армию Тараса просто “выперли”. Я снова вышла замуж, но продолжала опекать сына, как могла. Служил он в городе, и я постоянно его навещала. Муж говорил: “Достаточно, если мы съездим к нему раз в неделю, отвезем еду и сигареты. Зачем ты постоянно с ним нянчишься, ты же решила сделать из него человека!” Но мне казалось, он не волнуется за Тараса, потому что это не его сын. Сама я волновалась беспрестанно. Все думала: как он там, сыт ли, здоров, не мерзнут ли ноги? Потом командир заметил, что Тарас употребляет наркотики. После возвращения сына домой я каждый день заглядывала ему в глаза, проверяла вены, кожу между пальцев. Но даже жесткий контроль не помогал. Поведение Тараса изменилось: он был постоянно возбужден, не спал ночами. Каюсь, я продолжала баловать его, носилась с ним, совсем не уделяя внимания ни мужу, ни падчерице. Если возникало желание всей семьей отправиться в лес, последнее слово было за Тарасом. Он не хотел ехать – и я “не хотела”. Были периоды, когда я его ненавидела, не могла видеть его ненормальные глаза. Однако жизнь всей семьи все равно вертелась вокруг Тараса. Это был сущий ад! И все устали от него. Я стала искать через Интернет, куда отвести его лечиться. К кодировщику идти он отказался, в наркодиспансере меня разочаровали: я поняла, что его просто изолируют на 74 время, а что потом – неизвестно. Я чувствовала ужасную беспомощность: что-то надо делать, но что? Нашла в Интернете клинику, работавшую по системе “12 шагов” и повезла Тараса в Москву. Его взялись лечить за три с половиной тысячи долларов при условии соблюдения дисциплины: если нарушит правила – выпишут и примут назад не ранее, чем через две недели, нарушит еще раз – выгонят и денег не вернут. Мы согласились – что оставалось делать? Я работала в магазине и видела наркоманов, покупавших растворитель: сначала приходят – вроде, люди как люди, через несколько месяцев – опустившиеся существа без зубов. Я понимала, что мой сын убивает себя, не спала ночей в поисках выхода. Я надеялась, что в Москве ему что-то объяснят, он поймет, что так жить нельзя. Выяснилось, что надеялась напрасно. Его выгоняли, потом снова принимали и выписывали, но дома все вернулось на круги своя. Я не опускала руки. Думала: продам бабушкину квартиру и повезу сына в Бишкек к Назаралиеву. Правда, сначала надо было заставить Тараса не колоться хотя бы три недели. Стала искать, где ему пересидеть это время. Единственное, за что я благодарна московским “специалистам”, так это за то, что дали мне брошюрку с адресами реабилитационных центров России и Украины. Они советовали после лечения продолжать общаться с бывшими наркоманами. В этой брошюрке я нашла адрес и телефон Центра “Выбор”. Стала им звонить, справляться, можно ли у них “подержать” сына до отъезда в Бишкек. Они ответили: “Мы не собираем наркоманов, мы их лечим. Приходите на консультацию”. Я пришла, поговорила с доктором Рокутовым. В моей голове стало кое-что проясняться. Я поняла, что этот “нарыв” надо вскрывать. Привела Тараса в Центр. После разговора с доктором Саутой он вышел злой, даже уши покраснели, говорит: “Больше сюда не приду!” Оказывается, ему объяснили, что он, на самом деле, собой представляет: обычный наркоман, обычный тунеядец, который сидит на шее у матери. Еще какое-то время Тарас пробыл дома. Жить стало совсем невыносимо. Не было уже сил терпеть постоянную ложь и скандалы. Я еще испытывала иллюзии, просила мужа устроить Тараса на работу. Он отвечал: “Какой из него работник? Опозорит и меня, и тех, кто будет помогать”. Не знаю, как муж выносил меня и сына. Тарас стал грубым, хамил, ругался. Я чувствовала, что должна как-то реагировать на его поведение, но единственное, что я могла сделать – тоже кричать и ругаться. Только при муже старалась сдерживаться. Долго ли можно было выдерживать такое? Когда не осталось сил ругаться – просто не пустила Тараса ночевать. Может, я и носилась бы с ним еще, просила и уговаривала, но в семье случилось несчастье: моя мама заболела раком, надо было ухаживать за ней. Контролировать Тараса, бегать за ним, разыскивать по чердакам – не было ни времени, ни сил. Я сказала: “Или ты пойдешь в “Выбор”, или я тебя просто выгоню”. Когда он пришел в Центр, изменения стали происходить почти сразу – и с ним, и со мной. Уже первый разговор с Нелли Дмитриевной удивил меня: она как будто много лет была знакома и со мной, и с Тарасом. Мне казалось, она все знает о моих переживаниях. Откуда? Я еще не понимала, что все наркоманы одинаковы. Да и чувства, которые испытывают их матери, сходны. Потом, приходя в Центр, я чувствовала себя так, как будто каждый день открываю Америку! На первом же групповом занятии для родителей я с удивлением обнаружила, что есть люди, которые сумели заставить своих детей изменить образ жизни. После занятий я подолгу не могла уснуть, все вспоминала, думала, как мне добиться такого же результата. Мое мировоззрение будто перевернулось. Я осознала, что дети – не продолжение родителей, а отдельные люди. У них должна быть своя жизнь, им нельзя навязывать свои мысли, желания, решения. Мой сын сам должен выбрать и проложить себе дорогу. Я вспомнила, что моя мама никогда не вмешивалась в мою жизнь, она воспитала троих детей и никогда не решала за них, как им жить! А как поступала я? Уже занимаясь с психологом, я все еще продолжала волноваться за Тараса. Я уже знала, что у всех пациентов в какой-то момент наступает перелом, а у Тараса он почему-то не наступал. Я пошла к доктору Сауте. Он устроил мне разнос: “Даже животные учат своих 75 детенышей, как выживать в мире. Почему Вы воспитали маменькиного сынка?” Как стыдно было это слушать! Ведь я всегда считала себя хорошей матерью: я так старалась! Но этот холодный душ помог мне прийти к новым решениям. Вскоре я была вознаграждена. Тарас вдруг заговорил со мной совсем иначе: он просил прощения за все, что сделал, говорил, что понял, как мне досталось, как он мне благодарен за помощь, и еще – что я самый близкий ему человек. Я плакала – не могла поверить своему счастью. С тех пор все начало налаживаться. Мне приходилось еще долго бороться с собой, со своим желанием “помогать” детям. Иногда, по забывчивости, я начинала давать Тарасу “ценные указания”, но он мягко одергивал меня: “Ты должна больше мне доверять!” Он был прав: я всегда мечтала, чтобы сын добился успеха в жизни, достиг чего-то. Каким он будет человеком, каким мужем – об этом не думала. Сейчас для меня важно, чтобы Тарас был счастливым – и в семье, и в работе. Но только он сам знает, в чем его счастье. Я изменила отношение не только к сыну, но и к падчерице. Раньше я баловала ее, покупая даже то, чего она не просила. Теперь, прежде чем предложить помощь, я думаю: а так ли она им нужна? Хоть и поздно, я поняла: любить детей – не обязательно значит: баловать. Сейчас с ужасом смотрю на своих знакомых, которые дают детям деньги на казино. Гораздо важнее научить их работать. Раньше я считала, что быстрее и проще все делать самой. Теперь поняла, что нельзя “тянуть лямку” за всех, позволять на себе ездить. Нелли Дмитриевна учила меня показывать сыну, что я – слабая женщина. В самом деле, как он догадается, что мне бывает тяжело, что я нуждаюсь в помощи, если я изображаю из себя ломовую лошадь? И какая ему польза, если я все стану делать за него? Ведь он сможет гордиться только тем, чего он сам добьется. Я стала меньше “жалеть” детей. Всю домашнюю работу мы делаем вместе. Я не только принимаю их помощь, я прошу о ней – и даю им возможность проявить себя. Я поняла, что дети больше любят тех родителей, которые уважают себя, и не считаются с теми, кто махнул на себя рукой. Раньше я не понимала строгости мужа, мне казалось, он перегибает палку в отношениях с дочерью, требуя от нее чего-то. Но он отвечал мне: “Ты своей лояльностью уже испортила одного!” И он был прав! Поэтому теперь я всегда советуюсь с мужем, если не знаю, как поступить. Конечно, старые привычки еще долго давали себя знать, их приходилось изживать большими усилиями. Когда Тарас собрался поступать в строительный институт, моим первым порывом было выяснить, нужна ли ему помощь. Он снова одернул меня: “Я сам разберусь!” Он нашел репетитора, стал серьезно заниматься и поступил без всякой “помощи” с моей стороны! Как мы были счастливы! Выяснилось, что я совсем не знала своего сына! Оказалось, что он – сильный, настырный, у него есть характер. Он даже бросил курить! Он – настоящий мужчина, а я пыталась сделать из него маменькиного сыночка! Как я могла так поступать?! И почему нет книг для родителей о том, как надо воспитывать детей! Раньше я думала: хорошая мать – это та, которая утром встанет раньше всех, приготовит, подаст, уберет, обстирает. Но это не мать, а хорошая прислуга. Мать должна давать больше. Мать должна доверять своим детям. Сейчас я часто советуюсь со своим сыном. Я обнаружила, что он много знает. А я думала, что он без меня ничего не может! Теперь я знаю, чего надо хотеть для своих детей – чтобы они выросли хорошими, добрыми людьми, научились самостоятельности, вниманию к близким. Как много надо было пережить, чтобы понять эту простую истину! В Центре “Выбор” нам не только спасли жизнь, нам дали такой толчок для духовного роста! Мне жаль родителей, которые запутались в ложных представлениях о воспитании, не хотят измениться, чтобы помочь и себе, и детям. Без этого нельзя быть по-настоящему счастливым. А ведь спасение есть, и оно – в нас самих! 76 “ЭТО БЫЛО СТРАШНЕЕ СМЕРТИ” История Александра Всякий человек находит в жизни людей, на которых ему хочется стать похожим. И в каждом возрасте – свои ценности и авторитеты. В школе я брал пример с компании старшеклассников, которые выделялись из среды учеников “раскованным” поведением: громко разговаривали и смеялись на переменах, казалось, у них нет никаких проблем. Один из них – Дима – жил со мной на одной лестничной клетке. Как-то он спросил меня: “Какую музыку ты слушаешь?” Я назвал исполнителей, которых любили родители: Пугачева, Ротару, Розенбаум, Высоцкий. “Это не музыка, – сказал Дима, – музыка – это рок”. Я слушал его с открытым ртом. Я очень хотел быть его другом. И я стал увлекаться роком, потому что это был пропуск в компанию Димы. Родители радовались нашей дружбе: Дима хорошо учился. Правда, он был единственным приличным учеником в этой компании, остальные больше интересовались выпивкой и старались щегольнуть перед другими каким-нибудь “подвигом”: украсть на стройке мешок цемента или стащить кастрюлю с котлетами с балкона на первом этаже. Я тоже участвовал в этом, чтобы не стать изгоем, но если из-за цемента переживал не особо (государственное – значит, ничье), по поводу котлет долго не мог избавиться от чувства стыда. Я чувствовал, что это неправильно, но не знал, как еще могу добиться уважения в этой компании. После школы я поступил в техникум, потому что так хотел мой папа. Сам я в учебе смысла не видел, мечтал заниматься музыкой. В моей группе нашел друга – Пашу. Он хорошо играл на гитаре, музыка была для нас темой бесконечных разговоров. Мы вместе пробовали курить “травку”, и мне казалось, что это делает меня причастным к некоей тайне, недоступной другим людям. Чем больше я втягивался в этот процесс, тем труднее становилось находить общий язык с родителями. Они говорили, что мне надо хорошо учиться, потому что знания – это мой будущий хлеб, что я должен заслужить авторитет у товарищей по учебе, что я должен помогать по дому, вместо того, чтобы гулять целыми днями. Мне это было непонятно: работа меня вообще не интересовала, товарищи по техникуму – тем более, а дома меня обеспечивали всем необходимым и без всякой помощи. Денег на мои карманные расходы родители не жалели, и я всегда мог угостить пивом тех “друзей”, чье мнение было для меня действительно важно. Они хвалили меня, говорили, что я – “хороший друг”, но когда однажды ко мне на улице пристали три мордоворота, убежали, оставив меня одного. Уже тогда я чувствовал, что в моей жизни что-то не так, но вину за это искал в ком угодно, только не в себе самом… С несколькими однокурсниками мы создали рок-группу и выступали на самодеятельных концертах. На всех репетициях присутствовали наркотики, сначала – как дополнение к музыке, потом – как основное содержание тусовок. После техникума я поступил в иняз. Сначала учиться очень нравилось, но чем больше становилось в жизни наркотиков, тем меньше оставалось энтузиазма. Первую сессию сдал успешно, вторую – завалил. Пришлось брать академический отпуск. К тому времени я успел жениться. И с семейной жизнью было, как с учебой. Первое время ладил с женой, потом – начались скандалы. Меня не интересовали бытовые проблемы, я не собирался устраиваться на работу. Единственное, что я делал – выпивал и курил “план” с друзьями. Жену это раздражало. Еще хуже стало, когда в моей жизни появилась “ширка”. Среди моих институтских друзей были колющиеся наркоманы. Один из них говорил: “Не пробуй, потом 77 не сможешь бросить”. Я не верил: раз они колются, значит, и мне можно. Но через две недели после первого укола уже не мог думать ни о чем, кроме наркотика. Институт я забросил, стал воровать деньги у родителей. Дома каждый день были скандалы. Сначала жена скрывала правду от моих родителей, я обещал ей, что брошу наркотики, и она какое-то время верила. Я и сам верил, бывало, даже пересиживал дома по две недели, но стоило выйти на улицу – все начиналось сначала. Когда жена собрала вещи и ушла, я этого даже не заметил. У меня были другие заботы: все время и все силы уходили на поиск наркотиков. Мама прочитала в газете статью о чудо-докторе из Запорожья и уговорила меня поехать туда лечиться. Три недели меня “оздоравливали”: проводили детоксикацию, электрошок, гипноз, в конце – закодировали. Я действительно поверил, что умру, если уколюсь. Поэтому, по возвращении домой, только курил “травку” и пил водку. В моей жизни ничего не изменилось: я, по-прежнему, не думал ни о работе, ни об учебе, только одурманивал себя другими средствами. Постепенно страх перед уколом ушел, и я вернулся на круги своя. Родители стали от меня уставать. Вел я себя очень нагло: сидел у них на шее, свесив ножки, и еще учил их жить. По моему мнению, они ничего в жизни не видели: утром – на работу, вечером – домой, разве это – жизнь? В конце концов, мое хамство им надоело. Они отобрали у меня ключи от квартиры, стали следить за каждым шагом, чтобы ничего не стащил, и денег не давали. Я ушел жить к девушке-наркоманке. Она предоставляла мне жилье, а я ей – наркотики: денег на них хватало, пока я понемногу распродавал музыкальную аппаратуру. Потом у меня возникли проблемы с милицией. Отец помог выкрутиться из неприятностей, но я почувствовал, что он уже на грани: в следующий раз меня могут и посадить. Меня, по-прежнему, окружало много людей, но иллюзия, что мы хорошо понимаем друг друга, пропала. В среде наркоманов каждый – сам за себя и готов “кинуть” любого “друга” в любой удобный момент. Я уже понимал, что медленно умираю, и, чтобы заглушить эту мысль, стал закалываться. К тому времени я перешел на “винт”, и он быстро убивал меня. Мне уже не казалось, что голова после укола работает лучше. Я хватался за десять дел одновременно и ничего не мог довести до конца. Появилось чувство страха, ощущение, что за мной следят, преследуют. Такая жизнь ужасно тяготила, но и бросить наркотики было страшно. Я был уверен, что наркотик сильнее меня. Казалось, если не уколюсь – выбью почву у себя из-под ног, стану беспомощным (эта мысль была страшнее смерти). И зачем? Сколько я продержусь: день от силы, а завтра все равно пойду колоться. Все это странным образом уживалось во мне с верой, что когда-нибудь я смогу бросить наркотики. У каждого наркомана в глубине души теплится такая надежда. Отношения с родителями у меня испортились окончательно. Если с отцом еще сохранялась какая-то видимость общения, мама, казалось, уже потеряла надежду. Когда родители узнали о Центре “Выбор”, они сказали: “В Днепропетровске есть люди, которые могут тебе помочь”. Я сопротивлялся: “Знаем мы этих людей, что они вообще понимают! Даже если и лечат, то опиатчиков. А я колюсь “винтом”, мне не смогут помочь”. Но родители настаивали: “Нам такая жизнь надоела. Или лечись, или мы тебя больше не знаем”. Пришлось ехать в Днепропетровск. Поразмыслив, я решил, что ситуация складывается не так уж плохо. Может, мне действительно удастся бросить “винт”, и я буду жить, как человек: пить водку и курить “травку”. А если и не брошу колоться – смогу заморочить голову родителям, и они снова начнут давать деньги. Перед поездкой я “приготовился”: продал магнитофон, купил стакан “травы”, захватил с собой таблетки и немного “винта”. Я рассчитывал неплохо провести время. В “Выборе” нас встретил мужчина средних лет и очень представительной наружности. Мы вместе прошли в кабинет, где находились еще два человека. Один из них сказал: “Давайте знакомиться. Я – врач. А Леня и Гена – бывшие наркоманы”. Я посмотрел на них и подумал: “Они меня, наверное, считают идиотом!” Гена (тот, кто нас встретил) был похож на профессора, а Леня, весивший явно за сто килограммов, больше напоминал борца сумо. К моему удивлению, как только они начали говорить, я понял: это действительно бывшие наркоманы, притворяться так невозможно. После собеседования меня пригласили поиграть в 78 футбол с другими пациентами. Я был шокирован: какой футбол, я приехал лечиться! Это было первое, но не единственное удивление. В “Выборе” удивляло все: того, что здесь делали, я раньше не видел нигде. Первые дни я напряженно старался понять, что здесь происходит. Таблеток не дают, врачи не носят белых халатов, играют с пациентами в футбол и теннис. Потом меня позвали на групповое занятие. Попросили рассказать о себе. Я начал говорить: “Я – наркоман, стаж семь лет, употреблял то-то и то-то…” Но Леонид Александрович прервал меня: “Постой, нас не интересуют наркотики, нас интересует, какой ты человек”. А я уже забыл, какой я человек. Я забыл, что такое искренность, уважение и другие вещи, которые необходимы человеку, как воздух. Я привык жить в постоянном страхе и не верил, что другие люди могут хотеть мне добра. Даже в “Выборе” мне первое время казалось, что за мной следят, что всюду напичканы микрофоны. Действие “винта” только закончилось, я долго не спал, мозг не отдыхал, организм был истощен. Я старался отоспаться и отъесться. Даже по ночам выходил на кухню подкрепиться. Однажды ночью я проходил мимо комнаты Леонида Александровича. Он еще не спал – читал книгу. Увидев меня, сказал: “Ты же обещал мне, что будешь вести себя, как нормальный человек: есть три раза в день и спать по ночам”. Я вернулся к себе, лег на кровать. Мысли у меня были паршивые. Впервые за последние несколько лет мне было стыдно. “Неужели, – думал я, – мне никогда не стать человеком? Неужели я должен поставить на себе крест и ехать домой – докалываться?” Мне стало страшно. Я стал думать: какой человеческий поступок я могу совершить прямо сейчас? И вспомнил о “траве” и таблетках, которые привез с собой. Я достал их и выбросил в туалет. И мне сразу стало гораздо лучше. Я спокойно заснул и уже на следующее утро почувствовал, что мне намного легче общаться с людьми. Ведь до сих пор я никогда всерьез не пытался отказаться от наркотиков. Это была первая победа. Она приблизила меня к людям. Я понял, что мы делаем общее дело: бегаем по утрам, поднимаем штангу, помогаем друг другу. Это было ново и увлекательно. Мама приезжала в Центр три раза в неделю. После занятий с психологом заходила ко мне. Поначалу разговор у нас не клеился. Но я видел: она переживает за меня. Я думал, что она никогда меня не простит, ведь я принес им с отцом столько горя. Я старался быть с ней искренним: не пускал пыль в глаза, обещая, что обязательно брошу наркотики, и все будет хорошо. Я говорил честно: “Я не могу обещать, что брошу наркотики, но я обещаю, что приложу все усилия”. По мере того, как мне удавалось потихоньку менять свою жизнь, родители тоже преображались. Раньше они были придавлены страшным горем: может ли быть что-нибудь ужаснее, чем ребенок-наркоман? А когда они поверили, что я действительно стану другим, у отца снова загорелись глаза, мама помолодела на несколько лет. С того времени прошло больше трех лет. Мне давно не снятся прежние сны. Я работаю на заводе, у меня есть собственный ответственный участок работы. Я чувствую доверие окружающих и стараюсь его оправдать. Хорошо сделанная работа приносит удовлетворение и радость. У меня в жизни есть трудности и проблемы, но они такие же, как и у всех нормальных людей. 79 “ЧТОБЫ ЖИТЬ – НАДО НАПРЯГАТЬСЯ” История Олега Курить “план” я научился в армии. Это было обычное дело. В ресторане, куда я устроился работать поваром после кулинарного техникума, “травку” курили все. Были и такие, которые “баловались” героином. Как-то предложили попробовать и мне. Я не видел смысла отказываться: другие пробуют, почему мне нельзя? Постепенно у нас образовалась “теплая” компания: мы вместе ходили на дискотеки, пили водку и коньяк, нюхали кокаин, принимали героин и амфетамин. Наркоманами себя, конечно, не считали, наркотики были составной частью “развлечений”. Когда на развлечения уже не хватало средств, стали пускать деньги “мимо кассы”. Это обнаружилось, и нас уволили. Здесь я впервые почувствовал беспокойство: не было денег на наркотики, и появился странный дискомфорт. Новую работу я нашел через два месяца, и как только появились деньги, снова вернулся к старому образу жизни. Начал колоть героин: доза росла и нюхание уже не удовлетворяло. Как я сейчас понимаю, наркотики давали мне ощущение полноценности: все хорошо, жизнь удалась. А без уколов я чувствовал какую-то ущербность. Думаю, она вырастала из чувства зависти: я хотел получать от жизни много, а лучше – все и сразу, и, главное, чтобы при этом ничего не надо было делать. Созерцание ресторанной публики располагает к таким мечтам. Наркотики притупляли чувство зависти, создавали иллюзию счастья, позволяли забыть, что у других есть то, чего нет у меня. Чтобы поддерживать эти ощущения, наркотиков со временем требовалось все больше. В моей жизни появилась “ширка”. От эпизодических приемов я быстро пришел к “системе”. Наркотики заменили все. Я уже не мог ничего делать без укола. Приезжал на работу и ждал, когда доставят дозу, только потом начинал шевелиться. Конечно, мое состояние видели, но почему-то держали в ресторане. Может, хотели, при случае списать какую-нибудь недостачу (зачем еще нужен наркоман солидному заведению?) Близкие тоже уже понимали, что со мной происходит. Они пытались поговорить по душам, но я уходил от таких разговоров. Я вообще перестал с ними общаться, заходил домой поспать, переодеться, “подпитаться” материально. Когда случились перебои с деньгами – я сдал в ломбард мамино золото. Родители его выкупили, а я снова сдал. Вскоре я стал постоянным клиентом ломбарда. О родителях не думал, мог взять деньги, отложенные на мамино лекарство, варил “ширку” дома, не задумываясь, что подставляю этим своих родных, ведь соседи все видят. Я уже понял, как глубоко влез в наркотики. Из друзей остались одни наркоманы. Друг детства, живший по соседству, перестал даже останавливаться со мной при встрече: кивнет – и бежит дальше. А ведь это был мой единственный настоящий друг! Так мне было неприятно! Бывало, я плакал ночами, тщетно стараясь найти выход, и все же утром снова бежал на “точку”. Пытался бросать наркотики, и даже делал месячные перерывы, и все это время страшно пил. В трезвом состоянии мог продержаться день-два, потом снова срывался. Пытался сам себя запереть, нарочно ездил к деду в село. Но и там находил единственного на весь райцентр наркомана, и кончалось тем, что уезжал в Киев, прихватив дедову пенсию. Даже совесть почти не мучила: дед не пропадет – у него есть заначки, а мне плохо, значит, мне деньги нужнее. Это оправдание: “мне надо!” – срабатывало всегда. Наступил момент, когда знакомые перестали одалживать деньги, ведь отдавать мне было нечем. Я стал ездить на поля, покупать мак по селам, сам варил и продавал “ширку”. По дурости думал: продам и раскручусь. Доза у меня к тому времени была уже лошадиная: пятнадцать кубов в день “не перли”. На меньшей дозе просто “кумарило”. Я добавлял к 80 “ширке” димедрол, сибазон и прочую дрянь. Спасало от истощения только то, что питался в ресторане. Поэтому и физиономия долгое время оставалась круглой, и милиция не трогала. Ужас моего положения стал доходить до меня летом 2003 года, когда милиционеры взялись прочесывать поля так, что пробраться мимо них было почти невозможно. Я влез в долги, стал “кидать” и грабить барыг. За это могли и убить, но инстинкт самосохранения заглушался желанием колоться. Мама очень переживала, постоянно уговаривала лечиться, я отнекивался и грубил ей. А сам уже чувствовал – докатился: или посадят, или убьют за долги. По району передвигался перебежками, стараясь не попадаться знакомым на глаза. Мама дала мне прочитать статью о реабилитационном Центре “Выбор”, стала звать в Полтаву. Месяца два я “кормил ее завтраками”, но ехать не спешил. Потом прошел слух, что товарища, с которым мы вместе совершали наркоманские “подвиги”, сильно избили, и он попал в реанимацию. Я испугался и решил ехать в Полтаву – хоть пересижу опасный момент, собью дозу, а там видно будет: может, удастся перейти на эпизодические уколы. На консультацию я приехал “под кайфом”. Ростислав (директор Центра) посмотрел на меня и сказал: “Возвращайся домой, спрыгни. Приедешь трезвый – будем решать, что с тобой делать”. Но возвращаться в Киев я боялся, лег в психиатрическую больницу в Полтаве. Там кололи барбитуратами, снотворным, и я ходил как “пингвин”. Даже уезжать оттуда не хотелось: ни “кумара”, ни перебоев с едой. Через неделю снова пошел в “Выбор”. Ростислав удивился: “Да ты сейчас еще хуже, чем в первый раз!” А меня врач в психушке последний раз уколол ночью, специально разбудив. И сам не знаю, зачем он это сделал. Пару дней меня не трогали: я просто отходил от “лечения”. Потом начались занятия. Очень хорошо помню первую группу: Леонид Александрович говорил о том, что я собой представляю, как отношусь к родителям. Выходило, что я считаю своего отца неудачником: он всю жизнь проработал столяром, разве это можно считать достижением? И при этом сижу у отца-неудачника на шее. Кто же я тогда? Слушал и возмущался: “Неправда! Я сам зарабатываю на жизнь!” Я привык считать, что я – самый красивый и умный, а наркотики – только небольшое недоразумение в моей жизни. Я чувствовал себя, как побитая собака, обиделся ужасно! После группы покурил, успокоился, начало доходить: а ведь это правда! Но одно дело – понять, другое – измениться. На групповых занятиях я внимательно слушал доктора и других пациентов, сам же не спешил напрягаться. Зачем? Я – не дурак, прослушал курс лекций, теперь все понимаю, значит, и колоться уже не буду. А налаживать отношения с родными – дело десятое. Но Карина и Ростик не давали мне покоя. Говорили: “Твои родители каждые выходные приезжают к тебе из Киева. Они беспокоятся, они любят тебя. Тебе их не жалко?” Несмотря ни на что, я не хотел делать первый шаг, думал: само восстановится. Потом мама, приехав, рассказала, что отец получил травму на работе, и у меня в груди что-то екнуло: а если бы травма была смертельной, я бы с ним так и не поговорил! До меня вдруг дошло: родители мне дороги! Я хочу быть с ними в хороших отношениях! Не знаю, как именно изменилось мое поведение, но через две недели мама сказала: “Тебя не узнать!” Мои отношения с ребятами в Центре тоже сложились не сразу. Сначала я бегал по утрам и поднимал штангу, не особо напрягаясь, только для того, чтобы на группах “не воспитывали”. Думал, что я – очень хитрый, и моих уловок никто не замечает. Оказывается, и Леонид Александрович, и ребята все понимали, и относились ко мне соответственно. Вскоре я уяснил, что надо пересиливать свое “не хочу”. Я сознательно старался встать пораньше, сделать хорошую пробежку, потом шел помогать ребятам на стройку. Было уже холодно, и работать, честно говоря, совсем не хотелось, но я старался, пересиливал себя – и вдруг неожиданно увлекся: и работой, и бегом, и штангой – стало интересно! В спорте, как в жизни: будешь стараться – получишь результат. Отношение ко мне сразу изменилось: мне стали доверять. Потом предложили поработать в Центре поваром. Когда я поехал домой на мамин день рожденья, она, собирая меня в обратную дорогу, даже предложила деньги: “Ты еще сам не зарабатываешь. Для нас сейчас такая радость – помочь тебе!” А ведь я уже забыл, когда она со мной так разговаривала! Прошел год. Я продолжаю работать в Центре “Выбор”. Здесь мне интересно и комфортно, и совершенно не хочется уезжать. Я собираюсь сдавать на разряд по тяжелой атлетике и с удовольствием готовлю для ребят. Здесь я осознал: если я – повар, мне нет нужды 81 воображать себя президентом. Главное – уметь делать свое дело. Каждый специалист заслуживает уважения. В Центре у меня появились настоящие друзья. Раньше – были только знакомые. В лицо хвалили, за спиной – ругали. Здесь я понял, что друзья – это те, кто говорит тебе правду. Я и сам теперь не боюсь ее говорить. Раньше я не понимал, как можно получать удовольствие от работы, от физических упражнений. Теперь мне стало ясно: чтобы жить – надо напрягаться. Чем больше напрягаешься – тем лучше результат. Само по себе ничто не приходит. И сейчас я получаю удовольствие от того, что поступаю правильно и все делаю так, как нужно. Раньше я старался жить, не напрягаясь, и жизнь катилась под откос. Теперь – каждый день прилагаю усилия. Зато получаю отличный результат! 82 “ВЫ – СООБЩНИЦА НАРКОМАНА!” История Нины Александровны Из техникума, где я преподавала, наркоманов отчисляли задним числом. Само собой разумелось, что таким людям не место в приличном заведении. Для наших педагогов не раз проводили семинары на эту тему, и что стоит за словом “наркомания”, я знала давно. Но за своего Леню была абсолютно спокойна. Еще в восьмом классе он дрался с ребятами, курившими “травку”, и я пребывала в полной уверенности, что сын все правильно понимает. Семья у нас интеллигентная, спокойная – откуда в ней взяться наркоману? Моя дочь родилась, когда я училась в институте. А Леня был запланированным, долгожданным ребенком. Дочь рано вышла замуж, и после развода с мужем я жила вместе с сыном. У нас в доме всегда царило взаимопонимание, мы были близки. Наверное, я его чересчур опекала: в любую минуту знала, где он, с кем. Леня рос не слишком избалованным, но и нужды ни в чем не испытывал. Знал, где лежали деньги, и если просил пятерку на кино или кафе, отказа ему не было. Летом, по окончании восьмого класса, сын изъявил желание поработать. Без паспорта его могли трудоустроить только с ведома комиссии по делам несовершеннолетних. Я подумала: разве он неблагополучный? – и не пошла в эту комиссию. Школу Леня закончил хорошо и сразу поступил в институт. Там тоже учился без троек, дружил с хорошей девушкой. Я успокоилась окончательно: мужчина состоялся. К концу первого курса мой сын понял, что можно не работать. Мы дали денег, и он поехал на море вместе со своей девушкой. Стипендию тратил на духи (в подарок подруге) и прочие приятные мелочи. Я не видела здесь криминала. Хотя это и были первые тревожные звонки. На третьем курсе Леня попросил справку у знакомой в студенческой поликлинике, чтобы оправдать прогулы. Объяснения его были построены на лжи. Я заметила бледность сына, но все еще не торопилась бить тревогу: мне и в голову не могло прийти, чем вызвана эта бледность. Разрушила мое комфортное неведение мать Лениного друга Тимура. Она пришла и сказала: “Наши дети принимают наркотики”. Это было как гром среди ясного неба. Я увезла сына на дачу, там “приперла к стене”, он сознался. Начались разговоры об академическом отпуске, о том, что учиться в наше время не обязательно, куда лучше заниматься коммерцией. Пропуски в институте учащались. После сессии я отправила Леню в Карпаты, а сама занялась “изучением вопроса”: прочитала о наркомании в энциклопедии, узнала, что это психическое заболевание, и пошла на прием к наркологу и психиатру. Первый раз мы пробовали лечиться в психиатрической больнице. За большие деньги я устроилась в одной палате с сыном. Ему делали гемосорбцию, иглоукалывание, массаж и прочие процедуры. Много позже я узнала, что все время он ждал, когда выйдет из больницы и, наконец, уколется. Поведение Лени стало меняться, хотя в глаза это не бросалось. Он приходил домой вовремя, сидел со мной у телевизора, был неизменно вежлив, ни разу не сказал ни одного грубого слова, а из дома, между тем, стали пропадать деньги и золото. Потом сын решил жениться. Девушка просила выполнить обещание, а он был рад избавиться от маминого недремлющего ока. Мы купили им квартиру недалеко от института, обустроили там “гнездышко”. На занятия Леня практически не ходил, и несмотря на то, что его считали очень способным, в конце концов, решили отчислить. Я не сидела, сложа руки, искала способ вернуть сына к нормальной жизни. Три раза укладывала в психиатрическую больницу, лечила в хозрасчетном отделении областного наркодиспансера (месяц приводила и уводила за руку), прибегала к услугам кодировщика, 83 звонила и в Донецк, и в Киев, и в Бишкек. Даже в институт нейрохирургии: думала, вдруг ему можно сделать операцию. Интересовалась нейро-лингвистическим программированием, писала Назаралиеву. Однажды повела Леню к экстрасенсу. Вернувшись, он сказал: “Мама, ты же грамотный человек! Как ты могла клюнуть на эту удочку?” А что мне оставалось делать? Я была согласна на все. Мне не давала покоя мысль, как мог мой Леня, в шестом классе прочитавший и Чехова, и Гоголя (которого просто обожал), стать наркоманом. Я пыталась понять, где допустила оплошность. Есть потенциальные хулиганы, но мой сын никогда не доставлял мне ничего, кроме радости! Как же это получилось? Из техникума я уволилась: посчитала, что не имею права воспитывать чужих детей, если не сумела воспитать своего. Из моей жизни ушли друзья, театры, концерты, остались – темные очки и слезы. Жена оставила Леню, отчаявшись наладить с ним жизнь, и я забрала его к себе. Дочь с зятем пытались нам помочь, многое сделали для Лени, но наступил момент, когда зять отказался возиться с моим сыном. Сказал: “Станет человеком – примем, нет – пусть не приходит”. Они перестали отпускать ко мне внука, видеться с ним я могла только у дочери. Со временем я поняла, что это предел. Даже если я лягу и умру – ничего не изменится. После института Леня устроился на работу, но все время прогуливал, доставал справки, что болел. Я сказала: “Живи, как хочешь в своей квартире” – и он ушел из дома. Первое время он жил там совсем неплохо. Продал все, что можно, включая газовую плиту. Остались только диван и книги (может, их никто не хотел брать). Даже линолеум снял с пола и продал. Потом пришел ко мне. Я впустила. Думала: раз его уже не исправить, пусть хоть колется дома, чтобы не шлялся по притонам. Давала деньги на наркотики. Леня просыпался, принимал душ, одевался, душился, брал пятерку и шел за “ширкой”. Потом возвращался, заходил в ванную, делал укол, выходил и садился читать Шекспира. А я умирала! Белый свет был не мил. Но выхода найти не могла, пока однажды по телевизору не увидела интервью с Леонидом Александровичем Саутой. Того, что он говорил, мне еще ни от кого не доводилось слышать. И я немедленно отправилась в лечебно-реабилитационный Центр. Пришла туда, убитая горем. Прием, который оказал мне доктор Саута, был подобен ледяному душу. Он расспросил, где живет мой сын, кто его кормит, одевает, дает деньги на наркотики, и сказал: “Нам не о чем разговаривать. Вы – сообщница наркомана. Вы губите его, делаете все для того, чтобы Ваш сын скорее умер”. Я обиделась: я так страдаю, а он меня еще обругал! Пошла к психологу – Нелли Дмитриевне Хорошиловой. Она в более мягкой форме повторила все, что сказал Леонид Александрович. Я задумалась. Мой сын действительно умирал – здесь доктор Саута был абсолютно прав. Однажды Леня наелся снотворных и лежал на диване, глаза его закатывались, состояние было невменяемым. Я смотрела на него и думала: возьму подушку, накрою ему лицо – один раз отплачу, и все. Не мне одной приходили в голову такие мысли, это поймет лишь тот, кто сам пережил подобное. Однажды мне довелось видеть, как несколько торговцев на рынке били наркомана, который что-то украл. Его просто перекидывали с ноги на ногу, никому и в голову не приходило, что это – человек. Что могло ожидать в будущем моего сына? Передозировка или вот такая расправа? И я затягивала его агонию – после разговора с Леонидом Александровичем я это поняла. Так началось мое излечение. Вернувшись домой, я сказала Лене: “Или ты пойдешь лечиться, или уходи из моего дома!” Он упал на колени: “Как бы я хотел снова стать маленьким, когда еще не было этого ужаса!” Я повторила: “Уходи!” Тогда он сказал: “Пойдем в больницу”. С первого раза его в Центр не приняли. Сергей Викторович, побеседовав с Леней, сказал: “Это Вы хотите, чтобы он лечился, а Ваш сын не имеет осознанного желания что-то менять”. Он оказался прав: когда Леня после моего требования покинуть дом, снова пришел в Центр, и ему разрешили госпитализироваться, он вдруг дал задний ход, и, сдав все анализы, остался дома. Мне снова пришлось его “дожимать”. Даже когда мы ехали в стационар, мне все казалось, что он сбежит по дороге. 84 Через месяц лечения Леня стал пытаться надавить на меня: “Ты слишком надолго меня закрыла!” Но я была тверда. Я решила, что у меня нет сына. Бывает так: проводят в армию, там – несчастный случай, и все. Не сразу я пришла к такому решению. Сначала на групповых занятиях для мам я только плакала, не слушая, что говорят другие женщины. Думала: “Хорошо Нелли Дмитриевне тут рассуждать, а мне каково!” Однако постепенно начала понимать что-то новое. Нелли Дмитриевна говорила: “Вы перед сыном – как кролик перед удавом!” Я подумала: действительно, я ведь все для него сделала, разве я должна ему чтонибудь? Месяца через два я увидела, что Леня стал меняться: он сделался внимательным, замечал мое настроение. Когда ему разрешили уйти в отпуск, мы зашли в кафе на берегу Днепра. Сын сказал: “Как здесь красиво! А раньше я ничего не замечал”. Со временем Леня стал высказывать здравые мысли, думать, как себя обеспечить. Свой очередной день рождения он праздновал в Центре, цветы, что я ему подарила, отдал Леониду Александровичу. Я видела: сын нервничает, но слова, которые он произносил, шли от сердца, они уже не были способом достижения тайной цели. Вскоре он стал трудиться в Центре. Если бы раньше зашла речь о работе грузчиком или дворником, он бы просто возмутился. Здесь же и цемент мешал, и проводку чинил – будто так и должно быть. Он уже не говорил: “Я постригся. Отдай три гривны парикмахеру”, он просил денег “в долг”. Когда нужно было менять паспорт, сделал черно-белое фото, на мой вопрос ответил: “А ты знаешь, сколько стоит цветное?” А ведь раньше ему и в голову не приходило задуматься, откуда берутся деньги. Сейчас у нас с Леней совсем другие отношения. Первое время я еще пыталась, по привычке, давить на него. Он всегда давал на это бурную реакцию, потом успокаивался и объяснял свою точку зрения. Если я была не права, я всегда просила прощения. Сын не стесняется обратиться ко мне за советом и помощью, но если он не спрашивает, я стараюсь не вмешиваться. Я не лезу к детям в душу: если захотят поделиться со мной – расскажут сами. Я помогаю им, чем могу, если они об этом просят, но сама ничего не навязываю. Какое-то время мой сын работал на предприятии “Выбор”, потом поступил в университет. Я продолжала каждую субботу приезжать в Центр на собрания женского клуба. Потом мы открыли анонимный кабинет для родителей наркоманов. Мы стараемся передать им наш опыт. Я на сто процентов уверена: лечение наркомании надо начинать с родителей. Пока они не “перекроют кислород” наркоману, ничего не выйдет. Это очень тяжело, но другого пути нет. К сожалению, многие так и не могут осознать своей роли в выздоровлении детей. Помню, с одной мамой мы беседовали часа четыре. Ее дочь зарабатывает на наркотики проституцией, но мать, оказывается, стыдится вовсе не этого, а того, что девочка выходит из дома в грязной одежде. Чтобы избежать “позора”, мать ее регулярно обстирывает. О каком правильном понимании проблемы может идти речь? Многим родителям трудно отказаться от иллюзий, что ребенок еще не стал “конченым наркоманом”. Они рассказывают, что сын, например, заложил в ломбард родительское золото, но на вопрос: “Так, значит, он у Вас вор?” – отвечают: “Нет, он попросил, но просто не вернул”. Вместо конкретных действий родные часто сорят словами, которые отскакивают от наркомана, как горох от стенки. Как часто слышишь: “Я уж ему говорил, говорил!” Спросишь: “А что Вы сделали?” И в ответ – тишина. А ведь если делать, и делать до конца, результат обязательно будет. Уже столько матерей и отцов убедились в этом на собственном опыте! Шесть лет назад мы создали организацию “Матери Днепропетровщины против наркомании и СПИДа”, а в мае 2003 года, вместе с Киевской организацией “Родители против наркотиков”, при поддержке партии “Трудовая Украина” и председателя Наблюдательного совета Всеукраинского родительского комитета борьбы с наркотиками Сергея Тигипко, учредили “Всеукраинский родительский комитет борьбы с наркотиками”. Сейчас комитет занят созданием в Украине сети реабилитационных центров по типу “Выбора” и “Монара”. Мы проводим профилактические встречи в школах, техникумах и вузах, детских домах. Как-то встречались с коллегами из Швеции. Они занимаются реализацией проекта по борьбе с детской наркоманией (эта болезнь “молодеет” во всем мире). У них работа тоже 85 начинается с родителей, а в реабилитационных центрах больные находятся до двух лет. В муниципальном центре на две с половиной тысячи пациентов приходится сто пятьдесят социальных работников. Государство отпускает деньги на профилактическую работу из расчета пятьдесят долларов в месяц на каждого школьника. У нас об этом можно только мечтать. Пока в борьбе с наркоманией больше показухи, чем реальных дел. Во время “круглого стола” со шведами один наш милицейский сотрудник заявил, что каждый день посещает неблагополучные семьи с целью профилактики. Знающие люди посмеялись, хотя, может, логичнее было бы заплакать. Пока наше государство только “раскачивается” для настоящих дел, мы стараемся делать то, что можем: передаем свой опыт другим родителям. В надежде, что он кому-нибудь поможет. И, наверняка, наши знания пригодятся тому, кто захочет ими воспользоваться. 86 “В НАШЕМ ДОМЕ НЕ БЫЛО ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ” История Елены Викторовны Мой Алеша был долгожданным ребенком. Над единственным сыном тряслись все: и мы с мужем, и бабушки с дедушками. Тем более, что он был болезненным мальчиком. Еще в детском саду заболел воспалением легких и чуть не умер. Это нас потрясло. И мы стали за него бояться, нет просто дрожать. О том, как ребенка нужно воспитывать, мы не задумывались. Накормлен, одет, обут – что еще нужно? Я у родителей была старшей дочерью. Училась в школе, занималась музыкой и еще ухаживала за младшими сестрами, одна из них была инвалидом. Меня никто не воспитывал, и я все умела делать. Я думала, что и сын должен учиться всему сам. Квартиры у нас не было, мы жили то с родителями мужа, то с моими мамой и папой. Наверное, это не лучшим образом сказалось на нашей семье. Муж начал выпивать. Его родители – врачи – ничего не предпринимали, то ли не верили, что алкоголизм лечится, то ли стеснялись обратиться к коллегам. Муж был у них младшим сыном, и его тоже в детстве баловали. Как-то я прочла в журнале “Работница” статью “Выйти замуж за алкоголика”. Там писали, что если в семье пьет один человек, надо лечить всю семью. Это было непонятно: зачем меня лечить? Однажды мы с мужем поссорились, он меня ударил. Я забрала Алешу и ушла к родителям. Наверное, сын переживал наше расставание, а я не догадалась поговорить с ним, попытаться ему объяснить. Через полгода муж попросил прощения, и мы снова стали жить вместе. Но Алеша как-то отдалился, жил своей жизнью: поел, сделал уроки, пошел гулять. Вскоре мы с мужем разошлись совсем. Может быть, надо было сделать это раньше? А так я и мужа не спасла, и сына проглядела. После девяти классов Алеша пошел в училище. Закончил его кое-как, заработав условную судимость за драку. Познакомился с девушкой, захотел жить отдельно. Я подумала: может, и у нас с мужем не получилось нормальной семьи, потому что жили с родителями, он не был настоящим хозяином в доме? Я сняла им квартиру, помогала, тянула, как могла. А сын уже не только курил “травку”, но и кололся. Наркоман работать не может. И Алеша менял места работы. Что зарабатывал – уходило на наркотики, когда стало не хватать, начал выносить из дома вещи. Лена – его девушка – позвонила мне, сказала: “У нас проблемы!” Я забила тревогу: надо лечиться! Обратились в наркодиспансер: “Что посоветуете?” С нас взяли тысячу гривень, сказали: “В других местах будет дороже”. Сыну что-то кололи, глаза у него всегда были веселые. Я ходила на занятия для родителей. Психолог – молоденькая девочка – что-то объясняла, чему-то учила, но я ей почему-то не верила, может, потому, что слишком молодая, говорит о том, чего сама не испытывала? Алеша тоже ходил на занятия, что-то писал в тетради по заданию психолога. Не кололся он месяц, потом снова пустился во все тяжкие. Сначала Лена каждое утро давала ему деньги на наркотики. Наверное, ей хотелось жить отдельно от родителей, и она согласна была за это платить. Потом ей надоело. Алеша остался один и вынес из квартиры все, что можно. Приходил ко мне – голодный, холодный. Я жалела и кормила. Однажды Алеша пришел ко мне на работу – обколотый, объевшийся таблетками, спал на ходу. Я вызвала скорую, его отвезли в психиатрическую больницу. Мой отец пошел на 87 прием к главному врачу. Тот сказал: “Хотите добиться результата – езжайте в “Выбор” к Сауте”. С сыном разговаривал Ростислав. Спросил: “Ты по своей инициативе приехал или по маминой?” Алеша ответил правду, за это его похвалили и записали в группу. На родительские группы я ходила вместе со своим отцом. Мы жадно ловили каждое слово Нелли Дмитриевны, старались выполнять все рекомендации. Леонид Александрович тоже работал с нами. Как-то он спросил: “Вы все – хорошие родители, и вы старались воспитывать своих детей правильно. Скажите, почему они у вас кололись? Ведь у меня же они не колются!” Я поняла, что мы слишком много занимались здоровьем сына, а его душой – слишком мало. Мы не обсуждали вместе наши проблемы, даже когда умер его отец (а это было серьезным ударом и для сына, и для меня), я не помогла ему пережить этот момент. Я чувствовала, что должна измениться сама, ведь ребенок – зеркало, которое отражает мое поведение. Я училась разделять: это – я, а это – мой сын. Я не должна командовать, навязывать свое мнение, я должна научиться его слушать. Я должна учить его своим примером, своими делами. Раньше мне и в голову не приходило, что можно наказывать сына, что не только можно, но и нужно, просто необходимо адекватно реагировать на его поведение, чтобы он учился думать, различать, что можно и что нельзя. Доктор Саута был прав: у нас дома не было этой воспитывающей среды. Я просто боролась в одиночку со всеми трудностями, а сын ни в чем не участвовал, не видел своей роли в семье, необходимости проявлять себя как мужчина. До того, как мы пришли в “Выбор”, меня от мира будто отделяла стена: некому пожаловаться, не с кем поговорить. Здесь я обрела общение, знания, опыт. Мне помогли осознать свои ошибки, посмотреть на себя и сына другими глазами, переосмыслить наши отношения. Я чувствовала себя ученицей, которая заново учится жить. Я часто думала: если бы я так боролась с зависимостью мужа, может, он был бы жив, и, может, наш сын не стал бы наркоманом? Прошлое не вернуть, зато в будущее я смотрю без боязни. Сын работает в строительной бригаде, которая строит новое здание Центра. Работа тяжелая, но я поняла: надо дать ему возможность самому сделать в жизни что-то хорошее, даже если это трудно. К тому же, у него получается. Алешу уже назначили бригадиром. 88 “У ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ” История Тамилы Ивановны Мне все в жизни давалось трудом. Мама умерла, когда мне было тринадцать. Она воспитывала меня строго. Чувствовала, что скоро умрет, и старалась всему научить. Я выполняла все работы по дому. Однажды плохо вымыла полы, оставила грязные разводы. Мама не выпустила меня из дома, пока я не навела полную чистоту. Я запомнила это на всю жизнь и всегда старалась делать каждое дело на совесть. Со старшим сыном у меня были стремительные роды. Наверное, это на нем сказалось: он был замкнутым, молчаливым – весь в себе. Зато младший, Владик, вел себя совсем иначе. Никогда не стеснялся обнять меня и поцеловать. За это и получал больше внимания и заботы. Владик болел язвенным колитом. Однажды положили его в больницу – он удрал. Потом стал прогуливать занятия, пропадать из дома, выносить вещи. Мы установили строгий контроль. Я бросила работу, нанялась мыть полы. Утром брала его с собой, после мытья вела за руку в школу. Пока он учился, я сидела под дверью класса. После школы отец взял его работать к себе. Но вскоре Владик снова стал уходить из дома, ночевал у друзей. Его друг сошелся с женщиной, которая была намного старше, и сын временами жил у них. Они казались мне приличными людьми, и я радовалась, что могу отдохнуть от Владика, пока он в нормальной компании. Его поведение тогда было сложным: мог нагрубить, хлопнуть дверью. Мы думали, что сын влюблен, у него раннее взросление, проблемы с девушками. О наркомании и мысли не было… Потом Владика забрали в милицию за хулиганство. Распределили в специальное ПТУ, практически это была колония. Воспитатели говорили нам: “Присмотритесь: его друзья в письмах вспоминают “хорошее время”, когда они курили “травку” Но я не хотела в это верить, отгораживалась от мысли, что сын – наркоман. Вернувшись из колонии, он тут же отправился к друзьям, а вечером мы вынуждены были забрать его домой: сын напился, и ему стало плохо. Вскоре из дома снова стали пропадать вещи. Мы поняли, что живем с наркоманом. Начали его лечить: в наркодиспансере, в психиатрической больнице, даже возили кодировать в Феодосию. Ничто не помогало. Вскоре Владик снова попал в милицию: хулиганил, уколовшись до невменяемого состояния. Его посадили, но и в тюрьме он, по-видимому, продолжал колоться: у него был сильный нарыв на ноге, оттуда выкачали полтора литра гноя. После освобождения продержался на свободе всего два месяца и снова попал в тюрьму на три года за то, что пытался отнять у женщины сумку. Мы с отцом уже сбились с ног, сын вымотал нам все нервы. Когда позвонил следователь, мы попросили передать Владику, что он для нас умер. На свидания не ходили, хоть он и просил. Только продукты передавали. Сын испугался, он просил следователя: “Позвоните маме, она решит все проблемы!” Но мы решили не помогать ему. Кажется, это стало для Владика уроком. В этот раз он даже бросил колоться, хотя наркотиков в тюрьме хватало. Стал искать подработку, занялся резьбой по дереву, его даже освободили на год раньше за примерное поведение. (Много позже Владик, вспоминая это время, говорил: “Мне в тюрьме было лучше, чем на свободе: я там не кололся и получил профессию”). Выйдя из тюрьмы, Владик женился на девушке, с которой давно переписывался. Она была серьезным самостоятельным человеком, и я до сих пор не понимаю, как она за него вышла. Хотя, наверное, она была замужем не за Владиком, а за нами: мы тащили на себе его семью, готовы были на все, лишь бы он не кололся. 89 Подруга приятеля, с которой он общался еще до первой отсидки, пригласила сына работать по программе “12 шагов” на общественных началах. Там он влюбился в молодую женщину-психолога и сам решил стать психологом, даже поступил в институт. С женой расстался, сказал, что это “не его человек”. Но новая пассия не спешила связать свою судьбу с наркоманом. Ограничивалась походами в кафе и говорила: “Останемся друзьями”. Владик сорвался: стал ее преследовать, угрожать, у него появились навязчивые идеи. Потом укололся – и испугался: наркотик не принес облегчения и радости. На консультацию в “Выбор” мы поехали почти всей семьей (жена вернулась к сыну, когда тот расстался с “большой любовью”), но без отца: он уже не хотел ничего делать для сына. Владика приняли. Через две недели он пришел домой с жалобами: “Они меня не понимают, говорят, что я не думаю, не работаю над собой, только книжки читаю”. Но мы тоже ходили на группы эти две недели и были подготовлены к такому повороту событий. Я сказала: “Что ж, это твое решение. Ищи работу, устраивайся, корми семью”. Он помаялся день и вернулся в Центр. Через месяц позвонил из Днепропетровска: “Мама, ребята мне уже доверяют!” Сначала я не могла понять, что это значит, потом догадалась: доверяют его словам, мыслям, тому, что он делает. Владик вернулся в Полтаву другим человеком. В нем появилось что-то взрослое, мужское. Он уже не кричал: “Мамульчик!” Сам искал работу, строил планы на будущее. Только в личной жизни еще не чувствовал ответственности: снова влюбился, разошелся с женой. В это время он перестал ходить в “Выбор”: там осудили его метания между женщинами. И все же, когда я по субботам возвращалась с родительских групп, заглядывал мне в глаза: “Как там в Центре?” Я поняла, что для него это важно, что он переживает из-за всеобщего осуждения. Через месяц он снова стал ходить к Леониду Александровичу и ребятам. Мы уже не вмешивались в его жизнь, старались только, чтобы сын помнил, что за свои поступки он будет отвечать сам. Думаю, Владик это чувствовал и постарался сохранить с женой нормальные отношения: уделял время ребенку, платил алименты. Он стал серьезнее, ответственнее и все больше походил не на мальчика, а на мужчину. Думаю, это случилось и потому, что изменилось наше отношение. Работа в родительских группах не прошла даром. Раньше мы позволяли ему жить за наш счет, ни за что не отвечая. Он не работал, и не приносил домой ни копейки, а мы покупали ему квартиру, машину, устраивали в институт. Почему-то я все время боялась его обидеть, сделать замечание. На занятиях с психологом на меня словно снизошло озарение: почему я все время боюсь за него, заглядываю в глаза? Пусть набьет “шишки”! Это полезно: так учатся. А мы носились с Владиком, стараясь сделать все, лишь бы он был в порядке. Помню, старший сын говорил: “Может, и мне начать колоться, чтобы вы обратили на меня внимание?” В Центре мы поняли, что наркомания – не болезнь, а образ жизни, и что мы сами создали этого монстра. Почему мы относились к нему не как к мужчине, а как к маленькому мальчику? Я даже перед женой Владика заискивала: “Ты уж поаккуратней с ним, чтобы не сорвался!” На занятиях я поняла: а ведь ему, действительно, не двадцать четыре, а двенадцать лет: его поступки – это поступки ребенка. И это – продукт нашего воспитания. Почему так получилось? Ведь я всегда трудилась на совесть, всегда помнила мамин урок и никогда не оставляла работу недоделанной. Почему своему сыну я позволяла все время оставлять “грязные разводы”, бегала за ним, опекала? Вот он и вырос неприспособленным! Конечно, все это я поняла не сразу. Сначала, как и многие другие родители, я защищалась, говорила: “Я все делала правильно, я хотела, как лучше!” Потом стала слушать, выбирать, что может мне пригодиться. Эмоции сменились разумным пониманием. Помню, Леонид Александрович спрашивал нас: “Зачем вам семья?” Я удивлялась: “Как зачем? Неужели непонятно?” Потом осознала, что он имел в виду: у нас в семье нет взаимопонимания, с ребенком проблемы, и я маюсь всю жизнь. Но ведь в семье должно быть хорошо всем! У женщины должно быть женское счастье, тогда она не будет так безумно привязываться к детям, тогда ее любовь к ним будет разумной. Я поняла, что за близких и за свое счастье надо бороться. Хотя я видела и таких родителей, которые предпочитают просто приспособиться к наркоману. 90 Сейчас у нас в семье все в порядке, но я продолжаю по субботам приходить в Центр. И всегда узнаю что-то новое. Бывает, услышанное год назад пригодилось сегодня. Здесь появляются ориентиры: тебе не говорят слова, которые ты хочешь слышать, говорят – правду, но и учат, как с этой правдой жить! Поэтому сейчас я ничего не боюсь, я уверена, что смогу решить любую проблему. Наверное, это и есть счастье. 91 “ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ” История Галины Григорьевны В начале девяностых я потеряла мужа, мать и отца. Осталась одна с тремя детьми. Сыну было четырнадцать лет, девочкам – по тринадцать. Время настало трудное – “перестройка”: цены росли, предприятия останавливались, все боялись остаться без работы. А у нас – обычная многодетная семья со средним уровнем достатка. Надеяться не на кого. И тут я почувствовала, как во мне просыпается “титаническая” сила и воля – выжить, во что бы то ни стало. Чтобы дети не остались без куска хлеба, я работала с утра до ночи. На семью времени оставалось мало. На первом месте стояли заботы о том, чтобы дети были сыты, одеты, обуты. Какими интересами они живут, я не знала – упустила. Я не только работала, но и решения принимала за всю семью. Саша неплохо учился в школе, но я решила, что он должен идти в техникум: кто знает, что будет дальше, надо получить профессию, “кусок хлеба”. Дочкам дали направление на учебу за счет предприятия – они уехали в Киев. Отправила их туда, потому что выбора не было. Переживала, конечно, но ситуация обернулась им на пользу: научились самостоятельно жить, распоряжаться деньгами, решать проблемы. Саша остался со мной в Полтаве, и почему-то я стала над ним дрожать, просто обожествила: единственный мужчина в семье, как бы с ним чего не приключилось! Если в техникуме у него случался конфликт с классным руководителем, я всегда становилась на сторону сына. Теперь понимаю, что это было неправильно: я не дала сыну понять, как следует вести себя со старшим человеком. Общались мы с сыном формально: “Как дела? Нормально? Ну и слава Богу!” Не было такого, чтобы обсуждали с ним какие-то проблемы, вместе искали решения. В этот период сын совсем не вырос как личность, оставался ребенком. Его все больше засасывала улица. По вечерам я стала замечать, что у Саши широкие зрачки. Он говорил: “Это временно, все ребята это пробуют”. Я думала, может это действительно так? Не знала тогда, к чему это может привести. Но на всякий случай решила, что сыну надо сменить обстановку. От армии я его “освободила” – чтобы с ним ничего не случилось. Пусть поступает в институт! Он согласился – что ему оставалось? Приезжая на каникулы, он все время просил денег. Я давала, не спрашивая: “Зачем?” С моим сыном ничего не может случиться! Но я ошиблась: с ним случилась крупная неприятность. В поезде при обыске у него нашли маковую соломку и шприц. Я бросилась спасать его от судимости: нельзя так с самого начала “перечеркнуть ребенку биографию”! Влезла в долги, уладила все проблемы. Саша даже напрячься не успел. Вижу: какая тут учеба! Решила послать его в Москву к двоюродному брату. Через полгода брат отправил его обратно: Саша грубил, плохо относился к работе, брат не хотел за него краснеть. Очень я на него сердилась! Негодовала: как можно выгнать на улицу моего сына! Нашла ему работу дома. Он работал и периодически принимал наркотики, но я, попрежнему, не видела в этом ничего страшного. Работал Саша ревизором на железной дороге. Через его руки проходило много денег. Он получал штрафы и плату за проезд, но когда приходилось отчитываться по квитанциям, всегда обнаруживалась недостача. Он брал у меня деньги в долг, чтобы покрыть ее, но никогда этих долгов не возвращал. Кормила я его тоже за свои деньги, и за квартиру платила сама, и почему-то не задумывалась: как так получается? 92 Через время стала замечать, что у него постоянно “затуманенные” глаза. (Я тогда еще обращала внимание на глаза, а не на поступки.) Когда каждый день стал приходить домой в невменяемом состоянии, я бросилась искать, где лечат от наркомании. Нашла объявления о Центре “Дианетика” в Харькове и Церкви сайентологии в Москве. Я не понимала, что это за организации. Может, и отправила бы туда сына, но (к счастью) там требовали огромные деньги. Сначала они старались нас привлечь, а когда узнали, что денег нет, потеряли интерес. Ходила я в одну из новых христианских церквей, изучала Библию. В этой Книге я нашла для себя успокоение. А сын продолжал жить по-прежнему. Однажды, во Всемирный день борьбы с наркоманией, я услышала по радио программу, в которой рассказывали о Центре “Выбор”. Мне запомнился рассказ Ростислава – он говорил о том, как ему удалось бросить наркотики. Я позвонила на радио и узнала адрес Центра. Я стала ходить туда, заниматься с психологом, общаться с другими родителями, и в моем сознании постепенно произошел перелом. Я уже понимала, что Саше непременно нужно сюда попасть, но он говорил: “Я ведь работаю, какое может быть стационарное лечение?” А я думала: работа не нужна, если она не впрок. И я нашла решение. Когда пришел очередной “отчетный день”, и у Саши снова обнаружилась недостача, я отказалась “одалживать” ему деньги. Я сказала: “Ты ведь собирал плату с пассажиров? Куда ты ее дел? Там и возьми!” Он не сумел сдать отчет. Мне позвонили с его работы, сказали: “У него растрата. Мы передадим дело в суд”. Тогда я поехала к ним и предложила добавить недостающую сумму с условием, что они в двадцать четыре часа уволят моего сына. Узнав об этом, Саша удивился, потом – рассердился. Но я была непоколебима: “Что ты извлек из этой работы? Почему я должна решать твои проблемы? Почему твое начальство требует растраченные тобой деньги с меня? Зачем мне все это?” На другой день он украл у сестры золотую цепочку. Я не впустила его в дом. Сказала: “Не хочешь лечиться – иди, куда знаешь!” Пока было тепло, он жил на даче, на “подножных кормах”. Как-то я застала его там просто в ужасном состоянии: худой, страшный. Говорит: “Я никому не нужен!” Я ответила: “Такой – не нужен. Я без мужа одна вас всех на горбу вытащила. И что мне за это? Ты, вместо благодарности, меня в гроб загоняешь?” Через три дня он вернулся домой, сказал: “Пойдем в “Выбор”. Сын провел в Центре два с половиной месяца. Один раз сорвался. Закрылся, не хотел по-настоящему работать, разбираться. Пришел домой – я не впустила. Три дня прошатался, снова пришел: “Я буду делать, как надо!” С тех пор он стал меняться. Я тоже продолжала ходить в Центр, не пропустила ни одного занятия. Как много я в себе открыла, чего даже не предполагала! По сути, я сама посадила сына “на иглу”: подавала, убирала, все делала и решала за него. Да и за всех в семье. Требовала, чтобы поступали только так, как я скажу! Обращалась с ними, как с роботами, как со своей собственностью! Это было жестоко: они росли, как в теплице, ни о чем не заботясь, но платили мне за это полным повиновением! Я была настоящим диктатором, не стеснялась повышать голос, и требовала, чтобы все прислушивались к моему мнению. Мне очень помогла Нелли Дмитриевна. Благодаря ей, я взглянула на себя другими глазами. Да и родители в группе были открыты, говорили искренне, и это тоже помогало переосмыслить многое. Часто в чужих рассказах я узнавала себя, видела, что многие матери совершали похожие ошибки. Мы сотворили из детей идолов и поклонялись им, а взамен требовали полного послушания. Эти ошибки нужно было исправлять! И в то же время я видела опыт, который надо перенимать! Если другим матерям удалось сблизиться со своими сыновьями, значит, и у меня должно получиться! Я поняла и другие свои ошибки. Потеряв мужа, я цеплялась за жизнь из последних сил. О новом замужестве не могло быть и речи: я думала, что отца детям никто не заменит. Позже я поняла: мне хочется, чтобы меня кто-то любил! У меня появился друг. Он оказался внимательным и заботливым, старался помочь мне во всех трудностях. Переживал, когда я связалась с сектантами, просил не делать глупостей. Но я прятала от детей этого человека. А ведь он мог бы помочь и Саше мужским советом, примером. Почему я скрывала от них свою 93 жизнь? Может быть, мне нужно было быть с ними искреннее, тогда и они были бы искреннее со мной? Сейчас Саша сам зарабатывает на жизнь. У него изменился круг знакомых. К нему часто приходят друзья. Раньше мне не нравилось, когда в доме толклись его приятели, сейчас я радуюсь, что они занимаются на компьютере, им интересно. Они ведь имеют право на собственную жизнь, интересы, увлечения! Раньше я часто жила эмоциями, забывая о здравом смысле, теперь – ставлю его во главу угла. Мои отношения с детьми изменились. Мы вместе обсуждаем семейные проблемы, причем каждый имеет право голоса. Если я бываю не права, я не стесняюсь попросить прощения. Прошу, чтобы они сами говорили мне, если чувствуют, что я начинаю снова давить на них. Мы обсуждаем ситуацию, и она меняется. Теперь я счастлива от того, что дети не стремятся уйти из дома – им стало здесь комфортно. Мне досталась трудная жизнь. Может, не будь я жестким человеком, я бы и не выстояла в те годы. Сейчас вижу: эти позиции надо сдавать, они не объединяют, а разрушают. Жизнь постоянно меняется, и, значит, мы должны меняться вместе с ней. Если мой сын стал взрослым человеком, живет своим трудом и ходит трезвым, значит, я не имею права его контролировать, я должна ему доверять. Мы с ним прояснили главное: он должен жить почеловечески. Если вдруг его потянет к наркотикам или алкоголю – он знает, что я его не приму. Сейчас у нас в доме нет алкоголя – мы не создаем соблазнов. И мы ничего не потеряли. Куда лучше в праздник выпить чаю с тортом! Я перестала давить на сына, и он сам стал замечать, что надо сделать. Выяснилось, что у моего сына золотые руки. Он может и раму на окно поставить, и сантехнику починить! Мы вместе делаем ремонт, работаем по дому. Я поняла, что учить детей надо не словами, а собственным примером. Я уже не заставляю сына учиться – пусть решает сам, доходит до всего своим умом. Сейчас для меня главное – не образование, не карьера, а то, чтобы Саша был хорошим человеком. 94 “ПОЧЕМУ МОЙ БРАТ СТАЛ НАРКОМАНОМ?” История Виктории На занятиях женских групп я часто слышала сетования матерей: мол, воспитывали детей совершенно одинаково, а получилось, что один вырос нормальным, а другой – стал наркоманом. Думаю, эти женщины обманывали себя. Моя мама тоже считала, что воспитывала нас с братом одинаково. Но это было далеко не так. Я была старше брата на четыре года, и мне часто приходилось слышать, что я должна “быть умнее”, должна “уступить, потому что он – маленький”, должна помочь маме, потому что я – уже большая. Я помнила, что я “должна”, и старалась – быть умнее, хорошо учиться, делать домашнюю работу. Единственное, что у меня не получалось, – уступать брату и терпеть его выходки. Он очень рано научился хитрить, подличать и жить по принципу: все лучшее – детям. “Дитем”, которому надо отдавать все лучшее, был, естественно, он. Каждый день нам давали деньги на школьные завтраки – по полтиннику мне и брату – и каждый день на перемене он подстерегал меня в коридоре: “Дай десять копеек!” Я возмущалась: нам дают поровну, почему он думает, что должен получать больше, чем я? И хоть я никогда не давала ему денег, он все равно приходил и просил, слишком сильна была уверенность, что ему нельзя отказывать. Ему, и правда, редко отказывали. После школы я не сразу поступила в институт, пошла работать. Всю зарплату отдавала маме. Мне было восемнадцать, я была практически “девушкой на выданье”. Брат учился из рук вон плохо, курил, пробовал вино и водку, постоянно попадал в неприятные истории. А теперь отгадайте, кому из нас раньше купили дефицитные американские джинсы? Не поверите, но… брату. Почему? Он умел добиваться своего, беря маму измором. Просил, не стесняясь. Главным аргументом было: “Ну, знаешь, как мне хочется!” Я была “сознательной”, если мне один раз говорили, что денег нет, я не повторяла просьбу. В те же четырнадцать лет брат получил еще одну дорогостоящую игрушку – мопед. По тем временам это было очень “круто”. За какие заслуги? Просто так, потому что ему “очень хотелось”. Отец, с которым мама разошлась, когда мне было пять лет, а брату – всего год, и снова сошлась через семь лет, наоборот, был склонен к жестокости. Воспитание он представлял себе как ругань и побои. Обычно это происходило, когда он приходил с работы, “приняв на грудь” с друзьями. В таких случаях он вспоминал, что его сын – школьник, брал дневник и планомерно отчитывал за все двойки. Он всегда начинал листать дневник с самого начала, и к концу учебного года за двойки, полученные еще в сентябре, брат успевал получить нагоняй не один десяток раз. Это было любимое и, по-моему, единственное “воспитательное мероприятие” отца. Он никогда не старался поговорить с нами по душам, заняться какимнибудь делом. Совместные прогулки в парке и походы в кино были исключительной редкостью. Вообще, отец был человеком агрессивным и, как мне казалось, несправедливым, и мы облегченно вздохнули, когда мама разошлась с ним снова – на этот раз окончательно. Но за время их брака сочетание баловства со стороны мамы и жестокости со стороны отца успели превратить брата в хитрого и изворотливого эгоиста. Естественно, со временем он все больше наглел, и мама даже иногда начинала возмущаться, однако все равно рано или поздно выполняла все его просьбы. Иногда это доходило до абсурда. Помню, мы переехали на новую квартиру, и пока обустраивались, в его комнате не было ночника. Он читал, лежа в постели, при верхнем свете. Когда ему надоедало читать, он начинал кричать: “Мама! Мама!” Мама бежала из кухни, отрывалась от телевизора или даже поднималась с постели. Выяснялось, что в комнате брата надо выключить свет, а самому ему вставать лень. Мама страшно возмущалась, ругалась, но свет гасила, и на 95 следующий день повторялось то же самое. Потом ей пришлось лечь в больницу, и брат стал звать по вечерам меня. Я долго терпела, но крик не прекращался. Тогда я вошла в комнату и, в ответ на просьбу погасить свет, пригрозила запустить в него чем-нибудь. Больше он меня не звал. Зато когда маму выписали из больницы, все началось снова. Она бегала к нему в комнату, ругалась, но ей ни разу не пришло в голову не выполнить его просьбу: зачем же отказывать, если она все равно уже пришла. Она гасила свет и говорила: “Это в последний раз”. И каждый раз был “последним”. Я никак не могла понять, почему она так поступает: на мой взгляд, все было очень просто. Наглые просьбы надо было игнорировать, за упрямство – наказывать. Мама всегда недовольно отмахивалась, если я позволяла себе сказать ей об этом. Мне кажется, мои слова раздражали ее даже больше, чем наглость сына. Думаю, она и сама понимала, что балует его, но, перенеся в детстве множество лишений, она старалась дать своим детям как можно больше. Наверное, иногда даже больше того, что было достаточно. Я нередко замечала – и не только в своей семье – что родители бывают требовательны к одним детям и слишком снисходительны к другим. Часто, когда мы с братом выясняли отношения (иногда до драки), мама, которую раздражал шум, кричала, что сейчас придет и “накажет обоих, не разбираясь, кто прав, кто виноват”. Эту фразу я слышала и от чужих родителей. И никак не могла понять, почему взрослые люди не дают себе труда разбираться в поступках своих детей. Разве не важно выяснить, что один ребенок нарочно, из вредности, затевает ссору, а другой – только пытается отстоять свои права? И разве не надо наказывать именно обидчика? И за что должно доставаться тому, кто не пожелал допустить, чтобы им помыкали? Разве родители не понимают, что таким образом воспитывают в одном ребенке чувство вседозволенности, а в другом – рабскую покорность? Что же получается: если бессовестный брат желает завладеть чем-то, что принадлежит мне, я должна молча отдать, лишь бы не поднимать шум и не утомлять уставших на работе родителей? Сейчас, когда мне самой приходится зарабатывать на хлеб для всей семьи, я понимаю, что мама действительно страшно уставала на работе и больше всего на свете хотела тишины. И, наверное, ее покой был намного важнее, чем наши выяснения отношений. Но это начинаешь понимать только с годами. А тогда я не могла смириться с тем, что за этот покой должна платить своим унижением. В пятнадцать лет брат попробовал наркотики. Конечно, мы этого не знали. Только видели, что его поведение, мягко говоря, неадекватно. Мама думала, что он выпивал, и постоянно читала нотации. Но никогда не наказывала лишением каких-нибудь удовольствий. Когда, лет в тринадцать, брат начал курить, она стала покупать ему сигареты, “чтобы он не подбирал грязные окурки”. Мне это казалось попустительством. А что будет, если брат захочет пить водку? Покупать ему “чекушки”, чтобы он не допивал за алкоголиками? От меня требовали, чтобы я возвращалась с прогулок “до темноты”, зато брат гулял, сколько хотел. Конечно, ему за это выговаривали, но, думаю, он давно научился пропускать все замечания мимо ушей. Он вообще никогда не обращал внимания на слова. Ему было все равно, как его обзовут, лишь бы дали то, чего ему хочется. Когда он втянулся в наркоманию, мама превратилась в “дойную корову”. С дьявольской изобретательностью он выклянчивал у нее деньги на наркотики под самыми разнообразными предлогами. И снова возмущение чередовалось с руганью и угрозами, и снова он, в конце концов, получал все, что ему нужно. Правда, доведенная настырным выпрашиванием до белого каления, мама иногда швыряла ему деньги прямо в лицо. Наверное, ей казалось, что такое обращение должно его задеть, усовестить. Но брат давно научился не обращать внимания на такие мелочи, как чье-нибудь неудовольствие. Со временем его поведение становилось все более возмутительным. Однажды мы пришли вечером домой и обнаружили там брата и еще какого-то юнца. Они спали непробудным сном, мы еле смогли растолкать их. Комната изобиловала следами “бурной деятельности”: вещи валялись в беспорядке, создавалось впечатление, что здесь резвились “без тормозов”. Больше всего меня возмутило то, что на полу валялись мои пуанты (я немного занималась балетом). Они были вываляны в грязи, и я догадалась, что пьяная компания танцевала в них на улице во время дождя. Я относилась к балетной обуви с особым трепетом: 96 я мечтала стать балериной, но меня не отдали вовремя в балетную школу, когда же я стала заниматься самостоятельно, выяснилось, что у меня случаются судороги, а это – профессиональная непригодность. Я не могла танцевать на сцене, но дома надевала пуанты и делала разминку на станке. Они хранились в открытом отделении тумбочки, потому что мне было приятно все время их видеть. И вот – моя голубая мечта валялась на полу, изгаженная двумя пьяными подростками. Когда я высказалась на эту тему, брат нагло заявил: “Нечего класть их на видном месте! Воображаешь из себя! Тоже мне – балерина!” Он уже давно научился “переводить стрелки”, безошибочно находя мои больные места. И бил без промаха. Он выставлял меня в смешном свете, и выходило, будто это не он – хам и свинья, а я – недостойная уважения “воображала”. Я была возмущена. Мама отреагировала иначе. Она сказала: “Ты бы, и правда, прятала их подальше. Ты же знаешь, какой он”. Я знала, “какой он”, но мне казалось, что хамство брата, посмевшего взять и, в прямом смысле слова, втоптать в грязь мою вещь, заслуживает наказания. И то, что мама тоже сочла более удобным “перевести стрелки”, очень меня задело. Я не хочу сказать, что она хотела быть несправедливой, ей было, действительно, тяжело с двумя детьми и очень не хотелось сознаваться себе самой, что один из них растет бессовестной сволочью. Если признать это – надо что-то делать, а она и так делала слишком много. Когда они разошлись с отцом, она мужественно “тянула” нас одна, и все силы уходили на зарабатывание денег. Она старалась делать для нас все, что могла, и была вправе рассчитывать на благодарность. К сожалению, брату это чувство было недоступно. После восьмого класса брат заявил, что не хочет учиться, и мама устроила его к себе на завод. Когда его решили выгнать за систематические прогулы и появление на рабочем месте в нетрезвом виде, мама через профсоюз добилась восстановления. По законодательству, несовершеннолетнего лоботряса нельзя было выгнать без согласия профсоюзной организации. Брата восстановили, и мама очень гордилась этим своим достижением: она отстояла, защитила своего ребенка! Я видела ситуацию по-другому: наглость снова осталась безнаказанной. Она уже выпирала из брата, не оставляя места человеческим проявлениям. Он стал законченным хамом, мог ворваться в мою комнату в пять утра с криком: “Где утюг? Почему никто не погладил мою рубашку?” Выражение его лица порой делалось зверским: в глазах светилась немотивированная злоба и агрессия. Он был совершенно ненормальным, но мама, как и всегда, обходилась выговорами и никогда не выполнявшимися угрозами – и ничего не предпринимала. Она продолжала надеяться, что рано или поздно брат все поймет. Я устала от такой жизни и уехала в Москву – работать “по лимиту”. Потом поступила в институт. Брат часто “навещал” меня, и каждый его приезд оборачивался массой неудобств: недоразумениями с комендантом общежития, когда он “забывал” вовремя забрать паспорт, порчей брюк, которые он беззастенчиво брал “поносить”, пока я отсутствовала, а самое главное – невесть откуда появлявшейся напряженностью в моих отношениях с друзьями. Позже я поняла, что брат умел ловко “вбивать клинья” между людьми, пересказывая чужие слова в искаженном до неузнаваемости виде. Я не понимала тогда, зачем ему это было нужно. Теперь знаю, что он таким образом компенсировал неуверенность в себе. Мне же эти “финты” порой обходились достаточно дорого. Лет в двадцать пять брат решил жениться. Невесте было семнадцать, она только окончила школу. Она знала, что ее будущий муж принимает наркотики, но, как и все, легкомысленно верила, что это прекратится сразу после свадьбы. Мама тоже на это надеялась: женится – остепенится. У меня не было оптимизма на этот счет, и порой вырывались весьма нелестные замечания относительно брата. Мама обижалась, если я допускала их в присутствии Ани: “Ты испортишь их отношения!” О том, что он немало испортил в моей жизни, мама предпочитала не вспоминать, а меня называла “злопамятной”. Никто не задумывался и о том, было ли такое молчание честным по отношению к семнадцатилетней девочке, собравшейся выйти замуж за наркомана. Разумеется, их “семейная жизнь” не задалась. Работал брат с перерывами, зато кололся – без перебоев. Он выносил из дома деньги, золото, даже детские вещи, отнимал последнее не только у жены, но и у своего ребенка. Аня терпела года три, потом выгнала своего непутевого 97 мужа. Мама очень переживала, чтобы она не подала на алименты, ведь платить брату было не из чего, а за неуплату его могли наказать, и даже – посадить. К тому времени я успела выйти замуж, родить ребенка и развестись, окончить институт и вернуться домой. Брат тоже переехал к маме. Это была не жизнь, а сплошной кошмар. И материальные потери (он вынес из дома всю бытовую технику, хрусталь и золото) казались мелочами по сравнению с тем, что мы чувствовали и переживали. Естественно, он постоянно клянчил деньги, влезал в долги, и его кредиторы приходили требовать уплаты. Однажды они ломились в дверь, когда я была дома с маленькой дочкой. Дверь трещала, мне казалось, она вот-вот сорвется с петель. За ней были два обколотых наркомана. Я стала делать вид, что вызываю милицию (по-настоящему этого сделать не могла, потому что в квартире не было телефона), и они ушли. Когда мама вернулась, я ей все рассказала. Я пробовала внушить ей, что жить вместе с братом – опасно, что мы должны что-то предпринять, обратиться в милицию. Но мама была тверда: “Я не могу сдать в милицию собственного сына!” Я видела другую сторону этой ситуации: пока он на свободе, подвергается опасности моя жизнь и жизнь моего ребенка. Настало время, когда чаша терпения переполнилась. Брат жил за наш счет и при этом постоянно грубил, хамил, сыпал оскорбительными словами. Попытки лечить его у частнопрактикующих наркологов успеха не приносили. Сдать сына в психушку или наркодиспансер маме не позволяли материнские чувства и страх, что его поставят на учет, и он не сможет устроиться на работу. Надо ли говорить, что ни на какую работу он и не собирался устраиваться? Но я не могла пойти против ее воли в том, что касалось ее сына, не могла сделать шаг, который, я знала, сделал бы нас врагами. Уйти из дома я тоже не могла: на отдельную – собственную или съемную – квартиру не было денег. В то время я узнала, что в наркодиспансере есть экспериментальное шестое отделение, где наркоманов не ставят на учет, а лечат методами психотерапии. Я сходила на консультацию, и разговор с психологом очень меня вдохновил. Я нашла подтверждение всем своим мыслям: брат – бессовестный захребетник, готовый пожертвовать близкими людьми за дозу “ширки”, и к нему надо применять самые строгие меры. Вечером я изложила все это маме, а потом заявила брату, что собираюсь отправить его в ЛТП. Социальный работник Саша рассказал мне, как родители упекли его туда с помощью милиции и районного нарколога. На лице брата отразился страх. Он понял, что это, действительно, возможно. Но выход был найден. Через полчаса он вышел из своей комнаты и засобирался на улицу. Мама сказала: “Ты куда? Опять искать приключения? Видно, и впрямь, придется отправлять тебя в ЛТП”. Однако брат уже “собрался с мыслями”: “В ЛТП я не поеду! Лучше я вскрою себе вены!” Это возымело эффект: мама застыла, не донеся чашку до рта. Брат понял, что победил. Я пыталась убедить ее, что он – трус, и никогда не поднимет руку на себя, любимого, скорее нас всех продаст с потрохами за кубик “кайфа”, но мама была не просто напугана – она была в панике. Уложить брата в экспериментальное отделение оказалось весьма проблематично. Туда брали только тех, кто, действительно, имел желание менять жизнь, а он хотел только одного – сидеть у нас на шее и колоться. Я стала ходить на родительские занятия, чтобы иметь хоть какую-то отдушину. Только здесь вещи назывались своими именами, только здесь были люди, у которых можно было поучиться. И только здесь я поняла главное: брату нужно “создать мотивацию” – сделать так, чтобы он не просто захотел – бегом побежал лечиться. С мамой я “работала” очень долго: пересказывала, о чем говорили на группах, рассказывала об опыте других родителей. Я старалась внушить ей мысль, что мы можем изменить ситуацию, только надо покрепче “закрутить гайки”. Мы перестали давать ему деньги, перестали с ним разговаривать. Оказалось, потребность в общении у него осталась. Иногда он спрашивал меня: “Почему ты со мной не разговариваешь? Я что, сейчас делаю что-нибудь плохое?” Я говорила: “Наркоман – аппарат для переваривания “ширки”. Мне это неинтересно. Вот на плите стоит чайник. Он вообще не сделал мне ничего плохого. Не думаешь же ты, что стану с ним разговаривать?” Правда, гораздо чаще брат был настроен не так миролюбиво. Обычно он был злым и агрессивным. И хамил, несмотря на то, что по-прежнему жил за наш счет. Я давно понимала, что “халяву” пора прекратить, но все рука не поднималась забрать у него кусок хлеба. Как ни 98 странно, он сам “помог” мне это сделать. Однажды, по своему обыкновению, вернувшись домой вечером и на взводе, он стал заваривать чай, и при этом (пьяному море по колено) пытался осыпать меня насмешками и упреками. Глупо было кусать кормящую руку, но я давно поняла, что у наркоманов большие проблемы с мыслительным процессом. Когда, в ответ на его приставания к маме, я сделала резкое замечание, брат сказал: “Ты накрутила бигуди? Сиди – сопи в две дырки!” Это был его излюбленный прием: попытаться выставить меня в смешном свете. Женщина в бигуди, действительно, выглядит комично, и он понимал, что я в таком виде не могу чувствовать себя уверенно. Но я уже была готова отразить его атаку. Я молча взяла у него из рук заварочный чайник, сахарницу и хлеб, отнесла в свою комнату и сказала: “Сопи ты”. Он понял свою ошибку, но было поздно. Мы перестали его кормить. Настал день, когда он согласился, под нашим давлением, лечь в отделение. Но утром, в последний момент, уже когда мы шли к троллейбусной остановке, вдруг сказал: “Ты иди, я потом приеду. Мне надо зайти в одно место”. Я сразу поняла, что это за место. И как-то почувствовала, что если сейчас отпущу его – он никуда не поедет, все пойдет прахом. Я догнала его и сказала, что пойду с ним. Буду ходить, пока не выясню адреса всех его притонов, а потом напишу на них заявление в милицию, причем скажу, что он сам их “сдал”. Я излагала это в грубо-просторечных и “эмоционально окрашенных” выражениях, а главное – была действительно очень зла, и действительно собиралась исполнить свое намерение. Брат почувствовал, что я не просто пугаю его, и поехал в отделение. Когда он лежал в стационаре, мама сходила на родительские занятия всего пару раз. Она не считала, что ей надо “лечиться”, не хотела вести откровенные беседы, сказала: “Ходи ты, а мне будешь рассказывать”. Мама никогда не соглашалась с мыслью, что брат стал наркоманом, потому что она что-то делала “не так”. Она говорила: “Я воспитывала вас правильно, всегда говорила только хорошее. Почему он стал наркоманом? Я не знаю. Пусть его лечат, а мне это не нужно”. В известном смысле она была права: она действительно всю жизнь “говорила только хорошее”. К сожалению, этого оказалось недостаточно. После лечения у доктора Сауты брат надолго бросил наркотики. Выписавшись из шестого отделения, он уехал в монастырь и прожил там трудником два года. Как выяснилось позже, его отношение к жизни мало изменилось: из монастыря его выгнали за пьянку. После возвращения он долго держался, потом сорвался. Я снова пыталась отвести его в отделение, но мама, по-прежнему, не хотела ходить на занятия с психологом. Мне казалось, что за время отсутствия брата она успела расслабиться и забыть, что “работа” с наркоманом требует изменения собственного поведения. Зато я хорошо помнила уроки доктора Сауты и Нелли Дмитриевны. Когда поведение брата стало “зашкаливать”, я обратилась к знакомому из милиции. Он занимал очень высокий пост, мой брат явно не заслуживал, чтобы им занимались такие люди, и все же эта честь была ему оказана. Мне пришлось признаться в собственном семейном неблагополучии, но я была вознаграждена: брата вызвали в милицию и объяснили, что почем. Наркоманы – трусы, и мой брат не был исключением. Мне удалось поставить его в определенные рамки. Я сняла ему квартиру, разумеется, на свои деньги, но в руки не давала ни копейки и потребовала, чтобы он не смел появляться у нас. Мама ездила к нему раз в неделю – возила продукты, купленные на его пенсию (к тому времени он повредил руку и стал инвалидом). Мера была напрасной: он продавал эти продукты за полцены и все равно покупал наркотики. Однажды, во время очередного “визита”, мама позвонила мне на работу. Оказалось, у брата высокая температура, ему очень плохо, и мама хотела выяснить, какие антибиотики ему лучше купить. Я удивилась: “Разве я врач? Откуда я могу знать, что ему нужно? Он, скорее всего, занес себе грязь с уколом! Его надо срочно отправить в больницу!” Мама стояла на своем: “Там поймут, что он – наркоман, поставят на учет! Я буду лечить его сама!” Я пыталась переубедить ее, но только спровоцировала обиду: “Ты не хочешь мне помочь!” В больницу брата все равно забрали: через два дня соседи обнаружили его лежащим в коридоре без сознания. Возможно, у него была передозировка, сепсис и еще травма головы (падая, он ударился), врачи поставили диагноз: энцефалопатия сложного генеза. Наверное, у 99 него был и инсульт: две недели он лежал в реанимации без движения, не мог не только пошевелиться, даже вымолвить слово. Я оплатила курс интенсивной терапии, и его кое-как поставили на ноги. Не скрою, когда я смотрела на это беспомощное тело, меня не оставляла жуткая мысль: лучше бы он закололся насмерть! Я – православная христианка, и мне не подобает так думать, но эта мысль все равно крутилась в голове, как я от нее не отмахивалась. Я знала, что лечу брата на свою же голову, что, если он поправится, его “благодарность” будет такой же, как всегда. Но, глядя на него, я вспоминала маленького мальчика, который не родился наркоманом, и в котором тоже когда-то жили добрые чувства. Однажды он полез в покрытую мелким льдом воду котлована, чтобы вытащить кошку, которую бросили туда хулиганы. Это произошло на наших глазах, когда мы возвращались из школы. Я держала его за руку, а он вошел по пояс в ледяную воду и достал несчастное животное. Мы принесли кошку домой, она жалобно кричала, и отец, с которым мама тогда еще не разошлась, потребовал, чтобы мы немедленно ее убрали. Пришлось отнести кошку к гаражам. Мы закутали ее, как могли, но она все равно умерла – замерзла, мы увидели это, когда пошли кормить ее утром. Каждый раз, вспоминая этот случай, я думала: если бы отец тогда пожертвовал одной бессонной ночью и вместе с нами постарался вылечить бедную кошку, может быть, его сын осознал бы, как важно заботиться о других, даже если это – бессловесные твари? Может, тогда он не стал бы наркоманом? Если бы отец, который каждую неделю ездил с друзьями на рыбалку, не отговаривался от своего сына тем, что “в машине нет места”, а брал бы его с собой, пусть на автобусе, может быть, мой брат не шлялся бы все выходные по подворотням? Может, он не стал бы наркоманом? Ответов на эти вопросы я не знаю, но думаю, что тогда в котлован за кошкой лез добрый и сострадательный мальчик, который мог вырасти в настоящего мужчину. Почему получилось совсем иначе? Сейчас мой брат – инвалид. Он не колется, потому что физически, по слабости, не способен существовать в “системе”: речь его восстановилась не полностью, он плохо ходит, походка шаткая, на поворотах – сильно заносит. Иногда он падает и не может встать без посторонней помощи. Он долго лежал в больнице, но мама решила забрать его: “Как это – чтобы при живой матери сын находился в психушке?” С тех пор ее жизнь снова превратилась в тихий кошмар. Брат опустился. Он не моет руки, постоянно чешется, может помочиться в раковину вместо унитаза, может вытереться чужим полотенцем, использовать чужую зубную щетку. Иногда он просит, чтобы ему дали выпить. Тормозов, по-прежнему, нет. Единственный принцип – чтобы ему было удобно. Наверное, жить с таким человеком может только мать. Поэтому мы с дочерью снимаем квартиру – лучше чужое жилье, но без психически больного наркомана. Мама говорит, что сын – “ее крест”. Она смирилась с этим и находит утешение в том, что может заботиться о нем. У нее очень развито материнское чувство, потребность опекать кого-нибудь. Она вообще никогда не жила “для себя”. Забота о брате дает ей какой-то психологический выигрыш: она чувствует себя нужной, это какой-то искусственно созданный суррогат смысла жизни. Она всегда стремилась опекать нас, даже когда мы стали взрослыми. Я противилась этому. А брат в его теперешнем состоянии, совершенно очевидно, нуждается в опеке. Мне кажется, такие отношения хоть как-то примиряют маму с действительностью. Но я не могу не испытывать чувства неудовлетворенности. Я, разумеется, по-своему тоже очень несовершенный человек, и на собственном опыте знаю, как тяжело менять привычное поведение, даже когда понимаешь, что это необходимо. Но, видимо, другого пути нет. Я думаю, если бы мама научилась смотреть на брата не как на собственного сына, а как на взрослого человека, у которого есть не только права, но и обязанности, она смогла бы добиться, чтобы он изменился. К сожалению, все сложилось иначе. Думаю, это не ее вина, а, скорее, трагическое непонимание. Но я не могу избавиться от чувства жалости, что у нас не получилось то, что смогли сделать другие родители. 100 “ПУСТЬ НАШ ОПЫТ ПОМОЖЕТ ДРУГИМ” История Владимира, НиколаЯ ГригорьевиЧа и Екатерины Петровны “Я ХОЧУ КАЖДУЮ МИНУТУ ЖИТЬ С ПОЛЬЗОЙ” Владимир В детстве отец часто говорил мне: “Я совершил в жизни много ошибок, не хочу, чтобы ты их повторял”. Родители делали за меня все: готовили, убирали, принимали решения. Именно за ними оставалось последнее слово, что мне делать – учиться в старших классах или идти в техникум. Чего хотелось мне самому, я не знал. Хотелось “помогать тем, кто отдыхает”. Наркотики я попробовал с подачи друга, который пристрастился к ним в армии. Он говорил: “Водка – свинское дело: голова с утра болит, да и алкоголики – все синюшные, вечно валяются под заборами. А наркотики – это благородно и без последствий”. Колоться в первый раз было немного страшно, да и плохо было после первого укола, но лиха беда – начало… На эпизодических приемах я протянул шесть лет. Это очень много, обычно в “систему” попадают намного раньше. Но все “упущенное” я успешно наверстал за два последующие года. Мне казалось, что люди относятся ко мне не так, как я заслуживаю. Родители меня не понимают, на работе постоянно недооценивают. Я – такой хороший, меня на руках надо носить, но никто почему-то не торопился это делать. И достоинств моих в упор не видели. По моим представлениям, я должен был работать, как минимум, заместителем директора, но такую должность мне никто не предлагал. И я менял место работы каждые три-четыре месяца: везде что-то не устраивало – или зарплата, или отношение. В двадцать пять лет я женился. Пора было, вот и женился. Что такое семья – не понимал. У жены были какие-то претензии, требования, но я их игнорировал, да и дома старался бывать как можно реже, все гулял с товарищами. Родители купили нам квартиру, потом родился ребенок. Это не очень на меня повлияло. Я занимался с ним, только когда жена наступала на глотку: погуляй с малышом, у меня много дел. Мне и гулять с ребенком было уже трудно. Ни на что сил не хватало. Помню, утром смотрел в окно на людей, которые шли на работу: и непонятно, и завидно – они могут, а я не могу! Как-то заболел – мать отвела меня в поликлинику. Там мерили давление, обнаружили следы уколов. Родители сначала не хотели верить. Потом стали допытываться. Я отвечал то, что от меня хотели слышать: я не виноват, это жизнь такая, я больше не буду. Родители нашли “кудесника”-кодировщика. Он “лечил” амбулаторно: иглоукалывание, капельницы, гипноз, куча снотворных. Заведение у него было веселенькое. Когда он меня “кодировал”, я еле удерживался от смеха! “Пшикнул” мне в рот чем-то горьким, выключил свет, сделал вид, что втыкает в голову иголку, и все время бубнил что-то непонятное… Колоться я пошел сразу после этой “процедуры”. Родители уговаривали и пугали меня, но финансировать не прекращали. Конечно, я не брал у них деньги “на наркотики”, всегда врал что-нибудь, более или менее правдоподобное, и они всегда давали. Почти каждый день побирался, и все равно не хватало. Денег у меня не было, кредиторы требовали возврата долгов, семью кормили родители. Я попал в зависимость от многих людей, которым был должен. Жить становилось все труднее. Вскоре уже не только сил – и желания жить не оставалось. Я впал в глубокую депрессию. Ходишь по кругу. Зачем? Все казалось бессмысленным. Я не особенно задумывался о том, что могу чем-нибудь заразиться или попасть в тюрьму, но ноша этой жизни становилась мне не по силам, а другой я не знал… Стали появляться мысли, что без меня всем будет только лучше. Я даже делал попытки покончить с собой. Однажды, когда меня в очередной раз выгнали с работы, приехал домой, зашел в гараж и завел машину. Хотел угореть. Но жена видела, что я в невменяемом состоянии, позвонила отцу. Он приехал, откачал. 101 Родители предприняли попытку лечить меня в токсикологическом центре. Не помню, какими средствами там проводили “детоксикацию”, только мне казалось, что я провел там три-четыре дня, а оказалось – целых две недели. Целые куски выпали из памяти. Наступил момент, когда я просто решил заколоться. Уже ни во что не верил, хотел ли лечиться – даже не помню. Вообще, я тогда уже мало что соображал и ни о чем не думал. Пошел вразнос. Родным постоянно устраивал “фейерверки”. Они продолжали искать, куда определить меня на лечение. Прочитали статью в газете о Центре “Выбор”, отвели туда. В “Выборе” я разговаривал с двумя инструкторами-терапевтами из числа бывших пациентов. Посмотрел на них: что делают здесь эти “качки”? Спортивные, упитанные – они и на наркоманов не были похожи. А вот я на них впечатления не произвел. Осознанного желания лечиться не было. Да и возраст был критический – тридцать лет: многое в характере устоялось, трудно поддавалось изменению. Родителям посоветовали для начала положить меня в обычное отделение областного наркодиспансера. Поехали туда. Разговаривали с каким-то врачом. Он посмотрел на меня и стал говорить. Нарисовал мой портрет: паразит, который живет за счет близких людей. Портрет был узнаваемым, даже я с ним внутренне согласился. Нас направили в хозрасчетное отделение. Там сразу бросились в глаза заборы и решетки на окнах. Неуютно мне стало. И решил я попробовать еще раз поехать в “Выбор”. Какой-то период родители готовили меня к этому. Дали мне книгу “Возвращенные из небытия”. Я читал истории людей, которые смогли бросить наркотики, и – верил и не верил. Верить хотелось, но весь мой горький опыт говорил, что избавиться от наркомании нельзя. Может, и в Центр снова поехал, чтобы увидеть тех, кому это удалось. Первые дни я помню плохо. Каждое утро ко мне заходил кто-то из инструкторовтерапевтов, спрашивал: ”Как дела?” Начались групповые занятия. Слушал истории бывших пациентов и думал: все это очень хорошо, только не может этого быть! Как-то вошел в столовую, а там сидит доктор Саута. Он начал со мной говорить. Не помню всего, только в конце спросил: “Ты не хочешь ничего понимать или действительно не можешь? Может, у тебя были травмы головы?” Ребята ему вторили: “Не хочет работать на группах, надо выгонять!” Почему-то я испугался. Сам не понимаю, почему. Потом до меня дошло, что они нарочно устроили мне “шоковую терапию” – встряску, чтобы заставить работать мозги. Потому что работать головой я, и впрямь, не хотел, стоял на том, к чему привык. Я стал задумываться. Это было страшно. Плохо становилось от этих мыслей. Потому что я начал понимать: все надо начинать сначала, всему переучиваться, все делать заново – всю жизнь переделывать. Мне тридцать лет, а их как бы не было, надо начинать с нуля. Сколько сил понадобится и сколько времени пройдет, пока родители отойдут, и я отойду. И все это надо выдержать и не сделать ошибок! А как их избежать? Вернусь – встречу “кентов”. Сосед торгует “ширкой”. Что я буду делать? Мне говорили: “Ты должен решить для себя, сделать выбор: колоться или нет”. Я не понимал: какой выбор, если вот он идет мне навстречу с “ширкой” – разве его обойдешь? Да тут надо менять район, а лучше – город, страну, планету!.. Но постепенно начинало приходить понимание. Его было трудно выразить словами, но с душой что-то происходило, она менялась. Леонида Александровича я побаивался, я еще не чувствовал себя с ним уверенно, но много разговаривал с ребятами-инструкторами, особенно с Кариной. Она всегда слушала с участием, и ей легко было рассказывать. Впервые в жизни я искренне говорил о себе. Может, я ждал совета, как поступать, желая таким образом снова переложить ответственность за свою жизнь на чужие плечи? Советов в Центре не давали. Выбор оставался за мной. Наверное, мне помогло понимание, что дальше я так жить не смогу, надо цепляться за что угодно, за кого угодно, лишь бы выкарабкаться. Прошло два месяца, но возвращаться домой не хотелось: было страшно вновь окунуться в старую среду. Я решил остаться в Центре. Здесь нужно было закончить ремонт, а я много чего умею делать руками. Главное – что в “Выборе” у меня получалось жить 102 нормальной жизнью, потому что здесь все так жили, и рядом с ними можно было жить почеловечески. Характеры у пациентов были разные. Попадались и отчаянные скандалисты. Сначала я недоумевал: почему их держат в Центре? Потом понял: здесь – теплица, и в ней надо научиться общаться и находить общий язык с разными людьми. Первое время я делал немало ошибок: вступал в конфликты, в которые можно было не вступать, порывался поучать новичков (это был соблазн, ведь я уже стоял выше, чем они). Потом приходило понимание, что это неправильно – ставить другого человека ниже себя. Я еще долго не знал, как надо жить по-новому. Зато я точно знал, как нельзя жить. И я отталкивался от обратного. Я знал, что, если не справлюсь с этим сейчас, позже не смогу тем более. Я старался заполнить свою жизнь новыми делами. Раньше она вся уходила на поиски наркотиков. Теперь мне хотелось самому себе доказать, что я умею работать. И чем больше я делал, тем больше мне удавалось. Я понял, что нельзя сидеть без дела. Как только начинаешь “коротать время”, тут и появляются водка и наркотики. Прошло три года. Сейчас я работаю на большом предприятии, где у меня есть свой участок работы. Я – “винтик” в большом механизме, но без этого винтика весь механизм не будет функционировать. Правда, мне этого мало. Я чувствую потребность постоянно стремиться к чему-то большему, постоянно совершенствоваться. Мне хочется научиться делать что-то, чего не умеет делать никто, или делать так, как не умеет никто. Я понял, что нельзя хвататься за все на свете, надо заниматься одним делом, но всерьез. Мне важно быть независимым и самостоятельным. И еще хочется многое понять в жизни. Она очень запутанная и сложная. И нужно постоянно идти вперед, не останавливаться, не топтаться на месте. Я должен чувствовать, что нужен кому-то. В первую очередь, близким. Но лучше, чтобы я был нужен как можно большему числу людей. Я хочу каждую минуту жизни проводить с пользой, лучше узнать и самого себя, и других людей. Но, может быть, главное в своей жизни я уже постиг. Я понял, что значит – сделать выбор. Если не хочешь толстеть – не ешь булочки. Не хочешь быть наркоманом – не принимай наркотики. Иначе никакой доктор тебе не поможет. “РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ” Николай Григорьевич и Екатерина Петровна НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ: Володя у нас – поздний ребенок. Он моложе своего старшего брата на девять лет. Не скажу, чтобы мы его баловали, хоть и любили очень. Случилось, что в трехлетнем возрасте отвезли на месяц к бабушке, а сами уехали. Он переволновался и стал заикаться. Мы очень переживали. Помню, поехал я в командировку, привез ему оттуда велосипед, он радуется, а сказать ничего не может – сплошные заикания. Смотреть на это – сердце кровью обливалось. Врачи советовали быть с ним помягче, не ругать, не наказывать. Наверное, это в нас укоренилось… ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА: Мы его опекали. Сын шустрый был, подвижный, все время носился, не мог усидеть на месте: и травмы были, и сотрясение мозга. Любил пошалить, вел себя, как задира. А мы многое запрещали: не делай, нельзя, нехорошо! Зажимали в тесные рамки. НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ: В школе Володя был строптивым. Учиться не хотел. Поступил в техникум, потом пошел в армию. Распределили его в стройбат, но мы приложили усилия – и сын пошел в войска ПВО. После армии он женился, устроился на работу. Потом заметили в нем изменения. Ничего конкретного, просто появилось какое-то смутное предчувствие: что-то неладно. ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА: Это случилось не сразу. Долгое время сын кололся, но денег и вещей из дома не брал. Но бывали странные поступки. Как-то он дал покататься на чужой машине наркоману. Тот ее разбил так, что и отремонтировать было нельзя. Расплачивались, конечно, мы. Стали допытываться: почему дружит с наркоманами? Что у них общего? Ответа вразумительного не получили, но и выводов не сделали. Потом стал брать у нас деньги под разными предлогами. Мы верили – давали. Пока в поликлинике врач не открыл нам страшную истину: Володя колется. Он оправдывался: “Я это делаю пару раз в месяц”. 103 Потом жена пришла – рассказала, что он уже полгода колется прямо на дому. Мы возмутились: “Почему раньше не говорила?” Она ответила, что он не разрешал. НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ: Мы и сами уже замечали: глаза у него какие-то странные. Потом его выгнали с работы за уколы. Он говорил: “Меня оклеветали перед начальником!” Обещал, что все бросит, но мы видели: он без дозы уже не может. Стали лечить: сначала – кодированием, потом – в Центре токсикологии. Результата не было. Спал там все время, а когда проснулся, попросил: “Я умираю, кончаюсь, свози меня последний раз уколоться, потом – обещаю! – брошу!” Я забрал его домой, он сходил куда-то и укололся. Снова все началось. Пришлось забрать у него ключи от машины и гаража. Потом мы нашли статью о Центре “Выбор”, повезли сына туда. Там нас спрашивают: “А что вы сделали, чтобы заставить его лечиться?” ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА: Сергей Викторович говорил: “Он вам все время только обещания давал! Почему вы верили, ведь он ни разу их не исполнил?” Я говорю: “Мы думали: он хотел лечиться, но его засасывало”. Доктор отвечает: “Это вы говорите, что он хочет лечиться, а сам он молчит!” Мы прочитали книгу “Возвращенные из небытия” – стало страшно: мы делаем что-то не то. НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ: Когда Володю приняли в Центр, мы стали ходить на родительские группы. Сначала плакали, каялись, как и другие родители: виноваты, не доглядели! Нелли Дмитриевна объясняла нам, что это не вина – ведь мы не хотели, чтобы сын стал наркоманом, и поэтому не должны брать его грехи на себя! ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА: Сначала ошибок много делали. Он уже лечился, у него чтото получалось, а мы продолжали его опекать. Не успел сказать, что начал играть в футбол – тащим ему сразу две пары кроссовок. Володя их вернул: “Я не успел попросить, а вы уже принесли! Не бегите впереди паровоза!” Все время одергивал нас: “Я буду сам стирать, убирать! Сколько вы будете переставлять мне ноги? Перестаньте меня опекать!” Его поведение менялось, мы за ним не успевали. Правда, муж раньше меня все понял. Он и прежде настаивал на том, чтобы лечить Володю. А я – чуть что – ударялась в слезы, в истерику: как это отдать сына в наркодиспансер! И в “Выборе” я очень переживала: что будет после лечения? НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ: В Центре мы многое поняли. Родительских групповых занятий стали ждать с нетерпением. Все время открывалось что-то новое. Я понял, что мы во многом потакали сыну, не наказывали за проступки, только уговаривали. Как можно не дать ребенку поесть? Да у меня тогда у самого кусок в горле застрянет! А Володя просто пользовался нашей добротой и ничего не менял. А ведь у него были хорошие задатки: он – работящий, мастеровой, не лентяй, просто не любил однообразной работы. Надо было помочь ему найти дело, которое пришлось бы ему по душе. ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА: Я слушала других родителей и думала: как это выгнать сына из дома? Но многие родители так и делали, и их дети быстрее захотели лечиться. НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ: Я считаю, что если родители будут активно работать на группах, это девяносто процентов успеха. Мать и отец должны говорить и думать на одном языке и действовать в полном согласии. Нелли Дмитриевна нас этому научила. Несколько раз с нами занимался и доктор Саута, можно сказать, просто “вправлял нам мозги”. Мы старались впитывать каждое слово – как губка. Многое сначала шокировало, еще дома “переваривали” все, раскладывали по полочкам. ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА: Мы ни одного занятия не пропустили! Володя тоже чувствовал, что только в Центре ему могут помочь. Даже когда жил дома, часто ходил в “Выбор”. Говорил: “Я не могу тебе этого объяснить, мама, меня лучше поймет Карина!” Я поняла, что родителям нельзя вариться в собственном соку, надо действовать, искать выход, добиваться, чтобы ребенок лечился! Если бы мы знали это раньше! Если бы эти группы провели с нами, когда Володя учился в школе! Скольких ошибок мы бы избежали! Нам всем нужен педагогический ликбез! НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ: Другие родители стали нам как родня! Нас научили, что мы всегда должны поддерживать друг друга, вместе бороться, преследовать одну цель, только тогда получится! Нельзя скрывать друг от друга ничего! 104 ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА: Мы бы хотели, чтобы все родители, у которых случилось горе, поверили в то, что они могут помочь своим детям! Наш опыт свидетельствует об этом! “НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ” История Владимира и Светланы Григорьевны “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Владимир Почему-то у меня была трудная детская жизнь. Не хотелось и плохо получалось учиться. Я был далеко не глупее всех, но учился хуже многих. Это угнетало. И в школе, и дома я конфликтовал с людьми. Не знаю, почему я был таким конфликтным. Сейчас мне удалось это изменить, и доискиваться причин просто нет смысла. Помню только, что жизнь не доставляла мне удовольствия. Как изменить ее, я не знал, и старался уйти от неприятностей в вымышленный мир. Я приходил из школы домой, ложился спать и радовался, что могу на время убежать от реальности. Может, по этой же причине мне нравились книги. Я много читал, и с особенным удовольствием – приключенческую литературу. Там была совсем другая, интересная жизнь. Я всеми способами старался уйти от реальности, но тогда еще не знал, что состояние можно менять химическим путем. Это пришло с людьми. Когда мы переехали на новую квартиру, я стал общаться с ребятами постарше. Их разговоры были исполнены многозначительной таинственности. Они произносили названия каких-то препаратов. Я стал с интересом изучать содержимое домашней аптечки. Я еще не принимал наркотики, но, думаю, уже тогда был “готовым” наркоманом. Когда мне впервые предложили покурить “траву”, не возникло даже сомнений, стоит ли это делать. Так я нашел другую реальность, которая тоже не совсем меня устраивала, но была все же лучше той, что меня окружала. Я бросился в этот водоворот с головой, ничуть не жалея, что становлюсь наркоманом. В девятом классе мои товарищи поступили в техникумы и ПТУ и стали колоться. Мне не нравилось созерцать их состояние. Куря “траву”, я просто становился веселым, много смеялся. А они засыпали на ходу и были похожи не на людей, а на животных. Они предлагали мне попробовать, но я отказывался: “Я уже выбрал свой наркотик!” Но тут во мне начало шевелиться любопытство: я же этого не пробовал, не знаю, что это такое! Я сам пришел к ним и подставил руку. Следующие полтора года помню смутно. Все расплывается в памяти. Проблем с наркотиками у меня не было, родители не хотели видеть, что я – наркоман, никто не мешал мне ездить в деревню и добывать мак. Но лет в семнадцать мне вдруг надоело это. Я почувствовал, что не хочу этим заниматься. Моими приятелями стали уголовники, поговорить было не с кем. Оказалось, что меня окружает совсем не тот мир, который я искал. Попробовал бросить наркотики, но уже на следующий день на меня навалилась жуткая тоска. Реальность обрушилась мне на голову и стала давить. Это было ужасно, ведь я уже привык жить во сне. Не помню, на сколько меня хватило. Я снова стал принимать наркотики, хотя с тех пор постоянно стремился их бросить. Я словно бился головой о стену. Я уже понимал, куда попал, что за люди меня окружают, чего стоят их слова и их “дружба”. Они были лживы насквозь, а я все-таки подсознательно искал друзей. Сначала я пытался вести себя с ними честно, потом увидел, что здесь никто не придерживается приличий: никто ни с кем не делится, сдают друг друга при первой возможности. И главное – я сам становился таким же. Скорее всего, именно это побуждало меня освободиться от зависимости. Я много раз “спрыгивал” сам и научился переживать абстинентный синдром – он ненамного страшнее жизни. Но ужас был в том, что среди нормальных людей я чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег: не знал, как себя вести, о чем говорить. Однажды я не принимал наркотики почти пять месяцев. И все это время молчал, целыми днями смотрел телевизор. У меня все чаще появлялась мысль, что это – конец. Я возвращался в мир наркоманов, потому что там все было знакомо и привычно: найти деньги, уколоться и отключиться. А в 105 мире людей я чувствовал себя совершенно одиноким. Я был настолько замкнут и перепуган, что даже не было сил поддерживать разговор. Только после укола я мог общаться, хоть и находился, как правило, в невменяемом состоянии. Был момент, когда я подумал, что надо искать другой наркотик. Может, мне так плохо только от опия? Я стал принимать перветин (?), или, как его называют наркоманы, “винт”. Сначала показалось, что это совсем другое состояние, и люди здесь совсем другие. Но вскоре понял: это еще хуже. Я уже не мог жить дома: не спал ночами, шумел, всем мешал. И я стал жить с такими, как я: слонялся по чужим квартирам и подъездам. Начались проблемы с милицией. Меня часто останавливали, обыскивали, иногда били. Мой вид уже выдавал меня: они издалека видели, что идет наркоман. В одной из квартир при мне чуть не убили человека. Двое наркоманов выясняли отношения: один “кинул” другого. Если бы “пострадавшего” не удерживали, он обязательно ударил бы своего обидчика ножом. Это было страшно, и – совсем не мое! Порой я возвращался домой, чтобы отоспаться и отъесться. Пытался бросить наркотики и снова начинал колоться. Я вообще никогда не прекращал попыток избавиться от этого, я чувствовал, что все может быть по-другому. Но чем дальше, тем меньше верилось в возможность перемен. Однажды, когда нас с товарищем выгнали из очередной квартиры, я сказал: “Скорей бы мы уже умерли!” Он согласился: “Сколько можно так мучиться, скитаться по улицам и подъездам!” Ужасно, но он, действительно, вскоре умер. Как я завидовал людям, которые спокойно живут, прилично выглядят, нормально общаются друг с другом! Но эти люди тогда уже просто шарахались от меня. Сигареты старались дать так, чтобы не прикоснуться. Мама при виде меня переходила на другую сторону улицы. Мне было противно жить, и я пытался заколоться, чтобы умереть от передозировки. Родители пытались лечить меня. Раз пять я лежал в психиатрической больнице. Наркоманы обычно делают это, чтобы сбить дозу и получить таблетки, а иногда еще – и просто для того, чтобы ночью была крыша над головой. Я ложился, когда меня пугали принудительным лечением. Я зависел от родителей – брал дома продукты. И поэтому должен был выполнять хоть какие-то их требования. Они долго терпели мои выходки, запугивали, уговаривали, но не торопились исполнять угрозы. Потом настал момент, когда я их довел. Мной занялась милиция. Куда бы я ни пошел, меня останавливали милиционеры, долго держали рядом с собой. Товарищи косились: что я делаю рядом с милицией? Кончилось тем, что меня освидетельствовали в наркодиспансере и повезли в суд. По решению суда я попал в закрытое отделение для принудительного лечения. Это было уже не то заведение для привилегированных клиентов, где с пациентами носятся за деньги их родителей. Здесь наркоманов уравнивали с сумасшедшими, считали по головам, стригли ногти в строго отведенное время: ножниц в руки не давали. В палатах всю ночь горел свет, многие были привязаны к кроватям, ходили под себя. Обозленный персонал, получающий за свою тяжелую работу копейки, не упускал случая сорвать зло на больных. Когда я увидел, где мне предстояло провести полгода, я был в шоке. Без наркотиков мне и дома было плохо, а в таком месте – просто невыносимо. Не знаю, как описать это словами! Даже в подвалах жить было намного лучше! На ночь мне кололи нейролептики, чтобы вел себя тихо. Как я мечтал выйти оттуда и уколоться до невменяемости! За две недели до окончания срока родители решили взять меня на дачу. Я сбежал оттуда на велосипеде. Сначала думал, что колоться не буду, просто “прогуляюсь”. Стал навещать знакомых наркоманов. В одном доме два дня упивались до поросячьего визга, потом пришли старые приятели с кулечком: “Ну, что: сделаем что-нибудь?” Три дня я ходил по городу, прятался от родителей. Показалось, что мне еще хуже, чем в больнице. Я не умел пользоваться свободой, она всегда обращалась мне во вред. Возвращаясь в больницу, я уговорил маму дать мне с собой бутылку водки: это же не наркотик, я должен принести хоть что-нибудь. 106 В отделении мы выпили и устроили дебош. Захотелось на улицу – стали бить стекла, швырять столы и стулья. Я ударил женщину – дежурного врача, хотел отнять у нее ключи. Угомонил нас все тот же участковый с пистолетом. Меня забрали в отделение, объяснили, что, если пострадавшая напишет заявление, мне грозит три года тюрьмы, если нет – год условно. Я не очень испугался, думал, отец этого не допустит. Меня вернули в больницу и стали закалывать нейролептиками. Иногда я терял от них сознание. Потом сообщили решение суда: продлить срок принудительного лечения еще на полгода. Это был страшный удар! Именно тогда у меня появилась мысль: дальше так продолжаться не может! Но и на воле меня не ожидало ничего хорошего. Снова бесконечные походы по улицам? Вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль: может, мне вообще не выходить из больницы? Пройдет время, меня перестанут колоть, как-нибудь все образуется… Я понимал, что моя жизнь подошла к какой-то черте, за которой – неизвестно, что со мной будет. Я знал, что, в любом случае, умру, и хотел только одного: поменьше мучиться. Родители рассказали мне о Днепропетровском Центре “Выбор”, о докторе Сауте. Я видел по их глазам: там что-то новое, другое, не то, что везде. И все равно я не верил, что можно избавиться от зависимости. Я не видел людей, которые бросили бы наркотики. Все умирали, никто не бросал. Родители обещали забрать меня на два месяца раньше, и я согласился ехать в Днепропетровск, а сам думал только о том, чтобы как-то устроиться, чтобы было поменьше боли. В последний момент я вдруг испугался: может, лучше досидеть здесь, где все уже знакомо? А что будет там? В Днепропетровск меня везли под конвоем: по врачу с обеих сторон. После принудительного лечения “Выбор” показался санаторием: решеток нет, двери открыты. Меня привели в кабинет доктора Сауты. Не знаю, почему, но я стал рассказывать ему все, что со мной было. Никогда раньше я этого никому не говорил, может, потому, что не спрашивали. Конечно, я приукрашивал свой рассказ, голая правда была уж слишком неприглядной. Когда я начал говорить – почувствовал: меня не возьмут! Но под конец разговора это ощущение пропало. Леонид Александрович и вправду не хотел меня брать: сын начальника, будет качать права, “колотить понты”. Потом увидел, что перед ним обыкновенный запутавшийся в жизни мальчик. Он сказал: “Мы будем помогать вашей семье”. В Центре я сначала оторопел оттого, что ко мне относятся по-человечески. Я уже забыл, что это такое – человеческое отношение. У меня были готовые реакции на притеснения, я был готов отразить нападение. Но на меня никто не нападал, и я растерялся. Я увидел Карину, Таню, других ребят. Меня так удивило, что эти люди живут без наркотиков уже несколько лет! Я решил, что тоже попробую жить нормально. Мне раньше никто не давал такого шанса. Особенно меня поразила Карина. Я знал, как быстро опускаются женщинынаркоманки. Но если она смогла выздороветь, неужели я не смогу? Все в этом Центре было необычно: и люди, и правила. Это было “честное” место, где все было по-настоящему. До этого я всю жизнь находился в атмосфере лжи. А Леонид Александрович был искренним, честным человеком. Сначала я это почувствовал, потом – понял. Ребята вокруг тоже старались быть искренними. Я всю жизнь этого искал, но не мог найти. Наверное, потому, что искал не там: в мире наркоманов таких отношений просто не может быть. Первые группы я помню смутно. Запомнилось только, что Саута здорово меня воспитывал! Я старался анализировать себя – Леонид Александрович учил этому. Конечно, наркоман еще жил во мне, и мог в любой момент поднять голову. Когда после курса реабилитации Леонид Александрович предложил мне работу в Центре, я не поверил своему счастью. Я мечтал об этом втайне даже от себя самого! Я боялся внешнего мира, но не мог и предположить, что мне можно будет остаться в “Выборе”. Ничего не бояться, спокойно смотреть в глаза людям, не оглядываться на звук милицейской сирены и заниматься тем, что тебе нравится! Это было неправдоподобно! И я старался делать все, лишь бы меня не “попросили” отсюда. Я участвовал в группах наравне с другими пациентами, хоть и был уже инструктором. Я очень благодарен доктору Сауте, что он не делал мне поблажек. Его жесткость очень 107 помогла мне потом: реальная жизнь еще жестче! Иногда мне казалось, что он меня унижает, однако настоящая жизнь могла совсем растоптать слабого человека. И Леонид Александрович дал мне хорошую закалку. Я вдруг почувствовал, что меня раздражает не только моральная, но и физическая слабость. Я стал заниматься спортом. Через два с половиной года я решил попробовать свои силы в мире. Работа в “Выборе” – очень тяжелая: она требует круглосуточного присутствия, искреннего интереса к людям, желания добра даже тем, кто тебя раздражает. Это – удел не для каждого. Здесь нужно призвание. У меня его не было. Зато у меня уже был опыт общения с разными людьми. Работа в “Выборе” научила меня “контактировать”. Я понял, что среда в Центре максимально приближена к реальной: научишься нормально жить в стенах Центра – сможешь жить и в мире. После возвращения в Полтаву я устроился работать на завод. Директор знал меня раньше и согласился взять только подсобным рабочим. Через четыре месяца у меня начались проблемы со здоровьем, а подсобник должен быть очень сильным физически. Я попросил перевести меня на другое место, но начальник сказал: “Я взял бы тебя и в сбыт, но, боюсь, ты меня опозоришь. Могу ли я доверить тебе свою репутацию?” Я обиделся, хотя понять его, конечно, было можно. Я устроился на другой завод. Сначала – сборщиком, потом – диспетчером. Я делал все, что поручал начальник. Сначала было тяжело: новеньких всегда поначалу “шпыняют”. Но я старался доказать всем, в том числе и себе, что я – не хуже других. И через некоторое время заметил, что ко мне стали относиться иначе. На заводе – люди простые, “понтов” нет, и тебя оценивают только по тому, что ты умеешь. Трудность состояла и в том, что мои подчиненные были старше меня годами. Нужно было очень постараться, чтобы заслужить их уважение и доверие. Через полгода я почувствовал себя частью большого коллектива, стал говорить: “наш завод”, “моя работа”. Такое ощущение до этого у меня было только в “Выборе”. Когда заболел начальник одного из цехов, меня сделали исполняющим обязанности заместителя начальника (к тому времени я уже заочно окончил институт). Я испугался: я должен был руководить столькими людьми! Было очень тяжело, но я решил: буду делать все, что смогу! Я не могу позволить себе опозориться, я уже научился преодолевать трудности – Саута научил! Я работал так, что, приходя домой, валился с ног от усталости и был счастлив: появилось ощущение, что я все могу! И так продолжается уже пять лет. Когда начальник вернулся после болезни, меня сделали его заместителем. Я работаю там и сейчас. Работа тяжелая, зато у меня есть чувство, что я отрабатываю каждую полученную копейку. Это – действительно мое! Иногда я говорю своим подчиненным, что раньше я пил и курил. Они не верят: “Не может быть!” “БОГ ПОМОГАЕТ ТЕМ, КТО ТРУДИТСЯ” Светлана Григорьевна У нас в семье – все врачи. Но о наркомании мы долгие годы ничего не знали. Даже слова такого “наркомания” не было. Мы знали, что есть “морфинисты”. Когда я была маленькой девочкой, мне приходилось видеть их у аптеки – кололись в колени. О том, насколько это может быть страшно, мы не задумывались. И, конечно, нам и в голову не могло придти, что сын может стать наркоманом. Да, Володя был трудным ребенком, с характером. Он неважно учился, поздно приходил домой, часто бывал в каком-то странном состоянии, но мы думали: он выпивает. Соседка говорила: “Проследи: он ходит в дом, где живет наркоман”. Но у меня словно пелена была на глазах. Наркотики – это что-то из жизни бандитов. А Володя – неглупый парень из приличной семьи. Когда он завалил сессию на первом курсе института, я решила с ним поговорить. Он вдруг заплакал: “Мне недолго осталось жить!” Я в ужасе стала перечислять все мыслимые и немыслимые несчастья: “Ты убил кого-нибудь? Изнасиловал? Ты – голубой?” Наркомания пришла на ум последней. 108 Наша реакция на эту новость была однозначной: будем лечить! Мы еще не представляли себе, какое тут может быть лечение. Пригласили нарколога, стали очищать кровь. Через три дня он вырвал все капельницы: “Я больше не могу. Я должен уйти”. Тут я начала понимать: мой сын смертельно болен. Обратившись к областному психиатру, я с ужасом убедилась: врачи бессильны! Он должен сам захотеть лечиться! Но ведь нежелание лечиться – один из симптомов болезни. Как же он может захотеть? Сын забросил институт, стал опускаться все ниже. Вскоре мы узнали, что Володя – известный в Полтаве наркоман. У него есть кличка, его знает милиция. Начался кромешный ад: он все время где-то пропадал, похудел, осунулся, лицо пожелтело, появились вспышки агрессии. Случались передозировки, когда он не мог дышать, начинались судороги. Мы продолжали искать способ вразумить и вылечить сына, приглашали разных врачей, но проку не было. Доктора, словно сговорившись, повторяли: “Вылечить нельзя”. Иногда говорили заведомые глупости: “Это наследственность. Он – на четверть татарин, а у татар принято курить кальян”. Бессонные ночи проходили в напрасных разговорах, ситуация не менялась. Володя приходил по ночам, хлопал дверцей холодильника, снова уходил. Он сделался лживым и жестоким. Мы не знали, что делать. Смотрели телевизор – там Листьев брал интервью у нарколога, и тот говорил, что наркомания неизлечима. Обращались к областному психиатру, он увещевал: “Не тратьте на него силы. Наркомания страшней рака. Нет никакой надежды”. Мы не хотели с этим мириться. Одно время даже думали продать квартиру и везти его лечиться в Центр Назаралиева. Так продолжалось пять лет. Жизнь сократилась до ожидания конца. Я забыла о том, что есть удовольствия, развлечения. Жила в постоянном страхе. Переживала из-за мужа: его назначили на высокую должность, а сын был наркоманом, и все знали об этом! Мне казалось, я обезумею от горя, сама превращусь в тупое животное! Иногда Володя слезно просил: “Помогите!” Мы укладывали его в реанимацию, но там он только снижал дозы. Оформляли на принудительное лечение – он буйствовал так, что на него приходилось надевать смирительную рубашку. Польза от этого была лишь в том, что мы поняли: если Володя столько времени обходится без наркотиков, значит, он может без них жить. За время его принудительного лечения мы с мужем немного передохнули, собрались с мыслями. В это время областной нарколог рассказал нам о докторе Сауте и дал кассету с фильмами о Центре “Выбор”. Всю жизнь я буду ему за это благодарна! Мы повезли Володю в Днепропетровск. Хотя, признаться, надежды у нас почти не было. Муж сказал: “Отвезем, чтобы потом не винить себя, что не использовали шанс!” Мы опасались и того, что Володю могут не принять на лечение. Областной психиатр предупреждал: “Сауте плевать, кто его отец. Если увидит, что перспектив нет, не возьмет!” Я так волновалась, что потеряла последнее самообладание. Мне казалось, что я – уставшее, отупевшее, вечно рыдающее чучело! Никак не могла запомнить имя и отчество доктора Сауты и доктора Рокутова. Я немного успокоилась, когда увидела, что Центр “Выбор” расположен в крыле простого общежития, в обстановке – никаких “наворотов”, а страшный доктор Саута – умный интеллигентный человек с усталым лицом. Меня поразила его речь, его логика. Было интуитивное озарение: он поможет! Я сразу ему поверила. Он только задал сыну вопрос – и Володя стал рассказывать ему всю жизнь. Мне он никогда этого не говорил! Я слушала, раскрыв рот, и думала: “Буду ползать здесь на коленях, лишь бы его взяли лечиться!” Был момент, когда мне показалось, что нам откажут, потом я заметила, как улыбнулась Нелли Дмитриевна, и поняла: возьмут! До начала занятий оставалось время, и мы вернулись в Полтаву. Перед отъездом в Днепропетровск Володя вдруг заартачился: “Не поеду!” Я сказала: “Поедешь. Или я задушу тебя собственными руками!” Сама ехала – рыдала. Я чувствовала, что меня ждет очень тяжелая работа. 109 Я поселилась в Днепропетровске у родственников. Каждая поездка в Центр была радостью. На занятиях с психологом было так интересно! Нелли Дмитриевна мне сразу понравилась: интеллигентная, умная, привлекательная. Я ей поверила и старалась выполнять все рекомендации. Она научила меня не бояться: хуже, чем есть, все равно уже не будет! Научила различать в сыне пробуждающегося человека, общаться с этим новым Володей. Я воспитывала себя, пересматривала свою жизнь, училась быть сдержаннее. Я поняла, что раньше была нетерпимой стервой. Я научилась ценить слова, осознала их силу. Доктор Саута лечил словом. И оно творило чудеса! Я вспоминала свои прежние поступки со стыдом! Как я решала семейные проблемы криком, скандалами, срывала на детях эмоции, могла их обидеть. И ведь считалось, что у нас – нормальная семья! Я “воспитывала” детей, читая им умные книги, а сама могла проявить неуважение к близким, даже к мужу. Причем – незаслуженно. Мне не хватало душевности. Оказывается, дети замечали даже то, чего не осознавала я сама. Почему я раньше не задумывалась над своей жизнью? Все это были очень трудные вопросы, но найти на них ответы было необходимо. Зато сколько у меня здесь появилось приятных эмоций! Я видела матерей, чьи сыновья бросили наркотики, видела бывших наркоманов. Я раньше думала, что Володя хуже всех, и вдруг увидела даже отсидевших тюремный срок и бросивших колоться! Я была на таком эмоциональном подъеме, что не могла спать по ночам, даже писала стихи! Это было счастье, возвращение к жизни! До сих пор мне вспоминается Днепропетровск, и улица Янгеля, и кольцевые троллейбусы “А” и “Б”, которыми я добиралась до Центра! В Днепропетровске я снова училась жить: стала ходить в парикмахерскую, следить за собой. Володя тоже стал меняться. Он интересовался моим самочувствием, становился внимательным, участливым. Он пробыл в Центре месяц и захотел остаться еще. Я выходила из Центра и крестилась: “Слава Богу!” Когда он впервые поехал домой в отпуск, страх у меня был жуткий. Мне казалось, что Володя прощупывал меня, старался понять, как я отреагирую на отклонения в его поведении. Но я уже стала другой, я поняла, как надо вести себя с сыном, поняла, в какие дебри может завести слепая жалость! У нас еще было много сложных моментов. Главное изменилось: мы научились общаться друг с другом без наркотиков. Я освоила умение высказывать свое мнение, не повышая голоса, стараюсь не унижаться до крика. Это бывает очень непросто. Вообще нам всем нелегко, даже сложно жить. Но мы все изменились – изменились кардинально, и, безусловно, в лучшую сторону. Я уже не боюсь “срывов” сына, я боюсь потерять взаимное уважение. Раньше мы говорили только о наркотиках, сейчас это слово ушло из семейного лексикона. У нас много проблем, но это проблемы нормальных людей. Я продолжаю приходить в Центр – и Леонид Александрович, и Нелли Дмитриевна стали для нас, как члены семьи. Их внимание, моральная поддержка – это такая ценность! Я всегда говорю новым родителям: слушайте, что они говорят, и делайте так! К сожалению, не всем удается изменить отношения с детьми, хотя это зависит только от их желания. Иногда смотришь: люди ходят в бриллиантах, а ради спасения детей не могут пожертвовать свободным временем! Я рассказываю свою историю, чтобы у других родителей не опускались руки. Нельзя терять надежду. И нельзя бездействовать! Бог помогает тем, кто сам трудится! 110 “ЭТО ВОЗМОЖНО ДЛЯ ВСЕХ” История Ростислава, ВасилиЯ ВасильевиЧа, Любови Васильевны и Елены “РОДИТЕЛИ СТАЛИ МНОЙ ГОРДИТЬСЯ” Ростислав С детства я стремился быть лидером. Мне хотелось, чтобы к моему мнению прислушивались. Это было постоянной причиной конфликтов с родителями. Мне запрещали играть с “плохими” ребятами, решали, как мне проводить свободное время, какие книги читать. Я очень любил своих бабушек, но необходимость навещать их каждые выходные вызывала раздражение. Почему я не могу сам решать, что мне делать? Я протестовал против родительских решений и запретов. За этим всегда следовало наказание. Я пытался его избежать, учился обманывать родителей, и поэтому никогда не делился с ними своими мыслями и переживаниями. Меня обижало, что они реагируют только на плохие мои проявления, и не замечают хороших поступков. В школе мне нравилась девочка Света. Я ухаживал за ней по-детски, носил портфель. Однажды увидел ее в слезах – обидел новый одноклассник. И хоть он был выше меня на голову, я избил его, чтобы защитить Свету. Но в мотивах моих поступков разбирались редко. Все выглядело так, будто я снова подрался. Вскоре я научился жить двойной жизнью: дома старался выглядеть идеальным сыном, а на улице компенсировал домашнюю “выдержку”. Постоянно смиряться, подчиняться и молчать – было очень дискомфортно, зато на улице я давал волю своим желаниям: первым лез в драку, стараясь показать, что я умею не только подчиняться, но и быть сильным. Дружить я тоже старался с “сильными” ребятами. Были у нас такие – их вся школа боялась. Учились они, конечно, хуже всех, зато делали, что хотели, и никто не мог им возразить. Я тоже хотел, чтобы меня боялись, и пробовал заниматься разными силовыми видами спорта – не ради здоровья, а ради силы. Старшие ребята использовали мое желание прибиться к их компании. Как-то один старшеклассник ударил меня так, что я очнулся только в медпункте. Не успел я прийти домой, как в квартире раздался звонок. Открыв дверь, я увидел этого верзилу в окружении моих хулиганских друзей: он просил прощения. Оказалось, они на него “наехали” и потребовали извинений и денег за то, что побил “их друга”. Много позже я понял, что они просто использовали ситуацию, чтобы получить с него деньги, а тогда их заступничество мне очень польстило: меня признали своим! Уже на следующий день я курил рядом с ними, отдавал им деньги на какой-то “общак”. Я их побаивался, и никогда не чувствовал себя с ними на равных, но все время приглашал домой в отсутствие родителей, угощал спиртным из отцовского бара. Вместе с ними я пробовал дышать хлорэтилом, курить “план”. После восьмого класса я пошел в нефтяной геолого-разведовательный техникум. Так решил мой отец. Сам я хотел в автодорожный: мне всегда нравились машины, механизмы. А в нефтяном радовало разве то, что можно, наконец, оторваться от родителей. На первом курсе нас послали в колхоз – я набрал туда водки: да здравствует взрослая жизнь! Может, благодаря этому, я сразу стал популярным: меня выбрали старостой. Я “закрывал” друзьям прогулы, обманывал администрацию. Это было весело и по-взрослому. Еще более “взрослую” жизнь я обнаружил в соседнем дворе, когда мы переехали на новую квартиру. Это был знаменитый “гороховский двор”, где собирались уголовники. Они 111 пили, играли в карты. Их мир казался мне очень заманчивым. Когда один уголовник попросил моего товарища привезти из села мак, мы тоже решили попробовать. К последнему курсу техникума я кололся напропалую. Ребята привозили мак из деревень, мы искали свободную квартиру, варили, кололись. Часто прогуливали занятия, ходили на дискотеки и развлекались, как могли. Пару раз я попал в милицию за хулиганство – тогда наркотики еще не выплыли наружу. Постоянно обманывал родителей. Они видели, что со мной происходит что-то не то, но и мысли не допускали, что я могу быть наркоманом. Мне в то время нравилось “косить” под уголовника: норковая шапка, мохеровый шарф, золотая печатка. Очень хотелось сделать наколку. Выбрал нейтральную – лик Иисуса Христа. Родители устроили за это скандал, пришлось выводить. Я стыдился своих правильных родителей, мне неудобно было ходить с ними по городу. Всеми помыслами я стремился в овеянный романтикой уголовный мир. Даже в кино всегда сочувствовал уголовникам, которых ловила милиция. Было время, когда я всерьез размышлял, по какой статье лучше в первый раз садиться в тюрьму. Удачнее всего было бы – за кражу: отсидеть, наколоть ползущего вверх паука и стать “авторитетом”. Круг знакомых у меня к тому времени был специфический: наркоманы, барыги, содержатели притонов. А жизнь сводилась к тому, чтобы погулять, уколоться, и чтобы дома ничего не заметили. После техникума, который я кое-как закончил, отец захотел устроить меня в университет. Благодаря его связям и положению, проблем с обучением у меня не возникало. Удивительно, но в это время я впервые смог вырваться из наркотической среды. Сделал это не по собственному желанию, а потому что мне очень нравилась одна девушка. Звали ее Людой. Именно она вырвала меня из привычного круга. Мы встречались, ходили в кино, гуляли по городу. Она видела моих знакомых, и они не внушали ей доверия. Потом ей рассказали, что я – наркоман. Она заявила: или я, или наркотики. Я пересидел “кумар” у нее дома и не кололся целых восемь месяцев. Этот случай вполне мог убедить меня, что я прекрасно могу жить и без наркотиков, но я над этим не задумывался. Когда родители Люды узнали о моем прошлом, начались скандалы, и я решил разок “расслабиться” с “кентами”. На этом наша дружба с Людой прекратилась, и я опять пошел по накатанному пути. Родители нашли у меня шприцы, узнали правду и стали бороться с моей наркоманией. Началась череда “лечений”. В одной психиатрической больнице я лежал не меньше десяти раз: то “спрыгивал” в обычном отделении, то откачивали в реанимации после передозировки. Лечение там было весьма относительное. Родители носили неподъемные сумки с едой, которую легко можно было обменять на наркотики. Иногда их приносили санитары, иногда мы сами отпрашивались на часок, сунув дежурной санитарке шоколадку. Часто меня ловила милиция с маком в кармане, но отец улаживал эти неприятности. Однажды дело зашло далеко – кончилось общественным судом в институте. Отец уговорил коллектив взять меня на поруки. Жизнь моя к тому времени превратилась в постоянный поиск денег и наркотиков. Я уже понял, что не могу без них обходиться. Если полдня не мог достать – столько успевал натерпеться! Меня преследовал страх попасть в милицию. С родителями постоянно скандалил, с отцом – даже дрался. Они с матерью тогда интересовали меня исключительно, как источник дохода. Я понимал, что не смогу прожить без их помощи. Постоянно обманывал, обещал, что брошу. Они водили меня по “церквям”, бабкам и экстрасенсам. Те “изгоняли” из меня “темные силы”. Хуже всего было, когда родители брали меня с собой в отпуск: на море приходилось терпеть отсутствие наркотиков и изображать из себя нормального человека. Интересно, что я, против ожидания, вовсе не умирал от этого: два-три дня недомогания – и можно купаться. Однако и этот опыт не научил меня, что без наркотиков вполне можно жить. Бросать их – просто не приходило в голову. Родители постоянно пытались лечить меня, и вскоре я научился использовать их желание иметь здорового сына. Как-то я сказал им: “Я бы не кололся, если бы у меня была машина: за рулем надо быть трезвым. И потом, имея машину, я смогу заняться серьезным бизнесом”. Их “осенило”, и они купили мне “Нисан”. (Он мне очень пригодился – сколько мака я вывез на нем из сел!) Родители с детства не скупились на подарки и игрушки. Правда, с возрастом мои игрушки становились все дороже. Они дарили мне золотые печатки, которые 112 я прокалывал, но после очередного “лечения” и обещаний начать правильную жизнь – получал новые. “Лечение” всегда приносило мне выигрыш. Я “спрыгивал”, сбивал дозу, получал от родителей подарки. Какое-то время после больницы удавалось их обманывать. Я приходил домой трезвым, мама заглядывала мне в глаза, успокаивалась и уходила в свою комнату. А я шел в свою – и там кололся. Родителями я вертел, как хотел: знал, что если пообещать им бросить наркотики, у них можно получить все, что мне понадобится. Что бы я ни делал, стоило только попросить прощения, они сразу оттаивали. Я жил в тепле и чистоте, был накормлен, одет и обут. И знал: что бы я ни выкинул, они поругают, но из дома не выгонят. Правда, скандалы утомляли. Я нашел решение и этой проблемы. Была у меня мысль: познакомиться с девушкой, сказать родителям, что хочу жениться, и под это дело “раскрутить” их на отдельную квартиру. Живя вдали от родительского контроля, я смогу колоться, как захочу. Встретив Лену, я вскоре сделал ей предложение, и родители с энтузиазмом стали готовиться к свадьбе: как же – сын взялся за ум! Тесть обещал подарить нам с женой “девятку”, и я предвкушал, как продам обе машины и куплю себе “БМВ”! Невесте я рассказал, что когда-то кололся, а теперь бросил, она не придала этому значения. Какое-то время я держался, не принимал наркотики. Но на свадьбе – “раскумарился”. Друзья-наркоманы тоже пришли меня поздравить и принесли в подарок “ширку”. Больше всего меня радовал вид банки, в которую собирали деньги для новобрачных – я не мог дождаться момента, когда смогу пересчитать их. На следующий день после свадьбы я чуть не умер от передозировки. А сразу после “медового месяца” я лег в дурдом – “спрыгивать”. Семейная жизнь не оправдала моих надежд на то, что теперь колоться станет легче. Вместо родителей, рядом была жена, и ее тоже надо было постоянно обманывать. Вскоре Лена увидела меня во всей красе. Я переступал через нее и маленького сына и шел колоться. Деньги, которые родители давали для жены и ребенка, прокалывались. Как стыдно сейчас это вспоминать! Бывало, останется пятерка на молоко ребенку, я говорю: “Сначала раскумарюсь, потом буду искать деньги на молоко!” Лена пыталась изменить положение. Как-то я проснулся и обнаружил, что дверь заперта, и в карманах у меня пусто. Жена сказала: “Как хочешь, колоться не пущу!” Я схватился за нож: “Открывай дверь или зарежу!” Она пыталась меня остановить, бегала за мной по “точкам”, но порой я так красочно описывал ей “муки абстиненции”, что она сама давала мне деньги на наркотики. Несмотря на такой “веселый” образ жизни, я долгое время работал, и не на последних должностях. Всюду держался, благодаря влиянию отца. Материально я тоже “рос”: апофеозом моего “благополучия” стал “Кадиллак”. Я занял денег одному знакомому, он не смог вернуть долг, и я переоформил его машину на жену. Было время, когда ездил за “ширкой” на “Кадиллаке”. Но и этот лимузин ушел туда же, куда все мои накопления: по вене. Жена какое-то время скрывала от родителей мои художества, потом посвятила их во все подробности. Пару раз она от меня уходила, потом возвращалась. Ее еще не оставляла надежда, что меня удастся вылечить. А я катился по наклонной все с большей скоростью. Не понимаю, как тогда не умер от передозировки – прокалывал огромные деньги. Воровал на работе. Однажды подделал документы почти на сорок тысяч долларов. На меня завели уголовное дело, арестовали на трое суток, и в тюремной камере я понял, что уголовная романтика не так уж и привлекательна. Отец выплатил мои долги, и меня выпустили. Родители снова принялись меня спасать. Запомнилось “лечение” в Киеве. Родители искали самые “крутые” больницы, и им сказали, что в Днепропетровске есть реабилитационный Центр “Выбор”, а в Киеве – больница имени Павлова. Отец решил отправить меня в Киев: там лечились дети министров, значит, это и была самая лучшая больница. Не скрою, мне в ней тоже понравилось. В палате стоял телевизор и видеомагнитофон, транквилизаторами и снотворным можно было объедаться, да и наркотики легко было купить поблизости. Врачи расходились по домам в четыре часа, мы совали санитаркам шоколадки, и они выпускали нас “погулять”. “Лечились” там дети очень 113 состоятельных родителей. С ними я впервые попробовал героин. Единственным достижением стало то, что после больницы я стал колоться без димедрола. И родители меньше замечали. В киевской лечебнице мне так понравилось, что я сам попросился туда еще раз. Через полтора месяца мне позвонил “товарищ” из Киева, сказал: “Мы собираемся ложиться прежним составом, если хочешь – подтягивайся”. Я обрадовался, пошел к родителям: “Мама, папа, надо серьезно поговорить! Врач сказал, что, если я почувствую возможность срыва, надо позвонить и снова приехать”. Родители обрадовались: надо же – сам сказал, что хочет лечиться! И я еще на полтора месяца уехал в Киев. Дольше меня там держать побоялись: врач видел, что я закалываюсь. Иногда он говорил мне: “Не колись хоть сегодня – приедут родители”. И все же диагноз при выписке поставил: “здоров”. Возвратившись домой, я стал колоться так, что пропали вены. Бывало, сижу и плачу: полный шприц крови, а уколоться не могу – вену не чувствую. Здоровье стало, как у инвалида. Несколько раз резали абсцессы. Печень уже не выдерживала таблеток. Два раза переболел гепатитом “С”. Заносил его через шприц. Иногда я со страхом думал: дальше так продолжаться не может, я скоро умру. Или сяду в тюрьму. Родители тоже уже чувствовали, что я приближаюсь к последней черте. После очередного попадания в реанимацию вспомнили о Центре “Выбор”. Местная психиатрия поставила на мне крест после множества кодировок, “подшиваний” и “лечений”. Отцу сказали: “Везите его в Днепропетровск. Ему, конечно, уже вряд ли кто поможет, но мало ли что! Мы знаем одного нашего пациента, которому помогли в “Выборе”, хотя он был не лучше Вашего!” В Днепропетровске я разговаривал с Кариной и Володей (это и был тот самый полтавский пациент). Карина сказала, что в “Выборе” никто никого не держит, таблеток нет, двери открыты. Они показались мне “лоховатыми”. Карина – прямо “учительница” какая-то. Думаю: таким заморочить голову – раз плюнуть. Рассказал им, что я – бывший спортсмен, сам работаю, добываю деньги на наркотики. Договорились, что приеду на лечение через несколько дней. Приехав во второй раз, я обнаружил в Центре кучу народа. Среди них знакомый полтавчанин – уголовник Костя. Он сразу оттащил меня в сторону: “Тут постанова ментовская, кумарит, таблеток не дают, ничего нельзя говорить, будем вдвоем держаться своей масти!” Мы вместе “раскумарились” привезенными мной наркотиками. Нас не “спалили”. Я подумал: тут полные “лохи”! Через неделю я понял, что это совсем не так. Доктор Саута на группах говорил о моей жизни с таким знанием дела, что я не мог понять, что это за человек, и откуда он все знает! В глубине души я чувствовал: он говорит правду! Но разве я мог тогда в этом сознаться?! Как я обижался на него! Как мне хотелось уехать отсюда! Но сказать родителям, что не хочу лечиться, я не мог. Тем более что они изменились: перестали подходить ко мне, расспрашивать, интересоваться. Вскоре нас с Костей усадили на группе рядышком и стали решать, кого можно оставить, а кому придется предложить покинуть Центр. “Пока вы вдвоем, – говорят, – толку не будет!” Долго перечисляли плохие и хорошие качества обоих, потом решили удалить Костю: у меня – жена и ребенок, я худо-бедно окончил техникум и институт, кое-как работал, не был судим. Я стал играть в “благородство”: “Оставьте Костю, я уеду!” Сказал родителям, что поеду домой. Они ответили: “Езжай. Только без нас. И живи, где хочешь”. Потом ко мне подошел Леня: “Я знаю, что будет в Полтаве: домой тебя не пустят, жена у своей мамы, ключи от квартиры у твоих родителей. Хотя ты, может, и до Полтавы не доедешь – без паспорта!” Я подумал: действительно, какие у меня перспективы? Я стал стараться работать на группах. Задумывался, разбирался: что я за человек? Я понял, что в уголовном мире я – никакой не “авторитет”, так – “гниль”, да и друзей среди уголовников быть не может. Наверное, в тюрьме я, действительно, пропал бы. И что, кроме отца, от которого я полностью завишу, мне никто не поможет. Я стал смотреть другими глазами на родителей и на свою жену. Лена – прекрасный человек, она так за меня боролась, столько пережила. А что я с ней творил! Помню, я почувствовал ужас, когда докопался до того, что я не испытывал человеческих чувств ни к кому, даже к своему ребенку! Сын родился в то время, когда главным в моей жизни была “ширка”, я о нем совсем не думал, меня не 114 интересовало, сыт ли он, все ли с ним в порядке. Я не испытывал чувств ни к родителям, ни к жене, ни к ребенку – я просто не мог ничего чувствовать, жил как в тумане. Когда я понял это, на душе у меня было страшно тяжело, чувство вины словно придавило меня. Вот что значит трезво посмотреть на свои поступки! Впервые в моей жизни я по-настоящему протрезвел и понял, сколько горя принес своим родным. В памяти всплывали картинки из прошлого, и меня переполняло такое чувство стыда, о котором и теперь вспомнить страшно. Я понял, что вся вина за происшедшее лежит на мне. Ведь если родители и делали что-то неправильно, они все равно хотели, как лучше, даже если это у них не получалось. И только я один испортил всем жизнь. И еще я понял, что в прежней жизни у меня друзей не было, не было человеческих отношений с людьми. Они появились только здесь, в “Выборе”, и только с моими новыми друзьями я мог разговаривать честно и откровенно. Я стал активно работать на группах, занялся бегом, начал играть в футбол. Мне казалось, я смог выкарабкаться из зависимости, и теперь начнется совсем другая жизнь. Я понял и осознал очень много. Но двенадцать лет наркоманского стажа тоже давали себя знать. Я еще не понял, что мне вообще нельзя расслабляться, что я должен постоянно прилагать усилия, и у меня никогда не получится – “контролировать наркотик”. Я вернулся в Полтаву на ту же работу. Обстановка в семье была неопределенной. Она, вроде, изменилась, но я по-прежнему получал все на блюдечке. Каждый день я видел на работе косые взгляды, встречал знакомых наркоманов. Я уже отличался от них – я не зависел от дозы. И мне пришло в голову, что я вполне могу позволить себе немного расслабиться “по-умному”: ничего не случится, если я буду колоться всего лишь раз в месяц. Но мои родители уже изменились. У меня не получалось, как прежде, крутить ими. Как только они заметили отклонения – сразу отправили назад в Днепропетровск. Честно говоря, я просто отбыл этот второй курс. Я уже знал, что здесь надо говорить, как себя вести. Я “грамотно” изъяснялся на группах и активно занимался спортом. Думаю, Леонид Александрович понимал это. Когда я уезжал, он сказал: “Смотри, это твоя жизнь. Сможешь – хорошо, не сможешь – решай сам, что тебе делать”. Уезжая, я думал, что не собираюсь колоться. Но едва увидел знакомого барыгу, который искал, куда “пристроить” триста стаканов мака, сразу сообразил, как “выкрутить” стаканов пятьдесят для себя. Я снова стал колоться. Родители вели себя странно. Почему-то не трогали меня, но перестали кормить. Каждый раз, приходя домой, я обнаруживал пустой холодильник. Потом перестали пускать в квартиру. Я ночевал в подвале и с удивлением видел, что для папы и мамы меня как будто нет. Они говорили: “Или езжай в Днепропетровск, или убирайся с глаз долой”. Вскоре мак у меня кончился, денег не было вообще, а дозу я набил хорошую. Деваться мне было некуда, я пришел домой и сообщил, что согласен ехать в “Выбор”. Меня впустили в дом, сказали, что завтра позвонят в Центр, а я схватил 20 гривень и стал с боем пробираться к двери. Они выпустили меня, но сказали: “Эта дверь закрывается за тобой навсегда!” Ночевал я в беседке. Помню, замерз ужасно. Утром стал плакать, проситься: отвезите в Днепропетровск. Родители со мной даже не разговаривали. Я снова лег в реанимацию, мне давали снотворное, транквилизаторы, но на душе было так тяжело, что и жить уже не хотелось. Я взломал дверь в манипуляционную, взял теопентал – препарат для наркоза. Я знал, что два грамма – смертельная доза, и решил для верности принять четыре. В шее у меня стоял катетер, я ввел в него препарат и потерял сознание. Спасло меня то, что, падая, я задел стоявшие в ванной велосипеды санитарок. Они прибежали на грохот и нашли меня на полу. Я был уже бесцветным. Меня откачали и сообщили родителям. После этого я снова попал в Днепропетровск. Какое-то время я был замкнут. Воспоминания убеждали меня: или я выживу – здесь, или просто умру. Я решил оставаться в “Выборе” столько, сколько нужно. Я не ставил себе сроков – месяц или два, я уже знал, что только здесь могу выжить. Да и в Полтаве меня уже никто не ждал: жена подала на развод, хотела разменять квартиру, выделить мне угол, в котором – я знал – я долго не протяну. 115 Я уже не отбывал срок, я старался работать на группах в полную силу. Я учился жить с людьми, постоянно искал решения трудных вопросов. Что-то я уже знал из прошлого опыта. И отчетливо понимал, чего нельзя делать. Леонид Александрович отмечал мои успехи, говорил: “У тебя получается общаться с людьми. Попробуй поработать в Центре”. И я понял, что мне этого очень хочется – быть с ними, работать с ними! В Полтаве тогда ремонтировали здание для филиала Центра. Я стал следить за ремонтом, комплектовать мебель. Я уже не старался устроиться на самую высокооплачиваемую работу, я старался заслужить доверие. После завершения ремонта работал инструктором в группах пациентов и родителей. Отношения с моими собственными родителями начали налаживаться, они доверяли мне все больше, перестали прятать от меня золото. Жена решила повременить с разводом, посмотреть, что будет дальше. Мы стали общаться, обсуждать наше будущее. Я перестал ее использовать, и она это почувствовала. Жизнь менялась и входила совсем в другую колею. Через год мне вдруг предложили стать директором Полтавского филиала Центра. Сначала я испугался: это огромная ответственность! Справлюсь ли я? Смешно: всю жизнь мне хотелось “руководить”, а как дошло до настоящей работы – испугался. Благо, Леонид Александрович говорил, что все время будет рядом. Да и доверие родительского комитета меня очень обрадовало. Я закончил психологический факультет Полтавского педагогического университета, получил специальность психолога. Отец в это время поддерживал меня материально, но учился я сам – на совесть. Мне нравится общаться с ребятами, помогать им. Это наполняет жизнь смыслом. Я работаю в коллективе, которому я нужен. Ко мне обращаются за помощью, советуются. Каждое утро я иду в Центр с радостью: мне хочется работать! И – жить! Как приятно видеть, что родители стали мной гордиться! Сказали бы мне раньше, что это – возможно, я бы не поверил! Я сейчас полностью убежден, что наркомания рождается в семье. Она начинается с того, что родители перестают пользоваться авторитетом и доверием у детей. Ребенку нужен не “строгий контроль”, а доверительные отношения, при которых возможны искренность и откровенность. Если бы я в детстве принял ценности отца, если бы он стал моим жизненным примером, может, я прожил бы совсем другую жизнь. Ведь мой отец – очень достойный человек, но раньше я почему-то этого не понимал, не ценил. Новые принципы я стараюсь исповедовать и в своей собственной семье. Если сын пытается “столкнуть” меня с женой, чтобы выгадать что-нибудь на нашем противостоянии (к сожалению, он научился этому в то время, когда мы постоянно ссорились), я пресекаю его манипуляции, стараюсь стимулировать искренние проявления. Я знаю, что мне предстоит еще многому научиться, и постоянно осваиваю, узнаю чтото новое. Те, кто знал меня прежним, говорят: с ним случилось чудо. Из всех, с кем я начинал колоться, три четверти уже умерли, остальные – в тюрьмах. Мне, действительно, повезло. Сейчас, когда у меня пропали последние иллюзии по поводу “романтического криминального мира”, я понимаю, что был просто сладкой булкой для всех, кто меня тогда окружал: для уголовников, барыг, даже для врачей и милиции. Удивительно, что меня не съели! Но самое удивительное – в другом. О том, что я (пять лет назад!) бросил наркотики, знает множество людей в Полтаве: и те, с которыми я вместе кололся, и их родители. Но почему-то они не приходят в “Выбор”, не интересуются, как мне это удалось! А ведь мой опыт мог бы быть им полезен. Может, они нашли бы здесь свое единственное спасение! “НАРКОМАНИЯ ИЗЛЕЧИМА” Василий ВасильевиЧ Почему наркомания пришла в нашу семью? Этот вопрос мучил меня долгие годы. Ведь семья была благополучная: я много лет проработал на руководящей должности, обеспечивал жену и сына, и, как мне казалось, создавал все условия для нормальной жизни. Воспитывали Ростислава, как и всех: говорили, что надо учиться, потом – работать. Мы были хорошо 116 обеспечены и старались, чтобы сын выглядел не хуже других. У него была и модная одежда, и библиотека, и музыкальные записи. После школы я настоял, чтобы Ростислав поступил в нефтяной техникум – хотел, чтобы сын пошел по моим стопам. Когда он учился на последнем курсе, мы заметили, что сын как-то отдалился, но не придали этому особого значения, думали, он просто взрослеет. Некоторые знакомые говорили мне, что видели Ростика с плохими ребятами, иногда чуть ли не прямо заявляли, что он – наркоман. Мы с женой не могли поверить, что такое может произойти с нашим сыном. А когда и поверили – долго скрывали и от коллег, и от друзей, и даже от своих родителей. Мы не стали сразу же искоренять наркоманию, долго надеялись, что сын одумается, устраивали его в университет, потом – на работу, покупали машину, потом – квартиру. Ростик всегда обещал, что обязательно бросит наркотики, и мы каждый раз верили. Только когда жизнь стала совсем невыносимой, занялись его лечением. Мы укладывали его в Полтавскую психиатрическую больницу, кодировали в Кременчуге и Запорожье, почти год держали в Киевской клинике имени Павлова. Барокамера, гемосорбция, кодирование, вшитые ампулы – ничто не помогало. Много позже я понял, что лечение это затевалось не ради результата, а ради наших денег. Помню, как в одной клинике врач говорил мне: “Вам повезло, у меня есть очень хорошая (и дорогая) ампула из Франции, вошьем – я гарантирую, что сын перестанет колоться”. А сын продолжал колоться, как кололся, и конца этому видно не было. В итоге мы с женой только потеряли надежду на его выздоровление, стали замкнутыми. Было время, когда и жить не хотелось: не для кого было жить. Но и смириться с тем, что Ростик медленно умирает, мы тоже не могли. Он становился все хуже и хуже. Выносил из дома вещи, взламывал двери, постоянно попадал в милицию. Мы долго выгораживали его, надеялись, что все еще может наладиться. Собирались везти сына в Бишкек, в центр Назаралиева, но вовремя узнали, что знакомые возили туда свою дочь (чтобы оплатить лечение, они продали квартиру), а девочка укололась через неделю после возвращения. Что делать, мы не знали, хотя и понимали, что, если ничего не предпринимать, нашего сына ждет ужасное будущее. Я видел тому много примеров. На рынке, где собирались наркоманы, можно было наблюдать, как они со временем опускаются. Смотришь – один бегал на двух ногах, и вдруг идет с костылями на одной. Был и более страшный случай. На свадьбе Ростика было много его друзей-наркоманов. Даже дружкой у него был наркоман. Потом этот дружка куда-то пропал. Родители нашли его через три месяца – похороненного, как неопознанная личность. Вынуждены были делать эксгумацию, чтобы установить, он ли это. Эти случаи наводили на страшные мысли. Ведь и моего сына могут когда-нибудь так похоронить. Да и ждать уже, может, недолго осталось: Ростик делал попытки покончить собой, резал вены в ванной. Когда полтавские врачи поставили на нем крест, мы повезли Ростислава в Днепропетровск. После нашей длительной беседы с Леонидом Александровичем его согласились принять в Центр “Выбор”. Когда возвращались домой, на душе полегчало: может, повезет, и через месяц-другой все беды отойдут? Но оказалось, что лечение – это длительный процесс, и участвовать в нем должна вся семья. Жена взяла отпуск и поселилась в Днепропетровске – в общежитии, а я ездил на занятия для родителей каждую неделю. Психолог Нелли Дмитриевна помогла нам понять, что именно мы создавали все условия, чтобы сын кололся: давали ему деньги, решали за него все проблемы, выручали из неприятностей. А значит, мы тоже должны измениться, разобраться во взаимоотношениях между собой и с сыном, проанализировать свой опыт, изменить неправильные взгляды. Мы поняли, что слишком долго оправдывали себя тем, что, вроде, все делали правильно, “создавали сыну все условия”. Оказалось – “создавали условия” для уколов. Ведь наркомания не свалилась с неба – она родилась в нашей семье из той жизни, которой мы жили. Слишком большая опека не давала сыну развиваться, становиться самостоятельным человеком. В “Выборе” нас научили, как изменить отношения с сыном, создать условия не для наркомании, а для выздоровления. Началось с того, что мы твердо решили для себя: наркомании в нашей семье больше не будет! Мы давали понять сыну, что не потерпим в семье наркомана. Раньше у меня в голове 117 не укладывалось: как можно выгнать ребенка из дома? Побить – мог бы, а выгнать – нет. Нас учили поступать так, чтобы слова не расходились с делом: если сказали, что наркоману – не место в доме, значит так и надо делать. Мы переосмысливали свои поступки и понимали, как много сделали ошибок. Я все время был то на работе, то в командировках, думал: главное – обеспечить семью, а остальное приложится. Воспитанием сына занималась, в основном, жена. А ведь для мальчика так важно отцовское участие! Ошибкой было то, что мы не пустили его в армию, подумали: армия теперь не та, пусть лучше учится. Он и “учился” – так, что я не вылезал из его университета. Потом “работал” по моей протекции. А какой из наркомана работник? Если бы не я – нигде бы его не держали. Это мы помогали Ростику поддерживать иллюзию, что у него в жизни все нормально. Мы двенадцать лет мирились с враньем сына. Теперь все это надо было менять. Помню, когда я возвращался в Полтаву после занятий в Центре, голова просто гудела от мыслей. Усвоить их было нелегко. Но мы старались. И поступали так, как нас учили в “Выборе”. Когда после второго курса лечения сын стащил у нас деньги и снова обманул, я выгнал его из дома. Ростик перелез через забор, хотел переночевать в летней кухне. Я вышел и велел ему “сматываться”. Он стал шантажировать меня: “Я повешусь!” Я сказал: “Вот ремень. Только вешайся в другом месте – мне здесь еще жить”. Сын снова попросился в Днепропетровск. Мы продолжали крепко держать занятые позиции: наркоман будет жить без нас, его никто не поддержит. Результатом, который мы получили с помощью днепропетровских специалистов, мы сейчас гордимся: сын самостоятельно окончил педагогический университет, получил специальность, у него есть ответственная работа, и, наконец, он просто живет и радуется жизни. Раньше мы стыдились его, теперь – гордимся. Я рад, что Ростислав работает, помогая таким же, попавшим в беду, людям. Все мы, кому вернули жизнь в Центре “Выбор”, уверены, что наркомания излечима. Но не в наркодиспансерах, которые больше напоминают притоны для наркоманов, и где врачи не могут показать ни одного действительно вылеченного пациента, а там, где родные, с помощью профессионалов, умеют изменить неправильный образ жизни. Иногда я слышу: наркомания – это неизлечимо, это пожизненно. Но подумайте: если человек работает, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, отвечает за свои поступки, заботится о семье и еще помогает другим – какой же он наркоман? Когда число пациентов из Полтавы выросло, мы с родителями других ребят стали думать: как создать такой Центр в Полтаве? И как сделать так, чтобы возглавил его Леонид Александрович? Ведь даже если бы мы выстроили самое современное здание, без специалистов, – какой от него толк? С помещением для филиала нам помог облздрав. Но оно находилось рядом с вытрезвителем – не самое подходящее место. И мы решили, что сами построим настоящий Центр. Мы с другими родителями создали благотворительную организацию “Допоможемо дітям” и стали собирать средства. Наша организация помогает в решении всех “хозяйственных” вопросов Центра, организовывает встречи, мероприятия, помогает в трудоустройстве и дальнейшей реабилитации пациентов. Мы не беремся за оказание помощи тысячам и миллионам – это нереально для одного предприятия. Но мы считаем большим достижением, что, благодаря “Выбору”, появились десятки и даже сотни свободных счастливых людей. Это настоящий большой успех! Иногда я вижу, как мучаются другие родители, и очень хочется помочь. У моего бывшего подчиненного оба сына стали наркоманами: младший попробовал наркотики в армии и приобщил к ним старшего. Недавно один из них умер от передозировки. А ведь их можно было вылечить. К сожалению, многим родителям бывает очень трудно изменить собственные взгляды, собственное поведение! Но только это дает результат. “МЫ БУДТО ЗАНОВО РОДИЛИСЬ!” Любовь Васильевна 118 Нам казалось, что мы воспитываем сына правильно. Ошибки были, но мы не знали, что это ошибки. Ростик был единственным ребенком, мы его опекали, баловали, исполняли все капризы. Мы не понимали, что калечим его. В школе он часто дрался, нас вызывали, высказывали претензии. Мы защищали сына, думали: он не может быть виноват. В техникуме заметили, что Ростик изменился: где-то постоянно пропадал, все время просил деньги. Наверное, он должен был сам выбирать дорогу в жизни, а мы устроили его в этот техникум, потом в университет, причем настояли, чтобы в строительный. Он хотел ехать в нефтегазовый, в Ивано-Франковск, а мы решили: пусть живет дома, так легче контролировать. Контроль не помог. Сын стал худеть. Поведение совсем изменилось: все куда-то спешил, все что-то ему было нужно. Нам говорили: он – наркоман. Мы не верили. Не может быть! Чтобы наш Ростик!.. Потом нашли дома шприцы. Испугались не очень: ерунда, полечим немного, все пройдет. Лечение не помогало. Но я по-прежнему боялась не наркотиков, а того, что сын пропадет где-нибудь. Пусть хоть и уколется, только дома. Он все понимал, видел, как мы дрожим, ищем его по ночам, если задерживается, и радовался: если так трясутся – примут в любом виде. Мы долго не понимали, что ходим рядом со смертью. Только в Днепропетровске нам открыли глаза. Не сразу, конечно. Поначалу нам и в “Выборе” не очень верилось, что можно что-то изменить. И лишь когда увидели других пациентов, которые уже выздоровели, подумали: неужели у нас не получится? Я сняла квартиру и стала ходить на родительские занятия. Слушала других матерей и понимала: у всех все одинаково – вранье, воровство. Одна мама рассказывала, как сын украл новую шубу: она так о ней мечтала, так долго копила деньги! Истории родителей и жен были очень похожи: всех нас дети просто не считали за людей. Кто мы для них были? “Лохи”! Нелли Дмитриевна помогала нам понять, как надо правильно относиться к выросшим детям: не контролировать, не опекать. Заставить отвечать за собственные поступки, заставить уважать родителей и не относиться к ним потребительски. Эту школу мы проходили вместе с мужем. Нам помогло то, что мы были едины, не вели себя так, как прежде: папа наказывает, а мама жалеет. Раньше, бывало, я давала Ростику деньги втайне от мужа, но потом научилась отвечать на все просьбы: “Финансами заведует папа”. Я стала больше прислушиваться к мужу, стараясь, чтобы у нас не было расхождений: дети всегда чувствуют, когда у родителей нет единства. Иногда мы думали: ну и дураки же мы были! Какими подарками его одаривали, какие сумки таскали в больницы! А он обменивал все на “ширку”! Блок сигарет “выкуривал” за дватри дня! И мы не видели, что нас просто “разводят”. Ростик и в “Выборе” не сразу перестал это делать. Как-то приходим в Центр через неделю после начала лечения, а он собирает вещи: “Я уже понял, что бросить можно и дома! Возвращаюсь!” Мы сказали: “Возвращайся на своих двоих – мы тебя не повезем!” Это произвело на него впечатление. Если поначалу он отмалчивался, теперь стал первым заводить разговоры: спрашивал о здоровье, о том, как дела дома, словом, проявлял человеческий интерес. На занятиях многое не просто удивляло, а шокировало. Нина Александровна рассказывала, что не обращала на своего Леню внимания, как на статую, не разговаривала с ним, а потом закрыла перед ним двери дома. Мне казалось, я никогда бы не смогла такого сделать. Но позже, когда Ростик после срыва выломал дверь в квартиру, созвонилась с мужем и вызвала милицию. Он не ожидал от меня такого и, переночевав в подвале, снова запросился в Днепропетровск. Мы знаем многие семьи, которым полтора-два месяца хватило на перестройку. У нас ушел год. И срывы у сына были, потому что мы не могли привыкнуть общаться с ним подругому. Пробовали, потом снова расслаблялись раньше времени. Пока не почувствовали – наступил “край”: до каких пор будем нянчить его, а он нас – обманывать? Как-то пришел, я его не впустила: “Забудь, что у тебя есть дом и родители, умирай под забором, но не дома. Нам еще внука надо поднимать, сколько можно с тобой носиться? Не 119 хочешь быть человеком – мы тебя похороним. Нам лучше жить без наркомана!” И жену я просила: “Лена! Не впускай его!” Тогда Ростик понял, что без нас он – никто, и на улице никому не нужен. Я считаю, изменения у нас начались, когда мы перестали нянчиться с ним и контролировать. После лечения Ростик решил поступить в институт. Мы удивлялись: “Ты ведь уже закончил один!” Он ответил: “Это не я – это вы закончили! А я хочу быть психологом!” Он стал меняться – научился считать деньги, мы стали ему доверять. Мы уже не говорим о наркотиках, но то, что у нас в семье нет места наркоману, подразумевается само собой. Ростислав стал директором Полтавского филиала “Выбора”. Могло ли нам раньше даже присниться такое! Если сейчас кто-то посмотрит на сына со стороны, увидит нормального человека. Он мыслит и рассуждает здраво! А что было прежде – и вспоминать страшно! Мы очень дорожим приобретенным опытом. Потому и решили строить Центр в Полтаве. И для наших детей, и для других. Может, и климат в нашем городе станет здоровее. Мы делаем это от души и не жалеем собственных денег: это деньги, которые вкладываются в здоровье детей. Если не будет моего сына, зачем мне деньги? Я очень благодарна Лене, жене Ростика, что не бросила его. Хватило у нас у всех терпения и настойчивости добиться успеха! Мне жаль родителей, которые не смогли пересилить себя, изменить отношения в семье и не получили результата! Ведь это возможно для всех, мы в этом убедились. Мы будто заново родились! А раньше – умирали от горя. И если это получилось у нас, получится и у других. “Я БЫЛА НЯНЬКОЙ НАРКОМАНА” Елена Когда я познакомилась с Ростиком, мне было восемнадцать лет. Он мне понравился, мне показалось, что я его полюбила. Но, как выяснилось позже, я совсем не знала своего будущего мужа. Мне сказали, что пять лет назад он принимал наркотики, а теперь бросил. Я не придала этому особого значения. В Украину мы переехали из Узбекистана – там курить анашу считалось в порядке вещей. Уже перед свадьбой папа сказал мне: “Смотри, он – наркоман!” Во время свадьбы Ростик куда-то отлучался. Почему-то это не показалось мне странным. Потом начались какие-то непонятные поездки. Вскоре я узнала, что у нас будет ребенок. Именно в этот день Ростик повел себя очень странно: заперся в ванной, отказывался выходить, кричал: “У меня “ломки!” Я не знала, что делать, и позвонила свекрови. Любовь Васильевна сразу приехала. Ростик стал бушевать: бил посуду и дверные стекла. Его отправили в больницу. Я очень переживала о здоровье ребенка: каким он будет, если отец – наркоман? Постоянно наблюдалась, сдавала анализы. Слава Богу, сын родился здоровым. Но жизнь с его отцом совершенно не клеилась. Несколько раз я уходила от Ростика, а сама ждала, что он придет за мной. Я надеялась, что все образуется. И Ростик какое-то время держался. А потом все начиналось сначала. Я поняла, что в девятнадцать лет у меня на шее повисли два ребенка, и с большим было куда тяжелее, чем с маленьким. Родители Ростика надеялись, что женитьба остепенит его, сделает человеком. Когда убеждались, что ничего не изменилось, часто говорили в сердцах: “Пусть хоть заколется!” Только когда доходило до крайней точки – передозировки – его принимались лечить. Я видела, что моя жизнь совсем не складывается, и почему-то ощущала себя виноватой: получалось, что Ростик колется, живя со мной. Но ведь он кололся и раньше! Постепенно я приходила к мысли, что с ним опасно жить вместе. Особенно, когда начинались “ломки”. Родители требовали, чтобы я запирала двери и никуда его не выпускала. Мне было страшно: а если бы он меня убил? Я завидовала свекрови: рядом с ней был настоящий мужчина, а на мне “висел” наркоман. 120 Я хотела развестись, но идти мне было некуда: родители жили с бабушкой в двухкомнатной квартире. А там, где я жила с мужем, обстановка становилась просто невыносимой. Если Ростик кололся, а я молчала, я оставалась один на один с наркоманом, а если рассказывала его родителям – они приезжали и начинали его ругать. Больше всего меня беспокоило, что все скандалы происходили в присутствии моего ребенка. Иногда я скрывала правду, лишь бы в доме была хотя бы относительная тишина. Перерывы между систематическими уколами становились все реже. Ростик все чаще попадал в больницу. Сначала я ходила к нему, выслушивала его обещания. Потом – перестала. Если раньше я любила его, потом ненавидела, наступил момент, когда я стала относиться к нему, как к непутевому родственнику: с одной стороны – обуза, с другой – жалко бросить. Врач в реанимации говорил: “Бросай его! Он неизлечим, а ты такая молодая!” Я бегала за ним по притонам, старалась “отловить” его и заставить идти на работу, но он проезжал одну остановку и бежал обратно. Когда он выходил из больницы и снова начинал колоться, бессилие просто разрывало меня на части. Я чувствовала себя так, будто попала в стеклянную банку. Иногда я делала попытки что-то изменить. Однажды Ростик пришел домой в невменяемом состоянии, я отказалась его впустить. Он стал выламывать дверь. Я вызвала милицию. Его забрали, но вскоре отпустили. Он вернулся “затареным под завязку”. Я уехала ночевать к родителям. Когда нам в руки попала видеокассета с фильмом о Центре “Выбор”, Ростик отнесся к ней скептически: “Они играют в футбол – это не наркоманы!” Но все-таки мы туда поехали. В тот момент я думала: уж если здесь не помогут – разведусь. Работа есть, проживу как-нибудь с ребенком. На групповых занятиях было очень тяжело общаться с родителями Ростика. Я старалась объяснить, что человек, который приходится им сыном, для меня – муж, и я хочу видеть в нем мужчину. Я понимала, что родители жалеют его как сына, мне же мало было роли няньки для наркомана, мне нужен был муж! Когда Ростик приехал домой на праздники, я потребовала, чтобы мы переселились к родителям: пусть вина за его уколы лежит если не на нем, то на всех. В Центре я поняла: Ростик не вернется к нам готовеньким, мы сами должны работать над нашими отношениями. Я твердо решила уйти от него, если он возьмется за старое. Но процесс реабилитации меня увлек. Мне понравилось ходить на занятия с психологом, все время узнавать что-то новое. Если возникали трудности – меня это только подстегивало. Порой я после занятий не могла заснуть до утра, мне казалось, что мозг просто распирает от мыслей, я даже чувствовала, как “шевелятся” извилины. Столько новой информации – как трудно было ее переварить! Как-то Леонид Александрович спросил меня: “Вы не боялись жить с наркоманом. Вы понимаете, что за этим стояло?” Я задумалась и вспомнила, как Ростик заставил меня перевезти в троллейбусе сумку мака. Он говорил, что я не вызову подозрений у милиции. Но что было бы, если бы меня задержали с этим маком? Мало того, что у нас дома постоянно присутствовали наркотики, что само по себе уже было криминалом, муж бывал очень агрессивным, он мог ударить меня, а, возможно, избить, покалечить, убить… А что могло случиться с маленьким ребенком, когда он бросал его одного дома и шел колоться? И до чего противна была его неискренность: он женился на мне, чтобы использовать. А я, дура, бегала за ним по притонам, не задумываясь, что со мной там что-то случится, и ребенок останется сиротой… Я стала анализировать наши отношения и обнаружила, что иногда Ростик провоцировал мои ссоры с его родителями. Он нарочно передавал им мои слова в искаженном виде, чтобы поссорить нас. Этот принцип давно известен: разделяй и властвуй. Он и стар, как мир, и все равно работает! А меня он просто старался закомплексовать, чтобы держать в узде, чтобы я думала: кому я нужна, да еще с ребенком? Теперь мы должны были научиться пресекать эти наркоманские манипуляции. 121 Мне интересно было наблюдать и за мужем: он, как ребенок, заново учился говорить, делать шаги. Сначала было просто удивительно вдруг увидеть его трезвым. Потом он начал ласково разговаривать и… мыть за собой посуду. Раньше такого не бывало. Когда Ростик вернулся домой, я засекала время, если он выходил в магазин. Прятала золото и дорогую одежду. Родители тоже приходили к нам каждый день после работы, наверное, хотели контролировать ситуацию. Ребенок болел, у меня не хватало времени убирать и готовить, и я выслушивала за это выговоры. Это раздражало, но возразить было трудно: за квартиру платили родители, мы от них зависели. Неделю после выписки муж вел себя образцово. Мы вместе гуляли с ребенком, он помогал по дому. Потом взял деньги и отправился “побегать”. Вернулся, уколовшись. Я не впустила его домой, хоть и очень переживала, не спала всю ночь. Это было очень тяжело морально. И он все время стучал, звонил. Порой казалось: не выдержу, впущу. Но я крепилась. Утром выбросила ему его вещи. Вечером он пришел и сказал, что хочет вернуться в Днепропетровск. Когда Ростик находился в “Выборе” второй раз, я продолжала исправно ходить на занятия. В глубине души меня терзали сомнения. Я не могла ему доверять. Сколько слез я пролила, сколько пережила! И так жалко себя было: я ведь была молодая, веселая, а во что превратилась – в няньку для наркомана. И ребенок мой стал нервным, он ведь жил в атмосфере постоянных скандалов. Живя с Ростиком, я растеряла всех подруг, стала скрытной, все переживала внутри себя. Как обидно мне было! Наверное, я зацикливалась на этом, озлобляясь против всех. Когда Ростик снова вернулся домой, колоться пошел уже через два дня. Я жила в постоянном страхе: он оставлял включенными газ и воду, мог налить сыну сырой воды и сказать, что она кипяченая. Он просто ничего не соображал. Я выгнала его из дома, и старалась поскорее прошмыгнуть через двор, чтобы не останавливаться с соседями. Сын не выходил на прогулки. Ростик мылся прямо во дворе, у колонки, на глазах всех соседей, а по ночам стучал в дверь, просил: “Сынок, впусти!” И сын бился в истерике. Я не выдержала и ушла жить к своим родителям. Занимаясь в Центре, я поняла, что ни перед кем не виновата и имею право жить, как хочу. Вскоре Ростик поехал в Днепропетровск в третий раз. Я уже не особо надеялась на его выздоровление, только радовалась, что хоть какое-то время можно пожить спокойно. Однако Ростик, против ожидания, задержался в “Выборе” почти на год. За это время я привыкла жить одна. Муж, правда, приезжал в отпуск, но я все еще побаивалась его, хотя он и начал меняться. Постепенно у нас стали складываться совсем другие отношения. Это было непросто. Я привыкла ругать его, кричать, возмущаться. А тут он возвращается – правильный, со своим взглядом на вещи. Мне было трудно быстро перестроиться. Иногда я просто не знала, как мне поступить, хотя и всегда помнила о том, что не должна навредить ему. Я приспособилась жить с наркоманом и совершенно не умела общаться с человеком. Хоть я и усвоила в Центре, что должна была жить не только для Ростика, сына и родителей, но и для себя, сделать это было не так-то просто. Ростик пытался делать что-то по дому, а я, по привычке, старалась взять всю работу на себя. Я где-то остановилась, надо было идти дальше, переосмысливать, перестраиваться. Я поняла, что мы должны перестать зависеть от родителей, а легко ли это сделать? Наши отношения с Ростиком и сейчас складываются непросто. Но изменилось главное: теперь, даже когда я злюсь на него, я не перестаю его уважать. Может, мы не всегда понимаем друг друга с полуслова, но важно, что мой муж стал мужчиной и отцом. Он работает в Центре “Выбор”, и мне очень приятно, когда знакомые говорят, что встретили Ростика на конференции или видели его выступление по телевидению. В их словах слышится удивление и уважение, и мне приятно, что о моем муже говорят в таком тоне. Я очень рада, что встретила людей, которые работают в “Выборе”. Я им так благодарна! Ведь в Центре изменился не только Ростик, изменились все мы! Я стала другой, иначе отношусь к людям: не обижаюсь, не завидую. Конечно, я чувствую себя взрослее своих сверстников: я больше пережила, у меня больше опыта. 122 Я часто прихожу в Центр, общение с Леонидом Александровичем и психологами помогает правильнее воспитывать сына. Здесь можно без боязни быть неправильно понятой, обсудить любые проблемы, откровенно поговорить о “больном”, я знаю, что мне всегда помогут найти правильное решение. Именно в Центре я поняла: все в жизни зависит от меня. И никто не виноват в моих ошибках. Если бы мы поступали по-другому, и жизнь складывалась бы иначе. 123 “НАРКОМАНИЯ ЛЕЧИТСЯ ДУШОЙ” История Юлии, Виктора Николаевича и Елены Константиновны “МОЯ НАРКОМАНИЯ “ВЫРОСЛА” ИЗ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ” Юлия Я росла в самой обыкновенной семье: папа, мама, младшая сестренка. Хорошо помню, что в детстве мне ни в чем не было отказа. Меня одевали в самые красивые платья, покупали лучшие игрушки. Учиться мне было неинтересно. Зачем? Когда я вырасту – родители найдут мне самую хорошую работу. Я старалась соответствовать лелеемому мамой образу “самой лучшей дочки”, но отсутствие интереса к учебе со временем стало приводить к конфликтам. Чтобы избежать их, мне приходилось врать, а чтобы вранье не обнаружилось – врать еще больше. Мама постоянно высказывала недовольство, все ей было не так: и оценки, и мои друзья, и даже мой внешний вид. Мне казалось, мама стала видеть во мне только плохое. И это было самой тяжелой проблемой моего детства. Чем дальше, тем хуже мы понимали друг друга, пока наши отношения совсем не испортились. Мама все время вмешивалась в мою жизнь, командовала, с кем дружить, какую прическу носить. Когда я перекрасила волосы, в доме разгорелся настоящий скандал. Как-то я нашла мамину фотографию: в молодые годы она тоже красилась. Я спросила: “Почему тебе можно, а мне нельзя?” Мама ответила: “Потому что тебе так лучше!” Мама всегда решала, что для меня “лучше”, у меня права голоса не было. Правда, она делала за меня и все остальное. Даже выполнять домашнюю работу не заставляла. Убирать, готовить, чистить обувь я училась у тети и бабушки (я часто жила у них из-за ссор с мамой). Единственное, что я должна была делать дома, – хорошо учиться. Если я не могла решить задачу, я слышала, что я – “тупая”. Мы с мамой почти всегда были в ссоре, и наладить отношения никак не удавалось. Помню, когда я жила у бабушки, пришла поздравить маму с праздником 8-го Марта – это был повод помириться. Я подарила ей помаду, а в ответ услышала, что ей было хорошо без меня. С папой у меня были совсем другие отношения, он никогда не кричал и не командовал мной. Но он много работал, а дома распоряжалась мама. Однажды, когда в школе попросили принести фотографии родителей, я отнесла, вместо маминого, фото совсем другой женщины. До сих пор не знаю, почему я это сделала. Наверное, это была единственная доступная мне форма протеста. Мне было неуютно в моей семье, я не могла поговорить по душам, поделиться своими проблемами. И меня тянуло на улицу, к друзьям, которые понимали меня, и с которыми можно было говорить обо всем, не боясь, что тебя осудят. Еще в школе я пробовала курить “план”. Укололась в семнадцать лет, когда училась в торговом училище. Приятель Витя предложил мне сделать укол. У меня не было страха перед наркотиками, и я укололась. В “систему” я вошла очень быстро. Родители не замечали этого целых три года, пока я не попала с передозировкой в больницу. Я тогда уже далеко зашла. И родители, осознав это, стали пытаться вернуть меня к нормальной жизни. Это у них получалось плохо: я попадала в больницу с передозировками еще три раза. Со временем жизнь моя превратилась в постоянную борьбу. Каждый раз, забирая меня из больницы, родители устанавливали жесткий контроль, не разрешали выходить из дома, подходить к телефону. Если они уходили, то брали меня с собой или оставляли под замком. 124 Но я все равно умудрялась уколоться. Через некоторое время родители решали, что я уже достаточно посидела взаперти и отвыкла колоться (они еще не умели разбираться в моем состоянии). Меня начинали выпускать из дома, и так продолжалось до тех пор, пока они не обнаруживали дома очередной шприц. Я убегала из дома, пряталась от родителей месяцами. Они отлавливали меня и укладывали в больницу. Мы ходили по кругу: больница – дом – побег – уколы. Потом я встретила на рынке подругу, с которой долгое время вместе кололась. Она была трезвой, рассказала, что ходит в какую-то евангелистскую церковь. Я тоже стала туда ходить. Веру я не обрела, но мне нравилось общаться с людьми. Я не кололась целый год, стала работать на рынке, ездила за товаром в Польшу и Одессу. Познакомилась с парнем, стала жить с ним. Не сразу поняла, что он любил жить за чужой счет. Бывало, тащу домой картошку – он стоит на балконе, курит, и даже не спустится помочь. Однажды я пришла домой с работы – уставшая, голодная, а Паша сидит у соседки, развлекается. Я сказала: “Переезжай к ней”. Забрала свои вещи и ушла – колоться. Снова попала в “систему”. Жила, где попало, лечиться не хотела. Мне вообще не хотелось нормально жить, гораздо лучше было так. Если бы папа не искал, не встречались родственники, было бы совсем хорошо. Родители периодически вылавливали меня и боролись. Разными методами. Было время, когда они сами возили меня за “ширкой”: решили, что так я, по крайней мере, буду на глазах. Раньше, когда я скиталась, знакомые постоянно рассказывали им, что встречали меня в ужасающем виде. Однажды, после моего очередного побега, меня поймали и посадили на цепь. Привезли на дачу и приковали к батарее. Я была черная, грязная, уже ни во что не верила и ничего не хотела. Я просидела на цепи две или три недели. Только раз в день, строго в восемнадцать часов, меня выпускали во двор – посидеть часок на лавочке. Папа требовал, чтобы такой порядок соблюдался неукоснительно. Удивительно, но родители словно поменялись ролями. Папа был строг, а мама… Мама спала рядом со мной, все время плакала. Она говорила то, чего я прежде никогда от нее не слышала: как она переживала, что чувствовала, когда меня не было дома. Она вела себя совсем иначе: не командовала, а сочувствовала. Еще я увидела, что она любит и боится меня – боится отпустить с цепи. Вскоре родители отвезли меня в реабилитационный Центр “Выбор”. Нам уже приходилось о нем слышать – от девочки, которая там лечилась, и от врача, который проходил там стажировку (он, правда, рассказывал об этом без энтузиазма). Потом мама прочитала о “Выборе” в справочнике “Реабилитационные центры Украины”, позвонила и записалась на консультацию. Со мной беседовала Карина. Она сказала: “Если сможешь неделю не колоться – приезжай, мы тебя возьмем”. Я думала: какой там “колоться”! Я была счастлива, что меня спустили с цепи! Родители привезли меня домой, я снова встретила сестру. Она не обрадовалась моему присутствию, удивлялась, зачем меня впустили в квартиру. А мама вела себя странно: не следила, но говорила, что, если я не поеду лечиться в Днепропетровск, я могу жить, как хочу, они не будут меня искать, но и в дом не пустят. Сидя на цепи, я многое передумала. Когда я жила на улице, надо мной постоянно висела угроза попасть в милицию, наркоманы, у которых я ночевала, не раз обворовывали. Родственники видели, в каком я состоянии, и не хотели иметь со мной ничего общего, а папа, как мне потом рассказали, даже ходил к участковому, просил, чтобы меня “закрыли”. Не раз мне приходило в голову, что лучше бы мне поскорей умереть, чтобы не мучить ни себя, ни родителей! И вдруг у меня появилась надежда! Я считала дни до того времени, когда уеду в Днепропетровск! Первые дни в Центре я ничего не понимала. Я смотрела на Леонида Александровича и не понимала, как он меня вылечит. Только интуитивно чувствовала, что мне не сделают здесь ничего плохого. Но я не понимала, зачем должна рассказывать врачу о себе, что мне это даст? Через некоторое время я вернулась в Полтаву, устроилась на работу. Хотела выучиться на парикмахера, но родители отказались оплачивать учебу. Потом в Полтаве открылся филиал Центра. Надо было делать ремонт. Ростислав позвал меня помогать. А я уже начала колоться. 125 Как-то пришла в Центр в таком состоянии – меня выгнали. Я позвонила домой и сказала, что не приду. Мама ответила: “И не приходи!” Кололась я неделю. Больше не выдержала. Я вспоминала, как хорошо мне было, когда я жила и работала в Центре, как хорошо в последнее время мне было дома! Я вернулась к родителям, сама “спрыгнула” и снова пошла в “Выбор”. Приходила сюда утром и уходила вечером. Попросила разрешения убирать помещение. Какое счастье было, когда мне выдали первую зарплату – пятьдесят гривень! Потом стала готовить для пациентов обеды, мне предложили поработать поваром. У меня в жизни были только родители и Центр! Я очень боялась, что “Выбор” вернется в Днепропетровск: что я тогда буду делать? Теперь я понимаю, что моя наркомания “выросла” из отношений в семье, где не было открытости, искренности, понимания. Эта пустота заполнялась случайными людьми. Отсутствие человеческого тепла, внимания и заботы толкало меня на улицу, но там можно было найти только суррогаты любви и дружбы. И моя жизнь пошла под откос… Сейчас – уже три года! – я живу совсем по-другому. Я учусь на парикмахера и уже делаю успехи. Помню, было время, когда я завидовала людям, которые были способны вот так жить: каждый день вставать по утрам, ходить на работу, потом возвращаться домой! У них в жизни было то, чего не было у меня. Теперь я все это обрела. “МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ ВЫБОР ДОЧЕРИ” Виктор НиколаевиЧ Мы с женой, конечно, слышали, что есть такая болезнь – наркомания, но к своим детям не считали нужным приглядываться. Нам казалось, что наркотики существуют где-то в другом мире. Я работал с пятнадцати лет: на производстве наркомании не было. Рабочие могли выпить, но чтобы колоться – о таком никто не слышал. Может быть, мы упустили Юлю, когда родилась вторая дочь. Она была совсем маленькой, о ней больше заботились. Нас предупреждали, что мы должны уделять Юле больше внимания. Мы и старались ее получше одеть, накормить. Нас ведь тоже так воспитывали, то есть – практически никак. У нас было самовоспитание: я знал, что обязан прийти на работу к семи утра – и никаких гвоздей. Я подростком был занят от и до: работа, спортзал, вечерняя школа. Тут и воспитания никакого не надо было – времени на глупости не оставалось. Я часто работал в вечернюю смену, и не то, что воспитывать – пообщаться с детьми времени не было. С дочками занималась жена. У нее главным принципом воспитания были выговоры. Если ребенок делает что-то не так, значит, его надо отругать. Я ее уговаривал: “Лена, постарайся быть Юле другом, подругой!” Но жена жаловалась: “Она плохо учится, слишком много гуляет!” Я не видел в этом ничего страшного: ну, гуляет ребенок, так и я в ее возрасте любил погулять – дело молодое. Однажды ко мне пришел парень, с которым Юля встречалась, рассказал, что Юля пробовала наркотики, ей надо помочь. Я еще не осознавал, насколько это серьезно, думал: я с ней поговорю, все образуется. Юля испугалась, узнав, что мне все известно. Мы договорились, что не будем говорить об этом маме, решим проблему сами. Это была ошибка, ведь я тогда не понимал, что такое наркомания. Когда Юля попала в реанимацию после передозировки, я стал искать помощи у врачей, расспрашивать о методах лечения. Пошел на прием к главному психиатру. Там встретил санитарку, у которой в семье был наркоман – она рассказала такие ужасы! Предсказывала, чего надо ожидать. Врачи этого не делали. Главный сказал просто: “Будем лечить”. Я возил ее каждый день в больницу на процедуры. Решил не отпускать от себя ни на шаг, чтобы была под постоянным присмотром. Еду на базар торговать – и Юлю беру с собой. Мне казалось, все налаживается. Я стал расслабляться. Когда у Юли случился срыв после ссоры с Пашей, я снова бросился читать литературу, ходил на прием к наркологам и психиатрам. Но их лечение Юле не помогало, – она продолжала падать на дно. Только после “лечения” срывы были еще ужаснее. Со временем мы поняли, что наркомания таблетками не лечится, а что делать, все равно не знали. Не было 126 ни одного примера, чтобы кто-то бросил наркотики. Наступило время, когда я уже ни во что не верил, “похоронил” Юлю при жизни. Понимал: не сегодня-завтра она умрет от очередной передозировки. Когда жена позвонила в “Выбор”, и мы поехали в Днепропетровск, я ни на что не надеялся. “Сдадим”, пусть хоть месяц побудет где-то, а мы передохнем. На групповые занятия для родителей я не ходил: не верил. Привезу жену, а сам сижу в машине – читаю, курю. Она выйдет, поневоле спрошу: “Ну, что там?” Она говорит: “А ты пойди, послушай”. Пошел от скуки. Вижу, люди собрались приличные, серьезные, и все, вроде, на что-то надеются. У когото – уже есть результаты. Я заинтересовался, стал прислушиваться. Да и выговориться здесь было можно. А мне этого очень не хватало, было так тяжело на душе. Чем больше я слушал, тем лучше понимал, что лечить надо не только Юлю, но и меня. Девяносто пять процентов моих действий были неправильными. Если бы я сразу это знал, скольких ошибок избежал бы! Если бы кто-то дал в руки “правильную” книгу, сказал: “Читай, ты получишь совет, опыт, поймешь быстрее!” Ведь пока мы учимся на своих ошибках, дети умирают на глазах: каждый шприц может принести смерть! Когда я стал приходить на группы к психологу, появилась надежда – маленький лучик. И с людьми общаться было интересно. А потом я заметил перемены в Юле. Я не знаю, что с ней сделали, но она стала другой. Раньше она просила только деньги или вещи, манипулировала мной: поцелует – я и растаю. В “Выборе” у нас начался человеческий контакт. Здесь я понял: если человек “просидел на игле” долгие годы, вернуть его к жизни за месяц-другой трудно. Если бы мы с детства уделяли дочке больше внимания! К сожалению, у нее в семье не было друга – и она пошла искать его на улицу. Воспитание – это не то, что мы говорим детям, а то, что мы делаем, то, что они видят. Бесполезно ругать и учить, если нет личного примера. То, что заложили в нас в Днепропетровске – было только начало начал. В Полтаве у Юли снова произошел срыв. Но я уже знал: помочь ей смогут только в “Выборе”. К счастью, Центр уже работал в Полтаве – мы сами участвовали в его создании. И когда Юля снова начала колоться, я старался выполнять все рекомендации психолога, прислушиваться к опыту и советам других родителей. Мы не удерживали Юлю дома, сказали: “Живи, как хочешь. Это твоя жизнь. Только мы не хотим в этом участвовать”. Мы предоставили выбирать ей самой – и она сделала правильный выбор. Когда Юля начала становиться на ноги, мы дали ей понять, что взрослый человек должен жить своим трудом. Мы не мешали ей выздоравливать, не баловали, не покупали дорогих вещей. Хочешь одеваться красиво – старайся работать лучше. Я заметил, что когда дети начинают выздоравливать, они учатся жить самостоятельно, а накопительство и любовь к вещам уходят на второй план. Пусть Юля ходит в искусственной дубленке – зато она купила ее на свои деньги. Это гораздо важнее. Наверное, даже после многих лет наркомании человеческое остается в детях, но как его рассмотреть! Если бы кто-то подсказал! Психолог учила нас, что нужно уметь отделять хорошее от плохого, правильно реагировать на хорошие и плохие поступки. Наркомана надо ставить на место: сделал плохо – отвечай! За все приходится платить! Детям необходимо давать верные ориентиры. В наше время о наркомании уже нельзя молчать, это может случиться с каждым. Но люди должны знать, что она лечится. Только не таблетками, а душой, сердцем. “ЕСЛИ БЫ У НАС БЫЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ДОЧЬ НЕ СТАЛА БЫ НАРКОМАНКОЙ” Елена Константиновна Когда Юля пошла в первый класс, у нас родилась вторая дочь – Аня. Я переключила все внимание на нее. Муж упрекал меня: “Юля у нас как падчерица”. Так оно и было. 127 Я была к Юле слишком требовательной. Ребенок пошел в школу – значит, он должен быть вундеркиндом! Другого я не признавала. Меня еще в детском саду предупреждали, что Юле будет трудно учиться в школе, что с ней нужно больше заниматься. Но я не прилагала усилий. Проще было требовать. Юля училась средне, а я хотела отличницу! Моя дочь должна быть лучше всех! Мне не хватало терпения, я часто срывалась на крик, ругала Юлю. Иногда даже била. Она очень страдала от этого. Как-то, когда дети уже выросли, и у Ани родился сын, я запрещала ей шлепать внука, говорила: “Детей бить нельзя!” Юля взвилась: “А почему же ты била меня за “двойки” скакалкой?” Что я могла ответить? Раньше я многого не понимала. Я не допускала мысли, что у всех разные способности, и моя дочь имеет право быть несовершенной. Особенно стало доставаться Юле, когда Аня пошла в школу и стала учиться на круглые “пятерки”. Наверное, постоянными сравнениями я развивала в старшей дочери комплекс неполноценности. Конечно, это не способствовало душевной близости, Юля не доверяла мне своих секретов, я не знала даже, с кем она дружит, а к выпускному классу наши отношения совсем расстроились. О наркотиках я имела весьма смутное представление. Для меня это было связано с криминалом, и не могло иметь отношения к моей семье. Я замечала, что с Юлей происходит что-то странное, но это пока не выходило за рамки. Иногда я пыталась вмешаться в ее жизнь и понять, что происходит, но разговора по душам не получалось. Я высказывала недовольство, что дочь все время где-то пропадает, только ночевать домой приходит. Муж говорил: “Скажи спасибо, что приходит. Дело-то молодое!” Он вообще всегда защищал Юлю. Однажды Юля не пришла ночевать. Муж нашел ее утром в реанимационном отделении психиатрической больницы. Я узнала, что дочь принимает наркотики, и заняла позицию оскорбленной добродетели. Прочитала Юле мораль и решила, что этого достаточно, чтобы она образумилась. У мужа был знакомый, который в юности “сталкивался” с наркотиками. Он посоветовал никуда не выпускать Юлю. Мы так и делали. Однажды я увидела в городе афиши проповедника из Швеции. Он утверждал, что в их “церкви” исцеляют наркоманов. Мы пошли на это собрание с Юлей. Неожиданно она встретила там знакомую, которая регулярно посещала “богослужения” и уже четыре месяца не кололась. Юля тоже стала туда ходить. Я не была от этого в восторге. На “богослужениях” их вводили в транс, это было неприятно, и все же лучше, чем принимать наркотики. Юля ходила туда целых два года. Потом познакомилась с парнем, переключилась на него. Через какое-то время у них начались психологические проблемы. Может быть, если бы у нас с Юлей были доверительные отношения, дочка обсудила бы это со мной, и я могла бы ей помочь. Поскольку контакта не было – Юля вернулась к наркотикам. Мы снова начали ее лечить. Больницы, “церкви” – ничто не помогало. Под Полтавой был реабилитационный центр христиан-баптистов. Мы отвезли ее туда, но она сбежала, продав постельное белье. Мы снова тащили ее в наркодиспансер, там освоили новый метод: уколы (заменитель героина) плюс система “12 шагов”. Юля возмущалась: “Зачем мне здесь находиться, если они все время называют себя наркоманами? Год не колется, а продолжает твердить: я – наркоман такой-то!” Ходила она и в организацию “Квітень”, и в “Світло надії”, ее даже брали туда волонтером, и везде она умудрялась колоться. Врачи тоже не могли помочь. Сразу после выписки Юля шла за наркотиками. Пряталась от нас, жила, неизвестно где. Мы вылавливали ее, она снова рвалась из дома. Было время, когда мы сажали ее в машину, везли на “малину” за наркотиками, давали деньги: “Иди, колись, только возвращайся домой, чтобы мы не волновались по ночам!” Наступил момент, когда я стала ждать, что ко мне придут из милиции и скажут, что Юля умерла. Однажды встретила доктора из психиатрической больницы – Надежду Леонидовну. Она спросила, как дела, я расплакалась: “Не знаю, что делать!” Она сказала: “Выгони ее из дома! Спасай дочь! Иначе она совсем сколется!” Я возмутилась: “Как это – выгнать!” Я звонила по разным клиникам. Думала продать квартиру и везти Юлю в Бишкек, в клинику Назаралиева. Я металась в поисках выхода и не знала, на чем остановиться. Мы отгородились от мира и замкнулись в своей беде. 128 Юля не воровала, не занималась проституцией на трассах, ей удавалось занимать деньги у знакомых. Полсотни человек были ее кредиторами, некоторые давали ей деньги даже не один раз. Наступило время, когда они начали приходить к нам с требованиями вернуть Юлины долги. Сначала мы пробовали их возвращать, потом поняли, что разоримся прежде, чем все оплатим. Однажды ребята, у которых она занимала, привели ее домой прямо за шиворот. Я испугалась: дочь была одета как бомж, по всему телу – сыпь. Я спросила: “Юля, что будем делать?” Она попросилась в больницу. А я уже не верила ни больницам, ни врачам. Мы отвезли ее на дачу, чтобы изолировать от “кредиторов”. Юля забеспокоилась: “Мне будет плохо! Привезите аминазин!” Муж привез цепь. Мы привязали Юлю к батарее. Удивительно, но она даже не возражала. Она уже была готова на все. “Ломка” тоже прошла на удивление спокойно. Я давала Юле только сильные анальгетики и больше ничего. Мы позвонили в психиатрическую больницу, там сказали: “Везите к нам, она может умереть!” Я посоветовалась еще с одним врачом, он сказал, что ни один наркоман еще не умер от абстиненции. Скорее – от передозировки. И мы оставили Юлю на цепи. Когда я нашла в брошюре о реабилитационных центрах адрес Центра “Выбор” и позвонила туда, мне сказали: “Приезжайте на консультацию. Мы должны увидеть Вашу дочь”. Это было непривычно. Обычно когда я звонила в какую-нибудь лечебницу или реабилитационный центр, мне говорили: “Нет проблем. Приезжайте”. Необычным в “Выборе” было и то, что родители тоже должны были посещать занятия с психологом. Я аккуратно приезжала в Днепропетровск по субботам, участвовала в группах, но долго не понимала, чего от меня хотят. Что значит: надо изменить отношения в семье? Шесть занятий – это так мало. Потом Юля вернулась домой, и через некоторое время у нас снова начались проблемы. Наверное, иначе и быть не могло. Дочь вернулась в ту же среду, где ничего не изменилось, поэтому и результат был нулевой. Центр уже переехал в Полтаву, Юлю взяли туда работать, когда она начала покалываться, сразу же выгнали. Первым моим побуждением было – бежать искать ее по всему городу. Мне было спокойнее, когда она дома. Но когда Юля пришла домой “уколотая”, я решила ее не впускать. Наверное, что-то запало мне в голову на тех занятиях с психологом, я сама удивлялась своему спокойствию. Раньше я стояла в дверях насмерть, не выпуская ее из дома. А тут – посмотрела и сказала: “Я не хочу тебя видеть!” Утром Юля вернулась, сказала: “Мне холодно, я хочу одеться теплее”. Я отдала ей самую плохую одежду. Она возмутилась: “Я в этом должна идти? Я ведь хочу вернуться в Центр!” Я ответила: “Иди, куда хочешь”. Она кричала: “Ты меня больше не увидишь!” Но неожиданно вернулась, села у стены и стала рыдать. Я увидела такое отчаяние! Мне кажется, она сама себя ненавидела! Я сказала: “Юля, ты сама должна выбирать, как тебе жить. Наркоманию мы больше терпеть не будем”. Она попросила тридцать копеек на автобус, умылась, причесалась и поехала в “Выбор”. Вечером Юля вернулась домой, и я увидела в ее глазах осознанное желание изменить жизнь. Мы снова стали ходить на родительские группы. Теперь мы работали не над Юлей, а над собой. Стали больше советоваться друг с другом, спрашивать мнение Юли. Раньше я разговаривала с ней, в основном, в ироническом тоне, теперь это должно было измениться. Я отказалась от привычки командовать, разговаривать повелительным тоном, навязывать свое мнение. Я решила отдать инициативу дочери – пусть выбирает сама, как ей жить, что делать. Я поняла, что раньше просто унижала Юлю, а ведь в семье надо считаться со всеми. Когда я спросила ее, почему она убегала из дома, Юля ответила: “Мне было там неуютно!” Еще бы, ведь я постоянно ругала ее! Папа, правда, жалел. Но ребенку не нужна жалость. Ему нужно уважение. У родителей много общих ошибок. И у всех, кто приходит в реабилитационный центр – одна беда. Поэтому нет смысла что-то утаивать, приукрашивать. Все говорят откровенно, и чужой опыт часто помогает осознать свои заблуждения. Оказалось, многим пришлось пойти на крайние меры, чтобы заставить детей менять поведение. Я часто вспоминала слова Надежды Леонидовны о том, что Юлю надо выгнать из дома. Если бы она тогда сказала, зачем это надо сделать! 129 Я слушала других родителей и анализировала свое поведение. И пришла к выводу, что теперь моя задача – сделать так, чтобы Юля почувствовала себя нужным человеком в семье. Ведь она ушла к наркотикам от нас, и, значит, мы должны измениться, чтобы она захотела вернуться. Сейчас Юля стала мне доверять, иногда спрашивает совета. Я думаю: если бы у нас в детстве были доверительные отношения, может, она не стала бы наркоманкой. Ну, поссорилась бы с другом, пришла ко мне, все рассказала, я посоветовала бы ей что-нибудь, или просто утешила. И она не пошла бы колоться. Осознать это мне удалось только в “Выборе”. С тех пор прошло почти три года. Юля работает в Центре и учится на парикмахера. Мы продолжаем приходить в Центр и часто участвуем в профилактической работе: встречаемся с учителями и родителями школьников, делимся своим опытом, объясняем, как надо поступать, чтобы ребенок не вырос наркоманом. 130 “МЫ СТАЛИ НАСТОЯЩЕЙ СЕМЬЕЙ” История СергеЯ и Наталии Владимировны “Я НАШЕЛ КОМПАНИЮ, В КОТОРОЙ МОЖНО ЖИТЬ” Сергей Мой отец пил запоями. Когда был трезвым, мы с ним дружили: он брал меня на рыбалку, позволял курить потихоньку от мамы (не знаю, зачем он это делал, но мне нравилось). Когда отец уходил в запой, до меня ему не было никакого дела, а маму он обижал. Мне это было неприятно, и я не удивился, когда мама с ним развелась. Я радовался этому еще и потому, что после развода мы переехали, и я наконец-то попал в большую компанию, о которой давно мечтал, и в которую меня приняли, как равного. Я и раньше хотел обрести много друзей, чтобы проводить время весело и беззаботно. Еще до знакомства со своими новыми товарищами я начал курить “план”. Теперь его можно было курить вместе – и вместе веселиться. На это стало уходить все свободное время. Я старался избегать домашних обязанностей, неделями прогуливал школу. Мама все улаживала, договаривалась с учителями. В то время я уже не мог представить свою жизнь без “плана”. Если его не было, все время уходило на поиски, когда он появлялся – мы курили, смеялись, и все казалось хорошо. Курение стало смыслом жизни, без него мы не могли общаться, и говорить, вроде, было не о чем. Тем не менее, наркоманом я себя не считал (я ведь не кололся, как другие) и думал, что никогда им не стану. Хотя уже тогда в моей жизни не было других целей, кроме развлечений. Покурим – посмеемся, потом расскажем другим, над чем смеялись. Так проходило все время. При этом я почему-то свято верил, что я – хваткий парень, и всего в жизни сумею добиться, по крайней мере, мне обязательно повезет. Когда мама спросила, не хочу ли я учиться в военном университете, я спросил, что для этого надо делать. Она ответила: “Ничего”. Я согласился, потому что понял: еще месяц до поступления я могу гулять в своей компании, а больше мне ничего не было нужно. В университете моя жизнь круто изменилась: незнакомый город, жесткая дисциплина, очень мало свободного времени. Я “освоился” месяца через четыре – нашел товарища, с которым можно было вместе курить “план”. Ничто другое не интересовало. Если вечером не удавалось покурить, казалось, что день прожит зря. Так я “учился” до третьего курса, постепенно “обрастая” знакомыми и “земляками”. Как-то один “земляк” предложил попробовать “винт”. Я очень боялся колоться, это ассоциировалось с зависимостью и диагнозом “наркоман”. Но моему знакомому очень нужны были деньги, и он старательно объяснил, что от “винта” не бывает “ломок”, к нему не привыкаешь, как к “ширке”, и зависимость не появляется. “Винт” мне очень понравился. Появились раскрепощенность, храбрость, отсутствие “тормозов”, ощущение, что ты все можешь – по сравнению с этим “план” казался детской игрушкой. До каникул я успел уколоться три раза. А дома, где не мог достать “винта”, попробовал “ширку”. Она меня разочаровала: после укола я чувствовал злость, становился раздражительным, никого не хотел видеть. И я снова вернулся к “винту”. Если первое время я кололся для того, чтобы “хорошо погулять”, позднее сразу после укола стало появляться желание сварить еще. Меня уже не интересовали люди, не 131 существовало ничего, кроме желания уколоться. Это становилось смыслом жизни, я уходил в “винтовые марафоны” с головой, отдавая все свое время – сутками напролет. У некоторых людей на это уходят годы, я же превратился в животное всего за два месяца. Худой, зеленый, я испытывал только две потребности: уколоться и изредка поесть. Когда случались “перерывы”, я начинал чувствовать страх, что мама все узнает, что меня выгонят из университета – и снова бежал колоться, чтобы забыть обо всем. Два дня без укола казались целой вечностью. Иногда возникала мысль, что надо отлежаться, отоспаться, но я оттягивал это до последнего момента, до полного истощения сил. Однажды меня поймали за курением “плана”, проверили руки. Увидев следы уколов, решили выгнать из университета и даже завели дело. Мама приехала и забрала меня домой. Ее знакомые, которые раньше помогали мне, теперь отвернулись, не хотели иметь со мной ничего общего. Я и сам уже потерял способность общаться с людьми, без дозы не мог связать двух слов. При этом я продолжал пребывать в уверенности, что когда-нибудь, когда “будет надо”, обязательно брошу “винт”: не насовсем, конечно, а так, чтобы колоться “по праздникам”. Маме я сказал, что “винт” – не такой страшный наркотик, как “ширка”, и особо бояться нечего. Тем более, что два месяца в Полтаве я не кололся: не знал, где найти наркотики, да и свободная жизнь вдали от казармы какое-то время радовала сама по себе. Снова “нырнул с головой”, когда встретился со старыми друзьями. Многие тоже успели попробовать “винт” и знали, где его достать. И снова в считанные дни я резко изменился в лице, да и в душе тоже. Стал совершать необдуманные поступки. Даже решил жениться на девушке, с которой познакомился всего день назад. Мы сидели в ресторане, и под действием “винта” мне вдруг пришло в голову, что девушка – красивая, и все так хорошо… Месяц мы кое-как прожили, постоянно выпивая. Начались бытовые проблемы, стычки, и каждая ссора была поводом уколоться. Я снова “занырнул”, и очень скоро понял, что, кроме “винта”, меня ничто не интересует. Жизнь сводилась к схеме: варки – уколы. Я погряз в долгах и постоянной лжи: врать приходилось на каждом шагу. Мама все видела, постоянно плакала, ругалась. Я орал на нее, а чтобы не видеть слез – старался меньше бывать дома. Настал период, когда действие “винта” ослабело, мне постоянно требовались новые дозы, и все время уходило на варки и уколы. Другие потребности отпали напрочь. Началась паранойя: мне казалось, что за мной следят, я старался как можно лучше занавешивать окна. Иногда мне слышались шаги тех, кто “идет меня забирать”. Мама несколько раз ходила в реабилитационный центр “Квітень”, где лечили по системе “12 шагов”, потом нашла Центр “Выбор”. Ее поведение изменилось, она стала настойчивой. Сказала: “Или лечись, или уходи из дома!” Я и сам чувствовал, что “организм нуждается в отдыхе”. Подумал: там со мной что-то будут делать, как-то “лечить”, если это будет не трудно, я соглашусь. Первый раз пришел на консультацию, уколовшись. Удивился: я в этом состоянии обычно очень легко “находил общий язык” со всеми, а здесь со мной почему-то даже не хотели разговаривать! Пришлось приходить трезвым. Попав в “Выбор”, я решил не нагличать: у мамы было много долгов, а она еще заняла деньги на лечение. Я боялся, что меня выгонят, и вел себя тихо. Как-то на группе меня спросили, люблю ли я маму. Я ответил, что люблю. Мне задали вопрос: “А что хорошего ты для нее сделал?” Я мог вспомнить только о том, что жарил для нее картошку. Ох, и досталось мне за эту картошку! Мне сразу же объяснили, что моя “любовь” оборачивается для мамы страданиями, что я отнимаю у нее здоровье и годы жизни. Я “подставлял” маму, варя “винт” в ее квартире – как я при этом мог думать, что я ее люблю? Это было потрясением, ведь я считал себя добрым человеком, который в принципе любит людей и никому не желает зла. Мне раскрыли глаза: я не люблю никого, кроме себя, ни о ком не думаю, и, к тому же, полностью завишу от мамы. Если меня выбросить на улицу – я не смогу заработать на кусок хлеба. По сути, я был “козлом отпущения” на все случаи жизни: в милиции со мной могли сделать все, что угодно. 132 Сначала я с трудом воспринимал то, что мне говорили. Но со временем, когда последствия действия “винта” стали проходить, я стал более внимательно всматриваться в то, что происходило вокруг. Я видел, что к лентяям здесь относятся плохо, и начал работать – убирать и мыть посуду, потом – бегать по утрам, играть в теннис и футбол. Вскоре у меня появились общие интересы с другими ребятами: командная игра к этому располагает. Правда, все мои действия тогда были не осознанным изменением позиции, а приспособлением к новым правилам: я делал то, за что хвалили, и старался избегать вещей, за которые выговаривали. Я сразу понял, что говорить здесь надо только правду (иные “номера” не проходили), и говорил ее формально, не участвуя в происходящем душой. Вскоре на группе мою позицию “разоблачили”: мне сказали, что я просто подстраиваюсь, чтобы втереться в доверие. Я тогда этого не понимал и обиделся, лишь через какое-то время понял, что Леонид Александрович и ребята были правы. Я стал работать серьезно, прислушиваться к тому, что мне говорят, анализировать свои мысли и желания. Вскоре я осознал, что наркотики для меня – смерть. Я видел, что многим ребятам удалось вернуться к нормальной жизни, и у них все складывается иначе. Между ними были по-настоящему теплые отношения, и мне захотелось того же: мне захотелось заслужить их уважение и доверие, чтобы стать частью этого коллектива. Меня всегда тянуло в большую компанию, но только сейчас я нашел компанию, в которой можно было жить. Когда я принялся стараться, выяснилось, что я – достаточно трудолюбивый человек, и у меня многое получается. Я начал заниматься тяжелой атлетикой, и штанга вскоре стала для меня чем-то более важным, чем спортивный снаряд. Занятия спортом не только помогали приобретать уверенность в себе, они сближали с ребятами. И я чувствовал, что не хочу променять их уважение на наркотик. Я поступил в технический университет на заочное отделение и стал работать в строительной фирме Виктора Николаевича. Я понял, что для меня важно получить образование и профессию: это и значит – реализовать себя и добиться успеха в жизни. Конечно, интереснее было бы учиться на дневном отделении, но тогда пришлось бы брать деньги у мамы, а этого я больше не хотел делать. Я понял, что мама очень мне дорога, и я хочу иметь возможность заботиться о ней. Для этого я должен стать самостоятельным, твердо встать на ноги. Думаю, это еще впереди. Ведь я живу без наркотиков только два с половиной года. Иногда я вспоминаю старых друзей и думаю: хорошо было бы привести их в “Выбор”. К сожалению, они еще не дошли до той точки, когда человек чувствует необходимость изменить жизнь. “СЫН СТАЛ МНЕ ДОВЕРЯТЬ” Наталия Владимировна Я разошлась с мужем, потому что увидела: я теряю сына. В “переходном возрасте” Сережа стал пропадать из дома, часто ночевал у друзей, жил как будто вне семьи. Мне это не нравилось, а муж, наоборот, приветствовал: он выпивал и пытался купить уважение сына, заигрывая с ним. Взаимопонимания в семье не было. Сергей стал грубить, относиться к нам неуважительно. На его грубость и наглость я реагировала очень бурно, могла и ботинком в лицо запустить. Я выросла в семье, где нагрубить родителям было равносильно святотатству, и не понимала, как можно терпеть такое обращение со стороны своего ребенка. Чтобы оградить его от неблагоприятного влияния мужа, я подала на развод. Потом переехала в Полтаву. Хотя, наверное, в том, что Сережа стал таким, была и моя вина. Я почти всю жизнь занимала ответственные должности, много времени проводила на работе, часто уезжала в командировки. Думаю, я уделяла сыну мало внимания. Воспитание я понимала как необходимость вести его по жизни за руку. Если у Сережи возникали проблемы с учебой – это были мои проблемы. Выбор профессии для сына я тоже взяла на себя. Обучение уже почти везде было платным, а денег у нас было немного. Зато у меня была возможность устроить Сережу в военный университет. Это было в другом городе, но мне нравилось, что там 133 образование бесплатное и уделяют внимание дисциплине, я подумала: моему сыну это не помешает. Я “организовала” поступление, нашла ему жилье, словом, обеспечила все необходимое. Первый год Сережа еще учился, хотя постоянно высказывал недовольство: “Мне здесь не нравится. Пьяные офицеры заставляют курсантов танцевать под гармошку! Это издевательство! Я все брошу и поступлю в строительный институт”. Но на обучение в строительном были нужны деньги, а сын еще не стоял твердо на ногах, я не могла ему доверять. Впрочем, и в военном университете Сережа практически не учился. Сдачу экзаменов ему снова “организовывала” я. От него требовалось только прийти с зачеткой в нужное время в нужную аудиторию. Сын сильно изменился, похудел, появилась вялость, сонливость. Постоянно просил деньги: то “на аборт для девочки”, то “на лечение венерических заболеваний”. У меня лишних денег не было, но я находила… Потом меня вызвали в университет, сказали, что у Сережи обнаружили на руках следы уколов. Я долго не могла поверить, думала, вены исколоты, потому что он лечился. В вузе были настроены решительно: отчислить. Вечером мы пришли в квартиру, которую я сняла для него. Там повсюду были следы варки “винта”: стены забрызганы йодом, всюду грязь. Я не могла остаться там на ночь. Забрала сына, поехала к подруге. Та только открыла дверь, увидела его и сказала: “Ты можешь у меня переночевать, а его я не впущу. У меня дочь. Я не хочу видеть наркоманов в своем доме”. Мы вернулись в Полтаву. Там у меня еще не было своего жилья, я снимала квартиру. Через месяц после того, как в ней поселился мой сын, хозяйка попросила нас освободить площадь. Начались скитания по углам. И везде он умудрялся готовить наркотики, его постоянно навещали “друзья”, девушки. Вдруг Сережа собрался жениться. Я сказала: “Если у тебя есть деньги на свадьбу, женись!” Но у него не было даже костюма. По этой причине брак не состоялся. Впервые я не позволила ему использовать меня, потому что уже видела: то, что происходит с сыном – безумие, о какой семье может идти речь? Время шло, и Сережа скатывался все ниже и ниже. Постоянно выпрашивал обманом деньги, постоянно обещал, что бросит наркотики, и постоянно кололся. Однажды у меня пропали сто долларов. Это были чужие деньги, которые надо было вернуть. Я догадалась, что их взял Сережа и уехал к моим родителям (мы собирались ехать вместе, но он уехал раньше). Догнав его уже в родном городе, я вытрясла из сына только половину этой суммы, на другую половину он уже накупил “препаратов”. Я застала его в момент, когда он собирался уколоться только что приготовленным “винтом”. Сцена, которая произошла между нами, до сих пор стоит у меня перед глазами: затравленный звериный взгляд Сережи, его истерика, крики: “У тебя нет сына! Я – монстр, а не сын!” Беснуясь, он разбил окно. Я была в ужасе: надо что-то делать, так дальше продолжаться не может! Я поделилась горем со своей коллегой, она сказала, что подобная проблема была у ее родственника. Я встретилась с его родителями, мама рассказала мне, как надо себя вести: отрезать наркоману все пути к отступлению. Им, в свое время, даже пришлось выгнать сына из дома, только тогда он захотел лечиться. Мне посоветовали обратиться к одному известному полтавскому психиатру. Он сказал: если хотите получить результат, обращайтесь только в днепропетровский Центр “Выбор”. Дома я начала работать с Сережей. Сказала, что, если не бросит колоться, выгоню из дома. Я понимала, что мы ходим по лезвию ножа. Он варил наркотики дома, к нему постоянно приходили наркоманы, и не сегодня – завтра могли начаться проблемы с правоохранительными органами. Я отняла у него шприц, вылила содержимое в унитаз. Он орал, потом ушел, вернулся, пролежал до утра. Утром я сказала: “Уходи из дома! Я поменяю замок, чтобы ты не мог войти в квартиру!” Сережа вдруг заговорил как ребенок. Сказал, что вчера в притоне ему укололи такую дозу, что он боялся не дожить до утра. Мы поехали в Днепропетровск. Сережу оставили в Центре, я вернулась в Полтаву. Здесь от “Выбора” работала психолог Нелли Дмитриевна, я посещала занятия родительских групп. Сначала долго не могла 134 понять, в чем мои ошибки. Может, я не уделяла сыну достаточно внимания, но ведь и меня не воспитывали! Я до всего доходила и всего добивалась сама! Оказывается, именно здесь и была “зарыта собака”! В своей жизни я всего достигла своими силами. А вот сына почему-то не научила самостоятельности! Я сделала для себя множество открытий. Во-первых, Нелли Дмитриевна объяснила, что я ни в чем не виновата перед сыном. Все имеют право на заблуждения. Во-вторых, каждый человек должен отвечать за свои поступки, и наши дети в том числе. Они должны сами принимать решения, брать на себя ответственность, а мы не должны им мешать. Беда в том, что родители боятся, как бы дети не набили лишних “шишек”, и стараются им везде “подстилать солому”. Слепая материнская любовь и уверенность, что мы лучше знаем, как нужно делать, открывают нашим детям “зеленый свет” на дороге к наркотикам. Именно в “Выборе” я научилась чувствовать себя женщиной, ведь до этого я слишком много на себя нагружала, не делясь обязанностями с сыном: “я и баба, я и дед”. Я поняла, что должна избавиться от “жалости”, которая мешает видеть своего ребенка в реальном свете. Я осознала, что нельзя дать человеку то, чего он не хочет, нельзя “помогать”, если у тебя не просят помощи, нельзя делать все и решать все проблемы за других, даже если это наши дети. Через две недели я поехала в Днепропетровск на свидание с сыном. Наученная опытом других родителей, я не тащила груженые едой сумки, купила самые необходимые продукты: я ехала не обслуживать его, а просто общаться. Сережа удивил меня тем, что впервые за последние годы проявил заботу: он волновался, где я буду ночевать. Наши отношения перестраивались постепенно. Все начиналось с мелочей. Я отдала ему продукты, чтобы он сам приготовил обед. Я дала ему стиральный порошок. Позже он спросил: “Я замочил белье, когда мне лучше постирать: утром или вечером?” Думаю, он хотел, чтобы я предложила свою помощь, но я не поддалась на эту уловку. Потом “Выбор” в полном составе переехал в Полтаву. Пришло время, когда сын должен был покинуть его стены. Он спрашивал меня: “Я возвращаюсь домой. Тебе не страшно?” Я ответила, что мне нечего бояться, я для себя все решила: если он будет жить почеловечески, мы будем вместе, если нет – пусть живет, как хочет, но без меня. Даже когда Сережа прошел курс реабилитации и вернулся домой, он продолжал ходить в Центр каждый вечер после работы. “Выбор” стал его вторым домом. Я и сама приходила сюда по субботам, общалась с психологом, ребятами, другими родителями. И еще долго открывала для себя много новых интересных вещей, научилась различать нюансы в поведении сына: когда он проявляется как человек, а когда вдруг проступают наркоманские манипуляции. Старалась подвести его к анализу таких ситуаций, и он откровенно говорил: “Ты права, я сейчас думал, как наркоман!” Я стала чувствовать, что мы выбираемся из тупика. Сын стал другим: спокойным, уравновешенным, внимательным. Какое-то время я очень переживала, чтобы никто не узнал о наших проблемах. И вдруг Сережа сам рассказал все знакомым. Я расстроилась, а Леонид Александрович его похвалил: “Правильно! Ты отказался ото лжи! И тебе нечего стесняться! Сколько людей тонут, а ты – выплываешь!” Я поняла, что правды не надо бояться, тем более, что эта правда в последнее время стала совсем другой. Я подумала: и нам, и ребятам крупно повезло, что мы встретили такого человека, как доктор Саута! Пусть даже нас привела к нему страшная проблема! Нам всем нужна помощь психотерапевта! Конечно, я еще долго опасалась, что эта идиллия нарушится. Однажды мне предложили путевку в санаторий, я пришла к доктору Сауте: “Что делать?” Леонид Александрович сказал: “Езжайте спокойно!” Когда я вернулась из санатория, сын встретил меня с цветами и тортом! Вскоре он сделал свой собственный выбор: поступил в технический университет. Я сдерживала себя, чтобы не броситься ему “помогать”. Он сам готовился к экзаменам, сам их сдавал. Подрабатывал во время учебы на стройках, чтобы помочь мне деньгами. В доме взял на себя мужскую работу. Но самое главное для меня – то, что он стал мне доверять. Мы откровенно разговариваем обо всем, обсуждаем и вместе решаем все проблемы. Я чувствую, что он по-настоящему живет в семье, дом стал для него чем-то важным. Он уже не бежит из 135 дома, а строит свою жизнь здесь. Иногда мы вместе ходим в кино – это так приятно, когда сын приглашает тебя в кинотеатр. Мы чувствуем себя настоящей семьей. Порой в Центре я смотрю на “новеньких” родителей и вижу, как трудно дается им осознание многих необходимых вещей. Сначала матери и отцы обвиняют в семейных несчастьях друг друга, самая частая фраза на первых занятиях: “Видишь, а я тебе говорил!” Постепенно они начинают сближаться, мыслить в унисон, поддерживать друг друга! Как приятно наблюдать такие превращения! Часто родители боятся общаться с выздоравливающими детьми, боятся им “навредить”. Это ошибка. Сыну или дочери необходимо общение именно с близкими людьми, необходима их помощь и поддержка, чтобы они могли откровенно рассказывать о своих проблемах, тогда и решать их будет намного легче. И самое главное, что нужно не просто получить в Центре новые знания, нужно научиться ими пользоваться, чтобы не было пропасти между “слушанием” и “деланием”. Если люди выучиваются говорить правильные вещи, но не делают их, они не получают результата. 136 “НАДО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ” История Максима, Виктора ВасильевиЧа и Людмилы Адамовны “НЕ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ, А ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ” Максим “Травку” я начал курить еще в колледже. Более “серьезные” наркотики попробовал позднее. У меня был друг Андрей, который работал проводником. Мы вместе ездили в Москву, привозили в Кременчуг дефицитные продукты, раздавали реализаторам. Деньги на “раскрутку” бизнеса – тысячу долларов – дал отец. Я уволился с предприятия, на котором работал после колледжа, и стал готовиться в институт. Свободного времени у меня было много, денег – тоже, и все чаще приходили мысли, что жизнь – скучная штука, и надо ее разнообразить. “План” и водка уже не приносили удовольствия. Как-то на дискотеке я попробовал “экстази”. Потом, уже в институте, повстречал наркоманов, которые плотно кололись. Они предупреждали: “Не лезь глубоко, потом не сможешь спрыгнуть. Мы тоже поначалу считали, что это пустяки”. Но я думал: это у них проблемы, потому что они – слабаки, а со мной такого не будет. Когда я в первый раз попробовал “ширку”, стало плохо: тошнило и кружилась голова. Но я по инерции укололся и на второй, и на третий день. На четвертый у меня появился легкий насморк – наверное, слегка продуло. Я подумал: это “кумар”, и укололся, чтобы снять дискомфорт. Насморк прошел, и это убедило меня, что я – “в плотной системе”. Мой напарник Андрей кололся вместе со мной, и вскоре наш “бизнес” пришел в упадок: стали прокалывать столько, что заработанного едва хватало. Я снова взял у отца тысячу долларов – “на развитие бизнеса”. К тому времени я уже действительно находился в “системе”. Родители находили “траву” у меня в карманах, я рассказывал им о Голландии: там все это курят, и ничего страшного. Когда я докалывался до состояния пускания слюней, говорил отцу и матери, что просто накурился “плана”. Потом стал забывать дома иголки, шприцы. Если их обнаруживали, я объяснял, что ко мне заходил друг-наркоман, наверное, он и забыл. Странно, но родители “велись”. И я гордился своей ловкостью: как лихо я умею врать, и все верят. Мне очень нравилась книга Дейла Карнеги “Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей”. Я читал ее с огромным удовольствием несколько раз и думал, что это и есть настоящая психология. Эти знания я с успехом применял в общении с родителями, доводя искусство манипулирования людьми до совершенства. Я научился очень хорошо разбираться в чувствах и настроениях родителей, мог в нужный момент изобразить внимание, заботу, нежность и тут же попросить денег. Словом, научился демонстрировать чувства, не испытывая их на самом деле, и всегда делал это, чтобы что-то получить. Я искренне считал, что постоянно давать мне все необходимое – святой долг родителей. Так прошло три года. Я помню их смутно. Вспоминаются только моменты, когда пытался “перекумариться”, тогда сознание чуть прояснялось. Я мог просидеть без наркотиков месяц, и мне казалось, что я уже выздоровел, и колоться больше не буду, но как только выходил за порог, оказывалось, что ноги сами несут меня “на точку”, а до нее осталось всего 20 метров, и пройти мимо уже не получится. 137 Я тратил все больше, а зарабатывал все меньше. Однажды я проснулся и стал считать, где и сколько мне должны. Выяснилось, что у меня уже не две тысячи, а сто пятьдесят долларов, и те смогу получить только после реализации товара. Я бросился к родителям, стал рассказывать, что в магазинах “зависла” большая партия икры, мне не отдают деньги. К тому времени они уже знали, что я колюсь. Пришлось идти лечиться. Нарколог расписал мне курс медикаментов, капельниц, я все честно принимал недели три. Не работал, лежал дома. Отцу это не нравилось, он считал, что если я пришел в норму – должен работать, учиться. А я даже посуду за собой не мыл, носки не стирал. Я ведь был “больным” и “лечился”, его претензии казались мне незаконными. Когда он узнал, что все деньги, которые он мне давал, пропали, – просто взорвался. У меня отняли ключи от машины, денег не доверяли, давали только на проезд в институт. Я совсем раскис: зима, мне плохо, все плохо, жизнь – дерьмо! Друг уболтал меня уколоть полкубика, чтобы “снять состояние”, добавил денег. Вскоре я перестал ходить в институт, прокалывал карманные деньги, благо – родители ослабили контроль. Но когда они снова стали находить в карманах шприцы, я опять оказался на мели. Стал выносить из дома вещи, а когда приперли к стенке – снова пошел лечиться. Всего я “лечился” раз пятнадцать: то “спрыгивал” дома, то ходил в наркодиспансер, принимал таблетки и капельницы. Я делал это, когда родители загоняли в угол, потом снова начинал колоться. На третий курс института я перешел с двумя “хвостами”. Декан, которому я давно мозолил глаза, потребовал отчисления. Отец взял меня к себе на работу водителем. Он думал, что я смогу зарабатывать, находясь постоянно у него “на глазах”. На самом деле, пока он находился на планерках и совещаниях, я вполне успевал уколоться, а деньги “вымучивал” заранее: то “на пирожок”, то “на воду”. Теперь, когда мать высказывала подозрения по поводу моего состояния, отец заступался: “Он весь день был со мной!” Доза у меня снова начала расти. Я закручивал карбюратор отцовской “Волги”, чтобы расходовалось меньше бензина, а лишнее горючее сливал. В гараже подключал спидометр к электромоторчику – за полтора часа на нем “накручивалась” лишняя канистра. Брал в магазине запчасти для ремонта, сдавал в бухгалтерию чеки, а запчасти тут же относил обратно в магазин – сдавал за полцены. Меня, директорского сына, особо не контролировали, так что “под присмотром отца” колоться было даже проще, чем раньше. Иногда я буквально засыпал за рулем, но отец отказывался верить, что дело нечисто, и они с мамой постоянно конфликтовали из-за этого. У меня случались минуты просветления, когда я понимал, что пора завязывать. Был у меня друг Саша, он учился на параллельном курсе, потом его выгнали за прогулы и двойки, он перевелся к нам. До этого он был злостный “планокур”, а с нами начал колоться. Мы его, правда, отговаривали: “Потом не спрыгнешь”. Но он не верил: “Сами колетесь, и говорите, что это дерьмо! Вам что, жалко?” В то время Саша вернулся из Запорожья, где его лечили электротоком. Он был доволен: выкуривал по нескольку коробков “травы” в день, глушил водку бутылками, зато не кололся! Поехал и я в Запорожье. “Ломку” там снимали лошадиными дозами снотворного. Сибазон давали по первому требованию. Первые две недели не помню: спал под капельницами. Знакомый, которого родители попросили поехать со мной, следил, чтобы я “под сибазоном” не падал с кровати. Потом начались “групповые сеансы”: пациентов утыкивали иголками, и они сидели так часа полтора, пытаясь “проникнуть в тонкие миры”. Экстрасенс в это время делал пассы руками, вводя нас в состояние транса, внушал, что наркотики – это плохо. У меня даже немного получалось “взлететь над стулом” и почувствовать, как “душа отделяется от тела”. Были сеансы с психологом. После беседы он сказал, что у меня в детстве было “травмирующее событие”, поэтому я стал наркоманом. Помоему, он беседовал со мной “для галочки”: постоянно опаздывал, а то и вовсе пропускал “сеансы”, и вообще глубоко не вникал, разговаривал очень поверхностно, хоть мне и было интересно “заниматься психологией”. Потом нас стали лечить током “методом резонанса”. Обматывали голову мокрой тряпкой, накладывали на виски электроды, клали на лоб ладонь, произносили набор слов 138 (“шприц”, “наркотик”, “ширка”). Как только я представлял себе это – меня ударяло током до судорог. На второй раз я не стал представлять себе этот образ, “убрал” из мыслей шприц – и удара не последовало. На третий раз решил проэкспериментировать: снова представил шприц – и снова ударило. Оказалось, что ток стирает в мозгу какую-то “частоту”, и мысли о “ширке” начинают ассоциироваться с неприятными ощущениями. Особо непонятливых пациентов били током раз по шесть, причем так сильно, что нянечки, садившиеся им на ноги, чтобы удерживать на месте, подпрыгивали сантиметров на пятнадцать. Саша снова приехал в Запорожье – привез кучу “травы”. Курили, сколько хотели. В конце мне в живот вкачали 20 кубов вещества, которое реагирует на опиаты. Сказали, что если в ближайшие три года я уколюсь, меня могут даже не успеть довезти до реанимации. Сделали “провокацию” – дали вскрытую ампулу, якобы с морфием. Я укололся в присутствии реанимационной бригады. Через несколько минут меня парализовало: ни вдохнуть, ни выдохнуть. Очнулся с аппаратом искусственного дыхания. В руках у врача был дефибриллятор: когда остановилось сердце, меня приводили в чувство, пропуская через тело ток. Я подписал бумагу, что всю ответственность за последствия приема опиатов в течение трех лет принимаю на себя. И желания колоться у меня потом долго не возникало. А когда возникло – удерживал страх. Я снова устроился к отцу водителем. Встречался с Андреем: пили водку, курили “траву”, хотелось хоть как-то затуманить сознание. Голова была будто накрыта стеклянным колпаком: все видишь, слышишь, а не соображаешь. Помню, было состояние постоянной депрессии. Несколько раз у меня отнимали права за вождение в нетрезвом виде. Выручал отец. Потом Сашка привез “винт”. Я попробовал и подумал, что это – мое. От него не “кумарило”, а к состоянию депрессии, которое неизбежно возникало после, я уже привык. Отец предложил мне поработать мастером: был сезон, и рабочих рук не хватало. Уколовшись “винтом”, я бегал, как ошпаренный кипятком, и все были довольны: я – “на глазах”, работаю энергично. Часть зарплаты выплачивали зимой. Я сидел дома, кололся и получал деньги. В то время я разъехался с родителями, жил с девушкой – Оксаной. Квартира принадлежала моей сестре, коммунальные услуги оплачивали родители. Оксана работала в кафе моей тетки, пока она была на работе, я варил дома “винт”. Она знала, но родителям не рассказывала. Я “объяснил” ей, что от “винта” не “кумарит”, а настроение всегда хорошее, и секс – просто прекрасный. Шантажировал ее тем, что если она меня “предаст”, мы не будем жить вместе. Пытался ее “присадить”: подливал “винт” в пиво. В ней заговорил здравый смысл, она сказала: “Меня не втягивай”. Она принимала “винт” реже и чувствовала перепады настроения. Депрессии ее изматывали, а ей надо было работать. Она обещала: “Я не буду тебя трогать, только мне не подсовывай”. Летом снова начался строительный сезон. Нервы у меня были уже измотаны. На работе при малейшем “трении” начинал кричать, бегал, как “шизик”. На меня стали коситься. Я ушел с работы, сказал отцу: “Начальник ко мне придирается, потому что хочет тебя подсидеть!” Отец хотел, чтобы я устроился работать в фирму сестры, но ее муж работал в милиции, все понимал и категорически отказывался иметь со мной дело. Оксане тоже надоели наши “варки”. Она заставала нас с Сашкой в “кайфе” и принималась кричать. Выгоняла Сашку из дома, а я возмущался: “Это – мой друг! Не нравится – сама уходи: за квартиру платят мои родители!” Она, в конце концов, ушла к маме, я отдал ее ключ другу: он приходил и варил, оставлял мне дозу в холодильнике. Я блаженствовал: квартира, машина, бесконтрольность. Все кончилось, когда отец пришел не вовремя и “спалил” нас во время “варки”. Меня снова решили везти в Запорожье. Сашке, вроде, там вшили ампулу против “винта”. Но я знал, что он укололся, и ничего не случилось. Потом мой друг куда-то пропал. Говорили, что он приезжал в Кременчуг редко и ходил трезвым. Я попросил родителей созвониться с его семьей – узнать, может, ему смогли где-то помочь. Выяснилось, что Сашка – в Полтаве, работает в Центре “Выбор”. Когда мы поехали туда, я не верил, что там что-нибудь получится. Думал: посмотрю, оценю. Получилось так, что “оценили” меня. Леонид Александрович даже не стал меня слушать: оборвал на третьем предложении, говорил только с отцом. Я пытался встрять в их 139 разговор, вставить веское решающее слово, но на меня не обращали внимания, и я замолчал. Потом отец поговорил с Сашкой. Этот разговор показался мне странным. Сашка утверждал, что он живет нормальной жизнью, у него прекрасные отношения с родителями. Я слушал и думал: о чем он говорит, при чем здесь родители? У меня тоже с ними нормальные отношения! Говорю: дайте денег – дают, прошу сделать – делают. Я пытался узнать, как здесь лечат, но Сашка уходил от прямого ответа: “Это долгий разговор. Скажу только, что это – единственное место, где могут помочь. Поверь мне на слово!” Я сомневался: я и в Запорожье ездил с Сашкиной подачи, а там оказался “разводняк”. Тут нас прервал Ростик: “Бегом к доктору Сауте, у него скоро начнется группа, он будет занят!” Я возмутился: что значит “бегом”? Кто тут платит деньги? Мой отец! Я отождествлял себя с деньгами отца и его возможностями. У Сауты разговор зашел уже о сроках лечения. Я видел: все идет к тому, что мне не отвертеться. Начал “петлять”: машина поломана, надо еще недельки две на ремонт. Саута сказал: “Через две недельки ты можешь оказаться на кладбище!” Так я остался в Центре. Первую неделю просто отсыпался. Со мной пытались общаться на группах, но я не понимал, чего они хотят. Я уже так запутался к тому времени, что не понимал даже того, чего хочу я сам: колоться или лечиться. Последние годы я жил в постоянной лжи, и она стала второй натурой. Я просто находился в Центре и ничего не делал. Как-то меня пригласили на родительскую группу. Я заявил, что не собираюсь готовить себе еду: пусть родители дадут денег, лучше я куплю бутерброд! На следующий день на занятии пациентов это стало предметом серьезного разговора. Саута резко сказал, что я привык ездить на родительском горбу, что это – иждивенчество. Ребята его поддержали. Я решил обидеться, потребовал, чтобы меня забрали. Отец отказался и пригрозил, что, в случае побега, не впустит меня домой. Я продал часы, купил билет до Кременчуга и пришел к Оксане. Рассказал ей, как меня оскорбили в “Выборе”. Она пожалела, тем более, что я сообщил ей, как нелестно отзывались там о ней: жила со мной только ради квартиры. Отец требовал, чтобы я вернулся в Полтаву. Я отказывался. Тогда он решил обложить меня со всех сторон. Оксане заявили, что ее уволят из кафе, если будет меня кормить и прикрывать. Ее мать тоже пообещали прогнать с работы: отец был близко знаком с ее начальником. На него все обиделись. Но когда Оксане заявили, чтобы она завтра не приходила на работу, я понял: проще вернуться в “Выбор” и досидеть оставшийся месяц. Теперь я знал: рыпаться отсюда нельзя. Я им так и заявил: меня сюда загнали родители, и я вынужден здесь находиться. На группе выяснилось, что, в таком случае, я здесь не нужен. Никому не интересно возиться с человеком, который хочет отсидеться, чтобы потом снова колоться. Я попал в трудную ситуацию: ехать домой нельзя, и в Центре пересидеть не получается. Я пробовал прикидываться, говорить правильные слова. Мою неискренность всегда замечали, и я сполна получал на группах за каждую кривую мысль. Чтобы отвлечься, стал искать занятие для рук (я вообще не любил сидеть без дела, а здесь, к тому же, приветствовали деятельность), начал мыть посуду, что-то чинить, смазывать двери, исправлять искрящие розетки. Меня хвалили и звали на помощь, оказалось, что я всем нужен. Ко времени выписки у меня стали проблескивать здравые мысли. Я подумал, что здесь стоит задержаться, закрепить эти маленькие достижения. Мне предложили стать завхозом – у меня это получалось. Я продолжал ходить на групповые занятия, и хоть был уже не пациентом, а сотрудником, меня продолжали “дорабатывать”. Резких озарений, которые переворачивают все прежние представления, у меня не было, но с каждой группой что-то чуть-чуть менялось. Упорство, с которым Леонид Александрович учил меня думать, сыграло свою роль: нужные мысли стали закрепляться в мозгу. Я понял, что мои родители – свободные люди, и не обязаны содержать и обслуживать меня с тех пор, как я достиг совершеннолетия. Я должен сам отвечать за свои поступки – и юридически, и морально, должен сам зарабатывать, и если не получается заработать столько, сколько мне “надо”, значит, я должен пересмотреть свои потребности. Я научился адекватно оценивать свои возможности. Если я не могу купить кроссовки за сто долларов – значит, надо купить за сто гривень. Я начал видеть в реальном свете свои отношения с людьми. Раньше я чувствовал под ногами пьедестал, а все, кто смотрел на меня с неодобрением, по моему 140 мнению, заслуживали порицания. Обо мне должны были думать только хорошо, другие взгляды были “неправильными”. Теперь я понял, что все совершенно наоборот: мои достоинства существовали только в моем воображении. На осознание всего этого у меня ушел целый год. Конечно, я мог бы и раньше понять, что в Центре нет смысла врать и стоит больше спрашивать, интересоваться чужим опытом. Но “винт” слишком долго выветривался из моей головы. Когда это произошло, я стал мыслить более здраво и более трезво оценивать свои способности. Раньше мне казалось, что для меня пара пустяков – стать специалистом в любом деле, стоит только изучить его. Теперь я понял, что не во всех сферах могу реализовать себя одинаково успешно, поскольку плохо учился в школе и институте, мне не хватает знаний. Это было не очень приятно: обнаружить, что я – не такой умный, как мне казалось, и не могу блистать красноречием и непрерывно всех очаровывать. Но это было конструктивно. Со временем я пришел к тому же, о чем говорил Саша моему отцу в день приезда в “Выбор”. Я стал налаживать отношения с родителями. Был период, когда я считал, что вина за мою наркоманию лежит на них: они видели, что я иду “не туда”, и должны были воспитывать меня “правильно”. Потом я понял: таких семей, как моя – много, но не все дети становятся наркоманами. Значит, именно во мне есть что-то “неправильное”. Да и главное – не докапываться, не искать виновных, а исправлять ошибки. Сначала, приезжая домой в отпуск, я чувствовал дискомфорт, если кто-то посмотрит на меня “не так”. Потом понял: в Центре – особая атмосфера, а в мире – все намного сложнее. Все люди – со своими комплексами, “замыканиями”, и они имеют право на ошибки. Я ведь научился замечать свои недостатки, хотя раньше считал себя “идеальным”. Значит, и у других могут быть недостатки, они не обязаны быть идеальными! Моя задача – научиться мириться с их несовершенством и не обращать внимания на косые взгляды. Я проработал в “Выборе” полтора года: сначала завхозом, потом – водителем. И все это время я продолжал учиться. Я научился думать прежде, чем делать, хотя всю жизнь прожил совсем по другому принципу. То, что со мной происходило, напоминало период раннего детства: ты делаешь первые шаги, а тебя поддерживают под руки. Но постепенно ноги крепнут, и ходить самостоятельно становится все легче. Со временем это входит в привычку – как вождение автомобиля. Сейчас, когда миновало два года, прошлое вспоминается, как страшный сон. Не хотелось бы, чтобы он когда-нибудь приснился мне снова. Я понял, что в жизни есть масса интересных вещей. Это так интересно – постоянно к чему-то стремиться, чего-то добиваться, и никогда не стоять на месте, не останавливаться на достигнутом. “ОПИРАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО НА РЕАЛЬНОСТЬ” Виктор Васильевич В детстве Максим был очень правдивым мальчиком. Я знал, что его словам можно доверять. Когда он после техникума попросил денег на собственный бизнес, я только обрадовался: сын не лежит на печи, старается идти в ногу со временем. Наверное, я ему “передоверился”: он чувствовал безответственность, а деньги через руки проходили большие. Мы никогда не интересовались, сколько он заработал и куда потратил. О наркомании мы практически ничего не знали. И когда сын стал приходить домой в возбужденном состоянии, увиливать от работы, мы не сразу докопались до правды. Потом выяснилось, что у него (у коммерсанта!) совсем нет денег. Куда он их дел? Когда правда выплыла наружу, мы принялись читать Максиму нотации, рассказывали, как вредно колоться, угрожали, кричали. Потом попытались изолировать сына от друзей: выгоняли его гостей из дома, запрещали с ними встречаться, но ничего не помогало. Мы ругали его, а мер не принимали. Наоборот, решали за него все проблемы. Подумали, что сын должен окончить институт – и “помогли” ему поступить. Два года платили за учебу, потом поняли: бесполезное дело. 141 Пытались лечить Максима всеми известными методами: увозили на дачу, чтобы он “спрыгнул”, покупали всевозможные препараты для “отбивания тяги” и очистки организма, очищали кровь в поликлинике, возили на сеансы гипноза и электрошока. Когда его “лечили” током, мы написали расписку, что не будем винить врачей, если с ним что-то случится. А он после “провокации” пять минут находился в коме, мы его чуть не потеряли. Мы ночей не спали – думали, как спасти сына, но ничто не помогало: ни просьбы, ни угрозы, ни “лечение”. Испробовав все, мы узнали, что его старый друг, на котором многие врачи уже поставили крест, вылечился и “работал доктором” в реабилитационном Центре “Выбор”. Мы отправились туда. Сначала Максим пытался увильнуть, оттянуть момент, говорил, что у него “есть дела”. Леонид Александрович ответил: “Если у вас есть дела важнее, чем лечение – езжайте!” Я испугался. На следующий день я привел Максима в Центр с вещами. Мы с женой тоже ходили на занятия к психологу. Я был к этому готов. Когда в детстве мы лечили Максима от заикания, нам объясняли роль поведения родителей в формировании психических заболеваний. Здесь я понял, что вел себя неправильно. Считал, что моя ведущая роль должна проявляться только на работе, а дом – это “хозяйство” жены. Она “отвечала” и за воспитание сына. Мы долго дебатировали, кто был прав, кто неправ, в чем причина того, что сын стал наркоманом. Со временем стали понимать: выяснять отношения бесполезно, надо думать, как их изменить. Максим не торопился менять поведение. Когда его стали “воспитывать” на групповых занятиях, он заявил, что уедет домой. К тому времени мы уже кое-чему научились. Я отказался его забрать. Он собрал вещи и залез в машину. Я его высадил: “В машине ты больше ездить не будешь!” Когда он приехал домой, я сказал: “Здесь нечего делать наркоману! Возвращайся!” Он отправился в кафе к моей сестре. Та пожалела его: “Пусть остается работать у меня!” Тогда я предпринял все меры, чтобы он снова поехал в “Выбор”: всем пригрозил увольнением, если будут ему потакать! Договорился в милиции, в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, что его закроют на пятнадцать суток. Я знал: он все равно погибнет, если мы не заставим его лечиться! Оставить его на свободе, где к его услугам каждый день “ширка”, “винт”, гремучая смесь лекарств, йод, ацетон – это было пострашнее, чем посадить в тюрьму. Если бы тогда надо было выбирать, “закрыть” его на пять лет или оставить колоться на свободе – я бы выбрал первое. Сына надо было спасать любым способом! Уже первые занятия с психологом убедили нас в том, что нам надо менять самих себя. Надо было перестать жалеть Максима – наша жалость уже помогла ему дойти до ручки. Мы дали ему понять: в наш дом наркоману дорога заказана! И он почувствовал, что ему остается только умереть на улице. Такой исход никого не устроит. И Максим начал меняться. Опыт родителей, добившихся успеха в лечении детей, убеждал: если не поступить жестко, не “отрезать” наркотики раз и навсегда, ничего не получится. Я понял, что это можно было сделать намного раньше, но мы проявляли мягкотелость, попускали ему творить безобразия. Если родители в семье не действуют сообща, они не смогут добиться результата. После занятий мы много разговаривали с женой. И сошлись на том, что в семье будет единоначалие. Если дети не будут видеть разногласий – не будут колебаться. Других путей нет. Раньше мы позволяли себе спорить в присутствии Максима, дебатировать о его поведении. И он умело пользовался тем, что у нас не было единой позиции. Мы решили: мы не будем делать из сына “большого человека”, пусть зарабатывает меньше, зато научится жить по средствам. Всем хочется “побаловать” детей, но баловство слишком дорого обходится. За границей никто не стремится устроить ребенка работать под своим крылом, а у нас все стараются держать детей возле себя. Это неправильно. Пусть их воспитывает общество, в котором они будут жить. Чужие будут жестче, но лучше научат. Детей надо научить отвечать за свои поступки, тогда они не будут бездумно соваться, куда не следует. К сожалению, нам приходилось видеть родителей, которые уходили из Центра, не добившись результата, потому что не смогли пожертвовать привычными представлениями, изменить образ жизни. Меня удивляют мои друзья: у многих похожая ситуация с детьми, и 142 материальных проблем нет, есть возможность отложить все дела и заняться ребенком. А они твердят: “Мы уже ни во что не верим!” Я им рассказываю о своем опыте, а они зацикливаются на своих представлениях, такое впечатление, что им просто лень что-то делать. Вот если бы все случилось само собой! Но это заблуждение. В реальности так не бывает – только усилия дают результат. Я знаю, в любой ситуации опираться можно только на реальность – на иллюзиях ничего прочного не построишь. Мы хотели изменить мир: окружение, обстановку, чуть ли не общественный строй, чтобы сын бросил колоться. А надо было просто изменить себя, отношения в семье. Когда это получилось, все стало на свои места. “ПУСТЬ ДЕТИ УЧАТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТСТВА” Людмила Адамовна Что такое наркомания, я не знала, но беда пришла в семью не случайно. Путь к ней был долог, и мы прошли его все вместе. У нас в семье – двое детей. Мне казалось, я воспитываю их одинаково. Но дочка часто говорила, что к Максиму я была менее требовательной, чем к ней. Наверное, так и было. У Максима в детстве была проблема – логоневроз. Пытаясь его вылечить, мы потратили много времени и сил, и сын все время был в центре нашего внимания. Когда Максим учился в техникуме, я заметила, что в его компании появился мальчик, о котором ходила дурная слава: он употреблял наркотики. Поведение Максима изменилось, он часто пропадал по вечерам, иногда не приходил ночевать, на вопросы отвечал односложно. Я заметила, что зрачки его то неестественно расширены, то совсем сужены. Я видела, что с сыном что-то происходит, но не понимала, что. Он окончил техникум, поступил в институт, а я все наблюдала. Иногда мне приходило в голову, что Максим может принимать наркотики – он вращался в компании наркоманов. Когда я спрашивала об этом, он отвечал: “Как я могу их принимать, если у меня перед глазами столько примеров их пагубного влияния?” Это было логично, и я верила. Его общение с наркоманами меня не настораживало, ведь наркоманы – тоже люди, может, ничего страшного не происходит? Правда, чем дальше, тем больше у меня возникало сомнений. Максим вел себя очень странно: прибегал, запирался в ванной, что-то долго там делал. Я, на всякий случай, стала интересоваться “проблемой”: читала статьи, смотрела телевизионные программы о наркомании. Нет, я еще не хотела верить, что в жизнь сына вошли наркотики. Даже когда мне позвонила мать наркомана, в доме которого Максим проводил много времени, и рассказала, как определить, принимает ли сын наркотики, несмотря на очевидность всех совпадений, я не торопилась признать страшную правду. Только когда мать еще одного друга позвонила, чтобы высказать свою тревогу, я поняла, что пора открыть глаза на реальность. Мы стали добиваться от Максима признания, потом повели его на консультацию к наркологу. Тот назначил сыну какие-то препараты, часть которых Максим принимал в лечебнице, часть – колол себе сам дома. О том, что, кроме лекарств, он принимал еще и “ширку”, которую передавали через балкон “сердобольные” друзья, я узнала позднее. Этим “лечением” дело не ограничилось. Мы практически беспрерывно “лечили” Максима: заграничными лекарствами, иглоукалыванием, кодированием, гипнозом, электрошоком, делали гемосорбцию. Но результат всегда был один. Только после шоковой терапии был небольшой перерыв, когда мы решили, что процесс остановился. Сын стал жить с подругой, которая не употребляла наркотиков, кроме конопли. Максим давал мне читать брошюры, где конопля расхваливалась как противораковое средство и стимулятор мозговой деятельности. Я и верила, что курить этот дурман – не вредно. Прошло еще три года, и я считала, что сын покончил с наркотиками. Его поведение и тогда с головой выдавало в нем наркомана, но я не понимала этих тонкостей. Максим постоянно клянчил деньги, которых ему почему-то всегда не хватало, был крайне необязательным, лживым, выносил вещи из квартиры. Единственное слово, которое мы от него слышали – “деньги”. Прошло много времени, прежде чем мы осознали, что он – самый настоящий наркоман. 143 Наша жизнь превратилась в кромешный ад. Максим и сам уже был не рад, что связался с наркотиками, но остановиться не мог. Так продолжалось, пока мы не узнали, что его друг, принимавший наркотики много лет, вылечился в Полтаве в Центре “Выбор”. Когда нам сказали, что не только Максим, но и мы должны заниматься с психологом, я удивилась. Я прочла столько литературы о наркомании! Что нового может рассказать мне психолог? И все-таки с первого дня общение с Нелли Дмитриевной стало преподносить нам сюрпризы. Сколько открытий мы сделали вместе с ней! Мы поняли, что вели себя совершенно неправильно: вместо того, чтобы принимать меры, поддерживали наркоманию сына и материально, и морально. Мы жалели его: бедный ребенок, не выгонять же его, попадет в тюрьму, легче ли будет? Мы поняли, что и сами зависели от наркотика, и, по сути, еще не начинали с ним бороться по-настоящему. Помню, на одном из первых занятий Нелли Дмитриевна спросила: “Что Вы будете делать, если сын-наркоман сбежит из Центра и явится домой?” Я растерялась: “Не знаю. Впущу, наверное…” Стоит ли удивляться, что Максим вскоре действительно сбежал? Перед нами стояла задача – доходчиво объяснить сыну, что мы не будем поддерживать наркомана. Сначала это не удавалось. На занятиях нам все было понятно, а как доходило до дела, ничего не получалось. Муж собрался с силами раньше меня, а я все еще не могла отважиться “отрезать” от себя Максима. И сын видел: отец говорит одно, а мать – другое. И умело этим пользовался. Мне удалось расставить новые акценты, только когда он сбежал из Центра и позвонил домой в отсутствие мужа. Я не могла спрятаться за мужниной спиной, и мне пришлось самой давать отпор. Максим требовал, чтобы я отдала ему паспорт, свидетельство о рождении, вещи. Он пугал меня, кричал: “У меня нет отца!” Я ответила: “У тебя и матери нет!” Я понимала, что так надо сказать, потому что это не могло продолжаться вечно! Мы постарались отрезать ему все “концы” в родном городе, чтобы он вернулся в “Выбор”. И это удалось. Сейчас я понимаю: другого пути у нас просто не было. Мы привозили ему в Центр минимум продуктов и денег, чтобы хватало только на самое необходимое. Он понял, что остался с проблемой один на один, и ее придется решать. Когда Максим попытался отдать мне носки, чтобы я дома их стирала, мы сказали об этом на группе. Ему устроили разнос. Его в буквальном смысле слова перевоспитывали – всем Центром. Я поняла, что мы слишком долго играли с сыном в “кошки-мышки”: поймаю я его со шприцем или не поймаю? Что давал мне вид шприца? Ведь поведение было гораздо красноречивее! Главное было – как он себя ведет! Потерял деньги – какой же он “коммерсант”? А мы снова даем, хотя какая может быть “коммерция” там, где прижились наркотики? Мы лечили его промыванием крови и не понимали, что мысли, образ жизни от этого не меняются. А ведь это не такая уж премудрость: достаточно простой логики, чтобы понять это. На родительских занятиях мы слышали: у детей в голове только две мысли – где взять деньги и где взять наркотики. Мы с удивлением узнали, что их развитие заканчивается тогда, когда начинаются наркотики. Мы учились самоконтролю, старались выработать единую позицию. Это было непросто. Я даже делала конспекты занятий, чтобы ничего не упустить. На группах я находила ответы на все мучившие вопросы. Я поняла, что зря не передала воспитание сына мужу. Вместо этого я позволяла себе обсуждать при сыне поведение отца, подрывала его авторитет. А Максим пользовался этим и мастерски вбивал между нами клинья. Мне пришлось учиться молчанию – принимать решения мужа, не вступая в дебаты. Я поняла, что слишком часто забывала о том, что я – женщина. Муж на работе? Я сама вобью гвоздь, перекопаю огород. Сыну нужны деньги? Я дам! Как же Максим мог понять, что матери нужна его помощь? И зачем ему вообще было “трепыхаться”, если ему все преподносили на блюдечке? Даже решали, где ему учиться, нанимали репетиторов, “помогали” с поступлением. А он не мог реализовать себя и чувствовал, что родители просто не доверяют ему, потому что считают неспособным решить что-то самостоятельно. С дочерью мы так не носились – и она выросла самостоятельным ответственным человеком. Она с самого начала видела все в более реальном свете, не принимала наркоманию Максима, возмущалась: “Что вы с ним носитесь? Он вам хамит, а вы терпите! Вы его сами 144 балуете!” Но мы не слушали ее и даже ущемляли ее интересы в пользу сына. Максим хочет жить отдельно? Мы заставили дочь отдать ему свою квартиру, которую ей подарила бабушка. Мы говорили: “У тебя ведь есть другая, трехкомнатная, а здесь пусть живет Максим!” Нам и в голову не приходило, что он сам должен себе заработать на жилье, а не отнимать то, что принадлежит сестре. Я думаю, успех пришел к нам, когда мы твердо решили, что сына-наркомана у нас не будет. Я видела, что это удается не всем родителям. Но те, кто продолжает “жалеть” ребенка, как правило, не получают результата. Я видела в Центре не одну такую супружескую пару. Сын лечится от наркомании, а ему продолжают давать деньги, огромными сумками возят деликатесные продукты. Они забывают, что ребенок долго смотрел на родителей только как на “кошелек с деньгами”, позволял себе хамить в глаза, доставлял сплошные неприятности. И вот – он еще ничего не изменил, а ему снова все дают авансом. Я хочу посоветовать всем родителям, даже тем, кто еще не столкнулся с наркоманией: пересмотрите отношения в своей, на первый взгляд, вполне “благополучной” и “правильной” семье, и вы увидите, насколько они, на самом деле, неправильны. Если отец все время занят на работе, а воспитанием сына занимается мать, если авторитет отца все время ставится под сомнение, сын будет искать другие “авторитеты” – на улице. Если у ребенка в семье нет обязанностей, если за него решают все проблемы, он вырастет не человеком, а иждивенцем. Вспомните, как воспитывали нас наши родители, и вы поймете, почему мы стали ответственными людьми. Пусть же наши дети учатся самостоятельности с детства, и тогда ни у них, ни у нас не будет таких страшных проблем. 145 “СЧАСТЛИВЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ” История АлексеЯ и Виктора Николаевича “НЕ ЛИШАЙТЕ ДЕТЕЙ УВАЖЕНИЯ К СЕБЕ!” Алексей В конце восьмидесятых наша семья, как и многие другие, испытывала большие трудности. Отец потерял работу. Его поглотили заботы о том, как прокормить семью. Порой его месяцами не бывало дома. Мама работала и училась: людям с образованием инженера трудно было найти хорошую работу, и она хотела освоить новую профессию. Времени на воспитание детей у родителей почти не оставалось. Все эти трудности не улучшали семейного климата: родители часто ссорились. И хоть они старались скрывать от нас свои размолвки, и я, и брат с сестрой все равно все понимали. Большая ошибка – думать, что дети чего-то не замечают: в семье ничего нельзя скрыть. Может быть, поэтому я начал проводить больше времени на улице. Моя сестра была намного старше и самостоятельнее, брат с детства занимался спортом, у него была цель. Отец и меня пытался увлечь тренировками – во втором классе отвел на плавание. Сначала мне это нравилось, потом – надоело. Я думал, что сверстники, которые могут после уроков заниматься, чем хотят, проводят время интереснее. Сказать отцу, что плавание мне не нравится, почему-то было неудобно, и я стал обманывать родителей, прогуливая тренировки. Через четыре года меня, наконец, выгнали из секции, но привычка врать осталась. Потом я начал прогуливать школьные занятия. Лжи становилось все больше. Со временем я начал видеть в родителях контролеров, почти таких же, как учителя или милиция. Они были из другого лагеря – из тех, кто мешает жить интересной уличной жизнью. И относиться к ним можно было соответственно. У отца, например, я запросто мог вытащить пачку сигарет (когда он стал неплохо зарабатывать, он покупал их блоками). У друга ни за что не украл бы, а по отношению к родителям это не считалось предательством. В старших классах я понял, что родители могут не только контролировать мои поступки, но и решать мои проблемы. Могут, и успешно это делают. Они улаживали все неприятности в школе, раздавали мои долги, а дома я вообще никому ничего не был должен. Единственной моей “семейной” обязанностью было выбивание ковров, да и ту я выполнял далеко не всегда. И при этом мне редко в чем-либо отказывали. Думаю, я уже тогда очень отличался от своих сверстников, которые знали, что такое ответственность. Поэтому мне и было с ними “неинтересно”. Я гораздо комфортнее чувствовал себя в компании таких же оболтусов. Я рос очень подвижным, не мог усидеть на месте. Курить начал еще во втором классе. Насчет запретов у меня было свое мнение: что значит – нельзя? Я не понимал, что в жизни есть вещи, к которым нельзя прикасаться. Не испытывал страха ни перед сигаретами, ни перед выпивкой, ни перед наркотиками. Меня влекла уголовная романтика, люди, которые поступают не так, как все. Мой приятель Максим вращался в кругах “приблатненных”, у многих его приятелей старшие братья уже успели отсидеть. Я видел, как к ним подходили старшие, уважительно здоровались. Мне казалось, что именно здесь – самые интересные люди, у которых есть собственные принципы и настоящая дружба, что это и есть взрослая жизнь. И хоть я принадлежал совсем к другому миру, меня неудержимо тянуло стать частью этого. 146 Здесь я и начал колоться. Многие меня отговаривали, но я не испытывал ни сомнений, ни страха. Казалось, я нашел то, чего мне не хватало. Через полгода я уже был в “системе”, а среди моих друзей не осталось ребят, которые не принимали бы те или иные наркотики. В глубине души я гордился тем, что я – наркоман, я как будто знал нечто, о чем и не подозревали мои сверстники. А на своих родителей смотрел с удивлением: как они могут жить этой скучной неинтересной жизнью обычных людей? У моего друга Максима, в отличие от меня, не было возможности колоться на деньги родителей. Он стал воровать со старшими ребятами. Правда, вскоре его забрали в милицию. Отец узнал от следователя, что мой лучший друг – наркоман, на счету которого – около тридцати квартирных краж, и задумался. Подозревать в подобных грехах своего собственного сына мои родители еще долго не решались. Даже когда меня – единственного из всей школы – военная комиссия направила на обследование в психиатрическую больницу, отец только возмущался: “Зачем моего сына отправили в дурдом? Он нормальный! Это, скорее, вам нужно обследоваться!” Врачи видели, что я – наркоман, но отпустили сдавать анализы домой. Учителя тоже давно все понимали, но отцу говорить боялись: у него взрывной темперамент. Какое-то время родители вообще не видели меня трезвым. К тому времени, когда они приходили с работы, я был уже “раскумаренным”, и такое мое состояние вскоре стало для них привычным. Как ни странно, но они не понимали, что со мной что-то не так. Даже когда позвонила мать одной из моих знакомых, и рассказала, что я колюсь, как и ее дочь, ей не поверили. Естественно, я утверждал, что это неправда, а родители готовы были поверить во что угодно, только не в то, что я – наркоман. Поверили только тогда, когда я вернулся домой поздно ночью в совершенно невменяемом состоянии. У них был шок: то, чего они боялись больше всего не свете, и во что так упорно не хотели верить, оказалось правдой. И с этой правдой надо было что-то делать. То, что я завишу от наркотиков, я понял давно. Как-то попытался “спрыгнуть” и не продержался даже суток. Пробовал общаться с “Анонимными Наркоманами”. Там меня хватило только на четыре дня. Когда отец стал принимать меры, я рассказал ему об этом опыте, и он отправил меня в Одессу, где наркоманов лечили по системе “12 шагов”. Общаться с психологом и ходить на групповые занятия было достаточно интересно, но мыслей о том, что нужно совсем отказаться от уколов, не возникало. Наркотики стали огромной частью моей жизни, я чувствовал себя с ними человеком определенного круга, и отступиться от этого не мог. Я прожил в Одессе целый год и успел пройти курс лечения шесть раз: начинал лечиться в стационаре, потом уходил жить на квартиру с инструктором, срывался и снова ложился в стационар. Там у меня завязалась “любовь” с такой же пациенткой. Мы стали жить вместе. Отец сначала обрадовался: у сына появились нормальные интересы. Но радоваться было нечему: два наркомана под одной крышей стали медленно “подвигать” друг друга к уколу. Через месяц я понял настоящую цену моей большой любви: мы следили друг за другом, чтобы один не “разбодяжил” дозу другого. Если бы можно было – продали бы друг друга за куб “ширки”. В это время погибла моя мама. После похорон я старался держаться. А когда сорвался – стало еще хуже. Наркомания сделалась похожа на снежный ком, который летит с горы, становясь все больше и больше. Отец пытался лечить меня, но ничего не менялось. К тому времени на “лечение” ушло уже много денег. Я решил лечь в психиатрическую больницу, но на следующий день отказался от лечения и снова пошел колоться. В это время знакомый из городского управления милиции рассказал отцу о Ростиславе, который кололся двенадцать лет и бросил, пройдя курс реабилитации в Центре “Выбор”. Меня отвезли туда. Через три дня я сбежал. Отец не впустил меня домой, пришлось ночевать у приятеля. На следующий день я украл из отцовского офиса телефонный аппарат: из дома ничего утащить не мог, а колоться надо было. Отец написал заявление в милицию, и меня стали искать. Это было страшно. Я ночевал на чердаке над своей квартирой и слышал, как милиционеры приезжали домой, спрашивали, не появлялся ли я. На следующий день я 147 встретил отца. Он сказал: “Или возвращайся в “Выбор”, или живи, где хочешь”. Возвращаться было стыдно, я ведь сбежал через окно! И все же другого выхода не было. Когда я пришел в Центр, мое поведение обсуждали на группе. Оправдываясь, я говорил: “Я ведь у вас ничего не украл”. Один из ребят ответил: “Как это – ничего? Ты украл наше доверие!” И я понял, что мне хочется вернуть доверие этих людей. На группах мы много говорили о том, кем стал каждый из нас, что он собой представляет, чем живет. Леонид Александрович называл вещи своими именами. Если для меня украсть что-то у отца или вынести вещи из дома было просто плохим поступком или следствием болезни, то для него это было подлостью и предательством: ведь родители день и ночь работали, чтобы кормить семью. Я начал понимать, что это действительно так. А ведь такие поступки составляли большую часть моей жизни. Я много думал об этом. Сказать, что мне было стыдно, значит, не сказать ничего. Особенно виноватым я чувствовал себя перед отцом. Ему было очень тяжело, когда погибла мама, а я не только не мог поддержать его, но и делал еще больнее. Он должен был постоянно думать, как это скажется на мне. Я вдруг понял, что отец меня, младшего, любил больше всех, а я так с ним поступал. Мне было очень стыдно. Помню, мне даже хотелось, чтобы отец не ходил на родительские занятия, чтобы он отвлекся от этих проблем, чтобы у него нашлись другие дела, даже другие интересы, но я уже знал, что личных интересов у него не осталось. Я вспоминал, как еще в Одессе я получил письмо от отца. Он никогда не говорил о своих переживаниях, о том, что чувствует, а здесь написал все. В каждом слове звучала боль. Я разорвал письмо, потому что был не в силах больше читать его. Тогда я быстро заглушил это наркотиками, сейчас все вспоминалось, и меня мучил стыд. Я впервые жалел отца. Может быть, с этого началось мое выздоровление. С того времени прошло почти три года. Мы живем совсем иначе. Отец, вместе с родителями других пациентов, строит новое здание Центра “Выбор”, а я работаю в Центре с ребятами, которые приходят, чтобы избавиться от страсти к наркотикам. Я хочу, чтобы мой опыт помог им понять, что без наркотика можно жить нормальной полноценной жизнью: тому, кто занят настоящим делом, не нужно ни фальшивого “уважения” таких же зависимых “друзей”, ни чувства “собственного превосходства”, ни лести, ни лжи, ни тем более – “химии”. Я понял, что по-настоящему счастливым может быть только тот, кто приносит пользу другим людям, что настоящее удовольствие можно получить от хорошо сделанного дела. Его результат – подлинное уважение и настоящая дружба. Конечно, у меня не всегда все сразу получается, но главное, что я знаю, в каком направлении мне нужно двигаться. Хочу сказать всем родителям: не спешите давать детям все, чего они хотят, научите их добиваться этого и зарабатывать трудом. Не лишайте своих сыновей и дочерей самого главного – уважения к себе. Если дети научатся преодолевать трудности, принимать решения и не бояться ответственности – можно быть спокойными за их жизнь. “Я УВАЖАЮ В СЫНЕ СВОБОДНУЮ ЛИЧНОСТЬ” Виктор Николаевич Я, конечно же, знал, что есть такая болезнь – наркомания, но не мог и подумать, что когда-нибудь она может коснуться меня. И вот – мой младший сын Леша, который в школе был всеобщим любимцем, всегда заступался за слабых и никогда не сваливал свою вину на других, стал наркоманом. Теперь, когда я проанализировал свое поведение на протяжении многих лет, я понял, что в этом немало моей вины. В детстве Леша был левшой, и я почему-то слушал идиоткуучительницу, которая говорила, что его обязательно надо заставить писать правой рукой. Пока сына переучивали, он отстал в учебе, а мы ругали его за плохие отметки, высказывали сомнения в его способностях. Когда меня вызывали в школу и говорили, что сын дрался, я разбирался с ним помужски – кулаками. Я пытался заставить Лешу заниматься борьбой, тренер обещал, что “вправит мозги”. Потом мне взбрело в голову, что он должен стать врачом. И вместо того, 148 чтобы выслушать сына, спросить его мнения, я лез ему в душу, настаивая на выполнении моих родительских требований. Стоит ли удивляться, что он ушел от нас на улицу? Удивительно, но я совершенно не помнил о том, что моя мать обращалась со мной точно так же, и я сбежал от нее после института по распределению в самый удаленный от родного – город Полтаву. Как скоро забываются собственные ошибки! Ведь я в юности был не лучше Леши: примерным поведением не отличался, улица была мне родным домом! Но от своего сына я требовал идеального поведения и командовал, что ему делать! Когда мне стали говорить, что с моим Лешей – “что-то не то”, я долго отказывался верить. Потом увидел своими глазами: сын не в себе, руки исколоты. Я – сильный человек: сумел в годы перестройки выбраться из кризиса, наладить собственный бизнес. А тут почувствовал, будто почва из-под ног ушла. Даже жена испугалась: “Нельзя так реагировать!” Мы повезли сына в Одессу. Для института я взял справку о том, что у Леши – язва желудка. Противно было врать, но и правду говорить не хотелось. Сын стал лечиться по системе “12 шагов”. Сначала Леша находился в стационаре, потом жил с инструктором на квартире. Деньги там брали немалые, и потом я понял, что это натуральная “разводиловка”: на лечение принимали всех, а вот выздоравливал только тот, кто уже дошел до ручки, и сам понимал, что дальше идти некуда. Когда я звонил в Одессу, мне говорили, что сын делает успехи, хотя есть некоторые отклонения. Как выяснилось позже, “отклонениями” были уколы… Через восемь месяцев у одесситов заговорила совесть, позвонили, сказали: “Вашему сыну надо сменить обстановку”. Я поехал в Москву к Маршаку. Послушал, в чем состоит его лечение, и понял: такая же “разводиловка” – оплата в пять раз больше, чем в Одессе, и обещания, что специально для моего сына будут самолетом возить лекарства из Америки! Неужели в это кто-то верит? Я знал, что в Полтаве работает доктор Саута, который, вроде, успешно лечит наркоманов. Идти к нему решился не сразу – Саутой пугали, говорили: “Деспот, работает очень жестко!” Но и терпеть Лешино поведение уже не было сил. Моя жена трагически погибла, я остался один и просто сбивался с ног. И мы решили сдаваться “страшному” Сауте. Леша не сразу пошел на поправку. В самом начале сбежал из “Выбора” через окно. Я решил, во что бы то ни стало, добиться, чтобы он туда вернулся. Написал заявление в милицию, договорился со знакомыми милиционерами, на сына устроили настоящую облаву. Ему ничего не оставалось, как снова возвратиться в Центр. Я тоже стал ходить на занятия с психологом. Прочитал книгу “Возвращенные из небытия”. Содержание не сразу укладывалось в голове, я перечитывал ее два или три раза. На родительских занятиях тоже сначала не мог взять в толк, о чем они говорят. Почему утверждают, что мой сын – бессовестный иждивенец? И в Одессе, и в Москве утверждали, что это больной человек, и с ним надо обращаться бережно! И вдруг Нелли Дмитриевна говорит: “Ваш сын ведет себя, как преступник: ворует, обманывает!” Я кричал: “Как Вы смеете!” Но психолог – женщина деликатная и терпеливая – спокойно выносила мои нападки и продолжала вести свою линию. Ее поддерживали другие родители, чьи дети давно прошли курс реабилитации в “Выборе”. Вскоре до меня дошло: эти люди, которые говорят неправильные, на мой взгляд, вещи, добились результатов, их дети перестали принимать наркотики. А я, такой умный, истратил кучу денег на “лечение”, но так ничего и не добился. Я спрятал свою гордость подальше и стал слушать. Через месяц Леша захотел со мной поговорить. Все изменилось. Отношения стали налаживаться, появилось уважение, доверие. Я стараюсь уважать в сыне свободную личность, не давить на него. Предоставляю самому принимать решения, кем ему быть, где учиться. Удивительно, за какое короткое время он научился жить и поступать, как взрослый и ответственный человек. То, что мне не удавалось на протяжении восемнадцати лет, доктор Саута сделал за два месяца! Как ему это удалось? Да такому человеку нужно создать все условия для работы! А он сидит в тесном помещении, рядом с вытрезвителем! Так мне пришла в голову идея построить новое здание Центра. Меня поддержали Василий Васильевич и Анатолий Викторович. Мы решили не ждать помощи властей, начать строительство на собственные средства. Под лежачий камень вода не течет. Мы сдвинули этот 149 “камень”, и нам стали помогать – и мэр, и губернатор, и вице-премьер. Для меня этот дом – знак благодарности человеку, который вернул мне сына. 150 “ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЕ САМ” История Евгения и Юлии “ВЫБОР” – КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В МОЕЙ ЖИЗНИ” Евгений О таких детях, как я, принято говорить: родители его “упустили”. Я был несговорчивый, неуступчивый, не любил учиться. Мне нравилось только гулять. Улица была моим домом. Здесь я зарабатывал уважение кулаками, даже спортом занимался, чтобы стать сильнее и драться еще лучше. Мечтал быть десантником или спецназовцем: сильным, смелым, метким стрелком. Всегда с удовольствием смотрел фильмы о таких людях. И в своей компании я был заводилой в хулиганских выходках. Уже в десять лет учился кое-как, а в восьмом классе мне просто выставляли “двойки” в четвертях. Учителя смотрели на меня, как на конченого человека. С шести лет я воровал у родителей деньги, покупал жвачки, мороженое, лимонад. Угощал друзей. Наверное, покупал их таким образом. Деньги были для меня символом счастья. Меня радовала возможность купить что-то, чего нет у других. С деньгами я был счастлив даже без друзей. У родителей случались трудные времена, но я, не задумываясь, брал у них последнее, чтобы покутить на улице. Конечно, они ругали и наказывали меня, но я предпочитал перетерпеть порку ремнем, чтобы потом снова повеселиться с друзьями. Деньги были для меня главным в жизни. Я мечтал о богатстве и о возможностях, которые оно открывало. У меня был друг из очень богатой семьи. Цепи носил – в палец толщиной. Он курил “план”, и чтобы общаться с ним на равных, я тоже стал курить. Да не просто так – а по десять “косяков” в день. Три года мы болтались вместе по улицам и тратили украденные у родителей деньги. В девятом классе отец велел “подтянуть” оценки, чтобы поступить в техникум. Там я нашел друга – Вадима. Он хотел от жизни примерно того же, что и я – развлекаться и ничего не делать. В это время я влез в криминал: такому “взрослому” человеку уже стыдно было таскать деньги у родителей, если их можно было добыть в другом месте. На пару с соседом я стал воровать на улице, мы взламывали замки, отнимали ценности у прохожих. Постоянно были неприятности с милицией, и все же сворачивать с выбранного пути я не думал. Моим идеалом была уголовная романтика. Уголовщина ассоциировалась с деньгами, пистолетами, силой и властью. Жестокость, жадность – были в порядке вещей. Жил я “по понятиям”: за день тратил двухмесячную зарплату рабочего. Обычные люди были, в моем представлении, “лохами”, а “лохов” надо наказывать! Они все равно пропивают свои деньги – так пусть лучше отдадут их мне – мне нужнее! В 1997 году меня впервые угостили трамадолом. Эффект мне понравился: не спишь, не ешь, можно много “работать”, чувствуешь прилив силы и энергии, уверенность в себе – сильном, быстром и ловком! После трамадола самооценка резко взлетала вверх. И я начал принимать его постоянно. За три года догнал дозу до сорока таблеток в день (это при том, что восемь таблеток считались смертельной дозой для непривыкшего человека) и заболел механической желтухой: печень уже не выносила таких доз. Я сделался конченым психом: не спал ночами, чувствовал постоянную головную боль и раздражение ото всего на свете. Перепады настроения утомляли, я стал угрюмым. Трамадол уже не приносил удовольствия, и, переступив через все “понятия”, я укололся “ширкой”. 151 Через полгода у меня начались серьезные проблемы с печенью. Я попробовал лечиться. Родители договорились, чтобы меня положили в реанимационное отделение. Они всегда все обо мне знали, но сделать ничего не могли: я очень упертый. В реанимации меня промывали, ставили капельницы, я пил чифир и курил “план”. Когда вышел – пошел к другу за трамадолом. И стал есть его еще больше – пытался “наверстать” упущенные в больнице двадцать дней. Пошел вразнос: ел по пятьдесят таблеток в день. Когда с трамадолом начались перебои, я снова стал “подкалываться”. Одно время пытался наладить собственный опийный бизнес: брал мак у “кореша” из дурдома, сдавал двум барыгам. Заработать не удалось: прокалывал больше, чем получал. В это время я снова встретил Вадима. Оказалось, что он лечился в Днепропетровске, в реабилитационном Центре “Выбор”, и теперь не колется. Я тоже поехал в Днепропетровск. Не знаю, что я ожидал там увидеть, но то, что увидел – и вовсе меня потрясло. Леонид Александрович не изображал из себя “доброго доктора”, говорил резко, употреблял слова, которые звучат в зонах. Позже я понял, что он, как профессионал, умел говорить на языке своих пациентов, а тогда я даже подумал, что он – воровской авторитет. Я разглядел в нем главное для меня – серьезный уровень. Он не подпускал к себе близко, и я сразу его зауважал. Я стал бегать по утрам, серьезно “работать” на группах. Правда, я многого тогда не понял, например, что надо менять отношения с родителями, что нельзя хамить людям. Но мне казалось, что я полностью вылечился. Когда я вернулся домой, сказал отцу, что мне пора завязывать с наркотиками и начинать работать. Он обрадовался, стал приспосабливать меня к своему бизнесу. Я часто звонил в Днепропетровск, рассказывал, как живу, говорил, что у меня все в порядке, хотя, на самом деле, я снова начал потихоньку принимать наркотики. Я не понимал, что доктор Саута даже по телефону видит меня насквозь, и пребывал в иллюзии, что сохраняю с ним хорошие отношения. Потом я снова втянулся в криминал, и меня забрали в милицию. Дело было серьезное, могли посадить на шесть лет. Я решил жениться. Моя невеста Юля была родом из Киева, в Полтаву приезжала к знакомым. Она мне очень нравилась, и я долго ее добивался, даже лечиться ездил под ее давлением. Правда, жениться я прежде не думал, поскольку был “принципиальным противником брака”, а детей вообще не хотел, считал, что все дети – неблагодарные свиньи. Когда начались неприятности, я подумал: если меня посадят на шесть лет, будет ли Юля меня дожидаться? Я боялся ее потерять, и решил, на всякий случай, привязать к себе покрепче. К счастью, меня не посадили, и я снова отправился в Днепропетровск. Я боялся туда ехать, знал, что будет стыдно смотреть в глаза Сауте. Меня приняли “по-хитрому”. Сначала: “Жека, привет, как дела?” А потом Леонид Александрович стал так “воспитывать” на группах! Говорил: “Зачем ты женился? Ни кола, ни двора, занимаешься черт знает чем, ни о чем не думаешь!” Мне было стыдно и досадно. И я продержался в Центре недолго: убежал вслед за Алексеем. В Полтаве “осел” в квартире у “корешей”. Юля была в Киеве, и я надеялся, что, пока ее нет, поколюсь, а потом замылю ей глаза подарками. Юля была единственным близким человеком, которого я боялся и который мог на меня повлиять. Через несколько дней она нашла меня, забрала домой. Родители принялись ее “долбить”: “Зачем ты его приняла, посмотри, что он делает, а ты не можешь ему помочь!” Мы ушли жить на квартиру. Прожили там недолго: когда я стал колоться (“ширка” была дешевле трамадола), Юля меня выгнала: “Ты мне надоел!” А я еще украл деньги, и “друзья” отвернулись от меня. Домой тоже не пускали. Я стал ночевать в подъездах, крутиться с “широчными” барыгами и кончеными наркоманами. Закалывался до потери пульса. Жил на каких-то “хатах”. Это ужасно меня “грузило”! Я думал: я ведь человек, почему я живу, как собака? А тут еще Юля собралась разводиться: “Или езжай в “Выбор”, или подаю на развод!” Ох, как туго мне пришлось в Центре в третий раз. Леонид Александрович только увидел меня – отвернулся! Мне больше не доверяли, не хотели разговаривать! Я понял, что у меня нет другого выхода, как только серьезно во всем разобраться! Стал откровенно разговаривать, задавал волнующие вопросы, даже плакал иногда на группах. Потом позвонила Юля: у отца случился инсульт. 152 Я стал разбираться в отношениях с родителями. Поставил себя на место матери: как она плачет по ночам, когда меня нет. Вдруг вспомнил, как отец поседел и почернел лицом. Я думал о том, как им стыдно, когда за мной приходит милиция. Как они надеялись на меня, думали, что я буду им опорой в старости, а я не оправдал этих надежд. Они чуть не развелись из-за меня – устали спорить до хрипоты. Мать стала истеричкой, отец тяжело заболел, и это тоже была моя “заслуга”! А если бы мои дети поступали так со мной, каково было бы мне?! Когда я начал задумываться над этим, Леонид Александрович стал меня поддерживать. Он первым разглядел перемены, происходящие во мне, а ребята еще не верили, думали – притворяюсь. Я старался – начал бегать по утрам, поднимать штангу. Меня стали отпускать в магазин, доверять деньги на продукты. Помню, первое время я стеснялся бегать кроссы: что подумают обо мне мои “друзья”? Леонид Александрович говорил: “Какие друзья? Наркоманы?” Я стал понимать, что должен думать не о “корешах”, а о родителях, и мозги у меня потихоньку “становились на место”. Я переступил через свои прежние “понятия”: подметал и мыл полы, работал завхозом. Я чувствовал, что должен оправдать доверие Сауты, должен помочь ребятам. Я научился ценить свой труд, хоть и работал “как лох”. Первое время меня немного сбивала с пути Юля. Она привыкла жить в роскоши и удивлялась, почему я соглашаюсь работать за двести гривень, а не иду в папину фирму. А я понимал: у папы я буду безответственным ребенком, а в Центре – я должен сам за все отвечать. Леонид Александрович говорил: “Ты работаешь не за деньги, ты зарабатываешь репутацию!” Ребята тоже стали относиться ко мне иначе. Раньше, когда на группах мы обсуждали, кто на кого похож, обо мне говорили: “тупой баран”! А теперь стали уважать, советоваться. Потом Лешин отец, Виктор Николаевич, предложил мне работать в его строительном предприятии. Сейчас я – бригадир. Нам доверяют самостоятельно делать целые объекты. По совету Леонида Александровича я поступил в строительный институт. Выяснилось, что у меня появились хорошие перспективы. Но Центр я не оставил – работаю здесь инструктором по тяжелой атлетике. Идея создать клуб штангистов возникла в 2001 году. Тогда в реабилитационном Центре “Выбор” появились пара гантелей и первая штанга “Юниор” весом в 40 килограммов. Мы стали потихоньку тренироваться, общаться со спортсменами. Нам помогал Николай Иванович Пека – мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди ветеранов. В 2002 году он привез в Центр олимпийскую штангу. Один из пациентов раньше занимался тяжелой атлетикой, знал технику тренировок. Он стал нашим первым инструктором. Николай Иванович расписал нам график тренировок, чтобы мы занимались после групповой психотерапии. Мы начали тренироваться вместе с Лешей, Леонид Александрович стал нас хвалить. Потянулись и другие пациенты, через неделю в спортзал приходили уже шесть человек. Николай Иванович часто навещал нас, наблюдал за тренировками, потом познакомил нас с тренером легендарного тяжелоатлета Султана Сабуровича Рахманова. Он возглавлял клуб “Богатырь” в Днепропетровске. Спортсмены нас похвалили, подбодрили. Общение с ними вдохновило: вчера мы кололись в подворотнях, а сегодня – общаемся с чемпионами! Теперь по вечерам мы не говорили о наркотиках – обсуждали план тренировок, успехи друг друга. Когда мы вернулись в Полтаву, первое время штанги у нас не было. Потом я нашел подходящий снаряд у знакомых, мы с Тарасом ее купили, заняв деньги у знакомых. Была весна, и “париться” в спортзале, честно говоря, не тянуло. Но мы знали: штангу надо “отрабатывать”. Вскоре к нам присоединились ребята, приехавшие из Днепропетровска. Центр “Выбор” переместился в Полтаву, а вместе с ним – и клуб тяжелой атлетики. 11 августа 2002 года, в День физкультурника, Николай Иванович организовал в поселке Днепровая Каменка турнир по футболу. Мы выиграли у команды Султана Рахманова и пригласили их в Полтаву на матч-реванш. Рахманов приехал к нам в гости не один, а с Юрием Константиновичем Зайцевым – двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. Мы прекрасно понимали, что принимать у себя в гостях легенд спорта – большая честь, и это ко многому нас обязывает. 153 Мы с Тарасом упражняемся со штангой уже третий год. Сейчас в нашем клубе девять спортсменов, мы занимаемся в две группы. Очень серьезно работают Саша и Олег. Но все пациенты Центра “Выбор”, в свое время, проходят через спортзал. Инструктирую их я – как человек, который поднимает штангу дольше всех. Ребята занимаются с удовольствием, потому что понимают: штанга помогает преодолеть лень, поверить в свои силы. Штангисты – настоящие мужчины, работяги. И мы хотим стать такими. Многие тренируются уже как мастера – шесть раз в неделю. Четверо ребят собираются сдавать на разряды по тяжелой атлетике. Я надеюсь получить третий взрослый. Сейчас за одну тренировку я поднимаю от семи до четырнадцати тонн. Мы общаемся с выдающимися мастерами спорта, у нас в гостях бывает чемпионка мира Ирина Яворская, а ее тренер – заслуженный тренер Украины Максим Иванович Иванько консультирует нас и расписывает планы тренировок. Над нашим клубом “шефствует” Международная ассоциация ветеранов спорта. К сожалению, с нами нет Николая Ивановича. Он умер. Но мы всегда помним о нем, и хотим провести турнир его имени. Я буду бороться за победу – я очень любил и уважал этого человека. Я живу без наркотиков уже четыре года. У нас с Юлей родился сын – Димка. Дмитрий в переводе с греческого – “земледелец”. Я хочу воспитать его спокойным, уравновешенным, чтобы он не повторял моих ошибок. Юля тоже приходила в Центр, занималась с психологом и очень изменилась. Мы стараемся жить по своим возможностям. Леонид Александрович для меня – второй отец. Если бы не он, где бы я был сейчас? Он – замечательный доктор. Но важнее, что он – очень хороший человек. А “выбор” для меня теперь – самое главное, ключевое слово в жизни. Я знаю, что у меня всегда есть выбор, и каким он будет, зависит только от меня. “ЖИТЬ С НАРКОМАНОМ – СТЫДНО!” Юлия Когда я познакомилась с Женей, он показался мне симпатичным, смелым и обходительным молодым человеком. Я понимала, что я ему нравлюсь: он постоянно звонил, ухаживал, дарил цветы. Постепенно мы пришли к тому, чтобы попробовать жить вместе. Я переехала в Полтаву из родного Киева и поселилась у Жени. Но из нашей совместной жизни ничего хорошего не выходило. Вскоре выяснилось, что он курит “план”, позже я узнала о трамадоле. Я пригрозила ему: “Или ты сейчас же прекращаешь принимать наркотики, или я возвращаюсь в Киев”. Он пообещал, но выполнять обещание не торопился. Я рассказала о своем открытии его родителям. Мама не поверила: “Может, он и курит, но чтобы принимать таблетки – этого не может быть!” Папа отнесся к этому более серьезно, и мы решили, что будем лечить Женю. Я уже привязалась к нему, почувствовала, что он мне не безразличен, и решила, что буду помогать ему преодолеть болезнь. С большим трудом мы уложили Женю в психиатрическую больницу, правда, это ничего не дало. Сразу после выписки он обкурился и наелся таблеток. Я почувствовала разочарование и даже впала в панику: лечение не помогает, что же делать? Я все равно решила идти до конца, бороться за Женю, потому что видела в нем много хорошего. Я верила, что он не был “гнилым наркоманом”. Я еще больше убедилась в этом, когда мы с Женей прожили восемь месяцев в Миргороде. Он не принимал наркотики, перестал врать и пропадать целыми днями, стал заботиться обо мне, помогать по дому. Это была спокойная семейная жизнь. Тогда я поняла: Женя может обходиться без наркотиков. Значит, это не болезнь, все зависит от человека, его желания и силы воли. К сожалению, в Полтаве все снова пошло наперекосяк. Опять появились наркотики, а с ними – вранье, воровство, агрессия. Каждый день я говорила: “Или я, или наркотики!” Женя обещал бросить, но это был сплошной обман. Я видела: с каждым днем он становится все хуже. Женя был настолько одурманен наркотиками, что почти потерял способность 154 соображать. Его почти не бывало дома, он постоянно приносил украденные у родителей или отобранные на улице деньги. Несколько раз его “навещала” милиция. Но Женя чувствовал безнаказанность, поскольку родители всегда улаживали его неприятности. Так продолжалось, пока мы не встретили Вадима. Он лечился в Центре “Выбор” и вернулся из Днепропетровска абсолютно другим человеком, говорил, что ему даже не хочется колоться. У меня появилась надежда. В Днепропетровск мы поехали вместе с Жениными родителями. Я попала на занятие родительской группы у психолога. То, что там происходило, удивляло и возмущало. Люди говорили о своих детях страшные вещи. Некоторые заявляли, что готовы убить сына или дочь. Мне казалось странным рассказывать о своей личной жизни совершенно незнакомым людям. Это очень тяжело! Да и почему я должна перед ними отчитываться? Мы привезли лечить Женю – пусть его и лечат! А я здесь при чем? После лечения Женя, как и Вадим, вернулся из Днепропетровска “совершенно другим человеком”. По крайней мере, так мне тогда казалось. Он мыслил совсем иначе, говорил, что надо работать, учиться. Появилась логика! Позднее я поняла: он просто “нахватался” умных слов, но не усвоил их сути, они не стали его убеждениями. Он говорил: “Этого делать нельзя”. Но почему “нельзя” – объяснить не мог. Вскоре Женя снова вернулся к наркотикам. У меня опустились руки: если уж в “Выборе” не сумели помочь, чего еще ждать! Мои угрозы уехать уже не действовали. Не помогали ни просьбы, ни скандалы. Его родители обвиняли меня, что я “не хочу заставить” Женю бросить наркотики. Это был кошмар. Я чувствовала обиду и злость. И отвечала им такими же обвинениями: если бы они его по-другому воспитывали, он не был бы наркоманом! Это продолжалось бесконечно! Когда у него начались неприятности, мы решили пожениться. Разумеется, при условии, что Женя бросит наркотики. Но ничего не изменилось. Женя продолжал колоться. Мы снова отправили его в “Выбор”, но он оттуда сбежал. Постепенно я пришла к мысли, что не хочу с ним жить: каждый день ждать милицию, бояться, что его вот-вот заберут! К тому же, он стал агрессивным, постоянно хамил, сыпал оскорблениями. Этого нельзя было терпеть! Когда он украл деньги, мы с Жениным папой договорились, что выгоним его из дома. Я твердо решила, что не буду жить с наркоманом! Видимо, он это почувствовал. Да и на улице пришлось несладко. Я видела: он уже понимает, что дошел до какой-то черты. Когда Женя снова пошел “сдаваться” в “Выбор”, я тоже стала ходить на групповые занятия для родственников, поскольку поняла, что меняться надо всем. Я ведь тоже сделала немало ошибок. Раньше я любила командовать мужем. В Центре осознала: надо учиться быть лояльнее, не все должно быть только так, как я хочу. Пришлось переступить через многое. Это было трудно и далось не сразу. В конце концов, я осознала, что, если люблю его и хочу с ним жить, мне придется измениться. Меня долго убеждали, чтобы я перестала нянчиться с Женей. Говорили: “Он – не маленький ребенок, а мужчина”. Если я хочу, чтобы Женя изменился, я должна научиться относиться к нему, не как к ребенку, а как ко взрослому человеку: дать больше самостоятельности, чтобы он мог реализовать себя. Раньше я говорила: “Я хочу, чтобы ты работал там-то”. А чего хотел Женя? Оказалось, совсем другого. Я поняла, что мужу надо дать время адаптироваться, не давить на него, дать возможность самому разобраться и решить, чем он хочет заниматься. Нельзя требовать от человека сразу всего. Женя решил поработать на стройке. Там платили немного, но мы решили, что какое-то время потерпим. Будем жить бедно, но спокойно. Я его поддержала. И не пожалела. Я видела, как он постепенно превращается в мужчину, становится ответственным, старается больше работать. Я поняла, что от близких зависит очень много. Мы не должны делать что-то за человека, но мы должны помочь ему своим выбором, мы первыми должны отойти от наркотиков, отказавшись жить с наркоманом. Если мы увидим в нем человека, способного преодолеть свою зависимость, мы поможем ему продвинуться на этом пути. Иногда здесь нужна жесткость. Если бы мы, в свое время, не прибегли к ней, Женя вряд ли захотел бы снова вернуться в Центр. 155 Я считаю, что успех Жениного лечения напрямую зависел и от того, что удавалось понять мне. На групповых занятиях в Центре мы обсуждали спорные ситуации, выясняли, кто чего хочет, и обоснованы ли его требования. Это помогало увидеть проблемы с разных точек зрения, а значит, и научиться лучше понимать своих близких, их желания и стремления. Постепенно я привыкла приходить в Центр с любыми “трудными” вопросами, и мне всегда помогали разобраться в себе, найти правильное решение. Я поняла, что нет человека, который не может бросить наркотики. Если он не делает этого, у него просто нет желания. Здесь работает “не хочу!”, а не “не могу!” Это касается и родственников тоже. Мы часто не можем смириться с мыслью, что близкий человек стал наркоманом. Мне долго казалось, что мой Женя – не такой, как другие наркоманы: он чистый, ухоженный – особый. Потом пришло осознание: жить с наркоманом стыдно, это – позор! Я поняла, что хочу, чтобы мой муж был нормальным, полноценным мужчиной. Наркоман таким быть не может. 156 “В СЕМЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕДИНСТВО” История Виталия, Анатолия Викторовича и Лидии Ивановны “Я НАУЧИЛСЯ СОПЕРЕЖИВАТЬ ЛЮДЯМ” Виталий В школьные годы я занимался восточными единоборствами. Это был хороший способ поддерживать нужную форму, чтобы нравиться девушкам. Тренер хвалил меня, но на первых же соревнованиях я проиграл бой, и появилось чувство страха. Я стал пропускать тренировки, начал курить и пить пиво. Наверное, мне стоило искренне поговорить с отцом о том, что меня волнует, но я не мог этого сделать. Мой отец всегда занимал высокие должности и всегда был занят. Домой приходил поздно вечером, часто работал в выходные. Я привык видеть в нем большого начальника – генерала, у которого в подчинении двадцать тысяч человек. Это мешало разглядеть близкого человека. Наверное, отец подсознательно чувствовал это и компенсировал дефицит общения подарками. Мама выполняла родительские функции за двоих. Она с детства была мои контролером. Следила, в котором часу я прихожу домой, не пахну ли спиртным или табаком. Еще в школе я научился обманывать ее, говоря то, чего не было, и скрывая правду, чтобы она не беспокоилась. Она всегда давала мне деньги на карманные расходы, иногда скрывая это от отца: отец был строг и баловства не поощрял. Впрочем, семья была обеспеченной, и материальных проблем у меня, как правило, не возникало. Я быстро привык получать все как должное: что принадлежит семье – принадлежит и мне, брать у родителей – это в порядке вещей. Мои желания всегда исполнялись мгновенно, и я ни в чем не знал отказа. Меня, как и всех сверстников, тогда очень волновали отношения с девушками. Если раньше я привлекал их внимание, занимаясь спортом, теперь старался выделиться модной одеждой, дарил цветы, водил в кафе. Барьер общения снимался алкоголем. И вообще все праздники стали ассоциироваться с выпивкой. Институт я выбрал сам, но поступить мне помогли родители. Вуз был престижным, и даже мои неплохие знания не могли гарантировать успеха. Поселившись в общежитии, я начал курить “травку”, пробовал “винт”. Я думал, что мужчина в жизни должен попробовать все, и скоро вполне оценил “вкус” наркотиков. Они помогали снимать напряжение в отношениях с девушками, давали ощущение уверенности, силы, значимости, глушили чувство неполноценности от того, что я остаюсь ребенком, когда многие мои сверстники уже чего-то добились. Потом я немало раздумывал, почему в моей жизни нашли место наркотики, и долгое время обвинял “дурную компанию”. Это была неправда: я сам искал эту компанию таких же, как и я, избалованных детей, которые стремятся к постоянным удовольствиям. После института меня, не без помощи отца, распределили в прокуратуру. Там меня ждало множество разочарований. Я видел, что люди, которые должны стоять на страже Закона, легко поступаются принципами ради наживы, “торгуют” погонами для собственной мелкой выгоды. Пожилой следователь, который “учил” меня работать, “закрывал” дела за вознаграждение. У моего отца он тоже брал деньги – якобы в долг. В конце концов, его посадили за взятки, а я перешел работать в районную прокуратуру. Дел там было невпроворот, и я старался научиться работать, как следует. “Учился”, в основном, распивая водку с коллегами. В милиции и прокуратуре вообще много пьют – работа располагает. Покуривал “план”, который поставляли полукриминальные личности (я не сразу догадался, что они прикармливают меня, чтобы потом использовать), пробовал трамадол. 157 Потом случилась неприятность. Нашего прокурора перевели в другую область, и вся прокуратура ударилась в загул. Прокурор был человеком деспотичным, его не любили. На радостях пили и гуляли целый день. Вечером я развозил всех по домам и попал в серьезную аварию, получил открытую черепно-мозговую травму. Начались скитания по больницам. В одной из них меня заразили гепатитом. Я уже не верил, что когда-нибудь смогу снова нормально жить, и – призвал на помощь наркотики. В инфекционной больнице, где лечилось множество наркоманов, впервые попробовал “ширку” и через полгода оказался в “системе”. Из прокуратуры меня уволили, пока я лежал в больнице, как запятнавшего честь мундира, ведь я сел за руль пьяным. Коллеги, которые пили со мной в тот день и которых я после пьянки вез домой, ни разу не навестили меня в больнице. Система просто выбросила проштрафившегося работника. Против меня возбудили уголовное дело и хотели судить показательным судом, но отец возместил убытки, и, учитывая мое тяжелое состояние, меня решили не наказывать. Я стал работать под началом отца. В этом механизме я был совершенно бесполезным винтиком, на меня смотрели, как на сынка начальника. Жить было неинтересно, и я полностью отдался наркомании. Вскоре из послушного мальчика я превратился в животное, постоянно нуждающееся в дозе. Каждый день начинался с размышлений, как выманить деньги у родителей. И, как каждый наркоман, я проявлял здесь незаурядные способности актера и психолога. Я знал, что надо сказать маме, чтобы она дала денег, знал, что она хочет от меня слышать, и играл на материнских чувствах, пользуясь ее доверчивостью. Я постоянно пытался вызвать у нее жалость, чтобы получить то, что мне нужно. И пока она жалела меня – не было смысла менять образ жизни. С отцом было сложнее. У него возникли подозрения, и он потребовал, чтобы я прошел тест на употребление наркотиков. Я отказался. Стал скрываться, жил на заброшенной даче. Впервые пришла мысль, что с “ширкой” пора завязывать, но как это сделать, я не знал. От меня ушла девушка, друзья не хотели видеть, отец забрал ключи от машины, перестал давать деньги. Мама старалась защищать меня, и из-за этого они постоянно ссорились. Сейчас я понимаю, как тяжело было папе. Он рано потерял отца, всю жизнь много работал, добился признания, его уважали за честность и порядочность. Он – достойный во всех отношениях человек – должен был каждый день созерцать свое “раскумаренное” чадо и сознавать, что сын умирает за его же деньги. Потом родители уехали в отпуск, и я какое-то время спокойно жил в квартире. Перед их возвращением понял, что надо “спрыгивать”. Я записался на амбулаторное лечение в наркодиспансер, но успеха не было. Утром принимал процедуры, днем сидел на работе, вечером – кололся. Решил лечь в стационар. Оказалось, что и там свободно “гуляли” наркотики. Родители возили меня к “бабке” –“отшептывать” злых духов, отец давал мое фото экстрасенсам, а чуда не происходило. В конце концов, я ужасно устал от такого “лечения”, у меня появилась уверенность, что бросить наркотики невозможно. Когда отец узнал от своего товарища о реабилитационном Центре “Выбор”, мы поехали туда. Мне было очень трудно беседовать с Леонидом Александровичем, рассказывать о своих “подвигах” в присутствии отца. Но делать было нечего: перед поездкой он сказал: “Если хочешь, чтобы тебя взяли лечиться, ты должен быть трезвым и искренним”. Почему-то я поверил Леониду Александровичу. И вообще все в Центре были настроены доброжелательно. Мне там поначалу даже понравилось. Я думал, что побуду здесь какое-то время, снова войду в доверие к родителям, а потом смогу колоться “по-умному”, с большими перерывами. Но реализовать план не удалось. Мои мысли были всем очевидны, и мне принялись объяснять, кто я на самом деле и чего хочу. Я считал себя на голову выше других пациентов и не упускал случая унизить других, чтобы возвыситься самому. Завел дружбу с таким же “умником”. Когда “друг” украл у меня часы, я понял, на чем в действительности строились наши отношения. Но одно дело – “друг”, и совсем другое – я. Расстаться с иллюзией, что я умный, порядочный и честный человек, чьим слабостям вполне можно найти оправдание, и поверить в то, что я превратился в подонка, живущего за счет родителей, было очень больно. И я возненавидел людей, которые открывали мне глаза на страшную правду. 158 Я все еще надеялся, что смогу, как и прежде, обманывать мать и отца, “разводить” их на жалость. Когда увидел, что мама перестала со мной разговаривать, а отец – даже здороваться, пришлось задуматься. Я понял, что надо учиться жить с ними по-другому. Если я не изменюсь, родители отвернутся от меня, а без них я не проживу. Прошло две недели, и я начал верить в свои силы. Я бегал по утрам, играл в футбол, помогал делать в Центре ремонт. Я старался изображать “сознательного парня”, но мою неискренность видели и постоянно об этом говорили. Постепенно я заметил, что мне нравится заниматься спортом, я начал получать удовольствие от физической работы. Я стал стараться, и Леонид Александрович сразу это заметил, похвалил за успехи. Я пытался смотреть на себя со стороны и понимал, что в Центре мне говорили правду. Мне захотелось заслужить их доверие, а для этого нужно было искреннее общение. Когда я осознал, как некрасиво поступал с родителями, я решился откровенно поговорить с отцом. Это было трудно: на глаза наворачивались слезы, язык не слушался. Но я чувствовал, что мне нужна его поддержка и понимание. Я чувствовал себя загнанным в угол ребенком, который не знает, как жить дальше. И когда отец сказал, что поможет, если я, действительно, хочу стать человеком, мне стало легче. Я понял, что родители, которым я принес столько горя, не бросили меня, переживают, хотят, чтобы мне было лучше. Через два месяца меня взяли в Центр водителем. Родители все еще боялись, что я сорвусь, но я всерьез решил доказать и себе, и другим, что я способен изменить жизнь. Я помогал Ростиславу, который стал директором “Выбора”, разбираться в документах, объяснял всякие юридические тонкости. Наконец-то мне пригодились профессиональные навыки. Когда стали оформлять покупку участка под строительство нового здания Центра, я активно включился в работу. И мне поверили – назначили исполнительным директором общественной родительской организации “Допоможемо дітям”. Это был аванс доверия, и я должен был его оправдать. Я взял на себя ответственность за все организационные сложности: покупку земли, составление договоров, подбор материалов для строительства. Я работал, не считаясь со временем, и когда Виктор Николаевич сказал, что не надеялся так быстро начать строительство, его слова были самой дорогой наградой за мой труд. Я понял, что чем больше берешь на себя, чем большую ответственность чувствуешь за порученное дело, тем больше приобретаешь уверенности и сил делать то, что прежде не получалось. Отец учил меня в детстве: “Что отдал – то твое”. А я почему-то не понимал. Теперь понял – это действительно так. В 2004 году я побывал в Америке. Я прошел конкурс, объявленный для людей, работающих в сфере профилактики наркомании и СПИДа. Я видел американские реабилитационные центры и понял, что наша организация работы с пациентами не только не уступает американской, но в чем-то опережает ее. В государственных центрах, которые мы посещали, не работают с родителями пациентов, не заботятся о трудоустройстве ребят. Двадцатидневный курс лечения стоит шесть тысяч долларов, и это при том, что большинство пациентов употребляют марихуану, инъекционных наркоманов совсем немного. Те, кто употребляет наркотики, в Америке считаются людьми второго сорта. Это, в основном, бандиты и мигранты. В развитых странах наркоманы не могут жить лучше работающих людей, там быть наркоманом – невыгодно и непрестижно. Там приветствуется самостоятельность. А у нас родители носятся с детьми чуть ли не до их, детей, пенсии. Дети же сидят на родительской шее и не думают слезать: зачем – здесь ведь так удобно. В Центре я понял, что раньше жил эгоистично, для себя, не думая и не заботясь о близких, считал себя центром мира, думал, что все должно вертеться вокруг меня и моих желаний. Сейчас я научился получать удовольствие, когда делаю что-то для других, помогаю кому-то. Мне сейчас труднее жить, чем раньше. Зато появились настоящие друзья, полноценные, искренние отношения с людьми. Я понял, что женщины ценят в мужчинах не деньги, машины и прочие атрибуты успеха, а искренность, честность и порядочность. На этих принципах я и стараюсь строить свою жизнь уже два года. Самые большие авторитеты для меня сейчас – Леонид Александрович и отец. Я смотрю на отца совсем другими глазами, чем прежде. Я понял, что он очень добрый и достойный человек. Он никогда не отказывал в помощи даже совсем чужим людям. Я понял, по каким 159 принципам он живет, за что его уважают. И еще я понял, что люблю его, и он мне очень дорог. Когда отцу сделали операцию, и я увидел его после разлуки худым, на костылях, – не смог сдержать слез. Я научился сопереживать. Раньше я таких чувств не испытывал. “МЫ ПРЕДАВАЛИ СЫНА, ОТКУПАЯСЬ ДЕНЬГАМИ” Анатолий Викторович Я не ходил с сыном в турпоходы, не играл в футбол или шахматы. Не было дела, которое мы делали бы вместе. Работа отнимала у меня почти все время, дети росли и учились нормально, и, вроде, не было поводов для беспокойства… Наверное, я понимал родительские обязанности слишком примитивно: обеспечить, помочь получить престижное образование, удовлетворить потребности. Духовный контакт оставался чем-то второстепенным, на него почти всегда не хватало времени. Я видел, что сын стремится к постоянным удовольствиям, но не старался приблизить его к себе, скорее отталкивал недовольством. Результаты такого воспитания были плачевны: сын стал относиться к нам потребительски – накормите, постирайте, дайте денег на развлечения. Он уже воспринимал нас с женой не как близких людей, а как спонсоров комфортной жизни. В выходные мы уезжали на дачу без детей, трудились сами. А дети шли развлекаться. Наверное, это была первая “пробоина” в “семейном корабле”. Мы не уловили момент, когда надо было потребовать он Виталия самостоятельности. Мы снабжали его деньгами, не интересуясь, на что он их тратит, не были в курсе, какая у него зарплата. Особенно баловала сына жена. Она относилась к нему, как к ребенку. А ведь он уже окончил институт и начал работать. Когда возникли первые подозрения, я прямо спросил Виталия, употребляет ли он наркотики. В ответ услышал “искреннее” “нет”. Теперь я понимаю, что так мог отвечать настоящий наркоман. Но тогда – купился. Потому что очень хотел купиться. После того, как сын попал в аварию, главным чувством по отношению к нему стала жалость. Если я высказывал недовольство, жена бросалась защищать сына: “Ребенок так страдает!” Мы разделились, и это было главной ошибкой. После аварии я взял его работать к себе. Заметил, что каждое утро Виталий куда-то отлучается, приходит в странном состоянии. Я понял: мы имеем дело с наркоманом, надо принимать меры. Предложил ему пройти тест на употребление наркотиков. Сын отказался. Мне был брошен вызов! Мы пытались лечить его в наркодиспансере, но проку не было. Потом я встретил Виктора Николаевича. Я знал, что его сын, вроде бы, вылечился от наркомании, и осторожно спросил, как он это сделал, сказал, что у моих знакомых – такая же проблема. Он ответил: “Прекратите! Весь город знает, что ваш сын – наркоман!” Меня словно окатили ледяным душем. Но главное – Виктор Николаевич рассказал мне, что нужно делать. Чтобы сын согласился ехать в Центр “Выбор”, мне пришлось хорошенько на него надавить. Потом я понял, что Виталия взяли лечиться, поскольку Леонид Александрович увидел нашу готовность работать и менять поведение. Нелли Дмитриевна помогла нам понять опасность разобщенности родителей. Мы с женой смогли сплотиться, решить, что больше не потерпим лжи. Когда Виталий зарывался, мы ставили его на место: “Если ты такой умный, почему ты находишься в реабилитационном центре, а не возглавляешь районную прокуратуру?” У меня изменились понятия о родительских обязанностях. Я решил для себя, что не допущу возврата к прошлому. Нам, славянам, свойственно добродушие: будем до старости кормить и детей, и внуков. Я понял, что, полностью обеспечивая сына, мы предавали его, откупались деньгами, вместо настоящей помощи. Мы совершили большую ошибку и теперь расплачивались за нее. Есть тысячи примеров, как у занятых людей вырастают вполне самостоятельные дети. В движении жизни есть поворотные моменты, когда отношения людей должны меняться. Мы проглядели эти моменты. К счастью, нам хватило ума и сил исправить свои ошибки. 160 Когда сын впервые пошел на человеческий контакт, признался во лжи, сказал, что стыдится своих поступков, мы поддержали его, дали понять, что мы в него верим. Ситуация стала меняться. После лечения Виталий остался работать в Центре “Выбор”. Я приветствовал такое решение: сын остался рядом с учителем. Каждый выбирает свою судьбу сам. И надо постоянно трудиться. Если мы не изменимся, ситуация будет повторяться. Я часто думаю о том, что родителям не хватает элементарных знаний детской психологии. Сейчас во многих школах вводят даже Закон Божий. Как хорошо было бы, если бы нас учили, как избегать роковых ошибок в воспитании. “ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ” Лидия Ивановна У нас в семье двое детей: сын и дочь. Казалось, воспитываем их одинаково. Откуда же такая разница? Наверное, не всегда уделяли достаточно внимания, было мало полноценного общения. Муж часто уезжал в командировки, я работала в школе: уроки, тетради… Когда Виталик учился в институте, часто приезжал на каникулы с друзьями. Друзья нам не нравились, особенно мужу. Но мы исправно ссужали сына деньгами – на кафе, на кино. Дома он почти не жил. Приедет, бросит вещи, чтобы постирали, и бежит проведывать друзей. На даче мы работали одни, детей не привлекали. Почему? Зачем? Сами всю жизнь трудились, а своих детей “берегли”! Что с Виталиком творится что-то неладное, мы подозревали давно, но поверить, что сын стал наркоманом было страшно. Обманывали сами себя. Видели его замутненный взгляд, лихорадочный блеск глаз, безразличие к семейным делам, суетливость, беспокойство, неадекватное поведение, но не торопились делать неутешительные выводы. Нашли в кармане “травку”, Виталик сказал, что это чужая. Я сразу и поверила. Нашла в машине окровавленный шприц, сын снова “объяснил”, что подвозил наркомана, видимо, тот забыл. Для пущей убедительности поклялся здоровьем. Я снова верила: разве можно просто так клясться здоровьем? Муж был настроен более скептически, а я стояла за Виталика горой: мне казалось, что супруг подозревает сына напрасно. Мы стали ссориться, скандалить… Потом страшную правду пришлось признать. Пробовали принимать какие-то меры, лечить – все было бесполезно. Знакомые рассказали о Центре “Выбор”, в руки попала книга “Возвращенные из небытия”. Я прочитала ее три раза, на четвертый стала конспектировать. Я думала, что наркотики – это курево и уколы. Оказалось, это образ жизни. Мы стали ходить на родительские занятия. Очень трудно было признаться себе, что сын – наркоман, а я – мать наркомана. Но я слушала истории других родителей и понимала, как много у нас общего, во многих рассказах узнавала себя, свои ошибки и свое горе. Сын поначалу хитрил, говорил мне: “Ты не очень-то тут откровенничай!” Я смотрела на него и думала: если он не меняется, значит, и мы пока не изменились. Надо меняться вместе. Тогда я сказала Виталику: “Позицию отца ты знаешь. Скажу о себе. У меня одна жизнь, и я еще хочу жить. Я не хочу, чтобы мой сын был наркоманом. Если ты не сделаешь правильный выбор, буду считать, что я тебя потеряла – как другие матери теряли своих сыновей в Афганистане или Чечне”. С тех пор в наших отношениях началось потепление. Мы приходили на групповые занятия и все время открывали что-то новое. Стало ясно, что, постоянно финансируя сына, мы лишали его возможности жить своим трудом, гордиться своими достижениями. Мы породили иждивенца. Кормили и содержали его, решали все его проблемы, превратились из родителей в “кошелек” наркомана. Еще я поняла: нужно постоянное общение с детьми, внимание друг к другу. От детей нельзя отмахиваться. Нужно стараться быть им близким другом, доверять и ни в коем случае не подавлять их личность, не брать на себя решение их проблем. Кажется, это прописные истины. Но сколько нужно иногда испытать, чтобы осознать их! Раньше я старалась постоянно опекать детей, думать и решать за них, даже по мелочам. Я стирала, готовила, обслуживала, принимала отговорки, вместо того, чтобы заставить работать. Мы старались разбирать с психологом каждую ситуацию, учились видеть, анализировать, находить верные решения. 161 Раньше мы часто ссорились с мужем. Мне казалось, он не любит сына, если так строг к нему. Потом я поняла, что его любовь просто выражалась по-другому. У мужчин меньше эмоций, зато больше логики. И муж часто оказывался прав, а я отказывалась его слушать. В Центре мне помогли осознать, что в семье должен быть один лидер и единая позиция. Я стала прислушиваться к мнению мужа, доверять его разуму. Мы стали более дружными, и отношения наладились не только у нас, но и у наших детей. Порой я ловлю себя на том, что, как прежде, начинаю относиться к своим взрослым детям, как к маленьким. Тогда Виталик поправляет меня. Я уже научилась доверять ему, прислушиваться к его словам. Конечно, менять укоренившиеся привычки, образ мыслей и действий – очень трудно, но совершенно необходимо. И вполне возможно. Я верю, что нет проблем, которые нельзя решить. Но для этого нужно действовать: “Дорогу осилит идущий!” 162 “ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕТ” Владимир Голуб, Президент Полтавской областной благотворительной организации “Допоможемо дітям”, заслуженный работник культуры Украины Мое знакомство с Леонидом Александровичем Саутой не было случайным. Рано или поздно оно должно было состояться. Занимаясь общественной деятельностью, я встречаюсь с людьми, стараюсь оказать им помощь в решении тех или иных проблем, которые возникают не только в жизни отдельных граждан, но и общества в целом. Проблема наркомании – это не проблема отдельного человека. Для семьи это трагедия, для общества – катастрофа, для государства – “тихий терроризм” и вопрос национальной безопасности. Если не слышно выстрелов, это еще не значит, что нет убитых. Наркомания сейчас уносит гораздо больше жизней, чем военные конфликты. К сожалению, общественная мысль обращается к этой проблеме лишь время от времени. Человек начинает бить в колокола, когда горе вдруг коснется его лично. Можно ли решить проблему наркомании в одиночку? Ответ ясен, прост, как приговор: НЕТ! Вот почему все, кому небезразлично будущее своей семьи, своего общества и – да не прозвучит это для читателя излишним пафосом – своей страны, обязаны бить в набат, предупреждая сограждан о страшной опасности, нависшей над человечеством. Когда я впервые увидел Леонида Александровича, понял, что мы попали по адресу. Этот человек не обещал вылечить пациента “за один сеанс”, не гарантировал “стопроцентный результат”, он был настоящим профессионалом, который всегда отвечает за свои слова. И при этом работал в совершенно несоответствующих его уровню условиях. В Днепропетровске Центр “Выбор” ютился в арендованном у общежития помещении, ни городские, ни областные власти не оказывали помощи и поддержки. Мы посоветовались с полтавчанами и решили создать настоящий реабилитационный центр в Полтаве. Наш город – не мегаполис, как Днепропетровск, но мы умеем ценить труд людей, которые нам помогают. К тому времени доктор Саута вылечил многих пациентов, чьи родители пользовались в Полтаве заслуженным уважением. И чем больше мы общались с Леонидом Александровичем, чем больше вникали в суть проблемы, тем яснее нам становилось: мы не имеем права думать только о своих детях, ведь другие тоже страдают! Полтаву называют духовной столицей Украины, но разве духовность может сочетаться с наркотиками? Мы решили создать реабилитационный центр для широкого круга людей. В 2000-м году учредили благотворительную общественную организацию “Допоможемо дітям”, и началась кропотливая работа. К счастью, нам удалось достичь взаимопонимания и с тогдашним губернатором Евгением Томиным, и с сегодняшним руководителем области Александром Удовиченко. После проведения семинара для медиков и родительской конференции нас заметили и помогли открыть Центр, где могли бы лечиться целые семьи. 163 Мы создали совет, в который вошли родители, имеющие положительный личный опыт, влияние и средства для того, чтобы спонсировать деятельность нашей организации. Мы ставим своей задачей не только реабилитацию наркозависимых семей, но и профилактику распространения наркомании. Инициативная группа, состоящая из людей, преодолевших зависимость, и их родственников, проводит постоянные встречи со школьниками, студентами, педагогами и родителями, которые могут получить полную информацию о том, что такое наркомания и как с ней бороться. Мы проводим спортивные мероприятия, профилактическую и разъяснительную работу, выезжаем работать в сельские районы. Это очень важно. Напрасно считают, что наркомания – болезнь больших городов. В селах сейчас творится то же самое. Провели акцию “Чума ХХ столетия”, в которой, кроме работников Центра “Выбор” и профессиональных медиков, участвовали известные актеры и спортсмены: легендарные тяжеловесы Султан Рахманов и Юрий Зайцев, председатель Полтавского отделения футбольной федерации Украины Анатолий Дьяченко, актеры Полтавского областного музыкально-драматического театра имени Н. В. Гоголя. В том, чтобы пресечь распространение наркомании, заинтересованы все. Чужих детей нет! Все дети – наши! И они гибнут! Смотреть на это невозможно. К сожалению, государство пока только раскачивается. Да и “качает” его порой совсем не в ту сторону. Чего стоят эти глупости в государственном масштабе: раздача шприцев, метадоновая программа. Для чего это – чтобы дети кололись и умирали? Мы теряем генофонд, под угрозой будущее страны. Наркомания угрожает не отдельным семьям, а целому государству. Мы боремся с ней теми методами, которые нам по силам. Когда помещение, выделенное властями под реабилитационный центр, стало тесновато, мы решили расшириться. Выкупили участок земли и стали строить новое, просторное и современное, здание Центра. Так раньше строили храмы – всем миром: кто-то дает деньги, кто-то достает стройматериалы, кто-то кладет кирпичи. Нам помогает и народный депутат Анатолий Кукоба, и губернатор Полтавской области Александр Удовиченко, и даже глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко. Если мы – люди, мы должны жить не только для себя! Мы стараемся формировать общественное мнение. Это очень важно. Ведь что сейчас происходит? С экрана телевизора льется кровь, демонстрируется насилие, его заполонили антигерои. Они пьют, колются, убивают, занимаются развратом и разбоем. Пропагандируется как образец для подражания самое отрицательное. И у молодого человека, который не имеет жизненного опыта, возникает искаженная картина мира. Идет настоящая война, и жертв уже – миллионы. А общество ждет чего-то и молчит! Мы постоянно говорим о том, что надо лечить не одного наркомана, а всю его семью. Но это справедливо и по отношению ко всему обществу. Разве общество не надо лечить? Посмотрите, ведь если в какой-нибудь квартире варят и продают наркотики, об этом, как правило, знают все соседи. И все – молчат! Считают, что это не их дело. А если сын или дочь приохотится к наркотикам, кричат: куда смотрит школа, милиция, государство? А куда смотрим мы? Когда подростки рядом с нами курят, матерятся, колются? Свобода и демократия – вещи хорошие. Но свобода одного не должна мешать свободе другого. Когда все проникнутся важностью проблемы, тогда можно будет говорить: мы боремся с этим злом. Мы проводим семинары для учителей, помогаем им организовать профилактическую работу в школах. Сейчас уже школьники пробуют наркотики, а их родители страдают и мечутся в поисках выхода. Я тоже когда-то думал, что из этой пропасти нет выхода… Оказывается, и этому горю можно помочь! И чем больше люди будут знать, чем лучше они будут подготовлены, чем более согласованными будут их действия, тем легче будет справиться с этим злом. 164 “МЕДИЦИНА ДОЛЖНА ЛЕЧИТЬ, А НЕ ОБСЛУЖИВАТЬ НАРКОМАНОВ” Вилли Волченко, начальник Полтавского областного управления здравоохранения Работая начальником управления здравоохранения области, я всегда знал, сколько людей умирает в Полтавской области за сутки, месяц или год. Знал и от чего они умирают. Эти данные каждый день появлялись в сводках, мелькали в квартальных и годовых отчетах. Наркомания всегда была в первой десятке проблем здравоохранения. Она была причиной многочисленных психозов, сепсисов, смертей. Число наркоманов все возрастало, и приходилось открывать новые отделения, койкоместа. К сожалению, это мало помогало. Медицина все больше склонялась к той точке зрения, что наркомания неизлечима. У меня такая позиция всегда вызывала протест. Я – врач, и знаю, что, где есть болезнь, должно найтись и лекарство от нее. Природа все предусмотрела: к каждому яду можно найти антидот. Только там ли мы ищем противоядие? Ведь наркомания – болезнь социальная. В послевоенное время в стране было много “морфинистов”. Это были люди, которые получили в боях тяжелые ранения, контузии. Им назначали морфий, чтобы снимать изнуряющие боли. Но в восьмидесятых-девяностых годах страну захлестнула совсем другая наркомания. Мишенью наркодельцов стала молодежь – самая подвижная и оттого уязвимая часть общества. Эта проблема появилась уже в семидесятых, правда, тогда ее “проморгали”. И, десятилетие спустя, произошел “взрыв”. Свою роль здесь сыграл и антиалкогольный закон. Раньше перед дискотекой пили вино, теперь – прямо на дискотеках принимают “экстази”. Вакуум не свойствен социуму: любая пустота тут же заполняется подходящим заменителем. Я читал много специальной литературы, интересовался, какие методы используют в Москве, Петербурге, Бишкеке. К сожалению, люди, возвращавшиеся из центров реабилитации, которые активно рекламировали в средствах массовой информации, не могли сообщить ничего утешительного: выздоравливали и находились в более или менее продолжительной ремиссии единицы. Если же кому-то действительно удавалось излечиться, такие люди не спешили демонстрировать свои достижения, предпочитали скрывать прошлое. Официальная медицина долго не признавала “альтернативных методик”, все шло по накатанной: врачи-наркологи на шесть часов в день облачались в белые халаты и тут же становились частью системы, бездушного механизма. Они не стремились вкладывать в дело душу. Могли ли они получать результаты? Я прямо спрашивал своих наркологов: “Можете показать хоть одного вылеченного больного?” Их не было! Когда я познакомился с программой и реабилитационным центром доктора Сауты, увидел совершенно другую картину. Этот человек просто жил рядом со своими пациентами, по-человечески с ними общался, и оказывалось, что больше ничего не надо, этого достаточно для самых впечатляющих результатов, какие мне когда-либо приходилось видеть. Я побывал в Днепропетровске, организовал стажировку наших специалистов в Центре “Выбор”. К сожалению, это не вызвало энтузиазма среди коллег доктора Сауты. Перенимать его методику значило полностью менять поведение, вместо медикаментозных назначений, на которые уходят минуты, отдавать пациенту все свое время и все внимание. Леонид Александрович не “лечит” пациентов, он учит их думать, анализировать свои поступки. Чтобы поступать так, надо быть Врачом с большой буквы, а это – призвание далеко не каждого современного медика. 165 Изменить такое положение вещей очень хотелось. Мы провели несколько конференций, собрали всех наркологов и смежных специалистов, попытались популяризировать опыт доктора Сауты. Главной моей целью стал реабилитационный центр в Полтаве. Многие родители, чьим детям помогли в “Выборе”, обращались с просьбами помочь с созданием филиала. Мы арендовали помещение и открыли Полтавский филиал Центра “Выбор”. Вскоре он стал широко известен в нашем городе: работала “устная почта”. Родители вылечившихся ребят рассказывали другим людям с похожими проблемами, и в Центр обращались все новые и новые семьи. Удивительно, но в Днепропетровске местные власти не сочли нужным позаботиться о том, чтобы первоклассные специалисты получили достойные условия для работы. У “Выбора” все время возникали трудности с арендой помещения. Так и случилось, что команда профессионалов, во главе с доктором Саутой, переехала работать в Полтаву. Днепропетровск, по моему мнению, много потерял. Зато Полтава получила настоящий реабилитационный центр. Она давно в нем нуждалась. По данным статистики, в Полтавской области зарегистрировано более восемнадцати тысяч наркоманов. Чтобы получить реальную картину эпидемии, надо умножить официальные цифры на десять. И это – в Полтаве, духовной столице Украины! Такое положение можно квалифицировать просто как национальное бедствие. Когда вышел Закон о принудительном лечении наркобольных, мы создали под эту программу койки к психиатрической больнице. Появилась база, чтобы “фильтровать” больных и проводить лечение. Наверное, в сознании людей что-то изменилось: родственники больных записывались в очередь. Вскоре при Центре “Выбор” появился Родительский комитет. Мы организовали профилактическую работу в школах, профтехучилищах, техникумах, вузах (если бы ктонибудь догадался начать эту работу в семидесятых!), опубликовали множество материалов. Гласность сегодня важна, как никогда. Когда с экранов телевизоров льются потоки крови, пропагандируется насилие и распущенность, наркотики стали одним из самых действенных средств “нейтрализации” молодежи, отстранения ее от участия в политической и общественной жизни. И с этим необходимо бороться. У нас все еще в ходу “дедовские” методы. В больницах до сих пор комиссии проверяют наличие наркосодержащих лекарств. Как будто наркоманы сейчас используют промедол или что-то подобное. Эти наркотики были в ходу, когда больше ничего нельзя было достать. Сейчас наркорынок работает без перебоев. И “ширка” куда действеннее промедола, не говоря уже о новых, синтетических, особо опасных наркотиках. Они вызывают тяжелую зависимость и очень быстро разрушают психику. А больницы давно уже никто не грабит – нет смысла. В цивилизованном мире с наркоманией борются социальными методами. Там нет уголовного наказания за прием наркотиков, но есть социальные санкции. Наркоман не может стать достойным членом общества, это всегда “человек второго сорта”. Там молодых людей с семнадцати лет отправляют “на вольные хлеба”, заставляют работать. Не будешь работать – не выживешь. Или попадешь в разряд изгоев. Там правильно расставляют акценты. Наши же, отечественные наркоманы, и в тридцать лет – дети, маменькины сынки. А инфантильность уколами и промыванием крови не вылечить. Лечение наркомании не поставишь на поток. Работа с душой – штучная работа. Для “потока” нужно много докторов класса Сауты. И еще нужно, чтобы общество повернулось лицом к такому специалисту, чтобы пациенты пошли к нему, а не к шарлатанам, которые только и научились – создавать себе рекламу. Саута в этом смысле пошел против течения, это было трудно, и даже опасно, но в результате он сумел то, что удавалось единицам во всем мире. Он показал, что наркомания излечима – здесь, у нас, в наших условиях. Это очень ценный опыт! Конечно, нам нужны жесткие законы. Ведь пока талантливый врач “отбивает” у наркобизнеса пять клиентов в месяц, в то же время наркодельцы приводят к наркотической зависимости в десятки раз больше жертв. Бороться с этим нужно жесткими мерами. Когда в Таиланде ввели смертную казнь за распространение наркотиков, в нем почти не стало 166 наркоманов. А раньше их число достигало тридцати-сорока процентов! В Японии и других странах, где приняли жесткие законы, тоже удалось вывести наркоманию из ряда самых больных проблем. Я не призываю расстреливать наркоманов. Но и легализовать наркотики тоже нельзя. В такой обстановке, как у нас, это значит – дать наркомании “зеленый свет”. Государство должно вплотную заняться вопросами реабилитации больных и профилактики наркомании среди молодежи. Думаю, в Полтаве может быть создан своеобразный “полигон” – центр для обучения специалистов: психотерапевтов, социальных работников, психологов. Но это возможно лишь при условии государственной поддержки. Сейчас медицина оказалась в положении “служанки” наркомана. Медицина должна лечить. А мы не лечим больных, мы помогаем им “снижать дозы”. Это унизительно для “самой гуманной науки”! Применяя жесткие меры к наркоманам, мы теперь рискуем “нарушить права человека”. На самом же деле, потакание наркоманам нарушает права здоровой части общества. Восемьдесят два процента ВИЧ-инфицированных в Полтавской области – наркоманы. И они создают реальную угрозу здоровью и жизни законопослушных граждан, но об этом почему-то никто не думает! А ведь если подойти к проблеме грамотно, ее, при наличии соответствующей законодательной базы и финансирования, можно было бы решить за десять лет. К сожалению, руководство страны еще не понимает сути этой проблемы. А ведь государство могло бы получить от этого ощутимый эффект: подъем уровня культуры, здоровья, а в результате – и производства. Из наркоманов – какие работники? И если число их будет увеличиваться, кто же тогда будет крепить экономическую мощь государства? Да и многие молодые люди уходят в наркоманию от невостребованности. В цивилизованном обществе каждый гражданин должен находить применение своим способностям. 167 “ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В КОЛЛЕКТИВЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ” Людмила Джумарик, медсестра В Днепропетровск я приехала из Сибири. Там работала медсестрой в наркодиспансере. Но наркоманов и в глаза не видела. У нас лечились алкоголики. Все они работали на одном промышленном предприятии, которому и принадлежал диспансер. Располагался он на одном из этажей семейного общежития. Многие пациенты лечились амбулаторно. Приходили утром, пили тетурам и шли на работу. Главной моей обязанностью было проследить, чтобы они действительно приняли таблетку. Некоторые получали сеансы гипноза. Такое вот было незатейливое лечение. Когда я приехала в Днепропетровск, по привычке пошла устраиваться в наркодиспансер. Главный врач предложил мне работу в новом отделении. Первое, что я там увидела – забор с колючей проволокой, решетки на окнах, милицейский пост на входе. Это напоминало тюрьму. Но заведующий нового отделения не вписывался в эту обстановку. Он и на заведующего не был похож – совсем молодой доктор. Когда я пришла знакомиться, он спросил: “Вы не боитесь работать с наркоманами?” Я ответила: “Но ведь вы же работаете. Почему я должна бояться?” Страха у меня, действительно, не было. О наркомании я имела весьма смутное представление. И не думала, что наркоманы так уж сильно отличаются от алкоголиков, которых я раньше колола витаминами. Словом, я лезла в воду, не зная броду, так же, как и другие медсестры и санитарки: доктор Саута нарочно отбирал персонал, который раньше не имел дела с наркоманами и не успел обзавестись набором негативных “профессиональных привычек”. Оказалось, что работать с наркозависимыми больными – очень сложно. В процессе работы пришлось многому учиться. Помню, все мы – медсестры и санитарки – не могли понять, как это такие “хорошие” наркоманы, которые только что смотрели на тебя такими чистыми и невинными глазами, делают у тебя за спиной такие гадости. Всем приходилось не однажды обжигаться на лжи. Мы долго учились не верить пациентам на слово. Это было очень трудно. В моем представлении больной – это человек, которому надо помогать, выполнять его просьбы, оказывать всяческое содействие. Как можно отказать больному? Здесь оказалось все наоборот. Бывало, придет к тебе в кабинет этакий ангел и скажет, что заведующий разрешил ему позвонить домой или выйти погулять во двор. Потом выясняется, что заведующий его и в глаза не видел. А мы торопились выполнять просьбы, “помогать”. Каждое утро Леонид Александрович устраивал “разбор полетов”. Мы обсуждали каждую ситуацию. Заведующий спрашивал: “Почему Вы выпустили его во двор?” Мы отвечали: “Но он сказал, что Вы разрешили!” – “Кто сказал: наркоман? Да для него нет ничего святого! Он глазом не моргнет и наплетет, что мама умерла, жена бросила, а ребенок сидит дома один голодный! Вы должны научиться говорить им “нет”! Иначе будете игрушками в руках наркоманов!” Леонид Александрович проводил специальные занятия для персонала, учил правильному ролевому поведению, объяснял, чем отличаются повадки наших пациентов от поведения обычных больных. Он ничего не навязывал, все объяснял. Анализируя какуюнибудь ситуацию, он спрашивал: “Как Вы думаете, если бы Вы поступили вот так, какой был 168 бы результат?” Как это отличалось от того, что я делала прежде: запихнуть пациенту таблетку и проследить, чтобы он ее проглотил! Леонид Александрович учил нас правильно обращаться с пациентами, чтобы не нарваться на неприятность. Среди наших подопечных было много наркоманов со “стажем” и с судимостями, и заведующий старался обезопасить нас от возможных провокаций или агрессии. Он говорил: “Вас сможет защитить только “белый халат”. Общаясь с больными, помните, что вы – медицинские работники. Не кричите, не грубите, чтобы не спровоцировать их агрессию. Не выполняйте незаконные просьбы. Между вами и ними всегда должна быть дистанция. Если вы будете постоянно помнить о том, что вы здесь для того, чтобы их лечить, вы не попадете в неприятную историю”. Этому нигде не учили, и только сестры, прошедшие через наше отделение, получили такую “квалификацию”. Коллектив у нас был небольшой и дружный. Случайные люди здесь долго не выдерживали – уходили. Оставались только те, кому действительно было интересно работать. Мы жили, как одна большая семья. И Леонид Александрович был ее главой. Даже те, кто был старше его годами, приходили к нему за помощью и советом, и не только по служебным, но и по личным делам. Помню, одна санитарка спрашивала его: “Вы такой молодой, откуда вы все знаете?” Он никогда не кричал на сестер и санитарок, не ругал, даже когда было за что. Всегда говорил тихим ровным голосом, но от этого смущались еще больше, многие предпочли бы, чтобы он “наорал”. Сначала, до эксперимента, мы работали, как обычное отделение наркодиспансера. К нам направляли на принудительное лечение, многих больных доставляла милиция. Но уже тогда наше шестое отделение резко отличалось от остальных. У нас к каждому был индивидуальный подход: выслушать, понять, помочь. Больные очень ценили человеческое отношение. Бывало, что старшие, бывалые, “учили” малолеток, осаживали их за дерзости: “Знай, как себя вести! Если с тобой обращаются по-человечески – и ты веди себя вежливо!” Повидавшие жизнь уголовники порой бывали более благодарными, чем избалованные подростки. Вскоре из больных стали выделяться первые люди, которые всерьез хотели менять образ жизни. Они старательно работали на группах, ловили каждое слово заведующего. Он с каждым занимался долго и с полной отдачей. И у нас стали происходить чудеса – пациенты действительно бросали наркотики. Выписавшись, они продолжали приходить в отделение, общались с Леонидом Александровичем, сестрами и санитарками, как с родными людьми. Это было очень приятно – видеть результат своей работы. Потом Леонид Александрович уволился, и мы работали с другим доктором. Он работал, как и все в тогдашней наркологии: делал назначения, прописывал пациентам снотворное и ни во что особо не вникал. Но мы продолжали работать так, как нас научил доктор Саута. Нам так хотелось, чтобы он вернулся, и все было, как прежде. Леонид Александрович снова возглавил наше отделение, когда утвердили программу государственного эксперимента. У нас появились новшества: ввели ставки “социальных работников” – людей из числа бывших пациентов, успешно преодолевших зависимость. С нами стали работать Виктор, Карина, Саша, Вадик. Сначала многие сестры и санитарки возмущались, что недавних наркоманов поставили на одну доску с персоналом. По инерции в них продолжали видеть больных, и это нередко приводило к конфликтам. Многие сотрудники не могли понять, за что социальным работникам “платят деньги”: они ведь ничего не делают, только разговаривают с пациентами. Леонид Александрович без устали улаживал все недоразумения, проводил совместные собрания, объяснял разделение обязанностей, роль каждого сотрудника в реабилитационном процессе. Постепенно все стало на свои места. И не потому, что заведующий “уговорил” персонал, а потому, что сестры и санитарки сами увидели, что социальные работники оказывают пациентам реальную помощь. На смену раздорам пришло сотрудничество. Сестры, замечая, что с каким-нибудь пациентом происходит что-то странное, говорили об этом ребятам, те вмешивались, беседовали, и ситуация налаживалась. Со временем у нас появилась традиция вместе праздновать дни рождения. А ведь раньше никто и представить себе не мог, что можно сесть за один стол с наркоманом, пусть даже бывшим! Еще одна вещь, которая 169 отличала наши застолья от обычных – отсутствие спиртного. В отделении, то есть уже в Экспериментальном лечебно-реабилитационном Центре, строго соблюдался сухой закон. Эксперимент продолжался пять лет, и в Центре постоянно вводились все новые формы работы с пациентами. Появился спортзал, начали создавать рабочие места для выздоравливающих. Если раньше в нашей котельной работали жившие по соседству с диспансером пьяницы, теперь там стали работать наши бывшие пациенты, и мы сразу “ощутили разницу” – перестали мерзнуть. Потом открылась парикмахерская, художественная мастерская, маслоэкстракционный цех. Ребята очень хотели работать, назначение в ту же котельную воспринимали как выигрыш в лотерею. Это было необычно, никто в наркологии не верил, что наркоманы смогут работать! Даже наши соседи – сотрудники второго отделения, все время сомневались, что ребята у нас не колются, заглядывали им в глаза, старались уличить. Наркология отыгралась на нас, когда закончился срок эксперимента. В областной наркодиспансер пришел новый главный врач и стал требовать выполнения графика койкодней, госпитализации всех больных без разбора. Леонид Александрович наотрез отказался работать в таких условиях и уволился. Вслед за ним ушли большинство социальных работников и психолог. Наше отделение резко изменилось. Стали брать всех пациентов без разбора. И хоть наше отношение к больным не изменилось, на лечебный процесс это уже не влияло. Новые врачи лечили по-новому, точнее – по-старому: таблетками. Вскоре мы поняли, что здесь страшно работать: контингент неуправляемый, лечиться не хотят, колются прямо в отделении, дерутся. Если Леонид Александрович всегда держал ситуацию под контролем и, при необходимости, задерживался в отделении до позднего вечера, новые доктора уходили ровно в четыре, а персонал оставался один на один с агрессивными наркоманами, которые всеми силами старались уколоться. Работа стала не только опасной, она потеряла смысл. И все сестры со временем уволились. Сейчас наши сотрудники работают в самых разных больницах. После “школы Сауты” нам под силу любая работа, лишь бы она была на пользу больному. Я устроилась в психиатрическое отделение военного госпиталя. У нас тоже бывают “платные” наркоманы. Их становится все больше, и они лечатся не только в наркодиспансерах, но и в обычных больницах. Мы часто общаемся друг с другом, каждый год собираемся на день рождения Леонида Александровича: никто не забывает его поздравить. Это напоминает встречу родственников, которых жизнь разбросала по разным городам: все целуются, обнимаются, расспрашивают о новостях. Думаю, если бы сейчас Леонид Александрович снова позвал нас работать, согласились бы все – даже пенсионеры. Помню, когда мы еще работали все вместе, отделение хотели перевести в новое здание совсем в другом районе города. Врачей это не смущало – они жили в центре, а санитарки были, в основном, из соседнего поселка, они испугались, что будет трудно добираться. Заведующему предлагали сменить персонал, но он твердо заявил, что без своих сотрудников никуда не поедет. Он, как никто, понимал, что лечение наркомании – очень тяжелая работа и очень сложный процесс. Оно возможно только в коллективе, где все единомышленники – от заведующего до санитарки. И он не ошибался в нас – мы любили свою работу. В отпуске успевали соскучиться. Отпуска у нас были длинные, и всегда интересно было вновь выходить на работу: идешь и думаешь, что там еще нового? А как приятно было видеть ребят, которые у нас выздоравливали! Если какая-нибудь медсестра или санитарка по дороге на работу встретит бывшего пациента, разговоров хватит на полдня, не успокоится, пока всем не расскажет: “Видела Васю. Шел на работу. Одет чисто, аккуратно. Всем передавал привет!” Каждого “Васю” мы помнили и радовались его успехам. Ради этого стоило работать! 170 “НАРКОТИКИ – ЭТО ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ” Снова говорит Карина С тех пор, как я впервые переступила порог Центра, прошло одиннадцать лет. Став социальным работником, я не сразу поняла, в чем моя роль в реабилитационном процессе. Вообще в первое время, когда все только налаживалось, было много сложностей. Сначала очень давала себя знать напряженность в отношениях между социальными работниками и медперсоналом. Сестры и санитарки смотрели на нас как на бывших пациентов, которых почему-то поставили на одну доску с ними. Мы чувствовали неприятие и даже враждебность со стороны некоторых сотрудников. Чувствовалось, что они не верят нам, ждут от нас ошибок. Они не понимали, для чего мы нужны в отделении. И Леонид Александрович постоянно проводил собрания и беседы, пока мы не научились относиться друг к другу, как равноправные партнеры. Надо сказать, что мы и сами долго не понимали своего призвания. Сначала я думала, что, если я научилась строить отношения с людьми без наркотиков, я могу помогать нашим пациентам этим свои опытом. Но здесь все сложнее: чтобы я могла помочь человеку, нужно, чтобы он мне поверил. Сначала моими пациентками были молодые женщины, попавшие в наркотическую зависимость. Они, действительно, по-человечески нравились мне какими-то качествами, мне, в самом деле, интересно было с ними общаться. Они видели, что я нахожусь рядом с ними не по обязанности, а из искреннего желания помочь. И их “шевеления” начинались с того, что они начинали мне доверять. Между нами устанавливался человеческий контакт. Это были не отношения сотрудника и пациента (хотя, разумеется, разница между нами была: мы стояли на разных “планках”), а отношения человека и человека. Уже тогда я не боялась обсуждать с ними свои личные ситуации, и если у меня возникали проблемы, они тоже по-своему старались мне помочь. Когда умер мой брат, я видела, как они – формально чужие люди – искренне сопереживали мне. Это было настоящее человеческое сочувствие в ситуации, когда спокойнее было бы не лезть в чужое горе. С их стороны это были одни из первых искренних человеческих проявлений. То, что отношения между инструктором-терапевтом и пациентом должны быть искренними, я сначала чувствовала на интуитивном уровне. Осознание пришло потом. Это вообще один из самых важных моментов в реабилитационном процессе. Леонид Александрович Саута – профессионал в высшей степени. Но если бы он был просто профессионалом и не обладал лучшими человеческими качествами, он не достиг бы таких результатов. Если нет настоящей доброты, порядочности, честности, которые идут изнутри, никакие психотерапевтические “техники” не помогут. В этом убедил меня весь десятилетний опыт работы в Центре. В работе с женщинами есть своя специфика, ведь наркотики – это, прежде всего, отношения с людьми, а для женщины личные взаимоотношения, без преувеличения, составляют смысл жизни. Каждому человеку может не хватать самых простых вещей – человеческого тепла, внимания, сочувствия, заботы. Но если мужчина может не заострять на этом внимания, отвлекаясь на работу, карьеру и тому подобное, женщина всегда страдает, если не удается достичь гармонии в личных отношениях. Об этом мы и разговаривали на групповых занятиях, ведь группа – это тоже отношения между людьми. Я знаю, что женщины, которые приходили к нам лечиться, прежде всего, нуждались в сочувствии, но на одном сочувствии долго не протянешь, нужно осознание того, чего человек хочет достичь. 171 Наверное, женщина стремится реализовать и свои чувства, и свои способности. Если удается и то, и другое, наркотики вряд ли когда-нибудь займут место в ее жизни. Но если чегото не достает – пустота часто заполняется водкой или опиумом. У меня есть подруга, которая никогда не пробовала наркотики. Она часто жалуется, что в ее жизни “чего-то не хватает”. И я понимаю, что, попади она в окружение наркоманов, она, возможно, и приняла бы искусственный заменитель счастья в виде наркотика. У мужчины на первом месте стоят его способности, у женщины – чувства. Поэтому первое, в чем я помогала девчонкам, с которыми работала, разобраться в своих чувствах. Это сложно, потому что, когда человек только пробует бросить наркотики, его способности соображать очень ограничены. Долгий прием одурманивающих веществ как бы консервирует мозг, и надо сначала прийти в себя, заново научиться думать. Помню, когда я только начинала жить нормальной жизнью, я с удивлением обнаружила, что существует масса важных вещей, о которых я не только не думала, но и вряд ли осознавала их существование. Это повергло меня в смятение, и только когда я начала понимать свои переживания, разбираться в своих чувствах, мне стало легче. В судьбах наших пациенток было много общего. И путь, который я прошла, помогал мне лучше их понимать. Я видела много похожего на переживания, которые сама когда-то испытывала, поэтому всегда старалась помочь разобраться, отчего им плохо. Это всякий раз упиралось в отношения с людьми, понимание того, на чем они держатся. Если женщина говорила о муже-наркомане, который “посадил” ее на иглу, “я просто люблю его”, я задавала вопрос, “а какой он человек?” Получить на него ответ обычно очень нелегко. Как и понять, что стоит за утверждением “он меня любит”. Многие женщины не осознают, что этой фразой говорят только о своем желании быть любимой – желании, которое не всегда соответствует действительности. Мы вместе начинали разбираться, чем не удовлетворяют существующие отношения, что в них “не так”. Это “не так” – и есть та щель, через которую наркотики просачиваются в нашу жизнь. Значит, надо стремиться к тому, чтобы все было “так”. Я понимаю, чего хотят женщины, которые приходят в Центр лечиться, и стараюсь показать, что такие отношения возможны, но строить их надо не при помощи наркотиков, а совсем на другой основе. Если я не вижу в людях того, чего ищу, нужны ли мне такие отношения? Можно ли их изменить? Если да, то как? Если нет – необходимо ли от них отказаться? Как правило, обнаруживается множество лишних, ненужных, необязательных связей, знакомств, которые на деле оказываются совсем другими, чем в воображении. Известно, что абсолютно независимых людей нет. Но есть желательный максимум независимости, позволяющий считаться лишь с теми людьми, с которыми хочется считаться. Я имею в виду не обычную вежливость и уважение к чужим правам. Их надо проявлять в отношениях со всеми. Речь идет о зависимости от людей, с которыми, может, и не стал бы считаться, если бы не был чем-нибудь обязан. Вот здесь и важно понять: чтобы не быть обязанным, надо научиться самостоятельно заботиться о себе. Над этим мы и сейчас работаем на групповых занятиях. Вместе с Ассоциацией я пережила разные времена. Когда эксперимент закончился, сменилось руководство областного наркодиспансера, и доктор Саута вынужден был уволиться, я написала заявление об уходе на другой день после него. У меня не было колебаний и сомнений. Я понимала, что в другой системе работать бессмысленно. Если главную роль в реабилитационном процессе играет личность врача, с уходом Леонида Александровича система выхолостится. Он создал эту систему. Чем она будет без него? Когда мы ушли работать в реабилитационный Центр “Выбор”, выяснились очень интересные вещи. С пациентами работали два доктора – Леонид Александрович и Сергей Викторович – и мы, инструкторы-терапевты. Ассоциация арендовала крыло в заводском общежитии. Здесь не было ни милиции, ни охраны, ни – что самое главное – медсестер и санитарок. А реабилитационный процесс продолжался. Он видоизменился, утратив многие атрибуты медицины: присутствие медицинских сестер, наличие обязательного перечня медицинских препаратов. И уже всем стало совершенно очевидно, что наркомания – не медицинская проблема. Наши пациенты избавлялись от наркозависимости не в медицинском 172 учреждении, а в коллективе, особой среде, где отношения между людьми были искренними, построенными на доверии и взаимной помощи. Оказалось, что этого вполне достаточно. Время шло, у нас появлялись все новые и новые пациенты, а с ними – новые достижения и новый опыт. Система окончательно выкристаллизовывалась, функции каждого члена коллектива обретали все более конкретные черты. Меня всегда интересовала взаимосвязь желаний (жизненных выборов) и поступков людей с их судьбой, мотивы их поведения. Когда в Центр приходили новые люди, я всегда старалась понять, что мне надо сделать, чтобы ситуация в их семье изменилась. Научить их поступать определенным образом, общаться с людьми иначе, руководствуясь другими принципами, решать проблемы другими способами? Это удивительным образом совпадало с тем, что делала я сама. В тот период я разбиралась в своих чувствах по отношению к разным людям, выясняла, что у меня общего с тем или иным человеком, на чем строятся мои отношения с разными людьми. Я поняла, что в моей жизни существует множество лишних знакомств, отношений, связей, которые ничего для меня не значат и тянутся только по инерции. Ту же картину я обнаруживала и у наших пациентов. Получалось, что я учила их тому же, что делала сама: различению главного и второстепенного, отсечению ненужных связей, которые тормозят развитие и оборачиваются лишней потерей времени. И это работало, потому что передать другим можно только то, что ты умеешь делать сам. Работая, я продолжала делать для себя открытия. Какое-то время мне казалось, что человеку достаточно объяснить, как надо поступать, и он сможет изменить неблагоприятную ситуацию. Оказалось, что между пониманием и деланием – глубокая пропасть. Во-первых, нельзя просто сказать: “Делайте так!” Надо, чтобы человек сам, путем собственных размышлений и выводов, понял, как надо поступать. Это должно быть осознание. Но даже после осознания не всегда приходит действие. Ведь многие пациенты, которые приходят к нам со своими проблемами, понимают, что они неправильно живут. Но ничего не делают, чтобы изменить ситуацию. Казалось бы – чего проще: понимаешь – делай! Но самая большая сложность для большинства состоит именно в том, чтобы сделать то, что нужно. Иногда смотришь: люди только и говорят, как они хотят изменить положение вещей, как они хотят сделать так, чтобы все было совсем иначе! Но если им предоставляется хоть малейшая возможность действительно изменить ситуацию, они находят множество отговорок, чтобы этого не делать. Они не торопятся даже пальцем пошевелить в нужном направлении. Но разве может, в таком случае, измениться ситуация? Наблюдая такое поведение, я вижу: декларируется одно, делается другое. Возникает мысль, что у этих людей совсем другие мотивы, о которых они не говорят. Если человек терпит ситуацию, значит, видит в ней преимущества. Это – закон. Если бы преимуществ не было – не держались бы так за сложившийся образ жизни, не подыскивали бы причины и оправдания, чтобы ничего не менять. Для того, чтобы увидеть, что ты поступаешь неправильно, нужен интеллект. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно уметь правильно ее увидеть. И здесь наша задача – помочь человеку осознать, чего же он хочет на самом деле, что стоит за его отговорками. Я окончила факультет психологии Полтавского педагогического университета. Но главной “психологической школой” для себя я считаю “школу Сауты”. Он учил, что нельзя добиться результата, ставя себя над пациентом, изображая всезнающего “психолога”, который выучил множество умных терминов и сыплет ими направо и налево. В нашей работе иногда – как этап – нужна бывает и директивность. Но основное качество настоящего психолога – умение поставить себя на место человека, понять, чем он живет, что для него важно. И тогда ты поймешь, как ему можно помочь. Особенно остро я почувствовала это, когда стала работать с группами родителей. Наступило время, появился филиал Центра в Полтаве, и одного “семейного” психолога нам уже не хватало. Мы поделили эту работу с Нелли Дмитриевной: одна из нас работала в Днепропетровске, другая – в Полтаве. Столкнувшись с тем, что я должна вести родительские группы, я испытала ощущение неловкости: я должна “учить” взрослых и умных людей, большинство из которых – намного старше меня и даже годятся мне в родители. Часто я заходила в тупик: как с ними разговаривать? Но все равно работать больше было некому, и 173 мне пришлось разбираться в сложных семейных отношениях вместе со старшими пациентами. Иногда мне не с кем было даже посоветоваться: Леонид Александрович часто уезжал в Полтаву. Но я всегда помнила его главное правило – надо стараться видеть ситуацию наиболее полно и правильно: что происходит? Мне приходилось ужасно трудно разбираться во всем одной, но этот опыт оказался очень полезным. Я поняла, что наиболее результативный способ – тот же, что и с пациентами: видеть в родителях не “пап” и “мам”, а людей – с их сильными и слабыми сторонами, помогать им использовать собственные сильные качества, чтобы успешно решить проблему. Работа с родительскими группами имеет свою специфику. Первое, с чем я столкнулась – родителей чрезвычайно трудно заставить говорить о себе как о людях. На первых порах они совершенно не понимают, какую роль играют в судьбе своих детей. Как правило, родители требуют, чтобы изменились их дети: они колются – пусть перестанут колоться! То, что надо менять свое поведение, им и в голову не приходит. Но беда в том, что научить другого можно только тому, что освоил сам, что не декларируешь, а на самом деле чувствуешь и умеешь. Меняя свое поведение, родители должны не просто выполнять рекомендации психолога, а совершать осознанные действия, понимая, для чего это нужно. Наша задача – помочь отцам и матерям пациентов отойти от роли родителей и стать просто людьми. Каждый человек намного больше, чем вся совокупность его ролей. Только выйдя из узких рамок одной доминирующей роли, человек становится способным осознать необходимость перемен и изменить ситуацию. И его ребенок тоже обязательно почувствует это на человеческом уровне. Он должен видеть в родителях не только отца и мать, которые “обязаны” ему помогать, а отдельных людей – мужчину и женщину. Но для этого и родители должны вспомнить о том, что они не только отец и мать, но, в первую очередь, мужчина и женщина. Чтобы достичь результата, родители должны установить с детьми совсем другой контакт. Обычно “воспитание” ограничивается тем, что родитель говорит ребенку “правильные” вещи. Многие папы и мамы именно этим оправдывают свою родительскую функцию: “Я ему все правильно говорил!” Гораздо более конструктивный путь – создать атмосферу доверия, в которой ребенок не боится быть откровенным. Пусть он расскажет о своих проблемах, а родитель вспомнит похожую ситуацию из своей жизни, объяснит, какой он сделал выбор и почему. Именно такие взаимоотношения существуют в Центре, где моделируется совсем другая семья. Здесь отношения строятся на доверии и взаимопомощи. Причем, никто не дает советов, пациенту предлагают подумать самому, а чтобы помочь сделать правильный выбор, рассказывают о своем опыте. В этой семье каждый отвечает за свои поступки, учится принимать решения, руководствуясь разумом. Здесь подчеркивается мужская роль: мужчина – глава семьи в исконном смысле этого слова: он – ее “голова”. Здесь любой поступок получает адекватную оценку, за которой следует поощрение или наказание. Человек видит результат своего действия в зеркальном отражении реакции окружающих. К сожалению, в семьях многих ребят этого не было. Именно поэтому они и стали нашими пациентами. Мне вспоминается одна женщина, сын которой лечился у нас. Она была кинологомлюбителем и очень гордилась двумя своими собаками. Породистые псины, которых она воспитывала в полном соответствии с правилами собаководства и рекомендациями клуба, были идеально вышколены и всегда отмечались на кинологических выставках. Как же она добилась такого результата? При обучении своих питомцев ей приходилось применять и поощрения, и наказания. Если собака делала что-то недопустимое – немедленно следовало неприятное физическое воздействие. Если собака не хотела (или боялась) брать барьер или ходить по бревну, ее не “жалели”, а заставляли пробовать вновь и вновь, пока она не выполняла команду безукоризненно. Я спросила эту женщину, не жалко ли было наказывать собак? Она ответила, что жалко, но это было необходимо, чтобы вырастить из них достойных представителей собачьего племени. К сожалению, со своим сыном она поступала совершенно иначе. 174 Общаясь с этой пациенткой, я поняла, что женщина действительно любила своих собак. Но ведь и сына она тоже любила! Почему же результат любви в разных случаях разный? Дело в том, что собак она любила осознанно, понимая, чего хочет добиться. А сына любила бессознательно, слепо, эгоистически, без рассуждения. Я понимаю, что кощунственно сравнивать человека с бессловесной тварью. Но принципы воспитания людей и животных мало отличаются. И там, и там необходимы требовательность и адекватная реакция. Наша пациентка идеально выполнила задачу в отношении собак, но полностью спасовала перед сыном. Из собак она воспитала очень достойных представителей породы. А из сына, которым тоже хотела гордиться, пока не смогла вырастить достойного человека. Почему так вышло? Потому, что ей мешала жалость. Жалость – это особая тема. Жалость можно испытывать не только к ребенку, но и ко взрослому человеку. У людей, которые приходят на родительские группы, жизнь протекает очень нелегко. Пожалеть их – естественная реакция любого, кому становится известно, какое горе они испытывают. В эту ошибку я впадала в начале своей работы с родительскими группами. Я долго слушала жалобы, ощущая смутное беспокойство, что эти люди излишне зациклены на обсуждении (иногда – даже смаковании) собственных неприятностей. Разумеется, я им всем сочувствовала. Но при этом не могла не видеть разницы: одни – уже делают, другие – все еще жалуются. Я поняла: надо или “ныть”, или искать конструктивные пути. Делать то и другое одновременно невозможно. И чем больше нытья – тем меньше шансов найти выход. Я должна поступать со взрослыми пациентами так же, как учу их поступать со своими детьми: чтобы получить результат, я не должна их “жалеть”, я должна помочь им найти опору в более конструктивных чувствах. Когда они увидят, в чем их сильные стороны, когда они снова смогут увидеть достоинства своих супругов, только тогда они смогут исправить ситуацию, наладить отношения в семье. Я часто слышу, как женщины говорят на группах: “Как мне это надоело!” И при этом ничего не меняют. Если надоело – возьми и сделай! Если не делаешь – значит, недостаточно надоело. И тогда это просто неконструктивное нытье. Или – те же скрытые мотивы. Например, женщина, вроде бы, понимает, что надо делать, но бездействует. Значит, или она не до конца понимает, или просто не хочет делать. Да-да, именно не хочет. Тогда ее уверения в том, что она любит сына, не совсем искренни. Она любит не сына, а свою власть над ним. Помогая ребенку, женщины часто делают это для себя – для того, чтобы чувствовать, что она ему нужна. Но если ты действительно хочешь изменить ситуацию, это вполне возможно. Я знаю это по собственному опыту: когда увидела, что мой муж пропадет со мной так же, как и без меня, я с ним развелась. Пока я думала, как отреагирует свекровь, что обо мне скажут или подумают, я волновалась и колебалась. Но когда приняла решение – действовала решительно и спокойно. Я просто знала: я сделала все, что могла, и больше ничем не в силах ему помочь. Желание чувствовать себя нужной – причина того, что детей начинают сверх всякой меры баловать и опекать. Можно спросить такого избалованного ребенка: “Окружающие должны тебе что-нибудь?” Он ответит: “Нет”. Но если посмотреть на его поведение, сразу видно: он считает всех своими должниками. Откуда такое мироощущение? От матери, которая считала, что ребенку что-то недодал отец. На подсознательном уровне ребенок улавливал это чувство: мне недодали и переносил его на весь окружающий мир. Здесь та же проблема. Слова все говорят правильные. Но слова производят впечатление только тогда, когда полностью соответствуют чувствам. Может, ребенок и не станет наркоманом, но все равно ощущение, что мир тебе что-то должен, будет негативно влиять на его жизнь. Это будет чувствоваться в тоне и манере общения с людьми, и люди будут давать реакцию отторжения. Сознание, что ты достоин большего, высокомерие и претензии будут проглядывать даже в безукоризненно вежливых фразах. Но чаще всего такая ситуация заполняется алкоголем или наркотиками. Есть и более конструктивные способы получить от мира больше, но наркотик гарантированно дает иллюзию обладания тем, чего тебе не хватает, поэтому очень многие приходят к нему. В семье очень важно понимать: если тебе дают что-то, значит, они хотят тебе это дать. Это их добрая воля, а не обязанность. Но там, где начинаются претензии, добра не жди. На бытовом уровне это выглядит куда более безобидно. Например, я работаю, а моя мама – пенсионерка. Она сидит дома и, значит, должна приготовить мне ужин, когда я приду с 175 работы. Мама, может, и готовит ужины. Но это надо принимать с благодарностью, как добровольный дар, а не как ее обязанность по отношению ко мне. Это порочная мысль: раз дают – значит, должны. Там, где уровень претензий к жизни и окружающим выходит за разумные пределы, часто появляются наркотики. Большинство наших пациентов – как раз закормленные детки, которые бесятся с жиру. Их родители почему-то считают, что детям нужно дать, как можно больше. Дать в прямом смысле слова. Помню, приезжала к нам в Центр семья мэра небольшого городка. Сына “закармливали” в особо крупных размерах. Другого способа заботиться просто не знали. Отец считал, что ребенку надо дать все, и тогда он это оценит. И будет благодарен, будет больше любить. Если сейчас не ценит, значит, наверное, пока мало дали. Так рассуждают родители. А сын – и не собирается никого благодарить. И наркотики бросать – тоже. Ему не надо ничего менять: он и так все имеет. У него нет причин подумать, что ему еще нужно. Если уровень обеспеченности ниже, родители готовы выпрыгнуть из последних штанов, чтобы дать как можно больше. Многие считают, что, обеспечив ребенка материально, можно больше ни о чем не заботиться. Вкладывать душу трудно, учить по-настоящему трудно. Легче сделать за человека, чем долго и кропотливо учить его самостоятельности. Но и результат тогда соответствующий: “маємо те, що маємо”. Трудно вообразить себе, каких далеких от собственного родительского идеала отпрысков иногда приводят в Центр за ручку растерянные родители. Была у нас одна девочка, папа и мама у которой – серьезные ученые. Она не прочла ни одной книги, кое-как закончила школу. Предел ее мечтаний – работать на базаре. Привыкла, что родители выполняют самые глупые прихоти. Стремится к общению с людьми, которыми можно управлять с помощью “волшебной красоты”. Один “жених” – наркоман, другой – сидит в тюрьме. Мнение о себе полярно противоположно действительности. Уровень претензий – как у великой герцогини (которая не может связать двух слов). Рассказывает, что какое-то время не кололась. Спрашиваю: “Что ты делала в это время?” – “Тю, пила” – “А когда не пила?” – “Тю, спала”. Спрашивается: как такой “экземпляр” мог вырасти в семье нормальных людей? Или в семье на самом деле все не так благополучно, как может показаться с первого взгляда? Все дети в какой-то момент жизни “пробуют” свои силы на родителях. Помню, моя дочь требовала, чтобы я написала за нее сочинение. Аргумент был убийственный: “Всем пишут!” Я не купилась на этот шантаж, не стала думать, что я хуже других родителей. Она неделю выла и бросалась книжками, но цели не достигла и перестала применять эти средства как неэффективные. Большинство родителей, к сожалению, поступают наоборот. Легче написать, чем выслушивать недельный “вой”. И они делают не так, как в результате будет полезнее для ребенка, а как легче им самим. Многим детям удается управлять родителями с помощью жалости, истерик, потому что их в свое время не научили конструктивным способам достижения цели, не внушили мысль, что всем необходимо трудиться. Но если истерика сработает один раз – этим способом будут пользоваться постоянно. Научить детей конструктивным способам достижения цели – для многих родителей оказывается непросто. Результат плачевен. Сейчас наркоманами все чаще становятся школьники. Как и почему это происходит? Как получается, что ребенок, выросший в благополучной с виду семье, оказывается лишенным самого необходимого – человеческого тепла, внимания, заботы? Там, где искреннее участие подменяется материальным обеспечением, мальчики и девочки начинают на улице искать то, без чего невозможно жить – понимания и приятия. Каждый день я слышу от наших пациентов, как пустота, нехватка человеческого общения заполняется случайными людьми, умеющими изображать чувства, которых не хватает: любовь, дружбу, понимание. Вместе со случайными людьми в жизнь нередко приходят наркотики, которые заглушают ощущение фальши таких отношений. Как избежать такой опасности? Об этом мы говорим на встречах со школьниками и студентами, проводя профилактическую работу. Мы не рассказываем им о “вреде наркомании” – о нем все знают, но никого это не удерживает. Мы стараемся научить людей анализировать собственные чувства и поступки. Как получается, что за яркой внешней оболочкой они часто не видят пустоту, ложь, подлость? Мы говорим о том, что, придавая 176 слишком много значения красивым словам и не обращая внимания на поступки, можно не понять главного: что за человек рядом с тобой, чем он живет, к чему стремится. И о том, как легко, по незнанию и неопытности, принять желаемое за действительное. А ведь именно так ломаются судьбы, калечатся жизни. Мой жизненный опыт говорит о том, что разобраться в этом – самое важное для каждой женщины. Да и для мужчины, наверное, тоже. 177 “ЭТА РАБОТА НЕ ТЕРПИТ ФАЛЬШИ” Нелли Хорошилова, психолог реабилитационного Центра “Выбор” В команде Леонида Александровича Сауты я работаю с 1994 года. Не сразу я поняла, как много в работе психолога значит умение понимать самого себя, разбираться в себе. В психотерапии личность врача, психолога, инструктора-терапевта – главный инструмент терапевтического процесса. Поэтому так важно осознавать себя как человека: кто ты, кем ты можешь стать для людей, которые приходят к тебе за помощью. Так кто же я? Думаю, я училась психологии всю жизнь. Еще студенткой историко-филологического факультета Днепропетровского университета я каждое лето работала воспитателем в пионерских лагерях. После окончания вуза попала по распределению в сельскую школу. Учителей там не хватало, и мне приходилось работать и в дневную, и в вечернюю смену, преподавая русский и немецкий языки, историю и литературу. Была у меня и добровольная “общественная нагрузка”. Когда я поняла, что сельские ребята “комплексуют” по поводу нехватки общей культуры, я организовала для них кружок хорошего воспитания. В него приходили школьники даже из соседнего села. Работала я и с родителями своих учеников. Молодой учительнице из города было непросто адаптироваться к сельским условиям жизни, заработать авторитет среди коллег, учеников и их родителей. Но мне помогала любовь к детям, интерес к работе, где нужно было ко всему находить творческий подход. К тому же, я чувствовала искреннее уважение к людям, которые жили и работали в селе, к их нелегкому труду. Это позволило мне найти с ними общий язык и даже подружиться. Когда по семейным обстоятельствам (я вышла замуж) пришлось оставить школу, и я, и мои ученики не скрывали слез при прощании. Сейчас я понимаю, что этот первый опыт самостоятельной жизни был очень важен. Для меня это была проверка на зрелость и профессиональную состоятельность, для моих родителей – экзамен по воспитанию дочери. Я бесконечно благодарна папе и маме за то, что они сумели подготовить меня к жизни. Ветераны войны, они всегда говорили, что самое главное – при любых обстоятельствах оставаться человеком. Они учили меня этому собственным примером: жили достойно, честно трудились, любили и уважали друг друга. Именно мама и папа были моими первыми “учителями” в науке человеческих отношений. Они же привили мне и любовь к чтению. А книги стали для меня еще одной “школой психологии”. Я очень любила читать и относилась к литературным героям, как к живым людям. Думаю, что романы Толстого и Достоевского, Чехова и Булгакова и сейчас могут дать психологу гораздо более богатый материал для профессионального роста, чем многие учебники по психологии. Очень ценным для меня оказался и опыт работы в Днепропетровском бюро путешествий и экскурсий. Здесь я освоила профессии экскурсовода, руководителя туристических групп, методиста и директора курсов по подготовке экскурсоводов. Эта работа требовала не только обширных знаний, но и педагогических навыков, культуры общения, умения находить общий язык с людьми разного возраста и социального положения. И, конечно, здесь тоже было необходимо знание психологии. Сопровождая группы туристов, я была вынуждена решать различные проблемы, которые требовали максимальной собранности, находить выход из постоянно возникающих сложных ситуаций, отвечать сразу за тридцать-сорок непохожих друг на друга человек. Ответственность, концентрация внимания, психологическое чутье были здесь обязательными профессиональными 178 качествами. И я рада, что мне удавалось хорошо справляться со своей работой: мой скромный труд был отмечен орденом “Знак Почета”. К сожалению, с наступлением перемен в стране, наш экскурсионно-методический отдел был упразднен. Я, как и многие мои сограждане, осталась без работы. Людям моего поколения оказалось непросто “перестроиться”, адаптироваться к новым условиям. Но жить и зарабатывать на жизнь было необходимо. Я стала искать работу. Не скрою, что у меня всегда был интерес к медицинской психологии. Еще в университете у нас была медицинская кафедра, где студентов учили оказывать помощь пострадавшим. Но меня больше интересовала психологическая помощь: если общение с тобой помогает человеку чувствовать себя более свободным и счастливым – это настоящее счастье. Интересовала меня и тема наркомании. В жизни близких людей мне приходилось видеть, какое горе приносит в семью эта болезнь. Знакомый психиатр познакомил меня с доктором Саутой. Выяснилось, что ему нужен психолог в экспериментальное отделение. Леонид Александрович сказал: “Хотите работать у нас?” Я растерялась: “Я ведь не медицинский психолог!” Он ответил: “Вы всю жизнь работаете с людьми. Вы – практикующий психолог. Если вы любите людей, у Вас все получится. Хотя, конечно, у нас есть своя специфика”. Что кроется за словом “специфика”, мне довелось почувствовать очень скоро. И ощущения эти были не из приятных. Первыми негативными впечатлениями стали решетки на окнах и колючая проволока вокруг здания отделения. Но самым неприятным было другое – недоверие пациентов. Они вели себя так, будто разучились верить людям. Когда я осознала, что они мне не доверяют, я была поражена. Всю жизнь я общалась с людьми искренне, открыто, на основе доверия и взаимоуважения. И вдруг – на меня смотрят исподлобья, подозревают во лжи. Хуже того – во мне ищут слабости, уязвимые места, недостатки. У кого нет недостатков? Но до сих пор я думала, что мои слабости никого не касаются, главное – чтобы я умела делать свое дело. Здесь все было иначе. Позже я поняла, что все наркоманы стремятся возвыситься за счет унижения других. Они умело отыскивают твои слабые места, чтобы знать, куда нанести удар. Пациенты “прощупывали” меня, интересовались моим семейным положением, образованием, спрашивали: “А что написано у Вас в дипломе?” Они старались постоянно “контролировать” ситуацию, чтобы в нужный момент извлечь из нее выгоду. Надо сказать, что они делали это умело. Первое время у меня не получалось общаться с ними по-человечески, часто приходилось надевать маску “психолога”, чтобы защититься. Я чувствовала: если не хочешь нарваться на грубость, надо быть закрытой. Это было очень тяжело. Но меня спасал опыт. В то время к нам в отделение часто приходили молодые психологи – студентки университета. У них были знания по психологии, знание методик и техник работы с пациентами, но совершенно не было жизненного опыта. И они часто становились игрушками в руках наркоманов, которые изрядно поднаторели в “психологии манипуляций”. Девочки влюблялись в наркоманов, которые виртуозно демонстрировали человеческие чувства, коих на самом деле никогда не испытывали. И наркоманы начинали использовать молодых специалистов в собственных целях, несмотря на всю их теоретическую подготовку, полученную на факультете психологии. Уже тогда я поняла, что жизненный опыт (жены, матери, родственных и служебных взаимоотношений) гораздо важнее самой хорошей теоретической подготовки. Но даже мне с моим опытом приходилось несладко. Я привыкла к тому, что ко мне относятся с уважением. И вдруг мне не доверяют! И кто – наркоманы! Это было смешно. Встречались среди них и такие, которые старались подольститься или установить свой “контроль” над происходящим. Они использовали широкий арсенал средств: лесть, демонстрацию “уважения” или, наоборот, критику, осуждение, унижение, обесценивание чужих действий. Позже я поняла, что именно поэтому у них не получались конструктивные отношения с людьми, ведь они не умели никого уважать – только использовать. И что именно поэтому с ними было так трудно общаться и так трудно помогать им. Временами мне казалось, что я не смогу здесь работать. Ведь недоверие исходило не только от пациентов, но и от “коллег” из других отделений наркодиспансера. Мне, привыкшей работать в коллективе, где у меня со всеми были человеческие, теплые отношения, не 179 приходило в голову, что коллеги могут относиться ко мне недоброжелательно. Я всегда умела уважать и свободу, и даже заблуждения других людей, и считала, что у меня просто не может быть врагов. В наркологии моя вера подверглась серьезным испытаниям. По-видимому, стиль общения наркоманов “заразен” и легко передается даже врачам. Наркомания – это ограниченный фокус видения людей. Наркоман всегда оценивает окружающих с двух точек зрения: “выше” или “ниже” его стоит тот или иной человек, и что этот человек может ему дать, точнее, что с него можно получить. Оказывается, похожие отношения были и среди врачей наркологии. Если бы не Леонид Александрович, наверное, я так и не смогла бы адаптироваться к новым условиям. Но он уделял мне много внимания, учил, объяснял тонкости наркоманского поведения, поддерживал и подбадривал. Училась я и на его примере. Я ходила на групповые занятия пациентов, много слушала и наблюдала. Вскоре я заметила, что доктора Сауту больные выделяют из среды медработников. Если к другим относились с недоверием, недружелюбием, а то и с открытой враждебностью и даже агрессией, его совершенно очевидно уважали. Я стала наблюдать, чтобы понять, какие именно его поступки, да и просто человеческие проявления, позволяют ему пользоваться доверием людей, которые не верят никому, даже самим себе. Я делала выводы о больных на основе собственных наблюдений, которые дополняла наблюдениями за работой Леонида Александровича. Мне тогда еще многое было непонятно, а он часто поступал не так, как поступала я: если я “жалела” какого-нибудь пациента, он был с ним строг, если я восхищалась, что какой-нибудь больной сам стирает, он начинал выяснять, кто пронес в отделение наркотики, если меня пугала выказываемая пациентом агрессия, он хвалил его за искренность. Я наблюдала и училась разбираться в мотивах поведения больных, различать, когда они говорят искренне, а когда манипулируют. Отделение стало для меня настоящей школой психологии зависимостей. Хотя я и стажировалась параллельно на факультете общей и медицинской психологии Днепропетровского университета, все новые знания анализировала с точки зрения практического опыта. Я вообще думаю, что любое учение в отрыве от практики – только изучение названий, “ярлыков”. Но это, само по себе, ничего не дает. Важно научиться понимать, что стоит за теми или иными отклонениями в поведении людей, и как подвести человека к конструктивному решению своих проблем. Меня удивляло, что доктор Саута никогда не акцентировал свою принадлежность к медицине, наоборот, всегда подчеркивал, что он – человек со своими взглядами, принципами, позицией. Тому же он учил и нас. На собраниях постоянно напоминал: откажитесь от директивности! В чем-то мне приходилось переламывать себя. Ведь раньше, когда мне, к примеру, надо было организовывать и координировать действия группы из тридцати туристов, я нередко прибегала к директивным методам воздействия. Здесь я поняла, что директивность только вредит, так как предполагает неравные отношения, подразумевает, что пациент неспособен решить проблему самостоятельно и, таким образом, отбивает у больного инициативу. Я поняла, что сотрудники отделения тоже любят Леонида Александровича. Он доверял нам самим докапываться до истины, находить наиболее продуктивные способы общения с пациентами, способы, которые давались трудом, но зато становились твоими собственными, подтвержденными не чьими-либо словами, а твоим собственным опытом. Удивительным был и его подход к больным. Я впервые видела, чтобы врач не приписывал себе успех лечения, не говорил: “Я вылечил такого-то пациента”. У доктора Сауты получалось, что больной как бы вылечивал себя сам, он мастерски переадресовывал ответственность за успех лечения самому пациенту, и у того не оставалось возможности для отговорок. Если человек хочет быть здоровым и счастливым, он должен добиваться этого сам. И как бы ни старались врачи и психологи, без активных действий пациента избавление от наркомании невозможно. Это было ново для меня, хотя я и чувствовала, что мне по-человечески близки эти принципы, и старалась как можно лучше учиться у Леонида Александровича. Когда мне доверили занятия с женскими группами, в которые входили в основном матери, реже – жены и совсем редко – сестры пациентов, я стремилась перенести эти принципы взаимодействия с 180 людьми на работу с созависимыми родственниками. Прежде всего, я старалась понять их. Лучше всего это получалось с матерями больных: с большинством из них мы были людьми одного поколения, одного воспитания. Мне было легко с ними общаться, но получать настоящий результат я научилась далеко не сразу. Я думала: как мне – постороннему для них человеку – добиться, чтобы эти женщины изменили устоявшиеся, часто закостеневшие формы общения с детьми, научились строить новые, конструктивные отношения на основе взаимного уважения и доверия. Для начала – они должны были хотя бы научиться понимать своих детей. А чтобы помочь им в этом, я тоже должна была научиться понимать их. Я старалась не пропускать ни одного занятия групп больных, жадно слушала их откровения, пыталась разобраться, как они относятся к своим родителям. Я обнаружила, что многие затаили обиду, а то и злобу на матерей и отцов. Кто-то упрекал родителей в излишней опеке и контроле, кто-то, наоборот, считал, что они не уделяли ему достаточно внимания. Помню историю одной девочки. Родители все время сравнивали ее с сестрой, которая лучше училась и была более организованной. Сестру постоянно ставили в пример, и этот пример просто “застрял” у девочки в горле. Родители часто не учитывают, что дети – разные: по характеру, по способностям, по наклонностям, по темпераменту. Нельзя требовать, чтобы один ребенок делал то же, что и другой. Но все дети ищут свой способ завоевать любовь родителей. Для девочки, о которой я говорю, таким способом стала наркомания. Когда она стала колоться, мама и папа забыли о благополучной сестре и стали “носиться” с нашей героиней. Да, она была “плохой”, ее ругали, но внимание родителей все равно было приковано к ней одной! Любовь и ненависть – стороны одной медали. Это – очень сильные эмоции. Ребенку нужны чувства, и если он не может вызвать любовь, лучше ненависть, чем равнодушие. Наша девочка добилась внимания родителей уродливым способом, но он сработал! Мать и отец стали безраздельно принадлежать ей! И она ощутила власть над ними, поняла, что может “вить из них веревки“. Практически у всех пациентов были претензии к родителям. Они вели себя так же, как и “мои” женщины: те выдвигали “обвинения” против детей, а эти – против матерей и отцов, те предъявляли претензии к супругам, эти – ко всему миру. Я видела, что доктор Саута в таких случаях умело переключал внимание больных на самих себя: что ты делаешь, как ты поступаешь, каким ты себя видишь, на каком основании так много требуешь от людей, которые и так очень много для тебя сделали – растили, кормили, учили? Я понимала, что должна так же переключать мысли моих пациенток на анализ собственного поведения, желаний, требований к окружающим. Это было непросто и стало получаться не сразу. Я замечала, что дело не двигается с места, пока я разговариваю с ними с позиции психолога – все знающего, все понимающего и потому бесконечно далекого. Зато женщины всегда очень искренне реагировали на мои естественные человеческие проявления. Они чувствовали, что я жалею их, сопереживаю, искренне хочу помочь. Когда между нами устанавливался настоящий человеческий контакт, они гораздо лучше и быстрее воспринимали то, что я хотела до них донести. Мы вместе распутывали клубок взаимных обид, претензий и ошибок, вместе искали пути выхода из порочного круга. Постепенно у меня стал вырисовываться обобщенный психологический портрет матери наркомана. Если у детей в основе поведения были инфантилизм, стремление к бесконечным удовольствиям и полное отсутствие ответственности за свои поступки, у женщин, которые этих детей воспитали, напротив, в характере преобладала ответственность за все и вся. Если попытаться написать собирательный портрет матери наркомана, придется подбирать самые яркие, самые насыщенные краски. Как правило, это женщина, которая все знает и умеет лучше других, часто добивается больших успехов в работе, занимает ответственные посты. В семье у нее тоже все “на высшем уровне”: все ухожены – сыты, одеты, обуты. В квартире всегда идеальная чистота, дача и огород тоже в образцовом порядке. И все держится на ней: и дом, и семья, и работа. Посмотришь на такую женщину и сразу вспомнишь Некрасова: “коня на скаку остановит, в горящую избу войдет”. 181 Наблюдая своих пациенток, я старалась понять, как сформировались такие сильные характеры, и, как правило, видела, что женщина стала взрослой с ранних лет, научившись брать на себя ответственность за свою семью. Образно говоря, она училась плаванью не на отмели, а в штормовом море. Только своего ребенка почему-то учила плавать на берегу, никогда не брала его с собой в большое плаванье. И вот стряслась беда: его поработил наркотик. Когда я начинала расспрашивать своих пациенток об их жизни, всегда на первом приеме замечала в их глазах удивление. Чаще всего, собственная жизнь для этих женщин не имеет особого значения, и помощи они ищут не для себя, а для своих детей. Даже двадцати-, тридцатилетние сыновья для них, по-прежнему, остаются детьми, и матерям, как двадцать или даже тридцать лет назад, хочется заботиться о них, помогать, защищать, ограждать от неприятностей, ведь ближе и дороже у них никого нет. Говоря образным языком, такие матери, родив ребенка, забывают “перерезать пуповину”, и эта нить продолжает соединять их с детьми, мешая “чадам” делать самостоятельные шаги. Их жизни в сознании матерей – неразделимы. Они привыкли не только все делать и решать за своих детей, они и говорят, и думают, и даже чувствуют за них. Часто можно слышать: “я виновата, что вырастила такого сына”, “мне стыдно за него”. Женщина все делает “за него”, а развитие личности ребенка “блокируется”. Он ни о чем не думает, ничего не чувствует, он не трудится! Так возникает дефицит положительных эмоций, инфантилизм, безответственность. Мать несет ответственность за грехи взрослого сына или дочери, в том числе – за их наркоманию. Мамы переживают, бегают по врачам, лечат их язвы, желтуху, договариваются с деканатами о пересдаче экзаменов, упрашивают начальников повременить с увольнением, прощают воровство, раздают долги, выгораживают провинившихся отпрысков перед законом. Даже за абстиненцию сына отвечает его мать – именно она бежит в аптеку за таблетками, которые могут облегчить “ломку”. Такая женщина в семье играет роль дирижера домашнего оркестра. Но гиперответственность, которой она наделена, мешает ей удовольствоваться только одной, пусть даже руководящей ролью. “Дирижируя”, она в то же время пытается “играть на всех музыкальных инструментах сразу”, лишая домашних возможности “играть собственную мелодию” или, иными словами, пробовать самим что-то делать. Это – женщина-“тяжеловес”. Возможно, для хорошего самочувствия ей нужно носить на себе не менее двухсот килограммов. Но у ее близких в это время от недозагруженности атрофируются мышцы. Можно употребить и другое сравнение: активная мать мчит по жизни в гоночном автомобиле, затолкав в него своих близких, тогда как последние, возможно, предпочитают неторопливое движение конного экипажа. Куда же так торопится наша героиня? Вперед! Другими словами – к смерти! Почему она не желает учиться жить сегодня? Да, ее кипучая энергия позволяет обеспечить семью, добиться успехов в бизнесе, навести порядок в доме – но какой ценой? Ценой наркомании сына или дочери, алкоголизма мужа, ценой утраты доверия и взаимопонимания в семье. Помочь нашим пациентам восстановить его – может быть, наша главная задача. Черта, присущая подавляющему большинству женщин, которые проходят лечение в Центре, – своего рода умственная дальнозоркость. Она позволяет им видеть перспективы развития, строить далеко идущие планы. Но вблизи они видят куда хуже, поэтому и не замечают как плохого, так и хорошего, что находится рядом. Чтобы смотреть далеко вперед, мать как бы поднимается выше всех, и в этом ее одиночество. А ребенок, вовлеченный в наркоманию, опускается все ниже, и разрыв между ними увеличивается с течением времени. Беда нашей героини в том, что она забывает простую истину: в семье нужна жена и мать, а не главнокомандующий. И только тогда в ней будет счастье. Мы так подробно охарактеризовали матерей наших пациентов, потому что матери были первыми участницами родительских групп. Позже к реабилитационному процессу удалось привлечь и отцов. Я стала работать с ними, когда команда доктора Сауты ушла из наркологии в Ассоциацию. Этот переход для меня растянулся во времени, и это был нелегкий период моей жизни. Когда, по завершении эксперимента, администрация облнаркодиспансера приняла решение вернуться к старым методам лечения, я уволилась из отделения не сразу. 182 Мне нежелательно было прерывать трудовой стаж, и какое-то время я была вынуждена работать в совершенно других условиях. Эта “трудовая деятельность” порой повергала меня в состояние шока. В отделение принимали всех подряд, и мальчишка, который только начинал из любопытства пробовать наркотики, часто оказывался в тесной компании с матерыми уголовниками, имевшими многолетний “стаж” тюрем и наркомании. Сразу было видно, кто, кого и чему “научит” за месяц такого “лечения”. Кроме лекарств, которые прописывали врачи, больные приносили в стационар множество своих “медикаментов”. Трезвых пациентов не было вообще, они все время пребывали в состоянии затуманенного сознания. Как можно было с ними работать? Впрочем, работы в том смысле, как я ее понимала, с меня и не требовали. В мои обязанности теперь входили “беседы с больными”, а главное – регулярные записи в историях болезни. Не знаю, что было труднее – общаться с людьми, сознание которых было постоянно отключено или описывать этот процесс на бумаге. Каким образом я должна была “беседовать” с одурманенными транквилизаторами больными, новый заведующий мне не объяснил. Бессмыслица этой “работы”, даже не предполагающей возможности результата, угнетала. И, когда усилиями Ассоциации помощи страдающим от наркомании был открыт реабилитационный Центр “Выбор”, я с радостью вернулась в команду друзей и единомышленников. Здесь в моей жизни и работе начался новый этап. Я стала работать не только с женщинами, но и с мужчинами – отцами наших пациентов. Я уже говорила, что мать и больной ребенок очень зависят друг от друга. Мужчина в такой семейной цепочке часто остается самым здоровым “звеном”. Правда, тут возникает вопрос: а где в это время находится мужчина? Почему он не принимает участия в воспитании собственного ребенка? Почему он ушел от ответственности? Потому, что, как часто утверждает его жена, он – “тряпка” и “мямля”? Когда я познакомилась с отцами наших пациентов поближе, я поняла, что это далеко не так. Конечно, я знаю много случаев, когда мужчины, действительно, отказались от роли главы семьи в пользу жены из-за слабости. Но большинство наших отцов – очень сильные, достойные и уважаемые люди, которые просто не до конца понимают свою роль в воспитании детей. Во многих случаях эти мужчины вызывали у меня не только искреннее уважение, но и восхищение. Они не ушли из семей, где женщины совершенно забыли о себе, о муже и о здоровых детях, полностью сосредоточившись, зациклившись на наркоманах. Они мужественно тащат на себе этот гремящий несмазанными колесами семейный воз, зарабатывают, обеспечивают семью. Это очень сильные люди. Слабые – давно спились или бросили неблагополучных детей и женились на других женщинах. А эти – мужественно переносят и неблагодарность детей, и равнодушие, а порой и враждебность жены, которая для многих, спустя двадцать и тридцать лет, остается единственной женщиной, которая им понастоящему нужна. Иногда именно боязнь потерять эту женщину заставляет мужчину мириться с ее неразумной “любовью” к сыну. И все же, когда на родительские занятия стали приходить мужчины, я, разбирая семейные ситуации и выясняя отношение каждого члена семьи к больному ребенку, все чаще замечала: отцы гораздо яснее матерей осознают истинное положение вещей. Почему же эти умные, решительные мужчины, которые зачастую уверенно руководят огромным штатом подчиненных, занимают ответственные должности, от действий которых зависят судьбы многих людей, оказались бессильными исправить положение в собственных семьях? Ведь это люди с повышенным чувством ответственности. Они с детства научились работать и никогда не говорить “не могу”. Среди наших “пап” есть руководители разных уровней, предприниматели, военные. Их объединяет одно: все они – отличные специалисты и толковые работники. Многие из них после “перестройки” были вынуждены круто изменить свою жизнь, поменять профессию, найти новое занятие, которое даст возможность содержать семью. Они не растерялись, сумели приспособиться к новым социальным условиям, как всегда, вышли победителями из сложной ситуации. Вот только одно “но”: в семье поселилось горе – ребенок стал наркоманом. Разговаривая с этими мужчинами, я увидела, что многие из них слишком заняты на работе: кто руководит огромным коллективом, кто – в постоянных разъездах, которых требует 183 дело, кто – трудится с утра до вечера, стараясь как можно лучше обеспечить семью. Редко бывая дома, наши мужчины делегировали все домашние полномочия женам, по ошибке включив в этот круг “женских дел” и воспитание детей. Кроме сыновей и дочерей, у мужчины есть и другие “дети”. Это произведения ума и таланта мужчины: его изобретения, если он – конструктор, книги, если он – писатель, картины, если он – художник. Для мужчины очень важно дело. Но его дети – это тоже его “дело”. Какими они вырастут: достойными людьми или ни на что не годными паразитами? В этом состоятельность мужчины как отца. Если же отцовские обязанности в его представлении ограничиваются ролью добытчика и защитника, а роль воспитателя остается несыгранной, часто приходится пожинать горькие плоды “женского воспитания”. Мужчина, в отличие от женщины, почти всегда видит вещи в истинном свете. Он понимает, что его сын – бессовестный обманщик, иждивенец, тунеядец и вор. Но довести это до сознания жены для него, чаще всего, просто невозможно. Женщина не желает слышать страшную правду о своей “кровиночке”. Для нее великовозрастный ребенок, прежде всего, “больной”. И хотя отец понимает, что болезнь сына – в отсутствии совести, спорить с женой оказывается слишком сложно. Так наркозависимый ребенок через мать начинает манипулировать отцом, заставляя его финансировать свою наркоманию. В такой ситуации мужчина страдает и от охлаждения чувств жены, которая, обижаясь на нелестные характеристики ее ребенка, начинает считать своего мужа бесчувственным эгоистом. Такая несправедливость больно ранит. По сути, агрессия жены смещается, переносится с ее истинного адресата на супруга – человека, который этого не заслужил, но которого женщине психологически намного легче обвинить в своих несчастьях, чем собственного сына. Мужчина, не понимая всей сложности этих часто бессознательных процессов, чувствует, что жена просто “перестала любить” его. И ее незаслуженная злость и неблагодарность ранит едва ли не сильнее всего. Такова цена ошибки, которую совершил этот мужчина, полностью перепоручив воспитание детей жене. Да, материнская любовь и нежность необходимы ребенку. Но не менее, а в подростковом возрасте, когда формирование личности ребенка идет быстрыми темпами, даже более ему необходимо мужское участие, мужской взгляд на мир, пример мужского отношения к жизни. Не случайно Оскар Уайльд, разводясь с женой, просил о мужской опеке над сыном, не считая возможным полностью доверить его воспитание жене. Мужчина смотрит на своего ребенка не только с точки зрения отца, но и с позиции человека. Для него очень значимы человеческие качества ребенка, его способности и достижения. Разочарование отцов в несоответствующих этим требованиям детях выливается в отчуждение и разрыв связей. И мужчины с головой уходят в работу (в лучшем случае) или ударяются в пьянство. Истории известны прецеденты, когда отцы физически уничтожали своих недостойных отпрысков: Петр Первый, Иван Грозный. Это, безусловно, крайние случаи. Но для мужского отношения к детям характерна именно требовательность. Отцы, в отличие от матерей, не склонны прощать детям любые проступки. И ситуация, когда вечно пьяное чадо, потерявшее человеческий облик, позволяет себе издеваться над родителями, для мужчины гораздо более болезненна, чем для женщины. В такой ситуации мужчина страдает и за себя, и за жену: ему больно видеть, как бессовестный эгоист изводит любимую женщину, меняя ее до неузнаваемости. Общаясь с отцами наших пациентов, я заметила, что они воспитаны в уважении к женщине. Потому и терпят так долго унижение, несправедливые нападки и неразумные действия супруги. Терпят, кстати говоря, напрасно. В такой ситуации надо действовать. Принимать решения должен тот, кто умнее, кто более ясно видит ситуацию, кто способен, не впадая в истерику, принимать необходимые меры. Отсутствие мужского воспитания уже сыграло свою роковую роль: ребенок стал развиваться неправильно, патологически. Отец не выполнил свою функцию, свой отцовский долг. За это сын отплатил ему наркоманией. Матери он отплатил за унижение мужского достоинства (своего и отцовского), а отцу – именно за неучастие. Когда в семье образовывается порочный круг зависимости, вырваться из него очень сложно. Сын, пользуясь наркоманским жаргоном, “разводит” мать на жалость, мать, в свою очередь, “разводит” мужа, заставляя его терпеть и обеспечивать ничтожество, и сын снова 184 “разводит” мать – уже за унижение отца. Кто может (и должен!) прервать эту патологическую цепь поступков? Конечно, мужчина, который оценивает ситуацию наиболее адекватно. Именно к этой мысли мы стараемся подводить отцов наших пациентов. С тех пор, как нам удалось привлечь к реабилитационному процессу мужчин, дети начали “выздоравливать” значительно быстрее. Это было наглядное подтверждение того, что участвовать в лечении должна вся семья. Это стало принципом нашей работы. Я, как семейный психолог, стала работать со всеми родственниками. На наших группах собирались отцы и матери, жены и сестры. Это была совсем новая ступень – семейная психотерапия. В чем ее особенности? Каждая семья (семь “я”) – группа. Что семья, как первая группа, в которую попадает человек, должна дать ему? Именно здесь дети должны научиться жить среди людей. Если в семье нашего пациента превыше всего – деньги, он вырастет с этим убеждением, какие бы высокие принципы ни провозглашали на словах его родители. Если в семейных отношениях царит ложь, ребенок никогда не научится быть искренним и честным. Если родители не считаются друг с другом – и ребенок не научится жить, учитывая интересы, желания и права других людей, а значит, вырастет эгоистом. Если родители в неразумной любви стараются оградить ребенка от каких бы то ни было переживаний, он не сможет справляться с собственными эмоциями. Он научится “праздновать жизнь”, но жизнь – это труд, а трудиться его никто не учит. И как только он столкнется с трудностями, ему понадобится анестезия в виде наркотика. Но зрелый человек должен уметь переживать неприятности и негативные эмоции без анестезии. Дети, которых этому не научили, никогда не станут по-настоящему взрослыми, а инфантилизм и жажда удовольствий – фундамент наркомании. Дети всегда остро чувствуют, когда в родителях “согласья нет”. Если авторитарная жена не уважает мужа, считая его слабым человеком, сын или дочь обязательно поймут это. А без отцовского авторитета трудно вырастить настоящего мужчину. Если жена беспрестанно пилит мужа за низкую зарплату, постоянную занятость или еще за что-нибудь (при желании повод для недовольства найти легко – не реальный, так надуманный), дети тоже не смогут чувствовать уважения к отцу. Но именно мужчина – настоящий глава семьи, даже если его активная жена и узурпировала эту роль. Семья, где “главу” не уважают, обезглавлена. На что же тут надеяться? Там, где не работает голова, где руководствуются слепыми чувствами, можно ожидать любых перекосов. И очень часто таким перекосом становится наркомания. Эта болезнь, по сути, не что иное, как сигнал тревоги, “SOS” о спасении семьи. Значит, чтобы избавиться от наркомании, надо вернуть семейным отношениям первоначальную функциональность, а всем ее членам – естественные, а не извращенные функции. Надо сказать, что наркомания еще больше усугубляет все разрушительные тенденции и патологию отношений, семейные проблемы достигают апогея. Муж и жена перестают быть Мужчиной и Женщиной, их семейные роли сводятся исключительно к родительским. Смотришь – а к тебе на группу пришли не Муж и Жена, а Отец и Мать. Эти амплуа написаны у них на лбу крупными буквами. Они давно забыли обо всех остальных ролях – влюбленных друг в друга мужчины и женщины, хороших специалистов в своем деле, уважаемых членов общества, чьих-то друзей и подруг, просто интересных людей со своими пристрастиями, вкусами, привычками. Осталось одно: они – родители. Да не просто родители, а Родители Наркомана. Эта роль постепенно “съела” все остальные, трагически обеднила семейный “репертуар” узкой специализацией, превратив семью в настоящий “театр трагедии”. И отпечаток этой трагедии прочно запечатлелся на их лицах. Набор чувств, которые они испытывают, определяется именно этим “жанром”: вина, страх, стыд, одиночество. Их поведение алогично: с одной стороны, они “борются” с наркоманией, с другой – дают деньги на наркотики, превращая свою жизнь в “трагедию абсурда”. Продолжая этот образный ряд, скажу, что моя задача – помочь этим людям вспомнить, что в жизни есть не только трагедии, но и просто драмы, а кроме них – комедии, водевили, фарсы, оперетты. Не стоит зацикливаться на одном, причем самом тяжелом жанре. Чтобы расширить семейный репертуар, Отец и Мать должны снова вспомнить о том, что они, прежде всего, – Мужчина и Женщина, которые когда-то полюбили друг друга и решили, что должны быть вместе. Я помогаю моим пациентам мысленно вернуться к тем временам, когда 185 они начинали совместную жизнь. Какие качества привлекали их друг в друге? Изменились ли они? Если нет, что же стало причиной отчуждения? На первых занятиях я “работаю переводчиком” между супругами, которые, по каким-то причинам, перестали понимать друг друга. Когда туман взаимных обид рассеивается, становится очевидным, что большинство взаимных претензий надуманны. Особенно это касается женщин. Я уже говорила, что они часто переносят свое недовольство сыном на мужа. Обвиняют его в том, что не может “взять в руки” сына-лоботряса в то время, как они, жены, выбиваются из сил. При этом ослепленная горем женщина часто не видит, как много муж делает для семьи: зарабатывает, обеспечивает, организовывает, устраивает, заботится. И терпит несправедливость: его считают “плохим”. На наших занятиях женщины учатся смотреть на мужей, слушать их (молча), и неожиданно для себя обнаруживают, что мужчины говорят много разумных и правильных вещей. Каждая женщина постепенно осознает, что, если бы она раньше научилась прислушиваться к супругу, многих бед, возможно, удалось бы избежать. И она возвращает мужу свое уважение. Возвращает вместе с доверием к его уму и способностям, с ответственностью за семью, с правом решающего голоса во всех делах, касающихся больного ребенка. Раньше у мужа не было права голоса, было одно право – играть роль молчаливого кормильца. А у ребенка – право потреблять все, что родители преподносят на блюдечке, выбирая на свой вкус и не слишком заботясь о том, нужно ли ему это вообще. Если в семью возвращается уважение, доверие, понимание и эмоциональный контакт, наркомания отступает. В таком контексте ей просто не находится места. Как, какими методами мы помогаем пациентам вновь обрести утраченную гармонию семейных отношений? Здесь нет готовых рецептов. Вот, например, приходит женщина с ярко выраженным образным мышлением, которая очень любит цветы. Вместе с ней мы рисуем картину запущенного сада, в который превратилась ее семья, когда сын стал наркоманом. В этом саду старый могучий дуб скрипит в душащих объятиях обвивших его лиан, молодой ясень покрыт уродливыми наростами, а нежная березка роняет преждевременно пожелтевшие от засухи листья: ее никто не поливает, потому что все внимание садовника отдано бурьяну. Именно бурьян (образ наркомании) получает львиную долю влаги и удобрений. Он разросся, засорил все клумбы, грозит покрыть собой даже дорожки. Если не выполоть бурьян – все растения рано или поздно погибнут, и прекрасный когда-то сад превратится в пустырь. А вот в моем кабинете – отец, военный в отставке. Командовал подводной лодкой. Там главное – порядок, четкое выполнение каждым офицером и матросом своих обязанностей. Рассказывает: “Жена плохо воспитала сына. Я пытался ему объяснить, говорил: семья – последний бастион, если не бросишь наркотики, останешься один!” Я задаю вопрос: “Если бы на Вашей подлодке завелся лоботряс, который не несет вахту, забывает задраивать люки и не выполняет Ваших приказов, Вы тоже стали бы его уговаривать и сетовать, что мама плохо его воспитала? Или назначили бы пять нарядов вне очереди? А за серьезное нарушение – разве Вы не отдали бы его под трибунал? Разве его мама отвечает за порядок на вверенном Вам корабле? Кто у Вас в семье командир? Если жена – почему Вы отдали ей командование?” И мужчина вспоминает о законе единоначалия, понимает, что ответственность за беспорядок на его территории все рано лежит на нем. Особого подхода требуют верующие родители. Вот у меня в кабинете – православная христианка. Она уверена, что строит отношения с сыном правильно, потому что Господь велел “возлюбить ближнего как самого себя”. Мы разбираемся, а любит ли она сына, действительно, “как себя”? И любит ли она себя (а она, как Божье творение, в котором тоже есть Образ Божий, безусловно, достойна любви!) или давно забыла о себе, растворившись в собственном ребенке? И что значит, “любить сына, как себя”? Пожелала ли бы она себе самой или кому бы то ни было еще такой участи – медленно умирать от наркотиков? И разве она не понимает, что давно сотворила из сына кумира, нарушив одну из десяти заповедей? И какую пользу приносит сыну ее терпение и жалость? Ведь жалеть принято больных и слабых, тех, кого считают в каком-то смысле хуже, ниже себя. По-христиански ли это? Отвечая на эти вопросы, женщина учится видеть ситуацию по-новому, осмысливает собственные ошибки, понимает, что истинная любовь, в данном случае, не в том, чтобы безропотно и смиренно 186 терпеть наркоманию сына, а в том, чтобы помочь ему вновь обрести утраченную искру Божью. Что я делаю в этих случаях? Помогаю людям найти собственные ресурсы для понимания и решения проблемы. Никто не может изменить человека, кроме него самого. Наша задача – создать для этого подходящие условия. И если это удается, пациенты начинают думать и работать самостоятельно. Как называется эта психотерапевтическая техника? Не важно. Она работает! Бывают люди, слишком зацикленные на разговорах. Они говорят и рассуждают так много, что порой в словесном нагромождении теряется суть происходящего. Им больше помогли бы зрительные образы. Поэтому иногда я прошу своих пациентов нарисовать то, что их волнует. Помню рисунок одной женщины – очень информативное графическое изображение на тему “Наркомания в моем доме”. Она нарисовала комнату с окном, в которое светит луна. В комнате – пустая кровать с разобранной постелью, на полу разбросаны в беспорядке мужские вещи, на тумбочке – таблетки и шприц. Когда мы на группе разбирали содержание рисунка, многие поняли его так: “Для матери наркомания ее сына – это ночь и бессонница. Сын отсутствует, его присутствие в доме ассоциируется с уколами и лекарствами”. Кто-то заметил, что на рисунке нет людей. Женщина ответила, что за время болезни сына растеряла всех близких людей: муж ушел к другой, с друзьями она перестала общаться из-за стыда, что сын – наркоман. Другой участник группы заметил, что на рисунке отсутствует и сама женщина. Все сошлись во мнении, что наркомания – это, действительно, длинная ночь в жизни каждого, кто находится рядом с ней, это одиночество, пустой дом, в котором нет порядка, нет даже самой хозяйки – она давно умерла, наркомания поглотила ее душу, осталась только телесная оболочка. Такие занятия помогают пациентам лучше понять, что же произошло с их жизнью, осознать истинное положение вещей. На первых занятиях мужчины и женщины делятся друг с другом горьким опытом и делают неожиданное открытие: их истории очень похожи. Они начинают понимать свою настоящую роль в наркотизации ребенка, анализируют свое прошлое, им открываются многие истины. Я всегда стараюсь направить ход дискуссии в конструктивное русло, поощряя тех участников, которые ведут себя искренне, говорят правду, высказывают здравые мысли. Главное, чего мы стремимся добиться – чтобы мужья и жены научились принимать и ценить друг друга такими, какими они есть, не стараясь изменить близкого человека, а, наоборот, научиться понимать и принимать его, замечать его достоинства. Если в семье нет мира и любви, если родители постоянно ссорятся, выясняют отношения и не уважают друг друга, дети очень переживают, мучаются, они начинают стыдиться своих родителей, и, как результат, уходят от них – на квартиру, на улицу или в наркоманию. Когда в семью возвращается уважение, понимание и доверие – ничего добавлять не надо, людям просто хорошо вместе. Всему этому они учатся в нашем Центре, потому, что Центр – тоже своеобразная модель семьи. Отношения между сотрудниками построены так, чтобы коллектив напоминал настоящую здоровую семью. Помню, как-то, объясняя мне специфику нашей работы, Леонид Александрович сказал мне: “У нас в арсенале лечебных средств нет ни скальпелей, ни медикаментов. Чем же мы лечим? Собой!” Это очень важный момент. По сути, каждый участник реабилитационного процесса – инструмент психотерапии. Но если я – инструмент, я должна быть хорошо “настроена”. Прежде, чем я начну работать с людьми, я должна решить собственные психологические проблемы. Если это не получится, я окажусь перед соблазном решать их за счет своих же пациентов – самоутверждаться или проявлять какие-то чувства, которые могут спровоцировать нежелательную реакцию. Поэтому, прежде всего, я должна осознать, кто я для моих пациентов: женщина определенного возраста, специалист с опытом работы, мать, у которой взрослый сын, остро чувствующий человек. Если я не осознаю себя как носителя всех этих качеств и ролей, я рискую скатиться к позиции все того же психолога-всезнайки, который общается с людьми с позиций “учителя”. Я знаю из собственного опыта, что такой способ 187 общения с пациентами не приносит успеха в лечении. Ведь здесь результат зависит не только от меня, но и от человека, с которым я работаю. Чтобы успешно работать с родителями, я должна научиться доверять им, осознавать свою меру ответственности за результат лечения и меру ответственности самого пациента. Я не должна думать и решать за них, не должна ничего “советовать”, только стимулировать поиск собственных решений. Здесь надо заметить, что к родственникам применим тот же подход, что и к пациентам: если Вы хотите бросить наркотики – приходите, и мы сделаем все, чтобы помочь Вам, но если Вы хотите, во что бы то ни стало, сохранить сомнительные преимущества привычного образа жизни – это Ваш выбор, и Вы имеете полное право распорядиться своей судьбой по собственному усмотрению. Помню, когда я еще только училась работать, меня удивляло, что Леонид Александрович на вопрос пациента: “Как мне бросить наркотики?” мог ответить: “Не знаю!” Я недоумевала: как это врач – и не знает! Потом я поняла, что доктор таким образом перекладывал ответственность за успех лечения на самого пациента, заставлял его думать, работать умом и душой. Если пациент ни за что не отвечает, он будет продолжать колоться, сваливая вину за это на врача. Но когда доктор объясняет ему, что больной ему ничего не должен, что колоться или не колоться – его собственный выбор, и ответственность за это лежит на нем самом, ситуация меняется. Выходит, что человек принимает наркотики не потому, что доктор не может его вылечить, а потому, что он сам хочет их принимать. А это – совсем другое дело. За свой выбор надо отвечать. Тут не спрячешься за чужую спину. Бывали случаи, когда Леонид Александрович произносил свое “не знаю” и в ответ на мои вопросы, как мне дальше работать. Конечно, он имел свое видение ситуации. Но он давал мне возможность профессионального роста: чем больше я осознавала сама, тем увереннее и эффективнее работала с пациентами. Он доверял моим умственным способностям и женской интуиции. Он всегда был готов помочь, рассказать о собственном опыте, привести пример, сказать, что думает по тому или иному поводу, но окончательное решение: что делать – оставлял за мной. И мне всегда хотелось найти правильный выход из ситуации, оправдать его доверие. Я училась у доктора Сауты всему. Я убеждалась, что если хочу помочь пациенту, я должна научиться понимать его: что он чувствует, чего хочет, к чему стремится? Я должна относиться к пациенту с уважением, доверием, поощрять его собственные размышления, попытки найти решения. Эта работа не терпит фальши, я должна быть абсолютно честной и искренней – и в своем человеческом интересе к пациенту, и в желании ему помочь. Своим примером я учу родителей так же относиться к детям: искренний интерес к их делам и желание помочь – может быть, самое важное в воспитании ребенка. Если родители боятся выйти из роли “старших”, чтобы, не дай Бог, не потерять авторитет, если они не стараются быть для своих детей не только “воспитателями”, но и друзьями, если не делятся опытом собственных ошибок, дети не будут доверять им. Если родители общаются с детьми формально, присутствуя, но не участвуя, не уделяют им достаточно времени и внимания, дети идут за этим на улицу. Они уходят от родителей. Если я потеряю интерес к своим пациентам, они тоже “уйдут” от меня, я не добьюсь результата в их лечении. Иногда я видела, как Леонид Александрович использует действия там, где не дают эффекта слова. Если пациент слишком замкнут, не идет на контакт, если разговоры наводят на него тоску, доктор просто идет играть с ним в теннис или футбол. Это тоже общение. Во время игры доктор и пациент общаются молча, но это взаимодействие без слов дает удивительный результат: оно заставляет пациента изменить убеждения относительно своей силы, ловкости, ума – своих способностей. Именно у доктора Сауты наши папы учатся общаться со своими детьми. А я стараюсь помочь женщинам изменить свою позицию в отношении мужей. Я не боюсь рассказывать им о своем опыте семейных взаимоотношений, о своих ошибках, о поиске решения разных проблем. У нас получается очень плодотворное сотрудничество: у каждого пациента я сама тоже учусь чему-нибудь. Мы становимся друзьями, единомышленниками, потому что я доверяю им, их способностям, уму, человеческому потенциалу, а они – мне, прежде всего, моей искренности. Мой учитель доктор Саута тоже прошел этот сложный путь от “врача в белом халате” до просто человека, и именно 188 у него я научилась, что чем больше ты участвуешь в судьбе пациента не как “психолог”, а как личность, тем лучше результат. Наши пациенты стали близкими людьми не только нам, они стали близки друг другу. Они осознали ценность человеческого общения, захотели дружить, поддерживать тесные отношения, работать вместе. Они создали Родительский клуб и организацию “Допоможемо дітям”, они стали вместе строить дом – новое здание нашего Центра, они стали семьей. Наверное, это и есть главный результат нашей работы. В 2004 году Ассоциация помощи страдающим от наркомании отметила свое десятилетие. Я знала, что к тому времени мы помогли сотням человек. Многие из них выразили желание принять участие в праздновании этой даты. Но когда 26 июня я вошла в зал, где собрались семьи наших бывших пациентов, и увидела две сотни человек – двести улыбающихся лиц, я поразилась: как много мы, оказывается, сделали! А ведь это были далеко не все наши пациенты. Многие, по разным причинам, не смогли приехать! Видеть этих людей, их радостные лица было самым настоящим счастьем. Значит, не зря мы трудились, вкладывая в работу силы и душу. Наши усилия увенчались успехом. В 1995 году я была участницей конгресса психологов в Италии. Помню, один доктор из Австралии говорил, что помог выздороветь двум наркоманам, и очень этим гордился. Французы, делясь опытом, рассказывали, что у них социальные работники общаются с пациентами отдельно от врачей, за стенами клиники, посещая их на дому. Когда я рассказала, как работает наш Центр “Выбор”, и сколько у нас вылеченных пациентов, в зале раздались аплодисменты. В перерыве ко мне подходили коллеги из разных стран, высказывали удивление и восхищение, что в Украине работают на таком высоком профессиональном уровне и такими передовыми методами: социальные работники участвуют в работе психотерапевтических групп вместе с врачами, идет работа с родственниками, центр занимается трудоустройством и социальной адаптацией пациентов! Не могу передать, до чего я была растрогана! Я гордилась тем, что нам, в нашей стране, в наших сложных экономических условиях, удалось достичь таких результатов, о которых даже не мечтали во многих развитых странах! Разве это не удивительно? И разве – не прекрасно? А ведь тогда мы только вырабатывали методику семейной психотерапии, систему, когда помощь оказывается не отдельным людям, а целым семьям! Я думаю, даже участвовать в этом процессе – большая удача, а научиться получать результат в такой работе – настоящее счастье! По крайней мере, для меня это так. 189 “ТОЛЬКО ОСМЫСЛЕННАЯ ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ” Леонид Саута, врач-психиатр, руководитель реабилитационного Центра “Выбор” Эта книга о людях и для людей. Я уверен, что опыт людей, преодолевших наркозависимость, очень важен, но предложение написать главу для книги вызвало у меня противоречивые чувства. Для кого и в какой форме я буду писать? Кому это может быть интересно? Имею ли я вообще право что-либо писать, и если да, что дает мне это право? Почти двадцать лет – значительную часть своей жизни и большую часть врачебной деятельности – я занимаюсь проблемой наркозависимости. Но не это главное. Результат моей работы – счастливая жизнь многих семей. Только это делает мой опыт ценным для других. Я искал и нашел дорогу, которую сегодня ищут многие. Рядом со мной этот путь прошли много людей. Поэтому я надеюсь, что мой рассказ будет интересен и полезен другим. Я буду говорить от первого лица и постараюсь избегать специальных терминов. Я считаю, что о том, чего нельзя сказать простыми человеческими словами, вообще не стоит говорить. И я знаю, что обычно, чем меньше делает человек, тем вычурнее, грандиознее и объемнее его слова. Мои родители были врачами, что такое работа и жизнь врача, я знал не понаслышке. В юности я не сомневался, какую профессию избрать, хотя родители всячески отговаривали меня от врачебной стези. Во время учебы в Днепропетровском медицинском институте я мыслил себя только хирургом. С третьего курса очень интересовался хирургией. Много читал, стремился присутствовать на операциях и участвовать в них. Старался глубоко изучать необходимые дисциплины. Закончил субординатуру и интернатуру по детской хирургии. У меня все получалось, я целиком отдавался работе, пробовал заниматься наукой и не собирался ничего менять. И в то же время у меня появилось сначала смутное, затем все более определенное и нарастающее ощущение того, что я занимаюсь не своим делом. В гораздо большей степени, чем работа в операционной, меня привлекал анализ симптомов и процесс постановки диагноза, особенно в сложных случаях. Тогда же меня очень заинтересовала психология человека, мотивы человеческого поведения. Работая хирургом, я не жалел времени на разговоры с людьми и видел, что во многих случаях это было для них гораздо важнее, чем собственно лечение. Я искал и с большим интересом читал всю доступную литературу по психологии. Было очень интересно, но вопросов меньше не становилось. Почему человек вообще что-нибудь делает? Почему люди ведут себя так по-разному в схожих ситуациях? Я понял, что хочу стать психиатром. При первой возможности, отложив в сторону амбиции молодого хирурга, я поступил ординатором в одну из периферийных областных психиатрических больниц. С большим интересом стал изучать психиатрию. Почти все время проводил в клинике, жадно читал специальную литературу. Позднее прошел курсы, получил квалификацию психиатра. Надо сказать, что в психиатрии мне, с моим “хирургическим” восприятием проблем, многое казалось странным. Для меня всегда было совершенно очевидно, что любая деятельность оценивается ее результатом. В хирургии хороший врач – тот, кто умеет видеть за симптомом объективно происходящие в организме патологические процессы и понимать их, действует осознанно, осмысленно, а главное – получает результат. Там было понятно, чему и у кого учиться. А в психиатрии лечили какието изменения в организме, которые никто никогда не видел. Мысли, чувства, поведение 190 пациентов существовали как будто только для того, чтобы сложить их в синдром, а синдром – в диагноз и назначить химические препараты. Именно вокруг диагноза велись ожесточенные дебаты, и лучшим специалистом считался тот, кто красивее говорил. Меня угнетала сама атмосфера психиатрических стационаров. Я не видел настоящих результатов врачебной деятельности, а если состояние больных и менялось к лучшему, то невозможно было с уверенностью сказать, результат ли это работы врача или просто у пациента такая форма течения болезни. Честно говоря, и мир психиатров, к которому я теперь принадлежал, меня разочаровал. За каждым из моих учителей в хирургии стояли сотни и тысячи вылеченных больных. За красивыми и умными фразами психиатров – чаще всего только амбиции. Я думал: если все, что я делаю, ничего не дает ни моим пациентам, ни мне как человеку – какой смысл этим заниматься? Ведь не может быть, чтобы все проблемы и страдания человеческой души заключались только в том, что в организме не хватает химических препаратов! Мое внимание тогда привлек гипноз. Все, что с ним связано, было покрыто налетом мистики, и я, как любой обыватель, с душевным трепетом говорил о гипнотизерах, считал их особыми людьми. Изучал литературу о гипнозе. Я хорошо помню, как страшно было начинать: а вдруг я “не владею”, мне “не дано”? Вскоре я довольно успешно проводил сеансы гипноза с больными алкоголизмом и какое-то время был очень горд собой. Постепенно мистическая пелена спадала, и я начинал понимать, что введение человека в гипноз – для врача просто техническая процедура. Ну, проведу я сеанс – и что дальше? Я отчетливо видел, что гипнозу легко поддавались наиболее примитивные из моих пациентов. Я понял, что для каждой личности нужно что-то свое. Так у меня возник интерес к личности и к психиатрии, ориентированной на личность, а не на симптом. Я узнал о существовании Ленинградской психотерапевтической школы – школы индивидуальной и групповой психотерапии, ориентированной на личность пациента, и начал изучать литературу. При этом обнаружил, что психические расстройства – это реакция на то, что люди не могут адаптироваться к жизни среди других людей, и понятно, что никакой химией этого изменить нельзя. Необходимо помочь человеку адаптироваться и реализовать себя в жизни, и именно тот, кто сможет ему в этом помочь, – настоящий специалист в психиатрии. И еще: больные должны получать помощь в психиатрическом отделении, где погоду делают не страх и нейролептики, а психотерапевтическая среда. Я скорее почувствовал, чем понял, что это то, чем я хочу заниматься. Вместе с изучением теории я стал применять психотерапию на практике. Именно тогда у меня стала формироваться психотерапевтическая и реабилитационная направленность мышления. Я стал активно применять эти методы в клинической практике и получать первые результаты. Люди, которые годами лежали, начали чуть-чуть оживать. Конечно, делал я это на очень примитивном уровне, но все время старался научиться большему. В то время меня заинтересовала так называемая “малая психиатрия” (неврозы, алкоголизм), где психотерапия находила максимальное применение. Я стал работать с больными алкоголизмом. В жизни я видел много алкоголиков. В их поведении многое было непонятным. Почему человек выпивает одну рюмку и вдруг становится совершенно другим, допускает брутальные, совершенно непостижимые манеры? Я подолгу беседовал со своими пациентами, пробовал личностно ориентированную психотерапию и иногда получал результаты, которые окружающие считали хорошими. В это время мне предложили работать в Днепропетровском областном наркодиспансере. Я согласился, так как меня интересовала психотерапия зависимостей, и я имел опыт работы с такими людьми. Так я пришел в наркологию. Представления о наркологических отделениях у меня сложились еще во время работы в психиатрии. Это были отделения для лечения алкоголиков. Что такое наркоманы, я представлял очень смутно. Впечатления о наркоманах были самые негативные. Помню случай, когда несколько разбушевавшихся наркоманов избили больного. Я думал, что это преступники, волей обстоятельств попавшие к больным, и считал своим долгом защищать больных людей от их посягательств. Но если столкновения с наркоманами у меня были, то контактов с наркологами не было никогда. Встреча с ними удивила меня по-настоящему. Я и 191 представить себе не мог, что люди, носящие белый халат, могут вести себя так, как наркологи, и что это можно называть медициной. Помню мои первые впечатления в отделении для наркоманов: больные, которых выгнали из палаты, топчутся в коридоре, а люди в белых халатах увлеченно роются в тумбочках, подушках, матрасах. Это не были тюремные надзиратели, это были врачи и медсестры. Они все время что-то выискивали, открывали окна, просматривали подоконники. При этом они искренне считали, что выполняют медицинскую работу! Я испытывал шок: так вот куда привел меня интерес к высоким материям, психике, личности! Когда я побывал на конференциях наркологов, послушал их разговоры, мои негативные впечатления усилились. Сначала я полагал, что эти люди что-то знают и умеют, если им удается получать результаты! Оказалось, что ни о каких терапевтических результатах и речи нет. Результатом здесь считался удачный обыск – если удалось найти и отобрать у пациента чай и сигареты. Вершиной профессионального мастерства было – изобличить, “расколоть” больного. Врачи разговаривали с пациентами на жаргоне, которого я раньше даже не слышал. Я видел, что отношения пациентов и врачей – это отношения врагов. Одни постоянно что-то прячут, другие их разоблачают. Я чувствовал негативное отношение к себе со стороны пациентов и не знал, как к ним подступиться. В медицине существует понятие дозы. Врач, исходя из состояния больного, определяет, какие медикаменты и в каких дозах ему надо давать. Здесь было по-другому. Врачи с многозначительным видом, глядя в потолок, назначали транквилизаторы и их комбинации. По сути, назначали столько, сколько наркоману удавалось выпросить. Попав в наркологию, я испытывал страх от соприкосновения с незнакомым и чуждым миром, в котором были решетки, тюрьмы, лагеря, многократно судимые люди. Интересно, что испытывали те врачи, которые так умело демонстрировали уверенное, директивное поведение, а иногда и запугивали своих пациентов? Я думаю, то же, что и я, иначе, зачем были нужны решетки, колючая проволока, милиция, замки и изоляторы? Зачем наркологи ходатайствовали о выдаче оружия? Самое абсурдное то, что в отделении, где “лечили” от наркомании, больные постоянно кололись, и врачи об этом знали. Можно ли было вообще называть это медициной? Чем больше я наблюдал “лечебный процесс” в наркологии, тем больше убеждался: если вместо вывески наркодиспансера повесить другую – “охраняемый притон” – все станет на свои места. В это время мне предложили возглавить новое отделение для лечения наркоманов. Может, по молодости и самонадеянности, может, в угоду собственным амбициям, но я решил создать отделение, где наркоманы действительно будут выздоравливать. Мне хотелось заниматься чем-то серьезным и важным. Если бы я мог тогда знать, насколько это сложно, я бы никогда не взялся за такое дело. Тем более, что тогда я еще совершенно не понимал, что надо делать. Единственное, что я знал после знакомства с наркологией, – чего делать не надо. На этой базе я начал создавать “отделение нового типа”. И так как отделение начинается с персонала, я стал заниматься его формированием. Я принимал на работу медсестер и санитарок, которые никогда не работали в наркологических отделениях, потому что поработавшие там обязательно создали бы атмосферу, которую я не могу назвать иначе как “театром абсурда”. Если бы нужно было создать отделение, цель которого – выявление и наказание наркоманов, то школа советской наркологии очень бы пригодилась. Но речь шла о помощи людям. Я старался выбирать медсестер и санитарок, для которых человеческий контакт и желание помочь были естественными профессиональными чертами. Правда, передо мной тут же встал вопрос: как правильно использовать эти качества в работе с нашим криминальным контингентом? Я тогда еще не знал, как научить этому персонал, потому что не понимал, в чем будет состоять моя помощь пациентам. Но я точно знал, что первой моей задачей должно стать создание атмосферы, в которой эти женщины чувствовали бы себя в безопасности. Они должны были научиться вести себя так, чтобы наркоманы не могли воспринимать их как собак, лающих вокруг барака. Я уже говорил, что в наркологии столкнулся с чужим и непонятным мне миром. Этот мир, как и отдельные его представители, вызывал страх. Я понимал, что все, происходящее в отделении, было привычной частью жизни моих пациентов. Жизни, значительная часть 192 которой протекала в заключении. Каковы законы этого мира? Помимо наркозависимых больных, у меня в отделении были алкоголики, и я видел, что мир наркоманов очень отличался от их мира. Наркоманы ссорились между собой, обманывали друг друга, но перед угрозой извне были склонны объединяться. Все наркоманы имели что-то общее, в той или иной степени относили себя к уголовному миру и жили по правилам этого мира. Я понимал, что беспомощен перед ними, пока не знаю этих правил. Я видел к себе разное отношение – угодливое, заискивающее, льстивое. Каким оно было на самом деле? Меня постоянно мучил вопрос: “Да, я заведующий отделением, врач, ношу белый халат. Но что действительно думают обо мне загнанные сюда милицией люди? Кто я для них?” Размышления на эту тему привели меня к пессимистическому выводу: истинное отношение ко мне – негативное. Более того, я отношусь к категории наиболее презираемых наркоманами людей, ведь я – человек, совершенно не знающий их мира, не имеющий сотой доли их опыта, и при этом собирающийся решать их судьбы. Чего стоят мои нравоучительные беседы? Ведь я в их глазах – представитель того общества, которое надело на них наручники и насильно загнало в изолятор. Свой страх перед ними я пытался скрыть под маской директивности или фальшивого сочувствия. Но не переставал докапываться до корней. Я рассуждал так: чего хотят от меня эти люди? Чтобы я назначал им транквилизаторы. Я понимал, что уважение, которое они мне демонстрируют, относится не ко мне. Они просто не обращали бы на меня внимания, если бы могли взять таблетки сами. Все их поведение было направлено на то, чтобы выпросить как можно больше психотропных средств, а если в отделение попадали наркотики, это было для них вершиной счастья. Если бы я закрывал на это глаза, или, еще лучше, давал бы им наркотики, наверное, “уважения” ко мне было бы еще больше. Но чем бы я тогда отличался от обычного наркоторговца? И стоило ли проходить такой сложный путь и учиться медицине, чтобы, по сути, помогать наркоману оставаться наркоманом? Когда я это понял, мне стало совсем не по себе. Я подумал, что мне просто не за что будет себя уважать. Стоит ли изображать любовь к наркоману, если я его боюсь? Что делать со страхом, который я не могу показать? Оставалось научиться понимать пациентов, изучая этот непонятный огромный мир, кусочек которого локализовался у меня в отделении. Мне нужно было добиться того, чтобы отделением управляли не наркоманы, как было везде в наркологии. Иначе я вынужден был признать, что заведую наркоманским притоном и служу “ширмой” для него. Добиться того, чего я хотел, было очень тяжело и сложно. Каждый день я пытался найти выход из множества постоянно возникавших сложных ситуаций, и не потерять при этом человеческого лица. “Авторитеты” с большими сроками тюремного заключения, психологи “школы закрытого типа” пытались управлять отделением, делая все чужими руками: нити почти всех конфликтов, драк, побегов или попадания в отделение наркотиков, как правило, вели к многократно судимому человеку, который, находясь в тени, всегда безупречно вежливо улыбался и льстил мне. А иногда прямо заходил в кабинет и предлагал навести в отделении “полный порядок” в обмен на какие-то льготы для себя. Но если бы я пошел на это, отделение очень быстро превратилось бы в территорию, на которой выясняют отношения наркоманы, уголовники, работники милиции и т. д. Я не мог этого допустить, и не мог выступать в роли руководителя такой структуры, а, значит, мне надо было просто уйти, отказаться от задуманного. Но мои молодые амбиции твердили, что я могу и должен что-то сделать. И я начал делать. На это уходило все мое время: ежедневные разборы ситуаций, их анализ, сопоставление слов пациентов с их поведением. Каждый раз я старался найти оптимальный способ поведения в конфликтных ситуациях, не боялся брать на себя ответственность за принимаемые решения. Я не делал ничего в угоду каким-либо “авторитетам”, и если знал, что прав, уверенно настаивал на своих требованиях, никогда при этом не унижая человеческого достоинства своих пациентов. И эти люди постепенно начали ко мне прислушиваться. Анализируя и сопоставляя, я научился рассматривать манипулятивное поведение наркомана только как материал, не затрагивающий моих чувств и самооценок. Я начал выбирать правильное поведение в разных ситуациях. Это значит, что я научился правильно видеть ситуацию, понимать настоящие мотивы поведения людей в этой ситуации и находить 193 справедливое и понятное для всех решение. Любой случай, значимый для пациентов, становился поводом для общих собраний. Это стало основной формой обучения медперсонала и молодых врачей. Беседы с пациентами на различные темы тоже стали привычным делом. Еще раньше, наблюдая своих пациентов, я увидел, что люди, которые хотят бросить наркотики и те, кто не собирается этого делать, совершенно разные. Пациенты, которые, действительно, по каким-то причинам собирались прекратить наркотизацию, вели себя совершенно по-другому, чем все остальные. Они не выпрашивали таблеток, ничего не клянчили, хотя я видел, что состояние у них точно такое же, какое другие трактуют как крайнюю степень болезни. Я начал думать: от чего это зависит? Почему люди с одним и тем же заболеванием, одними и теми же симптомами ведут себя совершенно по-разному? Оказалось, что поведение человека зависит от того, какие цели он преследует в каждой отдельной ситуации, чего он хочет, какая у него мотивация. Ведь если человек испытывает боль, она не зависит от обстоятельств. А тут – чем больше я суечусь вокруг пациента, тем ему “хуже”. В хирургии было не так: чем больше внимания я уделяю пациенту, тем лучше ему становится. Почему же с наркоманией все было наоборот? Я стал думать, что же такое эта абстиненция? Ведь почечная колика одинакова в любых обстоятельствах: человек лезет на стену от боли. А здесь сила абстиненции зависит от ситуации, от того, насколько она “нужна”, выгодна пациенту. Пациенты с лагерным опытом часто говорили, что в камере, где не приходится рассчитывать на помощь, “ломка” порой переживается намного легче. Я понял, что абстиненция возникает по принципу условной желательности: если она “помогает”, если есть возможность, демонстрируя свои “страдания”, получить таблетки, тогда недомогание бывает очень сильным. А если проявления абстиненции грозят увеличением срока заключения или другими неприятностями, тогда она проходит гораздо быстрее и легче. Я постоянно слышал, что иногда в первый раз “ломка” протекает, как легкое недомогание, потому что человек боится признаться себе, что он – наркоман, а абстиненция, как ни крути, – верный признак наркомании. Я понял, что это – выученный синдром. Человек знает, что он возникает, если бросить наркотики. Значит, от абстиненции не умирают. Наоборот, для человека, который хочет что-то изменить, абстиненция – начало выздоровления. При правильном подходе она может помочь: человек, переживший абстиненцию без таблеток, обретает уверенность, что он может с ней справиться, что у него есть силы бороться. Конечно, я не беру случаи с большим и длительным стажем, с большой телесной отягощенностью, где можно ждать серьезных осложнений. Но у большинства наших пациентов физической зависимости просто не существует. Есть когнитивная, выученная зависимость. Я убедился в этом очень давно, и продолжаю находить подтверждения этому по сей день. Когда восемнадцатилетний мальчик приходит в Центр и начинает жаловаться на непереносимые боли, корчиться и просить таблетки, я “серьезно” говорю ему, например, такое: “А ты разве не знаешь, что абстиненция бывает только до одиннадцати часов? А с одиннадцати до утра должно быть нормальное самочувствие”. Он удивляется: “Да?” – и все проходит. К сожалению, медицинская, гиппократовская модель лечения наркомании никогда не занималась мотивацией поведения больных. А это оказалось самым главным. И я сразу стал учитывать это в своей работе. Мне приходилось ломать сложившиеся в наркологии стереотипы. Я мог, к огромному удивлению моих коллег, оставить открытой дверь своего кабинета, уйдя на какое-то время. Помню случай, когда я дал ключи от кабинета одному из моих пациентов, попросив что-то принести. От удивления он не мог встать со стула, ведь отношения врача и наркомана, в его понимании, исключали всякое доверие. Но я всегда обращался не к наркоману, а к человеку в нем, и никогда об этом не пожалел. Главное – мне стали доверять. Из бесед я много узнал о жизненном и тюремном опыте моих пациентов. С некоторыми у меня установился человеческий контакт – я стал понимать их. Но окружение этого человека в отделении тогда еще оставалось прежним, хотя он и начинал тянуться к людям. Тут мое поведение становилось особенно важным, так как я понимал, что стал первым в его жизни представителем враждебного ему мира людей, к которым он захотел приблизиться. В то время на базе отделения учились врачи и курсанты факультета усовершенствования врачей Днепропетровского медицинского института. Помню, я 194 приводил им пациента, который, как я точно знал, находился здесь вынужденно и не собирался ничего менять в жизни. Он, в ожидании очередных таблеток, многословно, бойко и уверенно врал, что наркотики давно бросил, не советует принимать другим и мечтает работать на заводе слесарем. Врачи его хвалили и восхищались таким пациентом. А тот парень, который действительно пытался что-то изменить в жизни, был искренним, но немногословным, с трудом подбирал слова и не был уверен, получится ли избавиться от зависимости. Он вызывал у моих коллег многочисленные нарекания. Врачи говорили: “Возьми себя в руки, заставь, собери силу воли”. Конечно, контакта не получалось, несправедливость очень обижала ребят. А ведь эмоциональный человеческий контакт – фундамент любой эффективной психотерапии. Врачам необходимо было научиться распознавать людей с искренней установкой на изменения в жизни. Постоянно размышляя над этим и делая наблюдения, я выделил целый ряд поведенческих признаков, по которым мог достаточно достоверно определить истинные мотивы человека, поступающего в стационар. Для меня это было самое главное, хотя чисто медицинская, биологическая модель лечения наркомании абсолютно игнорировала вопросы мотивации. Такой подход позволил мне выделить группу ребят, с которыми я и начал проводить групповую психотерапию (терапия с такими ребятами в принципе мало чем отличалась от терапии, применяемой к людям, не принадлежащим к субкультуре наркоманов и имеющим какие-либо психологические проблемы). К тому времени стал меняться и наш медперсонал. Сестры и санитарки поняли, что защитить от уголовного мира их сможет не милиция, не решетки и не замки, а только белый халат. Это значит, что они должны всегда оставаться людьми и уважать человеческое достоинство своих пациентов. Ведь медсестра, днем носящая белый халат, а вечером торгующая таблетками, воспринимается не как медицинский работник, а как “барыга”, и отношение к ней будет соответственным. Врач, который, пряча в карман деньги, стыдливо отворачивается при виде “уколотого” пациента, перестает быть для него не только врачом, но и человеком. Здесь надо сказать, что даже при тех скромных результатах, которые начали появляться в то время, мы вошли в противоречие с существующей наркологией. Даже внешний вид отделения – двойные решетки, отсутствие дверей в палатах, изоляторы – составляли резкий контраст с зарождающейся здесь атмосферой доверия. Я пытался уйти от привычных стереотипов, придав отделению сходство с обычным лечебным учреждением. Делать это было очень и очень непросто. Мои первые попытки повесить на окна занавески вызвали бурный протест медперсонала: “Больные порежут, а нам отвечать!” Я настоял на своем, занавески были повешены. И в первую же ночь их действительно порезали. Когда на общем собрании я резко высказал пациентам все, что о них думаю, наступило гробовое молчание. Я оставил их осмысливать мои слова и вышел, но оказалось, что с моим уходом собрание не закончилось. После кратких дебатов больные решили собрать деньги. На следующий день они купили и повесили новые занавески. Но изменение внешнего вида отделения, конечно, не могло решить всех проблем. Главным препятствием для лечения наиболее перспективных ребят оставалось положение об обязательной постановке на пятилетний наркологический учет. Я обратился к руководству диспансера с ходатайством о выделении пяти коек для анонимного лечения. Мне объяснили, что это невозможно. В то время я уже не представлял себе возврата к прежнему и ушел из наркологии, как мне казалось, навсегда. Сейчас я не люблю вспоминать описанный выше период. Слишком много неприятного тогда пришлось узнать, пережить, увидеть и понять, соприкоснувшись с миром, в котором нет никакой романтики, ничего святого, да и человеческого очень мало. Но если бы у меня не было того трудного опыта, я не смог бы получать результаты сегодня. Ведь от своих нынешних двадцатилетних пациентов я часто слышу те же слова, что и от уголовников, мной пытаются манипулировать так же, как и в “старые добрые времена”. Мальчики, которые приходят ко мне сейчас, произнося свои речи, не знают, что все это я уже давно слышал от людей, имевших огромный тюремный опыт. И благодаря этому, я и сегодня могу распознавать и адекватно реагировать на такие же, по смыслу, манипулятивные проявления. А пресечение 195 наркоманских манипуляций – единственный путь для установления человеческого контакта, который составляет основу психотерапии наркозависимости, и без которого самые “возвышенные психотерапевтические отношения” рухнут, как строение, возведенное на песке. Когда я ушел из наркологии, меня пригласили проводить курсы групповой психотерапии для врачей и психологов при кафедре психиатрии факультета усовершенствования врачей. Кроме этого, я занимался частной практикой с больными алкоголизмом и неврозами. Мой скромный опыт того времени все же давал возможность проводить довольно интересные групповые занятия. Они были в новинку, ведь на тот момент вся психотерапия понималась как гипноз или другое воздействие директивного характера. Было очень трудно создать такие условия, чтобы курсанты поняли, что лечебный фактор в этой форме психотерапии – это вся совокупность мыслей, чувств, поведения, возникающая между участниками группы. Для меня это было время напряженной работы, осмысления прошлого опыта, поиска нового. Я искал, находил и изучал все доступные мне зарубежные материалы различных школ и направлений в психотерапии, постоянно читал труды основателей психотерапевтических школ, собирал видеоматериалы. Я посещал психотерапевтические тренинги с заезжими профессионалами. Что-то у меня получалось, но, честно говоря, в голове была путаница, и вопросов меньше не становилось. Практически учиться было не у кого. Существовало огромное количество западных психотерапевтических школ, каждая из которых претендовала считаться единственно правильной, доказывая свое превосходство над другими. Одни из них занимались прошлым, другие – будущим, третьи говорили, что есть только настоящее. Целью одних было новое осознание, другие занимались мышлением и поведением, третьи признавали только чувственный опыт. Каждая из них по-своему объясняла существующие проблемы пациентов и требовала от терапевта определенного поведения и применения определенных терапевтических приемов. В каждой школе было чтото, что меня привлекало, но я не мог отдать предпочтение ни одной из них. В групповых занятиях и в индивидуальной работе с пациентами я подражал психотерапевтам различных направлений, но постоянно чувствовал неудовлетворенность. Часто я ловил себя на том, что упорное следование какой-то одной школе искусственно сужает терапевтические возможности ситуации. Получалось, что можно вести себя совершенно по-разному, при этом получать одинаково хорошие результаты. В хирургии тоже существуют много школ, но любой хирург в своих действиях, в первую очередь, исходит из клинической ситуации. Мой небольшой опыт психотерапевтической работы подсказывал мне, что выбрать лучший способ действия можно, только исходя из конкретной ситуации, ведь бесполезно и бессмысленно спорить о том, какой ход в шахматах лучше в принципе. Его не существует вне конкретной ситуации. Каждая ситуация, из бесчисленного множества психотерапевтических случаев, содержит такое же количество психотерапевтических возможностей. Увидеть и понять ситуацию максимально полно и найти наиболее полезный и оптимальный для данного пациента способ действия – стало моей основной задачей. Я начал искать общее в различных направлениях и школах. Анализируя свое поведение в группах с пациентами, я обнаружил, что иногда его направляла не ситуация, а попытки соответствовать той или иной школе. Часто оказывалось, что пациенту помогало не то, что я считал главным, и чаще всего это были не мои “блестящие” речи и интерпретации. Надо было учиться не говорить, а слушать и наблюдать пациента. Хорошо помню, как одна курсантка в тот момент, когда я, с самодовольным выражением лица, произносил высокопарные речи, сказала: “Мне хочется подойти и дать вам по роже!” Это сильно меня отрезвило, я начал думать о том, кто я для этих людей, что они обо мне думают, и как я сам в действительности к ним отношусь? Эта работа в то время поглощала меня целиком, я не вспоминал и не хотел вспоминать о наркологии. Работать в мединституте было намного приятнее, чем в наркодиспансере. Ведь мои тогдашние курсанты, как и мои сегодняшние пациенты, жили в том же мире, что и я, где нет колючей проволоки, решеток и уголовного жаргона. 196 Но я периодически встречался с ребятами, которые были моими первыми пациентами в наркологии, и чувствовал ответственность за их судьбы. Надо сказать, что я видел в их теперешней жизни ошибки моей работы того периода. Они часто употребляли непонятные для людей психологические термины, пытались искать и трактовать бессознательный смысл происходящего. Это скорее мешало, чем помогало им в жизни. Но эти ребята были искренними, сплоченными и очень хотели помогать другим. В то время, в начале 90-х годов, в Украине организовывались группы анонимных наркоманов. Ребята хотели что-то делать в этом направлении и просили меня им помочь. Я знал, что это не медицинская программа, в ней зависимые люди оказывают помощь друг другу. И хотя я совершенно не представлял своей роли в этом деле, согласился обсуждать проблемы, возникающие у них в процессе работы. К моему удивлению, в помещение, которое нашли ребята для своей организации, стало приходить довольно много людей. Мои подопечные вкладывали в эту работу душу, но каждый раз чувствовали разочарование. “Меня кумарит, чем вы мне можете помочь?” – спрашивали их. Часто родители приводили своих детей-наркоманов, цинично изображавших перед родителями свое желание бросить наркотики, и в то же время демонстрировавших свое превосходство пресыщенных маменькиных сынков из богатых семей. Лишь немногие из обращавшихся хотели изменить свою жизнь, но не могли этого сделать. Ведь после группы им приходилось возвращаться в свою привычную среду. Я понимал моих бывших пациентов, но ничем не мог помочь, ведь для помощи наркозависимым людям нужна была клиника с терапевтической средой и объединение наших усилий. После начала перестройки меня опять пригласили в наркодиспансер – возглавить отделение, в котором я раньше работал. Увидев забытые было решетки и колючую проволоку, я опять соприкоснулся с чужим мне миром. Зачем я пришел сюда? Пройдя по отделению, я испытал настоящий шок. Я не увидел ни одного трезвого лица. Люди в татуировках, развалившиеся на кроватях, даже не изменили позу, когда я вошел и представился. “А заведующий? Хорошо. А то у нас на вахте забрали чай!” Я был поражен. Такое развязное поведение было совершенно не в традициях даже мало-мальски уважающих себя представителей уголовного мира. Те, если не испытывали, то хотя бы демонстрировали уважение к врачу. Эти не считали нужным даже демонстрировать. “Что я буду делать в этом притоне? Это невозможно!” – думал я. Но, вспомнив ребят и увидев, с какой радостью встретил меня персонал, я понял, что есть люди, которым нужна моя работа. Я уже понимал, что в основе наркозависимости, как и многих других человеческих проблем, лежит дефицит отношений с людьми, что наркомания – не просто удовольствие, получаемое от наркотиков, что эта проблема гораздо шире. Речь идет о своего рода компенсации, поиске выхода из трудной для личности ситуации. Это значит, что в основе наркомании – не биологические, а социально-психологические факторы, поэтому и лекарством от нее могут быть только качественно другие, целительные отношения с людьми. Было начало 90-х годов. Начались перемены в стране, которые очень быстро сказались на наркологии. Милиция перестала “поставлять” “пациентов”, а наркологии, в которую приходят лечиться добровольно, в Советском Союзе не существовало в принципе. Но служба должна была оправдывать свое существование. Советская наркология хорошо умела ставить клеймо на наркоманах и изолировать их от людей. Теперь нужно было строить систему реабилитации, то есть возврата этих людей в общество. Для традиционной наркологии это было так же невозможно, как для реки – изменить свое русло. Река не может развернуться от устья к истоку “по приказу свыше”. Наркология тоже умела работать только “в одну сторону” – клеймить и изолировать. Нам нужна была реабилитация. Существовал зарубежный опыт, но специалисты понимали, что западные реабилитационные технологии не могут быть непосредственно применены в Украине в виду особенностей менталитета и отсутствия подготовленных специалистов. Мне предложили написать программу лечения и реабилитации больных наркоманией, в которой я отразил свое понимание ситуации и весь свой опыт на тот момент. Программа получила высокие оценки специалистов СНГ и даже некоторых зарубежных профессионалов, одобрение и поддержку Министерства здравоохранения Украины. В соответствии с Указом Минздрава № 145 от 22 июня 1993 года 197 на базе отделения, которым я руководил, начался государственный эксперимент по лечению и реабилитации больных наркоманией и их родственников. Это была одна из первых в СНГ попытка выхода за рамки узкобиологического взгляда на наркоманию. Главной задачей эксперимента было получение стойких, качественных ремиссий. Основными средствами решения задачи, в отличие от общепринятых прежде подходов, должны были стать ориентированные на личность психотерапевтические технологии в индивидуальной и групповой форме. Принципиально новым для СНГ было использование в психиатрической клинике опыта лиц, преодолевших зависимость. Стоял вопрос: возможно ли на постсоветском пространстве, в частности в Украине, применение современных эффективных западных реабилитационных систем? Первоочередной и очень сложной задачей стало привлечение пациентов, действительно имеющих твердую установку на отказ от наркотиков. Для этого сплоченный мир наркоманов должен был узнать, что здесь не освобождают от тюрьмы, не дают психотропных средств, и что люди, работающие в отделении, способны разобраться в истинных мотивах поступающих в стационар. Без решения этой задачи, нечего было и думать о создании в отделении психотерапевтической обстановки, а значит – ожидать каких-либо положительных результатов. Поэтому особая роль отводилась консультативному приему, который проводили врачи и социальные работники – бывшие пациенты. Из большого потока обращавшихся людей нужно было выделить (и не пропустить!) тех, кто искренне хотел попробовать изменить свою жизнь. Я представлял, какие сложные переживания возникают у социальных работников при контакте с наркоманами, и чувствовал большую ответственность за них. В то время еще не было единой команды, были лишь ее части. Для медперсонала оказалось очень сложно увидеть в социальных работниках людей, равных себе. “Что они делают, за что им платят деньги?” – спрашивали они. Ребята, конечно, обижались, начинали конфликтовать. Случалось, что даже врачи в трудных для себя ситуациях пытались переложить на них ответственность за пациентов, называя это доверием. Ежедневно я проводил группы со всеми сотрудниками, пытаясь изменить такую ситуацию. Я очень много времени проводил с социальными работниками, разбирал консультации, выяснял чувства и мысли ребят при этом. Гораздо проще было проводить консультации самому, но мне нужно было создать команду. Ведь среду, которая лечит, создают люди и их отношения между собой. Ведь человеческие отношения могут не только исцелять, но и быть губительными. Лекарствами для зависимой личности являются искренность, доверие, уважение, а стержневым моментом этой работы – наше умение научить больных принимать на себя ответственность за свое поведение и свою жизнь. Сложность состоит в том, что, как и любые лекарства, эти средства должны быть назначены вовремя, к месту, в индивидуально подобранных дозах. Постепенно такая работа стала приносить свои результаты – сплачивалась и набирала опыт команда, к нам практически перестали обращаться наркоманы, желающие пересидеть в медицинском учреждении социальные санкции. Складывалась атмосфера взаимного доверия. Случаи наркотизации становились исключением и давали большой материал для психотерапевтической работы. Постепенно откровенно асоциальные наркоманы утратили лидерство в отделении. Я использовал любую эмоционально затрагивающую пациентов ситуацию для проведения психотерапии. Работа занимала, без преувеличения, все мое время и все мои мысли. Это было непонятно ни моим друзьям, ни моим близким, тем более, что зарплату платили за количество пациентов, а нам приходилось их отбирать (а, значит, и отсеивать). Огромную сложность для меня представляло то, что, услышав о “новом методе”, к нам устремилось множество пациентов. Все чаще стали обращаться влиятельные и богатые родители. Хорошо, если предполагаемые пациенты были настроены на изменения, но гораздо чаще они милостиво соглашались, чтобы я их лечил, при условии, что в тумбочке будет лежать наркотик. Я хорошо понимал, какую среду создадут в отделении такие пациенты, и знал, что этим мы обязательно оттолкнем ребят, которые мне поверили. Люди, привыкшие к тому, что их всюду приглашают на лечение, были в недоумении. Особенно странным для них 198 было то, что я отказывался от денег. Жалею ли я об этом сегодня? Нет! Потому что именно в то время начали свой путь к людям многие ребята, которые сейчас живут счастливо. У них не было богатых и влиятельных родителей, но было сильное желание стать людьми. Я сегодня могу гордиться тем, что никогда ради денег не поступался своими принципами, ведь я знаю много случаев, когда наркоманы кололись прямо в кабинете врача, пока доктор стыдливо делал вид, что смотрит в окно. Прошло около двух лет, в течение которых появились десятки пациентов со стойкой ремиссией. Эти люди, их родители, совместно с профессионалами, создали одну из первых в Украине общественных организаций – Ассоциацию помощи страдающим от наркомании. С ростом и развитием терапевтической команды отпала необходимость назначения психотропных средств. Это позволило активно внедрить в реабилитационный процесс занятия спортом. В моей жизни спорт всегда играл очень большую роль, и я хорошо знаю, сколько он дает для развития личности. Учась в институте, я выполнил норму мастера спорта СССР по фехтованию, уверенно чувствовал себя на футбольной площадке и за теннисным столом. Не понаслышке зная о том, что такое спортивная педагогика, я решил использовать ее возможности в реабилитационном процессе. Вместе с пациентами во дворе больницы мы сделали небольшую футбольную площадку, в заброшенном помещении оборудовали спортзал. Ежедневно, при любой погоде, начали проводиться футбольные встречи. Я сам выходил играть при малейшей возможности. По сути, это была та же психотерапия, но другими средствами. Разборы матчей давали очень богатый материал, ведь здесь тоже проявлялись стереотипы неконструктивного поведения, которые вели к проигрышу. И это было наглядно. Развивалась возможность оценки ситуации, поиска лучшего решения в ней. Ощущение своей нужности команде, радость победы, преодоление себя, ощущение своих возможностей – были совершенно новым эмоциональным опытом моих пациентов. Из таких встреч родилась футбольная команда “Выбор”, которая недавно отметила свое десятилетие. Официальным днем ее рождения считается матч на центральном стадионе Днепропетровска с командой журналистов “Тригол”. Достигнутый к этому времени высокий уровень реабилитационной работы, позволил включить наших пациентов в профилактические мероприятия. Стали систематически проводиться выезды в учебные заведения. Неизменно эмоциональный и правдивый разговор в аудитории учащихся был одновременно мощным психотерапевтическим фактором для пациентов и очень эффективной формой профилактики. Для пациентов это становилось своеобразной “группой”, ведь чтобы выступать в аудитории сверстников, заново переживая свой рассказ, нужно иметь чистую душу, здесь нельзя играть, фальшивить. А для ребят, сидящих за партами, всегда было важно не столько то, что говорит человек, сколько то, что он из себя представляет. Если он вызывает доверие – к нему будут прислушиваться. И поверят всему, что он говорит о мире наркоманов, об отношениях в нем, о том, чем приходится платить за удовольствие. Такая профилактическая работа действительно эффективна. Но она возможна лишь при адекватном отношении общества к проблеме наркомании. И, начав эту работу, мы поняли, как важно здесь сформировать правильное общественное сознание. К этому же времени относится и наш первый опыт участия в международных конференциях. Я хорошо помню, с каким волнением мы ожидали возвращения нашего психолога Нелли Дмитриевны Хорошиловой после Европейской конференции в Италии, где она впервые представила доклад о нашей работе. Очень воодушевило то, что, при всей несхожести условий работы, мы разговаривали на одном языке с ведущими мировыми специалистами, и даже, по словам зарубежных коллег, кое в чем их превосходили. С того времени мы стали постоянно участвовать в международных конференциях и конгрессах, в том числе дважды во Всемирных съездах психиатров, и всегда встречали понимание, поддержку и интерес с некоторой долей удивления. Отделение тех лет уже мало походило на больницу. Теоретические положения нашли свое полное подтверждение. Мы создали реальную альтернативу наркоманскому миру. Но задача была решена только частично – многие пациенты боялись уходить из отделения, не имея навыков реальной жизни там. Нужно было в терапевтической обстановке создать условия для того, чтобы человек приобрел трудовые навыки, научился зарабатывать кусок 199 хлеба, распределять заработанные деньги и верить в свои возможности. С этой целью Ассоциация учредила предприятие “Выбор” и начала активно создавать рабочие места на территории Центра. Ремонт стационара делала строительная бригада, состоящая из бывших пациентов. В подвале оборудовали помещение, организовали производство подсолнечного масла, которое, согласно приказу начальника управления здравоохранения, покупали областные лечебные учреждения. Был организован художественный салон, парикмахерская. Кроме этого, работал собственный пищеблок. Повар, бухгалтер, водитель, кочегары, сантехники, электрики – все это были наши пациенты. К этому времени относятся мои попытки подготовить специалистов для работы с наркозависимыми людьми из числа студентов ДГУ. Как-то меня пригласили прочитать студентам-психологам лекцию о современной психотерапии. Она была воспринята с большим интересом, и я получил предложение от руководства факультета о проведении цикла практических занятий по основам психотерапии наркозависимости на базе нашего экспериментального центра. Обучение состояло в проведении привычных для меня групп, где материалом служили непосредственно мысли, чувства и поведение их участников. Я не ждал больших сложностей, ведь в Центр приходили будущие психологи и психотерапевты. Но когда я с ними столкнулся, выяснилось, что книжные знания, обилие терминов и специальный язык совершенно не приблизили ребят к пониманию людей, а, наоборот, увели далеко в сторону. Они чувствовали себя не просто юношами и девушками, а “психологами”, что якобы сильно возвышало их над людьми! Мои попытки изменить такой способ общения ни к чему не приводили. Студенты продолжали “жонглировать” терминами: “Это у меня нарушение смыслообразующей функции!”, “Какие у тебя могут быть проблемы, мы проверили все сферы и нарушений не нашли!” Представления о группе сводились к веселому времяпрепровождению с обилием технических приемов. В процессе занятий это менялось, но с большим трудом. Я стал понемногу пускать студентов к своим пациентам и их родителям и увидел, как молодые, естественные, приятные в общении ребята превращались в директивных, всезнающих “психологов”. Нельзя было без смеха наблюдать, как девочка-студентка с косичками в категорических выражениях, не терпящим возражения тоном, учила жизни зрелых людей. Беседы студентов с теми, кто “изучал психологию” в тюрьмах, напоминали мне известные сказки – “Про Красную Шапочку” или “Волк и семеро козлят”. Я знаю много случаев, когда такая психотерапия заканчивалась плачевно для самих психологов. Мне рассказывали, как какая-нибудь студентка очень увлекалась “работой” с отсидевшим не один срок пациентом. Тот, изображая полное согласие с ее словами, на деле умело манипулировал ее поведением и со временем полностью подчинял себе, заставляя плясать под свою дудку. Иногда между психологом женского пола и матерым наркоманом возникала “любовь”, которая всегда оканчивалась полным подавлением наивной девушки. Я постоянно следил за тем, чтобы в нашем отделении такие тенденции пресекались на корню. Работая со студентами, я много понял. Для психолога, как и для врача, сумма теоретических знаний – не самоцель. Из своего опыта я хорошо помню, как молодому, только что получившему диплом врачу, хочется выглядеть и чувствовать себя всезнающим. В реальности приход в клинику – только начало обучения. Здесь, на практике, маленькими шагами усваивается опыт, и только это и есть настоящие знания. Невозможно представить себе картину, когда хирург, вместо того, чтобы делать операцию, начинает рассказывать пациенту о теориях и пересказывать книги по хирургии. В психотерапии часто происходит именно так. Но так могут вырасти только амбиции “терапевта”. Это пагубно для него самого и, безусловно, ничем не помогает пациенту. Эффективная психотерапия – это ежедневная, кропотливая, без внешних эффектов, работа самого пациента вместе с терапевтом, а не одного терапевта. Обучение психотерапевта – это не изучение партитур, а настройка инструмента. Оно возможно только в конкретной психотерапевтической ситуации, точно так же, как и хирург может стать профессионалом, лишь постоянно работая в операционной. Поэтому я стал делать наоборот: обучать на базе отделения людей, преодолевших зависимость, и только после этого рекомендовать им обучение в вузах. Все мои сегодняшние сотрудники шли 200 именно по этому пути, и я считаю их наиболее грамотными специалистами, умеющими, как никто, эффективно работать в этой области. К 1997 году центр психиатрии зависимостей превратился в настоящий городок. Уже была создана сплоченная терапевтическая команда. Более сотни пациентов вернулись к полноценной жизни. Более сорока пациентов работали в предприятии “Выбор”. Были отработаны этапы ресоциализации, создана концепция, на основе которой успешно реализовывалась программа профилактики наркомании, признанная фондом “Відродження” лучшим проектом года. Мы опубликовали десятки научных статей в отечественной и зарубежной печати. Активно работал клуб матерей бывших пациентов Центра. Мы понимали, что это не окончательный результат, а только определенный этап. Я думал: как будет дальше? Ведь я лучше всех знал, что мы вышли очень далеко за рамки наркологии. Неожиданно жизнь сама внесла свои коррективы: нам запретили продолжать работу, и я ушел из наркологии, в этот раз навсегда. Это был очень болезненный процесс, ведь было столько сделано и вложено столько труда! Казалось, все рухнуло, но, начав думать, я понял, что рухнули только мои иллюзии, а это – объективный процесс приобретения опыта. Наша структура уже вполне могла работать и в рамках общественной организации. Те сотрудники, которые остались со мной, видели смысл в работе, результат которой – живые счастливые люди, а не деньги, личная известность, амбиции. Нам всем было совершенно ясно, что научить человека жить с людьми невозможно при помощи капельниц и таблеток, помочь здесь могут только человеческие отношения в реальной жизни. Мы арендовали крыло в заводском общежитии и продолжали работать в этом направлении. Это был, как оказалось, правильный шаг, ведь только во внебольничной обстановке возможно реализовать подход, при котором мы рассматриваем человека не как больного, а как личность, имеющую проблемы и одновременно возможности их решить с нашей помощью. Наша организация была одной из первых, только зарождающихся на постсоветском пространстве, структур коммунальной или общинной психиатрии. Наша команда тогда состояла из восьми человек, в которую входили два врача, три социальных работника, психолог и технический персонал. В немедицинских условиях, без медперсонала, значительно выросли и качественно изменились требования к работе социальных работников. Если раньше эти люди, в основном, показывали пациентам пример и вселяли в них надежду, то теперь они должны были обеспечить непрерывную психотерапевтическую работу, профессионально используя свой опыт преодоления зависимости, практически проживать с пациентом этот сложный период в его жизни. Такую работу могут и должны выполнять только те люди, которые выбрали психотерапию зависимостей своей специальностью. Социальными работниками были многие люди, не все из них стали психологами, но подавляющее большинство успешно реализовали себя в разных сферах человеческой деятельности. Их опыт послужил тем фундаментом, опираясь на который вернулись к жизни десятки и сотни людей. Мы стали называть их иначе – “инструкторы-терапевты”, такое определение больше соответствует выполняемой ими работе. К тому времени общество в стране сильно изменилось, и неизбежно изменились мои пациенты. Я хорошо знал наркоманов, выросших в подворотнях, которых учила улица и уголовный мир. Им недоставало человеческого тепла, внимания и заботы. С 1995 года я стал сталкиваться с наркоманами, выросшими в семье, с детьми, которых воспитывали вполне благополучные родители. Это были совершенно разные типы людей. Когда заходила речь о ресоциализации уголовников, было понятно, что их нужно вернуть из уголовного мира в социум, то есть научить жить среди обычных людей. И было совершенно непонятно, как ресоциализировать детей, “сформировавшихся” в нормальных семьях. Разве они росли в лесу, среди волков? Нет, они воспитывались в благополучной “ячейке общества”, рядом с папой и мамой – людьми достойными, состоявшимися, много добившимися в жизни. Так почему же эти детки не научились жить, как все люди? Наблюдая своих новых пациентов, я понял, что имею дело с новым типом наркомана. Такой (как правило, еще очень молодой) человек глубоко убежден в своем превосходстве над людьми, уверен в том, что люди ему не нужны, а он им совершенно необходим, потому что 201 он наделен необыкновенными во всех отношениях достоинствами. Окружающие люди будто бы существуют только для того, чтобы удовлетворять потребности этого мальчика, а он сам милостиво позволяет им это делать. Главным для него стали его собственные желания, содержанием жизни – поиск удовольствий. Он считает себя абсолютно свободным, но это свобода от закона, от совести, от морали. Она не ограничена свободой и желаниями других людей – для наркомана их просто не существует. Такое понимание противоречит самой сущности настоящей свободы, о которой Николай Бердяев писал: “Свобода есть не претензия и не право, а бремя и обязанность. Свобода есть собранность, а не распущенность духа, свобода сурова и трудна, а не легка. Свободная жизнь есть самая трудная жизнь”. Наркомана же отличает абсолютная безответственность. Он считает себя “элитой” и с презрением говорит о работающих людях, как о “лохах”. Он не знает, что такое уважение к другим, так как никогда не чувствовал уважения к себе. Рядом с ним – друзья, которых он “покупает” за родительские деньги и о которых презрительно говорит: “Это мыши”. Деньги, вещи и зависимые от него люди необходимы для того, чтобы чувствовать свое превосходство. Без этого чувства он не может обходиться, ведь он ничего никогда не делал, и поэтому других, настоящих достижений не имеет. И в психологическом, и в социальном плане совершеннолетний человек, по сути, остается маленьким ребенком. И в реальности его чувство “превосходства” является глубоко спрятанным чувством собственного ничтожества, бегство от которого становится содержанием жизни. В условиях эпидемического распространения наркомании такой человек очень быстро приходит к наркотикам. Не удивительно, что наркотики становятся единственным и самым главным средством бегства от реальности. Ведь из всего того, чему нужно было научиться в жизни, он научился только брать. Но наука жизни – это умение отказываться и ограничивать свои желания. У многих его сверстников жизнь уже приняла эти экзамены и зачеты, а он еще не приступал к изучению предмета. Такие “наркоманы нового типа”, как правило, предпочитали не привычную “ширку”, а другие наркотики. Наркоманско-уголовный мир прошлого не мог позволить себе наркотиков, полностью лишающих разума. Зато сейчас в Украине широко распространено употребление стимуляторов и галлюциногенов – наркотиков, полностью лишающих человека способности продуктивно мыслить. Абсолютно беспомощные в жизни маменькины сынки не случайно выбирают такие наркотики, ведь именно они дают ощущение всемогущества ничтожной личности. Развитие такого человека закончилось очень давно, развивались только его амбиции и претензии. А наркотик их многократно умножил. Такая наркомания – это, безусловно, паралич мыслей и души. Мышление остановилось на ложных, губительных, иллюзорных представлениях о своем превосходстве над людьми, а душа постепенно наполняется “гнойным” содержимым в виде злобы, зависти, жестокости, агрессивности, комплекса чужой полноценности. Все это тщательно скрывается в обилии высоких слов, но всегда проявляется в поведении и свидетельствует о “воспалении” души точно так же, как боль и температура – о воспалительном процессе в организме. Душевное “нагноение” – процесс быстротекущий. Уникальная душевная структура разрушается, и если ничего не изменить – душа погибнет. После этого среди людей будет бродить бездуховное тело, принося окружающим только горе. Но и оно недолго задержится на земле. Для профессионалов всего мира эффективная работа с такими расстройствами личности – задача очень сложная. “Домашние” наркоманы оказались наиболее тяжелыми пациентами и потребовали других подходов. Как остановить процесс разрушения души молодого человека? Есть один способ – надо заставить его думать. Иначе это будет делать жизнь, но жестоко и беспощадно. Говорят, что мышление у первого человека появилось тогда, когда он был изгнан из Рая. Кто же в нашем жестоком мире захотел и сумел создать молодому человеку рай на земле, сделав его бездумным рабом своих желаний? Это родители, которые хотят его “счастья”. Получается, что нашего сегодняшнего пациента невозможно рассматривать вне социальной системы, в которую он входит. В нашем случае – семьи, которая по каким-то причинам не справилась со своей основной задачей – подготовить молодого человека к жизни среди людей. 202 Такая семья, где мама и папа абсолютно зависят от желаний своего “ребенка”, называется зависимой. С появлением в ней наркотика зависимость становится рабством. Это не значит, что родители не протестуют против наркомании. Они протестуют, но только на словах. На деле – с рабской покорностью обеспечивают великовозрастного ребенка, оплачивают его долги, освобождают от ответственности за его поступки. Для того, чтобы заставить думать нашего пациента, надо изменить его жизненную ситуацию, а это могут сделать только те, кто ее создал, то есть те же родители. И сначала приходится заставлять думать их. С этого начинается возврат нашего пациента к людям. Это путь – от раба своих желаний до их хозяина. Если этого не происходит, семья, опираясь на свои возможности, очень быстро, буквально сметая все на своем пути, ведет молодого человека к страшному неизбежному исходу. В прошлом наркоману приходилось терпеть множество трудностей, его наркотизация хоть иногда вынужденно прерывалась сроками заключения. Сегодняшний мальчик не встречает этих препятствий, и болезнь развивается молниеносно. Накопленный нами опыт работы с родителями, позволяет однозначно утверждать: настоящий результат возможен только при активном участии в реабилитационном процессе всей семьи. Новорожденный ребенок абсолютно зависит от родителей, родители для него – весь мир, они обеспечивают его потребности, от них зависит жизнь младенца. Родители тоже зависят от ребенка, ведь это самый дорогой и лучший член их семьи. Это маленькое существо неотделимо от матери, оно – предмет ее радости. Природный материнский инстинкт направляет ее действия, наполняя жизнь смыслом и любовью. В клинике детской хирургии я много раз видел, как материнская любовь в гармонии с разумом способна творить чудеса, демонстрируя примеры самопожертвования, самоотверженности, высокой духовности. Но видел и другое. Я навсегда запомнил случай, когда вся бригада дежурных хирургов уговаривала родителей четырехлетнего ребенка, доставленного с характерной клиникой острого аппендицита. Их убеждали, что ребенку необходима операция. Все разумные доводы врачей упирались в необъяснимое упрямство папы и мамы: “Не дамо різати дитину!” В конце концов, они забрали ребенка, оставив расписку. Я тогда долго не мог прийти в себя, ведь страшный прогноз был очевиден для всех, кроме родителей. Случается так и в наркомании: родители отказываются от решительных действий, боясь сделать “больно” великовозрастному чаду. В хирургии, на первый взгляд, опасность очевиднее, чем в наркомании. Но это обманчивая видимость. В наркомании ситуация, чаще всего, не менее острая, чем при гнойном аппендиците. И когда сегодня я слышу рассказ матери пациента о своей любви к нему, готовности пожертвовать всем ради сына, я вспоминаю полные боли глаза ребенка с флегмоной или остеомиелитом. Но вот появляется “страдающий беззащитный” ребенок и растет ощущение абсурдности и бессмысленности происходящего. Вслед за мамой в кабинет входит двухметровый, надменный, самодовольный, разодетый детина. У него нет в жизни никаких проблем. Он – “директор фирмы”, “преуспевающий бизнесмен”. Нетрудно заметить, что его отношение к матери – отношение господина к своей рабыне. После двух-трех вопросов, он тоном повелителя приказывает ей: “Пошли отсюда!” И она, прошептав “извините”, покорно исполняет его приказ. Когда эти порядочные, образованные, привлекательные женщины рассказывают о своих бедах, я хорошо понимаю, что они чувствуют себя глубоко несчастными, ведь, кроме этого “ребенка”, она не видит в жизни никаких радостей. Она говорит: “У меня нет своей жизни, есть только его жизнь. Его радость – моя радость. Его невозможно не любить, он такой нежный и ласковый!” Мальчик тоже часто говорит о любви к матери, но любовь его такая, какой он сам – мелкая и корыстная. Она быстро заканчивается, если он, по каким-либо причинам, не получает то, чего требует. Но получает он все и всегда, потому что иначе мать начинает чувствовать свою ненужность. Ей легче давать ему то, что он требует, чем переживать одиночество и пустоту. Его отношение нужно все время покупать, а если ему отказать в чем-либо, он может обидеться! Чем дальше в лес – тем больше дров, и запросы чада бесконечно растут. Очень трудно и дорого искусственно поддерживать его беспомощность и ограждать от реальности. Чаще всего это делает папа. По складу ума он не может не понимать всю губительность ситуации. 203 Но его попытки что-то изменить тут же вызывают упреки жены в жестокости и бессердечии. Конечно, он не стал бы терпеть абсолютный эгоизм, иждивенчество великовозрастного чада. Он знает, что надо делать. Но мать говорит: “Как ты можешь, это же больной ребенок!” И отец устраняется, заявляя: “Ты его таким воспитала, ты и занимайся дальше!” Я помню, как на одном из родительских занятий папа-профессор с гордостью заявил, что застрелит первого встречного наркоторговца и потом готов идти под суд. Но на замечание терапевта о том, что в начале неплохо бы перестать выполнять нелепые притязания сына, этот мужчина опускал глаза и кивал в сторону жены. Другой папа, буквально вжимавшийся в кресло под взглядом своей “лучшей половины”, советовал одному из отцов побить свою супругу. Изменить свою роль в собственной семье, свои собственные отношения с женой он не мог. Как часто никто из участников трагедии не может изменить свою роль! А если и делаются такие попытки, они тут же пресекаются сакраментальным: “Ребенок обидится!” С точки зрения разума это понять очень трудно, но наркомания становится бессознательным способом решения личностных проблем всех членов семьи. Наверное, природа не очень доверяет нашему сознанию, и в тех случаях, когда сознание не справляется с проблемой, приходит подсознательное решение. Но это решение всегда эгоистично, оно лишь подсказывает, как выжить. Альтруистическое, направленное на пользу другого человека решение можно принять только сознательно. Выход из этой ситуации существует, но он не может быть комфортным, легким и приятным. Если именно в семье причина наркомании, именно в ней находится и лекарство! Как только вместо “мамы” с “папой”, которые по жизни “должны” своему ребенку и бесконечно перед ним виноваты, появятся просто Мужчина и Женщина, которые будут вести себя с ребенком так же, как и все люди – не только давать, но и требовать, не только позволять, но и спрашивать – ситуация тут же изменится. Шанс спасти своего сына или дочь заключается в осознании своей роли, в разумных, последовательных действиях ради спасения ребенка. Другими словами, поведение нашего пациента невозможно понять и, тем более, изменить, если рассматривать его в отрыве от семьи, то есть социальной системы, в которую он входит. Так я пришел к теории систем, то есть к тому, что проблема наркомании, как и многие другие проблемы, является отражением проблем, имеющихся на уровне семейной системы. Заболевание – отражение неполадок в этой системе. Такой взгляд не только не противоречил моему психотерапевтическому опыту, но, наоборот, позволял творчески переосмыслить его. Если раньше я искал ресурсы внутри самой личности, новое видение требовало воздействия на всю систему, в нашем случае – семью. Появилась возможность объяснения механизмов наркотизации, существующих патологий, и она давала новые возможности для психотерапии. Расстройство личности, практически сделавшее невозможным его полноценную жизнь среди людей, появилось не вместе с наркотиком. Оно формировалось годами и является результатом нарушенных отношений в семье. Такая личность в наших условиях закономерно приходит к наркомании. Наш “семейный” наркоман – порождение разобщенности родителей, дитя недосказанности, лжи, неосознанности, взаимных обид и обвинений в отношениях папы и мамы. Он идеально приспособлен к жизни в такой атмосфере. Только в такой среде он может существовать, разделяя и властвуя. Только к таким отношениям с людьми он подготовлен. Но природа неумолима, она не знает жалости, и незнание ее законов никогда не освобождает от ответственности за их нарушение. Человек, который почему-то решил, что он выше закона всемирного тяготения и поэтому может летать, обязательно расшибет лоб. Законы человеческой природы изменить нельзя, им надо подчиняться. Но молодой человек неосознанно выбрал наркоманию, и природа тут же вынесла приговор. Можно сколько угодно требовать от людей “любви” к наркоману, но никакие гуманисты не могут изменить человеческую природу, потребовать от нее любви и бережного отношения к бессовестному, бесполезному и безответственному существу, лишенному уважения к себе и другим, сознания ценности своей и чужой жизни. При этом неважно, как называются наркоманы – “активные” или “пассивные”. Как ни называй зло, оно останется злом. Здесь снова уместно вспомнить Бердяева: “Человек остается безоружен перед лицом зла, когда он его не видит. Личность выковывается в различении добра и зла, в установлении границ зла”. Определения “активных” 204 и “пассивных” наркоманов придумали люди. Но человеческие слова порой не имеют никакого отношения к действительности. Они не могут воздействовать на природу и изменять ее. К счастью, сам человек может измениться, ведь он рожден жить среди людей, в самой его природе заложены огромные возможности, опыт многих тысяч предков. Помочь направить его развитие по естественному пути должны люди, и в первую очередь – близкие. Тогда из ошибки природы он станет полноценным ее представителем. Я видел сотни хвастливых, богатых, “авторитетных” наркоманов, которые пытались обмануть природу. Сейчас они – на кладбищах, в лучших случаях – в тюрьмах. Только немногие из них, пройдя ужасы лагерей, сумели изменить жизнь, прийти к духовным ценностям. Они пришли к Богу. Но наш молодой пациент такого пути пройти не сможет, он его не выдержит. Сначала его надо научить думать. Он может прийти к вере и духовности только после того, как научится мыслить. Он абсолютно зависим от людей, и его жизнь, без преувеличения, зависит от их отношения к нему. Вокруг каждого наркомана живет множество людей: родные, друзья, одноклассники, однокурсники, коллеги и так далее. И все те, кто осознанно или неосознанно поддерживает его патологическое поведение, получают от этого выгоду. В большинстве случаев эта выгода материальная. Для женщин весь “интерес”, “уважение” и “любовь” к его “уникальной” личности, как правило, измеряется размерами кошелька его родителей. Уберите кошелек – и в ста процентах случаев вы увидите, что останется от этой “большой человеческой любви”. Это просто. Гораздо сложнее, когда его выученная беспомощность и инфантильность становится неосознанным способом решения личностных проблем окружающих. И если мы не поможем близким научиться решать эти проблемы сознательно, ничего не изменится. Поэтому мы принимаем только те семьи, в которых родители согласны активно участвовать в реабилитационном процессе. Мы искали не самую сложную и трудную, а самую эффективную систему работы. Оказалось, что любая эффективная система реабилитации – очень сложная и тяжелая работа. А человек всегда старается найти самый легкий путь. И этот “спрос” стараются удовлетворить недобросовестные “специалисты”: многочисленная реклама обещает “гарантированный стопроцентный результат” без малейших усилий со стороны самих пациентов. Надо только “верить”, “любить” и “платить”. Когда читаю такое объявление в газете, я прекрасно представляю себе, что будет с людьми, которые поверят, что какой бы то ни было результат можно получить без усилий. И об этом сказано в Библии: “Широк путь, ведущий к погибели”. Мы стараемся вести наших пациентов “узкой тропой спасения”. Здесь есть один очень важный момент. Человек, задавшийся целью помочь другому человеку, должен опираться на определенный морально-этический кодекс. Хотя мы далеко ушли от медицинской модели лечения наркомании, я считаю необходимым сказать, что от медицины в реабилитационной работе должны остаться те морально-этические нормы, без которых медицина не является медициной. Многие люди, работающие в области наркологии, поступают прямо наоборот. Они упорно цепляются за медицинскую модель мышления, полностью отказавшись от тех морально-этических принципов, без которых медицина не может существовать. Если бы эти люди акцентировали свое внимание на общечеловеческих нормах, правилах и совести, они бы гораздо больше преуспели. Есть много примеров, когда человек, не обладающий медицинскими знаниями, а являющийся носителем определенных морально-этических норм – священник – достигает результатов, которых не могут достигнуть врачи. Секрет в том, что этот священник не декларирует высокие принципы, а действительно живет по законам совести. Только такой человек может пробудить совесть у наркозависимого пациента, другому человеку наркоман просто не поверит. Реабилитация – это процесс обучения молодого человека жизни среди людей. Это не столько лечение, сколько воспитание. И в этой работе, в первую очередь, мы рассчитываем на отцовский “мужской” ум, опыт, решительность. Не раз и не два я видел сильных, уверенных, состоявшихся в жизни мужчин, которые, скрывая слезы, говорили мне: “Для чего я жил, как я мог воспитать такого сына? Ведь эта тварь даже не подаст стакан воды!” Такие высказывания характерны: именно мужчина, как правило, видит ситуацию в более реальном свете. И чаще всего, именно его вмешательство в ситуацию бывает определяющим. Мы всегда 205 стараемся помочь матери осознать и почувствовать, что она не одна в своем горе, что рядом с ней умный и здравый мужчина, на которого она может опереться. Мы строим свою работу так, что действия специалистов и семьи объединяются. Помочь пациенту “в отрыве” от родителей вообще практически невозможно, и дело здесь – в глубинных процессах, происходящих в психике зависимого человека. Рождение ребенка – всегда результат отношений мужчины и женщины. Формирование личности – тоже результат отношений мужчины и женщины, которые с появлением ребенка становятся отцом и матерью. Бессознательные образы Отца и Матери – неотъемлемые и важнейшие составляющие психики новорожденного, они так же необходимы, как способность дышать и принимать пищу. В человеке все устроено функционально: если есть легкие, значит, он должен вдыхать кислород, если есть система пищеварения, значит, он должен питаться, и так далее. И если у человека есть психика – в ней обязательно заложены эти бессознательные образы Отца и Матери. Это – общее для всех людей, так же, как строение скелета. В психике человека эти образы взаимодействуют между собой. У новорожденного они – бессознательные. Тем не менее, его “Я” развивается в непрерывном единстве с этими образами. Постепенно неосознанные образы заменяются реальными людьми – папой и мамой. Если ребенок растет вместе с отцом и матерью, их взаимоотношения влияют на взаимодействия внутренних образов Отца и Матери. Более того, чтобы внутренние образы развивались, ребенку необходимо наблюдать развивающиеся отношения реальных людей. Сам процесс развития психики ребенка начинается с общения с этими реальными людьми. Поэтому развитие его психики прямо зависит от характера отношений между родителями. Только искренние человеческие отношения между ними обеспечивают гармоничное развитие психики ребенка. Если отношения отца и матери не развиваются или носят неосознанный характер, ребенок “застревает” в детстве, большая часть его души не развивается. И поскольку на фундаменте отношений с родителями ребенок строит отношения с миром, его инфантилизм распространяется на взаимодействие с другими людьми. Незрелая психика всегда требует присутствия реального родителя. Поэтому суть реабилитационного процесса – в активном участии родителей. Без их участия он просто невозможен. Никакая эффективная психотерапия незрелой, зависимой личности невозможна, если игнорировать глубинные бессознательные процессы в душе пациента. Врач обязан понимать, какие мощные природные силы он затрагивает, кем он является для пациента. Пациент, по сути, переносит на врача свои бессознательные чувства к родителям. Поэтому, пока его отец учится на моем примере общению с собственным сыном, я должен быть для последнего не абстрактной фигурой – “врачом”, “терапевтом”, “психологом”, а максимально живым и реальным – конкретным человеком со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами. Это очень большая ответственность. Открывающиеся огромные возможности могут и должны быть использованы только на пользу пациенту, иначе это, безусловно, губительно для всех участников процесса. Психотерапия – это терапия души, но это и терапия душой. Она может быть разной, но не может быть неосознанной, корыстной, бездушной, непрофессиональной. Настоящая терапия всегда ведет к людям, а не от них. Одновременно с этим, профессиональная психотерапия не может быть бесплатной. Терапевту платят не за душу, а за отданное время и квалификацию. Работа в области терапии зависимости и наркозависимости не может быть разделена на терапию для VIP-персон, чиновников, начальников, должностных лиц и прочих пациентов. Терапия возможна только в отношении человека. Она бывает только эффективной или нет. Эффективная работа всегда профессиональная. Существуют программы, где зависимые люди помогают друг другу. Они, безусловно, нужны, но как дополнение к профессиональным программам. Ведь даже сотни пациентов с острым аппендицитом не заменят друг другу хирурга. Я, в свое время, был одним из первых специалистов в СНГ, которые начали использовать в психотерапии опыт людей, преодолевших зависимость. Я знаю, как это сложно и для психотерапевта, и для самих бывших наркоманов. Далеко не каждый из них способен, даже с помощью профессионала, участвовать в этом процессе. И меня беспокоит, что сейчас эта работа отдается на откуп бывшим наркоманам, которые сами 206 еще не до конца научились жить среди людей. При этом они получают право учить жизни других. И это не идет на пользу никому из участников “реабилитационного” процесса. Наше терапевтическое сообщество называется “Выбор”. Это не означает выбор здорового образа жизни. Наркомания – вообще не способ жизни, это способ самоубийства. Название “Выбор” полностью соответствует задачам и содержанию нашей работы. Мы имеем в виду сознательный выбор пациента. Невротический симптом тоже выбор, но выбор неосознанный. При этом сознание даже не знает, какую важную проблему личности решает его психика, по сути, без его участия. Убрать симптом – не значит решить проблему. Понастоящему ее можно решить только усилиями сознания. Симптом исчезает только тогда, когда становится не нужен. А это происходит, когда человек осознает свою проблему и решает ее на уровне поведения сознательно и разумно. Допустим, в процессе психотерапевтической работы пациент, неосознанно выбравший алкоголь как способ решения своих проблем, говорит: “Спасибо Вам, доктор, вместе с Вами я о многом подумал, я понимаю свою проблему, но все-таки считаю алкоголь для себя лучшим из возможных способов ее решения. Я говорю это сознательно, ответственно, то есть, согласен принять неизбежные последствия своего выбора”. Если это произошло, то я свою работу закончил. Я не могу и не должен делать выбор за человека, иначе я покушаюсь на его свободу. Я обязан помочь человеку как можно более четко осознать, в чем состоит его выбор. Осознанная возможность выбора и есть свобода. Выбор предполагает абсолютную ответственность. Ответственность не означает вину или наказание. Это значит, что я сознательно выбрал такое поведение, а значит – выбрал его последствия и готов это принять. Развитие личности – это развитие способности делать выбор, отказываться от одних ценностей, выбирая другие. Так формируется личность, вырабатывается жизненная позиция. В принципе – это общеизвестные вещи. Если только говорить об этом, можно казаться себе и окружающим очень значительным, но это ничего не даст пациенту. Надо помочь ему научиться это делать, а это и есть самое сложное. Наш пациент слово “выбор” абсолютно отождествляет со словом “взять”. В реальности же – выбрать одну возможность из двух – значит отказаться от одной из них. Тем более – выбрать одну из тысячи. Нашими пациентами становятся те люди, которые никогда ничего не выбирали, потому что не научились отказываться ни от одного своего “хочу”. В любой цивилизованной стране мира человек, выбравший наркотики, отказывается от очень и очень многого. Наш пациент, безусловно, имеет право сознательно выбрать наркотики, но тогда он должен отказаться от многих человеческих благ. Способен ли он сознательно отказаться от всех жизненных перспектив? Чтобы выяснить это, надо поставить его перед таким выбором. А наша задача – научить его выбирать, то есть думать и отказываться. Это минимум, который позволит ему жить среди людей, а значит – и вообще жить. Это позже он научится “отдавать”, а потом, возможно, захочет этого. Если это произойдет, значит, он состоится как человек, и наркотики станут не нужны, как любые суррогаты, когда появляются натуральные продукты. А пока он должен приложить большие усилия, ведь, говоря образно, дорога из зловонного, заполненного человеческими отбросами ущелья, которое называется наркоманией, идет вверх по отвесным скалам, другой, более легкой дороги оттуда нет. Можно сколько угодно весело шагать по дну туда и обратно, но к людям так дойти нельзя. Мы можем и должны показать дорогу, помочь ее пройти, уважать и поддерживать человека, преодолевающего препятствия. Но пройти этот путь может только сам человек. Как часто нам говорят, что какой-нибудь двадцатилетний парень – больной и не способен к напряжению. Но человек всегда больше, чем его диагноз. Мы все знаем, что глубокие инвалиды с точки зрения медицины иногда демонстрируют величие человеческого духа, достигая вершин в спортивной борьбе или творчестве. Как складывается жизнь человека, зависит от его жизненной позиции, жизнь вообще не измеряется диагнозами. Мы рассматриваем современную наркоманию, в первую очередь, как иждивенческую позицию, а, непосредственно, наркотизацию – как ее проявление. Свою задачу мы видим в том, чтобы, вместе с семьей, помочь молодому человеку стать нужным людям, изменить образ жизни и жизненные принципы. Обычно нам задают вопрос: “Какие у вас гарантии?” Какие гарантии можно давать вообще? Можно ли гарантировать, что ребенок, поступающий в спортивную 207 школу, обязательно станет чемпионом? Я не знаю, чего добьется в жизни человек, преодолевающий зависимость, но мой опыт позволяет уверенно прогнозировать и гарантировать то, что будет, если он останется зависимым. Хирург обычно не говорит об исходе операции, но точно знает что будет, если к животу больного острым аппендицитом прикладывать грелку. Любой врач может гарантировать только свою квалификацию и еще то, что он сделает все, что от него зависит. Но люди упорно ищут гарантии, тогда как гарантия результата и сам результат – далеко не одно и то же. Гарантии – это слова, а получение результата предполагает приложение собственных усилий. Обычно наши “гарантированные чудо-методы” у профессионалов всего мира вызывают ироническую улыбку. Они говорят: “И у нас существует терапия верой, но это делает священник в каждом квартале. У нас за это не будут платить”. Когда мы ушли из наркологии, начался совершенно новый этап нашей деятельности. Во внебольничной обстановке удалось максимально реализовать наш метод работы с наркозависимыми людьми. Каждый наш пациент с удивлением обнаруживал, что здесь его воспринимают не как больного, а как запутавшегося в своих проблемах человека, что его никто не собирается “лечить”, а свои проблемы он должен учиться решать сам, и ответственность за его поведение лежит только на нем. Небольшое помещение, рассчитанное на ограниченное количество пациентов, дает, как оказалось, большие преимущества. Поведение молодого человека, его мысли и чувства абсолютно понятны для всех окружающих. Находясь в постоянном контакте с другими пациентами, с врачами и инструкторами-терапевтами, он начинает задумываться о мыслях, чувствах и переживаниях других людей. Именно у нас, в “отражениях”, реакциях других людей, он начинает видеть не придуманного, не воображаемого, а настоящего себя. У пациента появляется возможность увидеть свое истинное лицо, почувствовать фальшь и карикатурность созданного собственным воображением образа. В то же время, общаясь с людьми, он начинает открывать в себе человеческие черты и постепенно приходит к осознанию, что глубоко спрятавшиеся человеческие качества, то немногое настоящее, что в нем сохранилось, пусть в неразвитом виде, красивее любого придуманного образа. Пациенту не только помогают понять, что он способен стать настоящим собой, но создают для этого условия, поддерживают его на этом пути. Так у молодого человека создается мотивация для изменений, он начинает работать над собой, заниматься спортом, искать возможности и пути решения своих проблем. Он начинает прилагать собственные усилия для выздоровления. Лучше всего такая терапия получается в маленьком коллективе, где с несколькими пациентами работают несколько сотрудников. В такой системе у меня появилась возможность полностью сосредоточиться на психотерапевтическом процессе, где материалом для ежедневных групп становятся многочисленные скрытые или явные конфликты, которые неизбежно возникают у зависимой личности при столкновении с реальностью. Мы опирались на опыт людей, преодолевших зависимость, и их родителей. К тому времени родителей, сумевших изменить свое поведение, стало много, и появилась возможность использования их опыта. Я понял, что сегодня это – главное, и моя роль состоит в том, чтобы в максимальной степени создать условия, при которых этот опыт будет усваиваться. Мы активно развивали все направления нашей деятельности: работал клуб матерей, продолжались выезды в учебные заведения с целью профилактики наркомании. Понемногу становилось понятно, что общественные организации родителей – важнейшее условие эффективности нашей работы. Ведь так называемый “стационарный этап” реабилитации ни в коей мере не завершает и не исчерпывает этот процесс. Этот этап заканчивается установлением человеческих отношений в семье, и, в среднем, длится два месяца, а это только необходимое условие для перенесения полученных навыков в реальную жизнь. Ведь реабилитация – это процесс возвращения в общество и здесь позиция людей является решающей. Другими словами – семья должна опираться на опыт других семей, которые составляют, пусть маленькую, но часть общества. Именно в объединении семей, преодолевших зависимость, и организации их работы я видел дальнейшее развитие нашего подхода. Здесь, по моему мнению, были заложены большие возможности, но были и очень большие сложности. Только в единичных случаях нам удавалось привлечь к активному 208 сотрудничеству отцов, без сомнения, главных “фигурантов” реабилитационного процесса. Кроме этого, у нас не было возможности создания рабочих мест. Шел 1999 год. В это время к нам часто стали обращаться пациенты из Полтавы. Это были разные люди. Но их отличало то, что судьбы детей были для них, действительно, важнее всего. Это проявлялось не в словах. Три раза в неделю, несмотря на свою занятость (а это были, в основном, руководители различных рангов), они приезжали на групповые занятия из Полтавы. Это резко контрастировало с отношением родителей, с которым мы часто сталкивались в Днепропетровске. Нередко мы слышали от отцов и матерей, что они не имеют возможности участвовать в реабилитационном процессе из-за крайней занятости. В таких случаях мы всегда советовали доделать более важные дела, а потом заниматься будущим своих детей. Позиция полтавчан вызвала огромное уважение, ведь именно для таких людей мы работаем. Неудивительно, что все они впоследствии получили результаты. Среди полтавских ребят были такие, которые захотели сделать психотерапию зависимостей своей специальностью, и после активного курса реабилитации они остались у нас на стажировке. В это же время мы пытались обучать нашим методикам полтавских врачейнаркологов, но это не привело ни к каким результатам. Обучение психотерапии зависимостей – сложный длительный процесс, требующий большого напряжения сил, а не тщательного конспектирования материала. Но желание полтавчан создать эффективно работающий реабилитационный центр было сильным. Они нашли и оборудовали помещение. Я начал все чаще и чаще приезжать в Полтаву, иногда вместе со специалистами и пациентами. Картины, которые я видел в Полтаве, при всем их трагизме не могли не вызывать улыбки. Представьте себе явно не богатую, задавленную горем, вынужденную ежедневно платить “страдающему” неработающему “ребенку” мать и рядом – надменное двухметровое чадо. На вопрос: “Почему ты не работаешь?” – он гордо отвечает: “Де ж ви бачили, щоб наркомани робили?!” И заносчиво объясняет мне: “Це ж біохімія мозку, треба ж розуміти!” Я смотрю на него и вспоминаю гениальную повесть Булгакова и Шарикова, без конца повторяющего: “Абыр, абыр, абыр-валг”. Но если Шариков просто озвучивал перекрученную задом наперед увиденную надпись, сидящий напротив меня юнец повторяет то, чему научили его “умные” врачи. Потом я вижу в своем кабинете сельскую даму, с гордостью заявляющую: “Я сидю на героїні”. Потом – восемнадцатилетнего полтавчанина, не знающего, кто такой Гоголь, и кто с кем сражался в Полтавской битве. Он убежден в том, что Шекспир – это художник, а Карл Маркс “сидить у парламенті, но гроші в нього, кажуть, що є”. Зато он выучил много заковыристых иностранных слов и медицинских терминов и ежедневно получает от мамы больше, чем врач зарабатывает за месяц. Я понимаю, что между полтавчанином Колей, с трудом и напряжением заканчивающим фразу, и бойким, многословным, к месту и не к месту цитирующим Пауло Коэльо днепропетровчанином Вадиком разница только в обертке. Это одно и то же явление. Помните, доктор Борменталь восторженно заявляет: “Профессор, Шариков разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность!” И профессор Преображенский скептически отвечает: “Вы думаете?” Постепенно я стал приезжать в Полтаву все чаще и чаще. Я видел, как, “инициативой снизу”, зарождается Полтавское терапевтическое сообщество “Выбор”. Днепропетровский опыт в полтавской среде стал развиваться очень быстро. Появилась работоспособная команда, первые убедительные результаты, росло число семей, преодолевших зависимость. Отцы и матери выздоровевших пациентов организовали Полтавский родительский комитет. Особенно активно работали отцы – зрелые, уважаемые, многого добившиеся в жизни люди. Родители были рядом с детьми повсюду – на футбольной площадке, во время профилактической работы, на праздновании дней рождения, на субботниках. Без этих людей никакие мои усилия не привели бы к таким результатам. Несколько лет назад один из родителей – мастер спорта по тяжелой атлетике, призер Чемпионата Европы среди ветеранов подарил Центру “Выбор” штангу и организовал первые тренировки. Этот сильный, мужественный, добрый человек, к большому сожалению, безвременно ушедший, оставил о себе светлую, добрую память. И внес огромный вклад в развитие нашего Центра. Сейчас тяжелоатлетический клуб, без преувеличения, – одно из важнейших звеньев в цепи реабилитационного процесса. Даже многим специалистам кажется 209 неправдоподобным, что наркоманы могут заниматься тяжелой атлетикой, ведь систематический подъем тяжестей и наркомания – понятия диаметрально противоположные. Но если для кого-то штанга – это только килограммы металла, то для человека, который почувствовал вкус к жизни, – это постоянно увеличивающийся вес уважения к себе, веры в свои возможности, радости достижения цели. Ведь все это ему по-человечески необходимо, и именно это он неосознанно искал в мире наркотиков. У нас часто спрашивают: “Как вы заставляете пациентов поднимать штангу?” Но мы никого не заставляем. Наоборот, чтобы тебя допустили к штанге, – это еще надо заслужить. Инструкторы по тяжелой атлетике, в прошлом – такие же пациенты, объясняют новичкам, что их обязанность – не только упражняться со снарядом, но и страховать других ребят, а это – большая ответственность, ведь от страховки зависит безопасность людей. Прежде, чем пациент впервые войдет в спортзал, он должен заслужить доверие ребят. Когда человек, вместо валяния в постели, начинает ежедневно бегать кроссы, когда он начинает искренне стараться изменить свою жизнь, это не остается незамеченным. И ребята сами приглашают его в клуб. Почему мы уделяем такое внимание спорту? Потому, что все наши пациенты еще недавно были рабами своего тела, послушно выполняющими его команды. Они не умели контролировать себя, зато стремились постоянно контролировать других людей. Спорт, и штанга – в первую очередь, дает возможность полной перестройки: человек начинает контролировать свое тело, свои мышцы, а потом – мысли и поведение. Любая реабилитация апеллирует к личности и предполагает ее систематический труд. Врач, наложивший гипс при переломе конечности, оставляет пациента пассивным только до момента образования костной мозоли на месте перелома. Потом начинается процесс реабилитации, то есть восстановления функций. Перед человеком стоит выбор – прилагать усилия, терпеть боль, чтобы вновь научиться ходить, или всю жизнь пользоваться костылем, уважать или жалеть себя. Такой же выбор стоит перед нашим молодым пациентом и его семьей. Множество полтавчан сделали такой выбор сами и помогают делать его другим. Но каждая семья имеет право на собственный выбор и должна принять его последствия. Преодолевать наркозависимость – значит плыть против течения. Это трудно, но иначе – тебя снесет к водопаду, а это – верная гибель. Сейчас в Украине существуют различные программы самопомощи для наркоманов. Чаще всего на занятиях таких групп можно увидеть веселых (увы, без причины) праздношатающихся молодых людей. Они абсолютно нетрудоспособны, потому что считают себя тяжелобольными. Но болезнь у этих людей особая. Они сами, а не врачи, поставили себе диагноз. Медицина и общество ставятся перед фактом. И хотя именно медицина помогает наркоманам сохранять жизненную позицию иждивенца, налепливая на него ярлык “больного”, ни одна ВТЭК не даст такому “больному” группу инвалидности. Потому что речь идет об очень хитром заболевании – это не патология внутренних органов, не деформация суставов или позвоночника, это – патология души, деформация совести. Такая болезнь никогда не пройдет, пока люди согласны ее “оплачивать”. Зато она достаточно быстро “излечивается”, когда “самого больного в мире” человека ставят перед необходимостью самому зарабатывать на кусок хлеба. Давно известно, что, когда человек начинает заниматься настоящим делом вместо того, чтобы искать оправдания своей лени, его жизнь быстро налаживается. Помните профессора Преображенского: “Если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха!.. Следовательно – разруха в головах!.. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он вылупит из себя эти галлюцинации и займется делом, – разруха исчезнет сама собой”. Если, вместо работы, молодые люди посещают собрания, где бесконечно говорят о наркотиках, с гордостью повторяют: “я – наркоман” и кажутся при этом очень счастливыми, это выглядит, по меньшей мере, весьма сомнительно. Может, эти люди, успевающие “раскумариться” перед очередным собранием, и “счастливы” по-своему. Но счастливы ли их родители? Бедным отцам и матерям внушают, что в ситуации с наркозависимыми детьми ничего изменить нельзя, и всю оставшуюся жизнь нужно терпеть, жалеть и обеспечивать ребенка-наркомана. Да, безысходность тоже может объединять людей, но такие 210 “объединения” распространяют вокруг себя безнадежность. Другое дело – люди, преодолевшие зависимость. Они объединяются в организации счастливых и свободных людей, которые строят свою жизнь сознательно и всегда достигают намеченного результата. Они поддерживают друг друга и радуются успехам друг друга. Именно такие полтавские семьи создали общественную организацию “Допоможемо дітям” для того, чтобы помогать и своим, и чужим детям. Эти люди лучше других поняли, что чужого горя не бывает. Уровень развития любого общества определяется многими факторами, но больше всего – отношением к детям. В развитом обществе понимают, что отвергаемый, несчастный ребенок накапливает агрессию, которая потом обязательно выльется на других. Наркоман – всегда преступник или иждивенец. Я работал с обеими категориями, и точно знаю, что потенциально наиболее опасные для общества преступники – это сегодняшние иждивенцы. Существо, признающее только свои желания, живущее только ради получения удовольствий, начисто лишенное уважения к чужой жизни и равнодушное к чужой боли, существо, привыкшее к безнаказанности, способно на преступления, которые порой удивляют своей жестокостью даже матерых преступников. Такие молодые люди с жадностью смотрят по телевизору жестокие и кровавые сцены насилия, которые нормальному человеку смотреть просто невыносимо. Они способны получать удовольствие от мучений и унижения других только потому, что не способны поставить себя на место жертвы. Я часто слышу и читаю в газетах о совершенно жутких, кровавых и, на первый взгляд, необъяснимых преступлениях обычных домашних детей. Это преступления против здоровья и жизни людей, часто – сверстников, иногда – даже собственных родителей. И я знаю, в каких условиях формируются такие особи. Сегодня в Украине много общественных организаций, которые без устали борются “за права наркоманов”. Чаще всего это организации так называемых “пассивных наркоманов”. Эти люди как будто не понимают, что никаких прав без обязанностей не существует в принципе. Когда наркоманы заявляют о своих правах, они, по сути, говорят о том, что люди обязаны что-то для них делать. Я вспоминаю песню Высоцкого про “козла отпущения”, который решил, что может отпускать грехи другим. Меня очень тревожит ситуация, когда наркоманы навязывают обществу свои представления о жизни. Они, эти представления, всегда извращены, порочны, потому что других у наркоманов просто не бывает в силу определенной жизненной позиции. И если общество идет на поводу у наркоманов, ничего хорошего ждать не приходится. Есть разные уровни “решения проблемы”: можно добиваться бесплатной раздачи шприцев, а можно заботиться о создании условий для развития человека. Кто сегодня поможет человеку, не на словах, а на деле преодолевшему зависимость, сделать первые шаги в реальной жизни? Права таких людей и помощь им – основная задача Полтавской областной благотворительной организации “Допоможемо дітям”. Члены организации помогают молодым людям пройти курс реабилитации, организуют профилактические мероприятия, спортивные соревнования. Они помогают отказавшимся от наркотика людям получить образование и специальность, устроиться на работу. Именно они в 2003 году на свои средства начали строительство нового здания реабилитационного Центра “Выбор”. Эти люди, вместе со знанием и опытом, приобрели веру. Наверное, это главное. Не все из них ходят в церковь, никто не любит громогласно рассуждать о Боге и выпячивать свою праведность, но они – глубоко верующие люди. Их вера – в делах, поэтому она настоящая. Я знаю, что истинное христианство – тоже в делах: “Вера без дел мертва есть”. И если родители наших бывших пациентов строят новый Центр, они делают это во имя веры в возможности человека. Многие недоуменно спрашивают: что им это дает? Для меня это очевидно. Эти люди нашли смысл в такой деятельности. Он – не только в строительстве Центра, он – в любой созидательной деятельности. Человек – единственное существо на планете, которое осознает, что оно смертно. Может быть, поэтому потребность в смысле (жизни, деятельности и т.п.), как утверждают психологи, основная, то есть не сводимая к другим, потребность человека. Это значит, что потребность в смысле есть у всех людей, и ее нельзя заменить удовлетворением никакой другой потребности. Именно осмысленная жизнь, осмысленная деятельность делают человека счастливым. Ничто бессмысленное в природе не может быть 211 счастливым, здоровым и красивым. Только смысл предполагает абсолютную гармонию разума, веры и действий. Безумная вера так же разрушительна, как и бездушный холодный разум. Человек, осознает он это или нет, всегда находится в поисках смысла. Отсутствие смысла не всегда осознается, но всегда остро чувствуется. Ведь он так же необходим человеку, как кислород. Смысл жизни у каждого свой, индивидуальный. Его необходимо обрести каждому. Это возможно только в действиях – разумных и гармонирующих с устремлениями души. Я много раз встречал людей, которые постоянно говорят о Боге, а мотивы их поведения – корыстны в широком смысле этого слова. Но даже если им удается обмануть других людей, себя нельзя долго обманывать безнаказанно. Человек есть то, что он делает, и неискренние люди чувствуют себя постоянно несчастными и обделенными, потому что их вера – только безуспешная попытка компенсации пустоты своей жизни. К сожалению, ищут они не там. Чтобы удовлетворить низшие человеческие потребности (корысть в любом проявлении) – надо “взять”, присвоить что-то себе, чтобы удовлетворить высшие человеческие потребности – надо отдать, причем обязательно что-то ценное и важное для себя. Без удовлетворения простых, естественных потребностей (кислород, вода, пища) не может жить тело. Высшие потребности – это потребности души. Развитие личности человека – это процесс осознания и удовлетворения высших человеческих потребностей. Это рассуждения не философа или богослова, а практикующего врача. И я могу с полной уверенностью сказать, что длинный список медицинских диагнозов – это, по сути, название форм потери человеком смысла. Мы все знаем примеры того, каких чудес исцеления добиваются люди в процессе последовательных, разумных, наполненных верой и смыслом действий. Там, где есть неудовлетворенная потребность, всегда есть попытки компенсации. Но ни деньги, ни власть, ни высокое положение в обществе, ни, тем более, наркотики не могут быть для человека подлинным смыслом. Это только его иллюзия. Я много раз слышал в своем кабинете откровения богатых людей о пустоте и бессмысленности их жизни. Но осознание этого приходит с возрастом. Наверное, это хорошо понимали меценаты, которые строили для людей картинные галереи и больницы. Наркомания – это крайняя степень утери человеком смысла своего существования, и одновременно отчаянная попытка его найти. Ведь наркотик на короткий период дает иллюзию собственной значимости, смысла и счастья, но взамен всегда забирает душу. Молодой человек идет не за наркотиком, он идет к людям. Все виды зависимого поведения в своей основе имеют дефицит человеческих отношений, а наркомания – самый трагичный из этих видов. В самый сложный период своей жизни, когда молодого человека мучают вопросы: “Кто я?”, “Чего я стою?”, он попадает к наркоманам, и ему кажется, что он наконец-то нашел тех людей, которые его ценят и уважают. Принадлежность к этим людям поднимает его в собственных глазах. Неудивительно, что их ценности становятся его ценностями, что теряется страх перед наркотиком. Наивный, доверчивый подросток не способен понять свое истинное положение в мире наркоманов, мире, где нет любви и дружбы, есть только корысть. Позже это осознание обязательно придет, и обязательно станет трагедией. Любой подросток болезненно переживает период выяснения своих отношений с миром людей: кто я – ничтожество, посредственность или элита? Эти вопросы вечные. Разве не об этом думал Раскольников, когда брал в руки топор? Если сегодня общество, то есть родители, не найдут времени подумать о своих детях, своем будущем, не передадут им свои знания, опыт, чувство ответственности, совестливое, разумное отношение к жизни, то другие люди, которые не пожалеют сил ради своего обогащения, обеспечат их детей наркотиками, шприцами и папиросами с анашой. И, может быть даже, что они торжественно вручат эти атрибуты “гуманного отношения к наркоманам” вашим сыновьям и дочерям под ваши же собственные аплодисменты. Я работаю врачом тридцать лет. Далеко позади осталась наивная и амбициозная юношеская уверенность в том, что мои медицинские знания и умения – с помощью скальпеля, таблеток или слов – могут сами по себе сделать человека лучше. Мне сейчас понятно, о чем говорили мои учителя в хирургии, когда объясняли мне, что часто настоящая квалификация проявляется в том, что хирург может разобраться, где операция необходима и где – не нужна. 212 Болезнь – это всегда нарушение естественного природного процесса, и любые наши вмешательства становятся терапией только тогда и только в той мере, в какой мы способствуем восстановлению этих процессов. Неужели нельзя было понять это раньше? Мне понадобилось много лет проработать врачом и набить множество шишек, чтобы начать над этим думать. Моя конструктивная деятельность в области психотерапии наркозависимости началась только тогда, когда удалось выйти за пределы оценочных суждений. Только тогда, когда мы перестаем думать о чем-то, что это только плохо, у нас появляется возможность понять, что это. Конечно, плохое при этом не перестает оставаться таковым по сути, но, избавившись от оценочности, получаешь возможность что-то изменить. Ведь если болезненные проявления говорят о неосознанной попытке компенсации чего-либо, надо попробовать помочь человеку осознанно найти возможность реализовать свои потребности, чтобы нужда в компенсации просто отпала. И здесь становится решающей позиция окружающих людей. Наркомания – всегда катастрофа для личности и социальной системы, точно так же, как симптомы перитонита – свидетельство катастрофы в брюшной полости, которая требует немедленного оперативного вмешательства. Проблему наркомании невозможно решить количеством законов и запретов. Древние китайцы говорили: “Чем больше законов – тем больше воров”. Наркомания – чудовищное отступление от того нравственного закона, о котором говорил Кант, и который вечен так же, как и звездное небо над нами. Все жизнеспособное на земле имеет глубокие корни. Только человеческие амбиции растут из пустоты и никчемности. Чтобы личность, семья или целая нация росла и развивалась, надо заботиться об их корнях, их духовной основе. Чтобы растение выросло крепким и здоровым, у него должны быть крепкие корни. Так же и с людьми. Когда народ отрывают от корней, когда родная культура подавляется чуждыми национальному менталитету, чаще – западными стереотипами, тогда общество порабощает наркомания. Сегодня я понимаю, что никакие эффективные реабилитационные, профилактические и обучающие, антинаркоманийные программы не могут быть реализованы без сознательной поддержки общества. Наркоманов считают отбросами общества. Наверное, это так, но по отбросам судят о самом обществе. Посмотрите, что семья выбрасывает на помойку, и вы поймете, как она живет. Посмотрите, каких людей выбрасывает общество, это характеризует в первую очередь само общество. Так тень повторяет очертания того, что ее отбрасывает. Я не знаю, какой выбор сделает украинское общество в отношении наркотиков, но он должен быть сознательным. Такой выбор стал возможен для сотен днепропетровцев и полтавчан, а значит, он возможен для всей Украины в целом. Люди, преодолевшие зависимость в своих семьях, объединяются во “Всеукраїнський батьківський комітет боротьби з наркотиками”. Это – объективный процесс, происходящий независимо от чьих-то желаний. Эти люди точно знают дорогу, ведь они сами ее прошли, они могут и хотят показать ее другим. Я знаю, что это возможно для сотен людей, и верю в то, что это возможно для всей Украины. Каждый год ко мне на день рождения приезжает много людей. Это мои бывшие пациенты, а ныне – счастливые отцы и матери, мужья и жены, дети и внуки. Их счастливая свободная жизнь придает смысл и моей жизни. Я думаю, что только существование таких людей, а не степени, награды и должности, определяют ценность работы врача. Сегодня я знаю, что, если бы когда-то я свернул со своей непроторенной дороги, возможно, я имел бы гораздо больше денег. Но я никогда не пережил бы того, что переживаю в эти минуты. Значит, я – счастливый человек, несмотря на все неизбежные при таком выборе жизненные потери. 213 ПОСЛЕСЛОВИЕ Надеюсь, рассказы моих героев убедительно свидетельствуют, что преодолеть наркоманию можно. Но прежде, чем попрощаться с читателем, мне хотелось бы сказать еще несколько слов. Мы лишь мельком коснулись в нашей книге таких наболевших проблем, как несовершенное законодательство, недобросовестность некоторых представителей медицины и правоохранительных органов, преступное бездействие властей. Почему, зная наперечет всех торговцев наркотиками в каждом районе, силовики еще не упрятали их за решетку? Почему официальная наркология, давно осведомленная об опыте психотерапевтического лечения наркомании, упорствует в приверженности медикаментозному методу? Почему врачи стараются убедить и пациентов, и, возможно, самих себя, что зависимые люди – “больные”, которые “не могут” обходиться без наркотиков? Почему чиновники, стоящие у руля государства, всеми силами стремятся протащить в страну метадон – тяжелый наркотик, смертность от которого значительно превышает смертность от героина или морфия? Умный читатель сам найдет ответы на эти вопросы. Однако есть вещи, которые будет не лишним узнать людям, мало знакомым с проблемой. Приверженцы метадоновой программы утверждают, что раздача наркотиков в форме таблеток или сиропа сократит численность инъекционных наркоманов и, таким образом, остановит распространение СПИДа. Так ли это на самом деле? Все, что я знаю о наркомании, убеждает меня в том, что наркоман, который выпивает метадоновую таблетку в специально отведенном месте и отказывается от “ширки”, героина или “винта”, предложенного в подворотне, существует лишь в воображении недоученных или не совсем честных наркологов. Наркоманы не ищут безопасных способов принимать наркотики, они ищут самых сильных ощущений и всегда отдадут предпочтение тому химическому веществу, которое дает наиболее яркое переживание эйфории. Если бы наркоманы были способны думать о чьей бы то ни было безопасности, они давно бросили бы колоться. Увы, пока этого не произошло. Пусть действия сторонников введения заместительной терапии остаются на их совести: цель этой книги – не разоблачения, а формирование адекватного отношения к наркомании. Это не медицинская, а социальная проблема. Двадцатилетний опыт работы системы наркологии наглядно продемонстрировал ее несостоятельность в борьбе с наркоманией, хотя ради решения этой проблемы наркологическая служба и была создана. Примечательно, что там, где оказалась бессильна медикаментозная медицина, достигла успехов в решении проблемы Православная Церковь. Христианская религия рассматривает наркозависимость не как телесную, а как духовную болезнь, ибо всякий грех – болезнь души, отступление от истинной природы человека. А лечение духовных недугов предполагает работу с сознанием больного. В Москве уже создано несколько православных реабилитационных центров, где наркоманы избавляются от своей пагубной страсти. Священники помогают своим подопечным осознать всю глубину нравственного падения, приводят их к раскаянию и изменению образа жизни. Их опыт, как и опыт героев нашей книги, свидетельствует о том, что только так и побеждается наркомания. К счастью, теперь у граждан нашей страны есть выбор, и они сами имеют право решать, к кому обращаться за помощью, каким методам отдавать предпочтение. Единственное, что нужно для принятия правильного решения – правдивая информация. Ради нее мы и написали эту книгу. 214 Содержание Стор. “МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ В УКРАИНЕ”. Сергей Тигипко 3 “ЭТА КНИГА ДАЕТ НАДЕЖДУ”. Игорь Куценок 7 ОТ АВТОРА 10 КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КНИГА 12 “НИКТО НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ТАКОЕ ВОЗМОЖНО”. История Виктора 25 “НЕТ СМЫСЛА ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ”. История Вадима 42 “Я НАШЛА ТЕПЛО, ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ”. История Карины 54 “НЕТ НАРКОМАНА, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ БРОСИТЬ НАРКОТИКИ”. История Кирилла 58 “ВСЕ БЕДЫ – ОТ ПРАЗДНОСТИ”. История Сергея 66 “Я ХОДИЛА, КАК ЗОМБИ”. История Татьяны 72 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ, ПОСТАРАЙСЯ ПОПАСТЬ В ЦЕНТР…” История Ирины 79 “ПУТЬ, ПОЛНЫЙ ОТЧАЯНИЯ И УНИЖЕНИЙ”. История Дмитрия 86 “КАК ДОЛГО Я ТЕРПЕЛА!” История Татьяны 96 “САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ПРАВДА”. История Ивана 102 “ИЗМЕНИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ДВИЖЕНИЯ”. История Марии 106 “НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ”. История Тараса 110 “Я НЕ ЗНАЛА СВОЕГО СЫНА!” История Галины Петровны 116 “ЭТО БЫЛО СТРАШНЕЕ СМЕРТИ”. История Александра 121 “ЧТОБЫ ЖИТЬ – НАДО НАПРЯГАТЬСЯ”. История Олега 126 “ВЫ – СООБЩНИЦА НАРКОМАНА!” История Нины Александровны 130 “В НАШЕМ ДОМЕ НЕ БЫЛО ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ”. История Елены Викторовны 136 “У ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ”. История Тамилы Ивановны 139 “ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ”. История Галины Григорьевны 143 “ПОЧЕМУ МОЙ БРАТ СТАЛ НАРКОМАНОМ?” История Виктории 147 “ПУСТЬ НАШ ОПЫТ ПОМОЖЕТ ДРУГИМ”. История Владимира, Николая Григорьевича и Екатерины Петровны 157 “Я ХОЧУ КАЖДУЮ МИНУТУ ЖИТЬ С ПОЛЬЗОЙ”. Владимир 157 “РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ”. Николай Григорьевич и Екатерина Петровна 161 “НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ”. История Владимира и Светланы Григорьевны 164 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Владимир 164 215 “БОГ ПОМОГАЕТ ТЕМ, КТО ТРУДИТСЯ”. Светлана Григорьевна 170 “ЭТО ВОЗМОЖНО ДЛЯ ВСЕХ”. История Ростислава, Василия Васильевича, Любови Васильевны и Елены 174 “РОДИТЕЛИ СТАЛИ МНОЙ ГОРДИТЬСЯ”. Ростислав 174 “НАРКОМАНИЯ ИЗЛЕЧИМА”. Василий Васильевич 183 “МЫ БУДТО ЗАНОВО РОДИЛИСЬ!” Любовь Васильевна 187 “Я БЫЛА НЯНЬКОЙ НАРКОМАНА”. Елена 189 “НАРКОМАНИЯ ЛЕЧИТСЯ ДУШОЙ”. История Юлии, Виктора Николаевича и Елены Константиновны 194 “МОЯ НАРКОМАНИЯ “ВЫРОСЛА” ИЗ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ”. Юлия 194 “МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ ВЫБОР ДОЧЕРИ”. Виктор Николаевич 198 “ЕСЛИ БЫ У НАС БЫЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ДОЧЬ НЕ СТАЛА БЫ НАРКОМАНКОЙ”. Елена Константиновна 200 “МЫ СТАЛИ НАСТОЯЩЕЙ СЕМЬЕЙ”. История Сергея и Наталии Владимировны 205 “Я НАШЕЛ КОМПАНИЮ, В КОТОРОЙ МОЖНО ЖИТЬ”. Сергей. 205 “СЫН СТАЛ МНЕ ДОВЕРЯТЬ”. Наталия Владимировна 209 “НАДО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ”. История Максима, Виктора Васильевича и Людмилы Адамовны 214 “НЕ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ, А ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ”. Максим 214 “ОПИРАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО НА РЕАЛЬНОСТЬ”. Виктор Васильевич 221 “ПУСТЬ ДЕТИ УЧАТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТСТВА”. Людмила Адамовна 224 “СЧАСТЛИВЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ”. История Алексея и Виктора Николаевича 228 “НЕ ЛИШАЙТЕ ДЕТЕЙ УВАЖЕНИЯ К СЕБЕ!” Алексей 228 “Я УВАЖАЮ В СЫНЕ СВОБОДНУЮ ЛИЧНОСТЬ”. Виктор Николаевич 232 “ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЕ САМ”. История Евгения и Юлии 235 “ВЫБОР” – КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В МОЕЙ ЖИЗНИ”. Евгений 235 “ЖИТЬ С НАРКОМАНОМ – СТЫДНО!” Юлия 240 “В СЕМЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕДИНСТВО”. История Виталия, Анатолия Викторовича и Лидии Ивановны 244 “Я НАУЧИЛСЯ СОПЕРЕЖИВАТЬ ЛЮДЯМ”. Виталий 244 “МЫ ПРЕДАВАЛИ СЫНА, ОТКУПАЯСЬ ДЕНЬГАМИ”. Анатолий Викторович 249 “ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ”. Лидия Ивановна 251 “ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕТ”. Владимир Голуб 255 “МЕДИЦИНА ДОЛЖНА ЛЕЧИТЬ, А НЕ ОБСЛУЖИВАТЬ НАРКОМАНОВ”. Вилли Волченко 258 “ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В КОЛЛЕКТИВЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ”. Людмила Джумарик 262 “НАРКОТИКИ – ЭТО ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ”. Снова говорит Карина 267 “ЭТА РАБОТА НЕ ТЕРПИТ ФАЛЬШИ”. Нелли Хорошилова 277 “ТОЛЬКО ОСМЫСЛЕННАЯ ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ”. Леонид Саута 296 ПОСЛЕСЛОВИЕ 336 216 Тамара НЕСТЕРЕНКО ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ Редактор Валентина Клименко Відповідальний за випуск Ростислав Місик Технічний редактор Валентина Єфіменко Підписано до друку 23.08.2005 р. Формат 60х901/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 25,52. Гарнітура Times New Roman CYR. Тираж 8000 прим. Зам. № 2129. ВАТ «Видавницттво «Полтава». 36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 38/40. 217