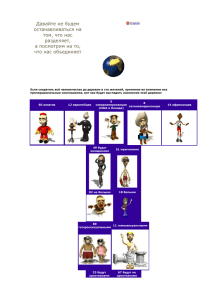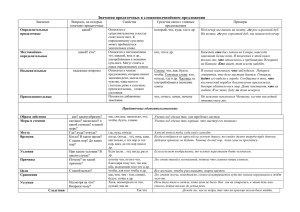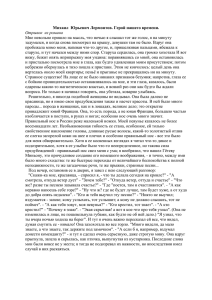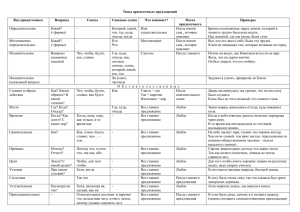Безмятежный край (И.Азаров)
реклама
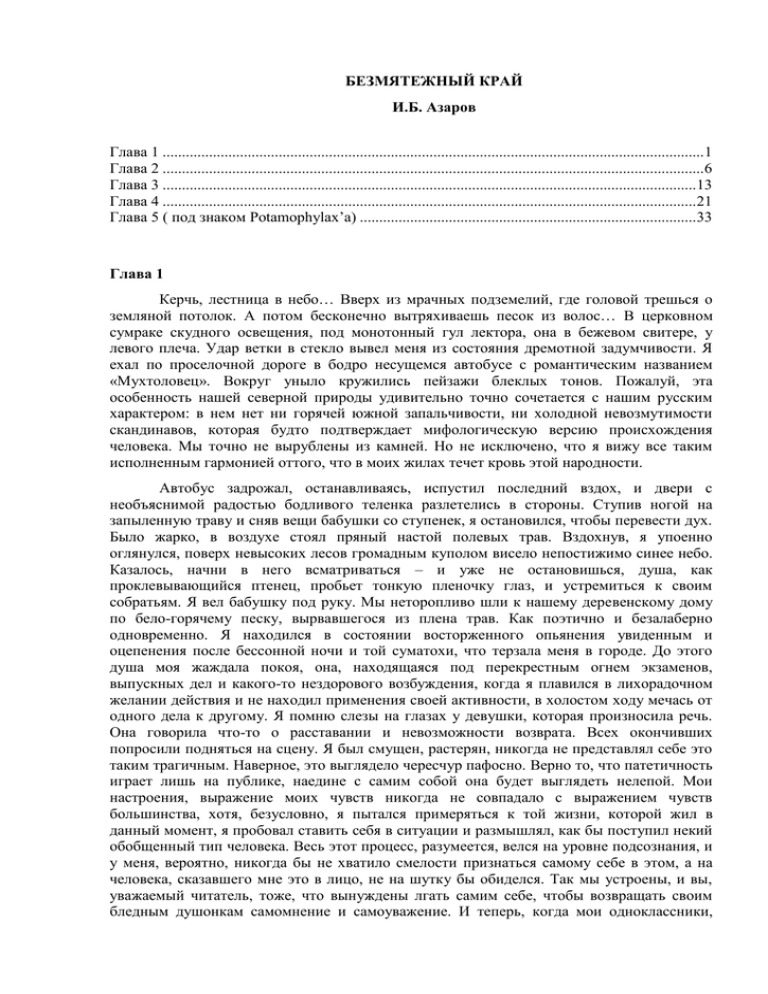
БЕЗМЯТЕЖНЫЙ КРАЙ И.Б. Азаров Глава 1 ............................................................................................................................................1 Глава 2 ............................................................................................................................................6 Глава 3 ..........................................................................................................................................13 Глава 4 ..........................................................................................................................................21 Глава 5 ( под знаком Potamophylax’а) .......................................................................................33 Глава 1 Керчь, лестница в небо… Вверх из мрачных подземелий, где головой трешься о земляной потолок. А потом бесконечно вытряхиваешь песок из волос… В церковном сумраке скудного освещения, под монотонный гул лектора, она в бежевом свитере, у левого плеча. Удар ветки в стекло вывел меня из состояния дремотной задумчивости. Я ехал по проселочной дороге в бодро несущемся автобусе с романтическим названием «Мухтоловец». Вокруг уныло кружились пейзажи блеклых тонов. Пожалуй, эта особенность нашей северной природы удивительно точно сочетается с нашим русским характером: в нем нет ни горячей южной запальчивости, ни холодной невозмутимости скандинавов, которая будто подтверждает мифологическую версию происхождения человека. Мы точно не вырублены из камней. Но не исключено, что я вижу все таким исполненным гармонией оттого, что в моих жилах течет кровь этой народности. Автобус задрожал, останавливаясь, испустил последний вздох, и двери с необъяснимой радостью бодливого теленка разлетелись в стороны. Ступив ногой на запыленную траву и сняв вещи бабушки со ступенек, я остановился, чтобы перевести дух. Было жарко, в воздухе стоял пряный настой полевых трав. Вздохнув, я упоенно оглянулся, поверх невысоких лесов громадным куполом висело непостижимо синее небо. Казалось, начни в него всматриваться – и уже не остановишься, душа, как проклевывающийся птенец, пробьет тонкую пленочку глаз, и устремиться к своим собратьям. Я вел бабушку под руку. Мы неторопливо шли к нашему деревенскому дому по бело-горячему песку, вырвавшегося из плена трав. Как поэтично и безалаберно одновременно. Я находился в состоянии восторженного опьянения увиденным и оцепенения после бессонной ночи и той суматохи, что терзала меня в городе. До этого душа моя жаждала покоя, она, находящаяся под перекрестным огнем экзаменов, выпускных дел и какого-то нездорового возбуждения, когда я плавился в лихорадочном желании действия и не находил применения своей активности, в холостом ходу мечась от одного дела к другому. Я помню слезы на глазах у девушки, которая произносила речь. Она говорила что-то о расставании и невозможности возврата. Всех окончивших попросили подняться на сцену. Я был смущен, растерян, никогда не представлял себе это таким трагичным. Наверное, это выглядело чересчур пафосно. Верно то, что патетичность играет лишь на публике, наедине с самим собой она будет выглядеть нелепой. Мои настроения, выражение моих чувств никогда не совпадало с выражением чувств большинства, хотя, безусловно, я пытался примеряться к той жизни, которой жил в данный момент, я пробовал ставить себя в ситуации и размышлял, как бы поступил некий обобщенный тип человека. Весь этот процесс, разумеется, велся на уровне подсознания, и у меня, вероятно, никогда бы не хватило смелости признаться самому себе в этом, а на человека, сказавшего мне это в лицо, не на шутку бы обиделся. Так мы устроены, и вы, уважаемый читатель, тоже, что вынуждены лгать самим себе, чтобы возвращать своим бледным душонкам самомнение и самоуважение. И теперь, когда мои одноклассники, предъявили мне вариант поведения, предполагающий слезы, сожаление и радость на фоне общего единения перед отчаливанием в мир взрослых людей, заместо прежнего, слегка циничного стереотипа, я был обескуражен. Несмотря на все те маски, что одевали мое лицо, несмотря на те, несмотря на те костюмы, кафтаны, сорочки, сюртуки, манишки притворства, во что я был облачен внешне, я оставался человеком, верующим в любовь, добро, дружбу, бескорыстие и многое другое, о чем было принято умалчивать. Мне было трудно играть, я часто переходил на выражение моих истинных чувств. Вероятно, ничего нет страшнее для человека думающего, чем выбор. Выбор с ответственностью за будущее. Ну да черт с этим – это все официальные слова. Важно не то, страшно не то – я боюсь, что останусь одинок, что, совершив неверный шаг, растеряю все то малое, что приобрел за свои семнадцать лет, миллионы раз проигрывая в воображении альтернативный шаг, кляня мучительное отдаление от того, чему был близок. Сомнение ржавым плугом взрывают ссохшийся монолит рассудка. И как грозный символ, апогей страдания, агония песчаных пустошей, эффективный аналог федотовских свечей в настоящем – оранжевый фонарь, сквозь серые узоры занавесок непрестанно шлет приветы апокалипсиса, как угольная лампочка развратной гражданки. Оранжевый фонарь довлеет надо мною, озорно перекликаясь с оранжевыми ножницами у сахарницы. Я бы сажал в тюрьму тех, кто провел к нам антенны, я бы взорвал Останкино, у меня не хватает сил отринуть эту ложь, грязь. Пытаюсь простить, как адвокат видеть в отъявленном злодее личинку добра, предполагать хитрый замысел, выглядывать крупицы оригинального – все это завзятое интеллигентство, но я найду выход, я вырвусь. То добрый, компанейский, любящий сострить и пофамильярничать, то сочувствующий, но строгий интеллектуал. Пусто поблескивающие глаза за стеклами очков по неопытности могли поражать скрытой возможностью демонических преображений, но тщетно, ведь он был дрянной актеришка, который публику привлечь мог лишь балансируя на грани пристойного, а то и откровенно за нее заваливаясь. Потешная мода на негров начинала меня даже веселить, можно было гадать, кто следующий прибегнет к дешевому трюку. И, разумеется, ничто так не привлекает умы доверчивых сограждан, как громадные суммы денег, хрустящие пачки телесного цвета, в холодильнике, стеклянном сейфе или ином нелепом хранилище, перечислять можно бесконечно: пошлость, как и зло, всегда появится в новой реинкарнации. Но полно: размышляя о чужих грехах, ведя им подсчет и разбирая каждый, мы сами невольно оказываемся в атмосфере порока, которую презираем и с яростью революционера пытаемся сокрушить, будем же равнодушны, ибо бы быть проповедником в наше время бессмысленно. Бессмысленно оттого, что никто не признает себя невежей, и упрямым софистом станет тот, кого мы примемся обличать. Занимательна внутренняя мотивация принятия нами тех или иных решений: уважать и прислушиваться станут к мнению того, кто беспристрастен и не лезет в советчики, а общества назойливого слуги будут избегать. Березовый лес огорожен низеньким забором, в некоторых местах он покосился, будто кланяясь многолетним крестам, рассыпанным между деревьями. Большинство из них крашено дешевой голубенькой краской, ею же красят наличники для окон. Бездушнотомные венки из проволоки и пластмассы пыльны. С детства они были для меня окружены недоговоренной тайной, неизъяснимым страхом. Помнится, после игры в московском дворе, я случайно захожу на мемориал братской могилы, а затем обрадованный тащу матушке несколько венков. Лицо ее искажается в брезгливом суеверии, и я узнаю, что присвоивший собственность павших, сам вскоре должен скончаться. Дорога ведет нас через плотину. По правую руку утоплен в зелени заросший пруд. Его поверхность пересекает выводок утят. Зеркальная гладь ломается, как под порывами ветра. Слева деревня дымится десятком труб, через некоторое время слышен звучный петушиный оклик. Пока идем вдоль невысокой насыпи нефтепровода «Горький-Рязань», жарко краснеющей в лучах утреннего солнца. На насыпи лохматые стебли неприхотливого репея переплетаются с пряными гроздями желтых бусинок пижмы. Пробираться напрямик, через картошку не стоит: свежие кинжалы трав еще в росе. Окраинные дома еще дремлют; мы проходим к своему дому сопровождаемые лишь ленивым бреханьем собак, бросивших прежние занятия при виде гостей. Ворота неохотно открываются в нашу сторону, цепляясь за упругие стебли сорняков. И вот, долгожданный приют, хижина отшельника и мизантропа. Бабушка, сняв очки, стала хлопотать по дому, я сел на сломанную лавку. Дом был очень старый, как говорили старожилы княжеский, а, точнее, княжеской зазнобы и ее детей. Железная крыша проржавела, хозяйственная часть просела и покривилась. Детьми мы излазили его вдоль и поперек, побывали на чердаке и подполе и знали, что за обветренными досками есть сруб из толстенных бревен. В темной, забытой всеми второй кухне стоит старый каркасный рюкзак, стена увешана связками зверобоя, засушенного нами или, может быть, прежними хозяевами этого дома. Как это ни парадоксально звучит, но вместе с переходом этого дома в наше владение, к нам также перешли уважение, почтительное отношение односельчан, будто в этом доме состояло тайное наследие старинных укладов. Перейдя в комнату, я улегся на матрац, положенный поверх навесных пружин кровати. Что же я боялся потерять? С чем не желал расстаться? С долгими часами самоотверженного труда в полутемной комнате с бинокуляром. В этом было средневековое очарование работы летописцев. Я любил это занятие, его тихие открытия, живительный контраст комнат, пропахших спиртом и формалином и горечь осенних вечеров Подмосковья, виды мчащихся деревень сквозь стекло электрички, когда шумный говор уступает дремотному успокоению. Гениальная красота донских дубрав, просторные кроны и вольное течение Хопра. Все это перечеркивалось, предавалось? Не хватает вопля надрывности …. Нужна безысходность, крикливое отчаяние в голосе. Я убежден, что основа счастья человека в памяти. Возможность оглянуться, оставляет надежду. Если познание настоящего угнетает, то ты можешь улыбнуться картинам прошлого. Но не я, те , кому я был близок, проклинают меня. Я слишком легко порываю с людьми, оставляя в памяти за собой вереницу стонущих теней. У меня нет прошлого, органично соединенного с настоящим. Цепь оптимистических звеньев, кольцом обернувшаяся вокруг шеи, не по мне; из двух вариантов Пушкина меня никогда не привлекал выбор Евгения. Потому-то воспоминания причиняют мне боль. Каждое утро я бегу по тропинке, огибающей баню, на зарядку. Если ночь была дождливой, а утро не обещает хорошего дня, приходится одеваться потеплее. Через некоторое время после пробуждения я очень мнителен и слаб. Лень правит рассудком, ноги, будто из ваты, в районе брюшного пресса слабость, словно разорвана главная жила. Прежде чем начать бег, я долго иду. Вокруг слезливый туман, с неба падает изредка несколько капель. Когда я бегу, голову мою начинают сдавливать неведомые ремни, а свинцовая тяжесть перетекает в сочленение с позвоночником. В такие моменты я кажусь себе ужасно больным, разбитым, конечно, не старый паралитик, но я холодею при мысли, что я еще молод, а впереди со злобной ухмылкой палача, увидевшего прежнего клиента, поджидает меня старость. Когда мне было совсем немного лет, я очень боялся смерти, однажды ночью побежал к маме, потому что подумал: и она умрет, а как же мне придется существовать на этом свете? Взрослея, мы свыкаемся с мыслью о смерти, и нас начинают заботить более насущные вопросы: как бы перед смертью не мучиться, как бы жить без боли? На эти упражнения, на сознательное мучение меня гнало честолюбие. На этом примере элементарно демонстрируется разница между самолюбием и честолюбием. Честолюбие существует, чтобы укорять одергивать нас. Честолюбие раздваивает нас на примитивного человека ощущений, человека-животного и на человека-наставника, строжайшего надсмотрщика, который не вздумает церемониться с нами и будет неотступно мучить за каждую провинность. Меня честолюбие безбожно гнало за новыми достижениями, по пять кнутов порой истирая за день. Я в этом отношении был внутренне безволен, то есть не безволен, как слабый человек, а вторично безволен, не имея возможности ничего сделать с собственным честолюбием, диковинным сплавом гордости и совести. Самолюбие же достаточно пассивная вещь, ее проявления нам заметны, когда мы чувствуем боль, если кто-нибудь заговаривает о наших недостатках, если мы видим свою несостоятельность в некоторой области. Есть доля правды в предположении о самолюбии, как о непременном условии возникновения чести человека. Так в определенном смысле самолюбие – недоразвитая форма честолюбия, опытный, сырой образец. Но стоит сказать, что все это лишь условные схемы, орудие века девятнадцатого. Правда неопределенна, размыта, субъективна: для человека, который страдает или влюблен она смещается, меняет форму – терпит преображение. Но что-то меня одолевает склонность к самоанализу, а между тем, таких как я миллионы, и каждый из них отдельная вселенная, бесконечность, океан привычек и ощущений; если бы нашелся человек, способный одновременно постигать…. Но я любил тебя, пускай любил даже во сне. Была б моя воля, я всю жизнь проспал, провел в сладких грезах, несбыточных мечтах. Так получилось, что твой образ, наверное, пустой и взбалмошной девчонки чудесно соединился с его литературным двойником. И я был Гумбертом и Марселем одновременно. Мы переезжали из одного отеля в другой, в бегах от судьбы. Ты была пленницей, но горячо и страстно любимой. Я помню был берег моря, а смерть или похищение не важно, потому что на языке любви это значит одно – губительное расставание. Для меня этим расставанием было пробуждение ото сна, возврат к реальности. К несчастью, за редким исключением, каким бы сильным не было впечатление ото сна, возврата к нему не происходит. Полдень неторопливо гонит ватноватые облака по небу. Лень, плескаясь, заполняет мир до краев. Неприкаянным выходишь из дома, прикрыв рот ладонью, смотришь на резвящихся птиц. Их действия настолько бесцельны, что становится смешно при мысли о том, что весь мир кипит в неистовой жажде денег. Они пленники своего положения, своего общества или же уставов этого общества. И пускай зрелый мужчина средних лет, буднично пожимая плечами в ответ на мои романтические утопии, не заявляет, что это, пожалуй, достойно и де без этого никак не обойтись. Достойно ли крутиться, как волчок, достойно ли, подобно детенышу зверей, гоняющемуся за собственным хвостом, в пыльных клетях растрачивать жизнь на деньги, чтобы потом разменять их на очередное добришко. Они свободны в своих действиях, пусть даже самых смешных и нелепых, они непосредственны. Именно в этом, я полагаю, состоит истинное достоинство. Или в борьбе за эту свободу. Ведь и борющемуся за свободу диктуют действия косвенным образом его поработители. На стене дома сидели мухи и грелись на солнышке, разумеется, они также были свободны в своих действиях, но суть не в этом. Из-за солнечного света они становились еще толще и жирнее, сливаясь с располагающимися под ними тенями. Близится полдень, солнце еще сильнее пригревает, и облака сухого льда постепенно тают. Синева утреннего неба разительно отличается от синевы неба днем. Днем его голубая подстилающая ткань, будто постепенно выгорает, становится угрожающе черным. Роковым человеку часто кажется затишье, остановка. Она, скорее всего, значит некий максимум, после которого последует спад. Нам во всем свойственно видеть серого кардинала судьбы. Идея о верховном существе, влияющем на нашу жизнь помимо нашей воли привлекательна из-за своей драматичности, порой обилия конфликтных обострений. Что же будет сейчас? Глухой стук в дверь: - Хозяева дома? - Подождите, сейчас открою. Входит невысокая женщина пожилого возраста. На голове белый платок. Морщины сообщают лицу что-то азиатское. В руках зеленый тазик с отколовшейся на боку эмалью, в нем огурцы. Наша давняя соседка, приходит поговорить со взрослыми, раньше, прошлым летом с родителями, теперь с бабушкой. И абсолютно не важно, что они провели всю жизнь, занимаясь, кто обработкой земли, а кто налаживанием станков, они, может быть, жили всю жизнь в разных средах человеческой организации: деревне и городе. Географически они были разнесены более, чем на полтысячи километров, но человек везде сохраняет черты человеческой натуры: любопытства, доброты, сочувствия. И никакими силами тирания власти не заставит людей не любить не любить друг друга, иначе это будет уже не человек. Человек, как блудный сын, все более и более удаляется от породившей его природы, творя над собой ужасающие эксперименты, еще более деспотичные, чем те, которые он проводит над подопытными животными. Человеку свойственно быть в обществе, чтобы общаться, чтобы помогать собрату в случае неудач. Если бы не было государств, воюющих между собой, а было лишь множество небольших городов и деревень, если бы не было многообразия языков, ярко выраженных местных обычаев, разжигающих абсурд межнациональной розни, однако здесь я начинаю замахиваться на библейские масштабы, человек бы мирно соседствовал с человеком. С одной стороны я акцентирую внимание на природной любви человека к обществу, а с другой стороны желаю откреститься от тяготящего камня обезьяньей наследственности. Как и все животные человек решает проблемы конкуренции путем убийства и запугивания. С моей торопливостью я сам загоняю себя в ловушку, которую только заметили мои молчаливые оппоненты. Но сам из нее с изящным отвешиванием поклонов, попытаюсь выбраться. После бесплодных попыток выбить поощрения у чинуш рангом пониже, я решаюсь на то, чего никто не осмеливался ранее: вытребовать у всесильной матушки для нашего вида звания таксоном повыше. Я провожу параллель между переходом от примитивного мозга остальных млекопитающих к сложному, пересыщенному гениальными абстракциями, сложными ассоциативными рядами, богатому негласными устоями и нетривиальными моральными запретами мозгу человека и переходом от прокариот к эукариотам, от убогой одноклеточности, которая хороша лишь своим скорым размножением, к дифференцированной многотканевости растений и животных. Выпрашивая непозволительных льгот у несговорчивой старухи, приходится признать, что я на весь мир заявляю, будто верю в исключительность человека, в то, что помимо элементарных энергетических нужд, чтоб не возникло проблем с педантом первого начала, и других уже биологического порядка, но оттого не менее омерзительных нужд, есть еще и стремления нравственного плана, которые никак не объясняются материально (так что не обойтись без ввода дополнительной оси, а то и не одной). Солнце, укутанное в черничного цвета облако, сонно клонилось к верхушке облетевшей березы. Расшумелись птицы, почувствовав приближение ночи, которая прохладно дохнула из окаймленного черными зубами рта. Вокруг по очереди стали распускаться радостные цветки занавесок. С традиционного края деревни послышалось щелканье хлыста, ошеломленное мычание коров, испуганное блеяние овец. Деревенское стадо шло медленно. Над ним курилось своим неповторимым ароматом дороги пыльно облако. Медленно ступали коровы, степенно шлепая хвостом по пыльным бокам, иной раз некоторые из них принимались скакать галопом. Выглядело это довольно-таки курьезно и, видно, это поняв, они останавливались и начинали глядеть по сторонам: не заметил ли кто их недостойного поведения? Овцы, сбиваясь в кучи, следовали за вожаком, в вожаков порой избирая самоуверенных козлов. Несмотря на то, что могучее течение традиционных устоев влекло всех далее по деревне, умные животные останавливались перед своим хлевом и выражением тревожного непонимания выгоняли зазевавшуюся хозяйку или ее нерасторопную дочь из дому. Что-то зорко высматривали собаки в изо дня в день повторявшейся картине; те, что помоложе, радостно блестели глазами-угольками, выполняя роль конвоира, старшие разочарованно смотрели поверх голов проходящего стада. Стадо проходило, и все в деревне затихало, каждый прятался в свой угол, деревня вымирала до следующего выгона, уже рано утром. С этого момента взрослые сельчане, посмотрев телевизор, отходили ко сну, молодежь же до ночи крутилась возле сельского клуба. В это время я выпивал вечернюю чашку молока, закрывал окна шторами и ложился в постель. В постели я принимался за успокаивающий детективный роман или лечащие душу творения английских писателей. Эти дни, определенно, шли на пользу моему здоровью и душевному равновесию: не дрожали попусту руки, ни следа не осталось от бессонницы, пропали прежде неотвязные кошмарные сновидения, после которых я, бывало, чувствовал себя абсолютно потерянным. Жизнь, которую я вел, отличалась своей растительностью, то есть отсутствием каких бы то ни было моментов тревоги или сомнения. Ведь, чем человек более развит, чем его душевная организация тоньше, сложнее, тем тяжелее его переживания в ответ на определенные события, которые происходят в его жизни. Элементы его сознания, столь богатого и обширного, что совмещающего порой несколько противоположных точек зрения, начинают отождествлять себя с различными индивидуумами, всерьез воплощая в жизни взятые на время роли. Скудно-однообразная жизнь упрощает душевную организацию, мы начинаем воспринимать жизнь со всем довольной точки зрения мещанина, и, как следствие этого, пропадает возбужденная лихорадочность мышления, жизнь предстает перед нами не в столь душераздирающих тонах. Но мне начинало становиться скучно. Скука была для меня той единственной причиной, которая могла оправдать хоть в какой-то мере самовольный уход из жизни. То, что мне было скучно, наводило меня на унылые размышления: здесь я жил еще ребенком, и красота, скромная прелесть здешних природы вызывала во мне сочувствие, отклик в моей душе, теперь же я не нахожу себе здесь места. Я думал это является следствием моего обездушивания, будто некая подвижная часть моего сознания, которой я обладал, будучи ребенком, затвердевала, как обратилось в лед сердце Кая после поцелуя снежной королевы. Такое заметное изменение моей структуры вызывало у меня глухое отчаяние. Я осознавал, что пропадает или уже пропала некая очарованность, чудесный взгляд на мир, свойственный детям. И повернуть все вспять уже не представлялось возможным, потому что очарованность основывается на частичном неведении, чего вернуть никак нельзя; разве кое-что само вернется под старость, но тогда это приобретает черты болезни, да и радость будет омрачена приближением смерти, неминуемого конца всех благ. Тут самое время задуматься о нашем взгляде на это воспринимаемое традиционно в печальном цвете явлении. Этот европейский взгляд противоречив из-за того, что опирается, прежде всего, на чувство: ведь смерть отнюдь не должна противопоставляться жизни. Жизнь – это островок, со всех сторон окруженный морем небытия. Оказываясь на нем с рождением, мы уходим обратно со смертью. Хотя о смерти человека скорбим гораздо больше, чем о его рождении. Неужели вся разница объясняется лишь поляризацией времени? Если так, то отчего же все сохраняется таковым в памяти на долгие годы, для нее не существует такого библиотекаря. Скука вынуждала меня на логическую борьбу с самим собой, я был порядком изнурен и ожидал развязки, которая была бы весьма логичной, если признавать судьбу материальной Глава 2 Я встал рано утром и вышел из деревни. Плотной бахромой висел над землей туман, он создавал впечатление обособленности. Было тихо: слышен был только звук собственных шагов. Вяло, как в киселе болтались цветы, приходилось выбирать дорогу наугад, и вскоре передо мной раскрылся вид на небольшой пруд. Спустившись к самой воде, я сел на бревно. Изредка доносились невнятные звуки, плескалась вода в трубах. На секунду из тумана вынырнула ворона и вновь сгинула в небытие. Верно, в тумане даже удары сердца становятся осязаемыми, как зеленые холмы, поросшие рододендроном. Время дотошно плело вокруг меня паутину, от невнятного безделья я принялся бросать в воду камни. Увлекшись, я не заметил, как ветром разметало белесые остатки утреннего марева. Поверх плотины вдруг прошла девушка с корзиной на плече. По непонятному наитию, которое пусть называют хоть вдохновением, хоть проведением, не в том суть, я окликнул ее: «Надя» . Она остановилась, повернула голову и тихо ответила: «Да?». Зависнув над поверхностью пруда, камень, приняв окончательное решение, с кучей серебрянных осколков пошел на дно. Неужели после стольких лет это возможно? Скорым поездом мимо дачной платформы промелькнул целый ворох воспоминаний: веревки, петлей перекинутые через ветвь старинного вяза покоились в предусмотрительных желобках, освобожденных от коры. При движении качелей веревки затевали скрипучий разговор, язык которого, вероятно, являлся родственным диалектом тому, на котором общаются высокие, сухие сосны с янтарно-горькой корой, плавящейся в вечернем солнце ( традиционном освещении ностальгических ландшафтов). Театр Мечты обещался поставить Десятую Симфонию с Танцем Психов в оригинале. - Вы меня, наверное, не помните, - промямлил я, не понимая зачем начал этот разговор. - Отчего же?- отлично помню, вы Ваня с улицы Первого Мая. - Вы за грибами, наверное, идете? (О чем это я, понятно и без лишних распросов ). Пожалуй, незачем через пруд разговаривать, мы рыбакам всю рыбу распугаем. Спускайтесь вниз – места на всех хватит. - Да нет, пойду я, некогда мне разговаривать. Да и мало ли – увидит кто. - Подумаешь, что в том такого, я же не убийца или прокаженный? Она делает вид, будто не слышит, и делает вид, что уходит. Я вскочил и забежал на насыпь: «Позвольте мне хотя бы следовать за вами…». Говорит на ходу: «Вы не понимаете, если в деревне меня увидит кто-нибудь с вами, то об этом все только и будут говорить: такая-то гуляла с москвичем. ( Храни наши души, Steel Tormentor). Кто же потом за меня за муж пойдет? Или, может вы соизволите?» Насмешливый взгляд – все бы в мире отдал за него! «А вам бы только поболтать». Пристыженный я шел за ней. Никак я не ожидал такой прозорливости. Будто прочитав мои самые глубинные мысли, о существовании которых сам себе признаешься с неохотой, она стремилась меня полностью в них разуверить. Я-то думал, что это ей будет любопытно со мной поговорить, и я вызову в ней интерес. Но самоуверенность эта не имела под собой оснований. И, оказывается, это я хотел узнать, как можно больше, о ней, о ее образе жизни, вдохнуть уникальный аромат личностного обаяния. Так в неожиданных ситуациях мы, бывает, узнаем о себе много того, что и не чаяли найти. Только потому что не имели возможности провести некоторые эксперименты мысленно. Чаще всего так получается, когда сталкиваешься с совершенно новым для себя классом явлений, которые никак не разлагаются на уже изученные сознанием элементы. Я шел на некотором отдалении за ней, уже тяготясь принятым решением. Меня вдруг испугала эта поспешность, надо было что-то сказать, что бы выставило меня в выгодном свете, не показало меня смешным растяпой. Исчез драгоценный запал уверенности, как будто меня покинул невидимый тайный хранитель, ради шутки заведший меня в непроходимую чащобу, чтобы вслед за этим испариться: «Выбирайся, как сам знаешь». Сетовать было не на кого, и было очень досадно, что я, предприняв так много, робею на полупути. Уйти в эту паузу было бы в высшей степени глупо и малодушно. Тягуче-медленно мысли приобретают форму осязаемую и конкретную, хвала проводнику, что томно разинул око между корней деревьев. Надо расспросить Надю о ее собственной судьбе ( со времен великого Данте человек даже самый просвященный охотнее всего говорит о собственной судьбе), но чтобы это не выглядело чересчур резким, следствием неумеренного любопытства. Тебе пришло это в голову случайно, придай этому оттенок философских размышлений, отвлеченности. Это успокаивает кровь, к тому же на эти темы можно распространяться бесконечно. Холодный ветер заставляет собраться, я внутренне приосаниваюсь и спрашиваю нарочито неестественным голосом, спрашиваю, опустив глаза и перебирая шнурок куртки: - Позвольте вас спросить, вы счастливы? (О, величайший из дураков от сотворенья мира!) - Ответ будет зависеть от того, кого вы считаете счастливым и что называете счастьем,- отвечала она, не оборачиваясь. Я думаю она слегка нахмурилась, в чем собственно не было никакой причины: я все равно не видел ее лица. - Видете ли я и сам не знаю точного смысла этих слов, но ведь у людей есть такое понятие, стало быть вкладывают же они некий смысл в него. Скажите, что вы думаете о себе? - Во мне нет ничего необычного. Я родилась в уездном городе, жила в деревне. Училась в сельской школе, теперь в Выксе - на бухгалтера. Вечером хожу в наш клуб, которой у пруда, рядом с магазином. Вы, вглядываясь в окрестные холмы, незасеянные пашни с развалившимися у дороги комбайнами, начинаете романтический разговор. Но на эти холмы я гляжу уже более семнадцати лет, и судьба моя, увы, не позволяет мне видеть ничего нового. Бывает съезжу в начале лета к тете в Нижний, но это никак не больше месяца. Быт наш скучен до ужаса, размерен и предсказуем, лишь природа меняет наш распорядок. А когда все говорят лишь о покосе, о том, как пережить зиму и когда сеять овес, невольно перестаешь думать о счастье, как-то это парадное слово не идет скромному нашему существованию, об этом перестаешь размышлять, просто пропускаешь череду дней, делаешь, что делают все, а душа засыпает, замирает, как соловей посаженный в клетку. - Вы говорите необычные вещи, вы меня удивляете. Я всегда видел в вас огонь необычного, незаурядной личности, выбивающейся из общей массы безликих эпизодов. Ваш дом так поэтично расположен в конце деревни – я видел часто огонек в вашем окне, когда возвращался с вечерней прогулки по дороге, ведущей в сторону Новенькой. Я видел размытые очертания и тени деревьев, с болота поднимался мутный туман. Странно ведут себя машины, скользящие по шоссе: сначала слышится гул их моторов за поворотом, а затем вылетают два вскинутых конуса света от фар. Конусы выхватывают из сумрака часть пространства и нервно прыгают по деревьям, повторяя неровности дороги. Непонятные существа промелькнут над головой и скроются, не дав нам возможности доказать самим себе реальность их предыдущего появления. Если остановиться посреди дороги, зажмуриться и вдохнуть воздуха до боли в груди, вслушаться в тишину, перемешанную со звоном цикад, все вокруг почудится таким родным и близким, что никакие богатства и положение не смогут заменить это простое и доступное наслаждение. - Неужели вам никак не мешает ваша бедность?- спросил я и тут же понял, что сморозил глупость, потому что гордость бедных людей тем что они бедны, несравненно сильнее и острее выражена гордости богатых людей. Происходит это по множеству причин, одна из которых сочувствие и бессознательный страх перед судьбой, которая увидев бесстыдное хвастовство, будто бы может вернуть все на прежние места. Потом материальный достаток заставляет все-таки развиваться человека духовно, ибо человек перестает ежеминутно возвращаться мслями к тяготящим подробностям обихода. Всегда возможны отклонения от установленных закономерностей, так материальный достаток вполне может повлечь пресыщенность жизнью, отсутствие желаний и стремлений до определенной степени означает потерию индивидуальности. Но как ни странно, она не обиделась, только задумчиво сказала: «Не думаю, что главная причина в этом, вся неудача состоит в том, что мы родились здесь в такое время, когда человечный человек не может выбраться из той ямы, в которой погребен изначально и погибает там заживо. Не в прямом смысле слова, разумеется,- продолжила Надя после паузы». Мы замолчали, вдалеке раздался протяжный звук, напоминающий звук лопнувшей струны. Пухлое, бугристое облако закрыло солнце. Легкий ветер смешал мои мысли, нахлынули воспоминания о Празднике: какое неожиданное сходство одной из красавиц со свинцовым музыкантом, тогда это поразило меня и заставило задуматься. А что если великие произведения выстраивают жизни людей по своему подобию, влияя на общесто или, что более вероятно, на сознание человека по неизвестным законам ( меня удивил похожий момент в сходстве Мореля и Рахили). Демоническое сходство незаметной нежности с сознанием собственного величия и магнетической силы восточного обаяния. Смешение рас обладает гигантской силой, которая необъяснима с примитивных позиций евгеники и арифметики, достигается гармония тайны и доступности, многократно усиленная личностным резонансом игорящим воображением, … и сердце выстукивает неровную дорожку под повторяющийся аккорд Kashmir, от которого содрогаешься весь, возбуждаемый единым порывом гениальной находкой звука. Зимним утром я опаздываю на факультатив, держу куртку замерзшими пальцами. Она проходит впереди, но дожидается меня. Я, удивленный такой приветливостью, в состоянии транса проплываю мимо зеркала, рассеянно замечая себя подле нее. Мы вместе поднимаемся по лестнице и заходим в класс, по пути она задает один-два маловажных вопроса, я отвечаю коряво, она мило запнулась, акцентируя мое внимание на, но вопрос, ах да – я никогда не забываю, всегда помнить – привилегия и крест, пускай. Если сознание человека воспринимать, как один экран ?(слуху, осязанию, обонянию и вкусу отдадим области у периферии), то помимо того, что мы видим в данный момент, иногда там будут проявляться воспоминания, поднимаясь со дна глубокого омута или проявляясь как скрытые письмена лишь при особенном освещении или при нанесении специального раствора. После глубокого вздоха наваждение проходит, вдалеке стоит стадо, поднимается дым пастушеского костра, неразборчиво перекидываются фразами с ветки на ветку птицы. Ее молчание угнетает меня, наверное скажу, что меня заждалась бабушка, не заладился разговор, что делать – не вешаться же теперь! - Но знаете, что заставляет меня не унывать и внушает мысли о будущем счастье, пускай, слабая, но опора, - неожиданно начала Надя. - Не знаю, что и предположить. - Сны. Они повествуют об иной более счастливой жизни, которая наступит лет через двести-триста. Там люди помогают друг другу, любят и нуждаются в любви. Покой и миролюбие царит в тех местах. На залитых солнцем равнинах все живут в простых хижинах, крытых соломой; в мелких реках нельзя утонуть, с пологих холмов нельзя упасть и разбиться, простой пищей не отравишься. Сама природа благоволит такому образу жизни. В поисках такой жизни я подумывала пойти в монастырь, но мама меня отговорила: кто же в старости нас утешит? А что вы, Ваня, думаете обо снах? Я задумался, она затронула мою больную тему, об этом я мог говорить бесконечно, но это может отпугнуть, поразить…. - Да, мои сны совсем не располагают к уходу в монастырь, наоборот, они очень ярки, резки и болезненно-нервны, как будто некий человек решился вылить на вас всю свою беспричинную, а оттого еще более надсадную злобу. - Любопытно, попробуйте меня удивить. - …Бесконечно, умопомрачительно, довлеюще, упоительно мрачно, находясь в плену своих желаний, он преследовал ее и, отпуская, искал вновь. Жизнь была окрашена в черно-белые тона и, если скитания его были водянисто-серыми, то встречи с ней были полны испепеляющих тонов Феофана Грека. Жизнь стала обесцелена, а моменты встреч не были жизнью в привычном понимании этого слова, а были сгустками чувственных ощущений, моментами высшего проявления реальности. Он мучительно ревновал ее, потому что это было в природе чувства, ревновал не к кому-то, а к пространству: она принадлежала ему, ко времени, время необратимо изменяло ее черты. В этом было что-то темное, из глубины веков, пещерное и злое, словно в противовес современным представлениям, как о беспечном, пляжном времяпрепровождении, цветочки и музыка из багажника. Этим чувством вас будут пытать в аду чертовки-искусительницы, принимая образы недоступных вам красавиц (переведу дух). Любовники лишь обменивались поцелуями, это было сродни древнему тайному служению, гимну новых отношений рыцарей неведомого культа. Ассоциация со скорбным лицом на запыленном витраже, в забытом приделе, изредка завывают духи, запутавшиеся в паутине. Бывают другие сны, совсем другие, как пьесы в один акт, с одним событием, удивительно точно передающем главный образ, оттенок живительного символа. Словно сознание, найдя свободную минуту для развлечения, подбирает особенную красоту, расположение вещей, набор запахов и звуков, который способен вызвать в нас сильнейший отклик (ему-то известны все наши тайные чаяния и надежды). Хорошо помнится немного таких снов, вот один из них: Я сказочно богат, а может из знатного рода, скорее всего, оба качества совмещены во мне. Мы с семьей спешно собираемся к отъезду, то ли из провинции, то ли с какого-то острова, где живем в высокой башне из белого камня. Окна начинаются почти от земли; пока слуги укладывают вещи, я подхожу к окну: открывается вид, наполненный небом и сладостным ароматом покидаемых садов, в прилегающей к башне деревеньке царит оживление. Из шитого золотыми нитками кармана кожаной куртки с вывернутыми замшей вверх концами длинных рукавов вынимаю флакон с нюхательными духами. Подношу к лицу, становится проще дышать. Под страхом движущегося ли бедствия, восстания мы покидаем эту землю, столь близкую мне? Сладко щемит сердце, я постараюсь вернуться, но впереди свет, новая жизнь, безмятежные горизонты, бесконечные просторы. Что же я оставлю врагам? Есть другой сон, красиво-непонятный, возвещавший для меня возрождение новых идеалов чести, быть может, исторической преемственности, того, чем «Анна Каренина» бесконечно выше «Госпожи Бовари». Моросит легкий дождик, я, насквозь продуваемый ветром, торопливо шагаю по Красной площади и Кремли. Вокруг ни души. Мавзолей? извиняюсь, еще не построен. Незамеченным прохожу в растворенные ворота и спешу к высокому зданию желтого цвета. В утреннем полумраке, как Меньшиков в Березове, сидит старый князь с дочерьми, больными чахоткой. Мы скользим на санях по Смоленской дороге, я сижу кучером. На одной из застав, недослушав коварного вопроса, рукояткой кнута валю паразита на землю и что есть сил гоню лошадей. В просеке, ставшей дорогой, нас догоняет жирный большевик с усами, как у немца. Сани соскальзывают в придорожную канаву, ударом штыка в ребра перечеркивается возможность моего спасения. Я застрелил каналью из браунинга, а старику, побелевшему от страха: «Езжайте в Дрезден к моей матушке…». Затем тихо умираю, блаженно кутаясь в снежное покрывало; и детскую радость вызывает алеющая белизна воздымающегося пара. Надя шла с глазами расширившимися от непонимания, когда я закончил она тихо произнесла: «Надо бы вам поменьше говорить». Мы приближались к деревне, дабы избежать излишних толков пошли в разные стороны, заранее условившись о месте встречи. Придя домой, залезаю на чердак и долго сижу, свесив из окна ноги, кидаюсь вишневыми косточками в прохудившийся головной убор бесшабашного пугала. Справа хозяйственный сосед топил баню, в конюшне дубового сруба ржал конь. Незаметно подобрался вечер, он заботливо укрыл чистейшую лазурь нижегородского неба легкой занавесью прозрачных облаков. Бабушка зовет к столу. Вместо того, чтобы кожицу, сдираемую с картошки класть на газету, я отдавал их собакам, которые зашли с улицы в дом. Газета полна свежеиспеченных новостей. Ну-ка почитаем. «В связи с недавно происшедшей трагедией на месте, которое запомнится нам как место жесточайшего прецедента в истории русской субкультуры по указу Государственной думы РФ, министра культуры и мэрии будут расположены лиловые розы, свинцовый аэростат, стилизованные жернова и пистолет…. Глубокое сочувствие пострадавшим и их родственникам выразил шарикоподшипниковый завод, назвав происшедшие не столь давно события происками кавказских национал большевиков …. Вчерашнее противостояние немецких и английских войск у Бережковской набережной завершилось в пользу меднолобых пруссаков при полном невмешательстве российских властей. Редкий случай обоюдной пользы двух держав на поприще империалистического антагонизма! Сие победное действие было, как ни странно, совершено старинным, испытанным, дедовским способом, а именно, котлом со вшами. Беспокойствие охватило лишь главу Госэпидемнадзора Федора Наливайко в связи с нехваткой больничных мест в московских госпиталях для помощи британским молодцам, подхватившим тиф. Нарушение перемирия Россия-Англия может вызвать ультиматум со стороны Соломоновых Островов – основного поставщика плутония…. Как стало известно информационному агентству МК, в Судаке, на развалинах древней крепости происходит встреча представителей стран большой девятки на высшем уровне…» Все это, разумеется, очень увлекательно, однако ладан курился в церкви все гуще и гуще, из глубины церковного пространства грозно, не мигая, смотрят иконы, проникновенно освещая все золотой олифой. У стен потухали и загорались вновь маленькие огоньки свечей, они неспокойно мерцали на прерывистом сквозняке, зажженные чьей-то неверной рукой. Пальцы, побелевшие от постоянного молитвенного экстаза и заламывания рук из-за горечи недоступности всевышнего, напоминают бледный туман воска. Пол занят людьми, они шушукаются, шумят, мешают друг другу, оттаптывают ноги и полы одежды. Большая часть церкви свободна, вверху гулко, свободно, темно, одиноко. Поднявшее верх голову нечестивое создание, которое заплыло жиром и грехом, решившее во мнительном восторге полюбоваться красотой фресок, будет прибито к полу грозным взглядом вседержителя, а сцены страшного суда собьют с него мирскую спесь. Но вот слышен хор, благоговейный хлад охватывает тело, смирение и любовь проникают в душу. Хор людей доверившихся господу, воспевающих имя его. Они соединены обетом служения на всю жизнь, строгие заповеди - их моральный оплот, наверное, Бог оберегает и укрывает их от житейских бурь, движимый отеческой любовью к послушным детям. Хор превращается в причитания и репетиции паломников в корабле. Сурово-постные лица мне их противны. «Убери карты, сатанинскую игрушку», - шипит предводительница. Похоже, их так и распирает от ханжеской морали, как их земля-то носит. Надо предупредить, что там из-за мхов суша топкая. «Послушайте, а почему у вас юноши в одной каюте едут, бок о бок, можно сказать, догмы уже по швам трещат, а?» Дико и затравленно паломники озираются, вот опять что-то завыли под мерный плеск и пляску солнечных бликов на потолке каюты, чувствуешь, не все по-прежнему? Слышен хлюп воды, вой диких зверей, танец с нечистью. И энергичный клавишный проигрыш пролил на сознание трель будильника. Я просыпаюсь, медленно прихожу в себя, глядя в картонный потолок, пришпиленный гвоздиками с маленькими шляпками, но с широкими красными воротничками у головок. Я отдыхаю ото сна, как отдыхают от долгого погружения воду, когда надо отдышаться и привыкнуть к солнечному свету. Широкая кровать приемлет меня всего, я далеко простираю ноги, сладостная судорога пробегает по телу. Приподымаюсь на локтях, начинаю рассматривать одежду, повешенную накануне вечером на деревянную спинку кровати. Вначале она мне кажется чрезвычайно далекой, какими видится сосны на одном берегу горного каньона, если их наблюдать с противоположного. Но постепенно сомнительное становится очевидным, понятия и масштабы бегут на свои места, привычка неотвязным конвоиром тащит нас, как глупых собак приходится тыкать мордой в миску с едой, и они будут по ослиному упираться, ворочать носом, несмотря на то, что ребра корсетом выпирают из туловища. С потоком свежего воздуха, проникшего в комнату из полуоткрытой двери, меня охватывает отвратительное чувство нравственного неудобства, незащищенности, антагониста понятию уюта. Такое почувствуешь, если окажешься посреди оживленного вокзала, одетым в свободную домашнюю одежду, когда сокровенные подробности личной жизни, которые пожелал бы сохранить в тайне, увидишь в газете под громким заголовком. Постепенно это чувство проходит рассасывается. Чтобы рассеять сонное марево, окончательно покинуть эту стихию, я иду умываться к тазику с водой. Холод и свежесть позволяют организму забыть гипнотическое величие сна, которое влечет и манит; веки, бывшие тяжелыми и липкими, становятся незаметными, мы перестаем их ощущать, забываем о них. Пройдя в дом, я ощутил приятную весомость чего-то теплого в моей душе, что бы следовало беречь. Хотелось постоянно ощущать это в себе, иметь возможность обратиться к этому источнику вновь и вновь, и одновременно я старался отвести от него свой внутренний взор, чтобы запас удовольствия не иссяк так скоро, чтобы постоянным разглядыванием этого образа и перебиранием составляющих его деталей не затереть его блеск, красоту всего того, что было так дорого мне в его новизне и свежести. Так если вино слишком долго держать на донышке, переливая к бокам кругообразными движениями, то аромат его может выветриться. Было у меня еще одно неосознанное стремление: дать дорогому образу стереться из памяти впечатлений и постоянным томлением по его отсутствию довести силу желания его обретения до иных, более высоких пределов, а, увеличив силу желания, мы непременно увеличим удовольствие, связанное с его утолением. Я стоял, держась обеими руками за перила крыльца, уйдя невидящим взглядом в дикое переплетение стеблей и узких листьев сорных трав и сложный каркас куста малины. Скука со светом впереди, о чем же я думал сейчас? – думал о Наде, пора завтракать, пойду в дом, завтракать значит есть. Интересно, есть ли язык у сознания? Училка в пятом классе говорила, что мы думаем на русском. Наверное, бред. Мы думаем на языке темных и неясных побуждений, стремлений, которые в свою очередь могут трансформироваться в слова, если перед нами стоит собеседник, а могут так и не прорасти в прекрасные цветы риторики. Сознание стремится к тому, чтобы все функции переложить на иные органы осуществления функций власти и контроля над телом, чтобы спокойно существовать в состоянии подвешенной самодостаточности и изолированности. На завтрак гречневая каша с молоком, ее запах поднимается с паром над кастрюлей и лихо щекочет мне ноздри. Этот запах я отличу из сотни других ему близких; к нему у меня предрасположенность или что-то вроде индивидуального сродства, вскормленного, взлелеянного в самом детстве. То, с чем мы привыкли общаться в детстве, целую жизнь у нас будет вызывать нежное чувство приязни, милым и трогательным нам видится общение с тем, с кем человек привык общаться в детстве. Рай детских воспоминаний дарит частицу своей благодати всему, что тебя окружало тогда, порой совершенно незаслуженно. Так мы можем пронести через всю жизнь дружбу с человеком посредственным, неинтересным, общение с которым можно воспринимать как долг, дань (тем временам, когда мы были счастливы, - вздохнет с приторной улыбкой пошляк) и пренебречь дружбой с человеком ярким лишь потому, что он влился в наш круг слишком поздно. В потери подобной восприимчивости детства чувствуется неотвратимая длань времени. Чувствительные ростки дружбы очень чувствительны ко времени посева…. Глава 3 За обедом бабушка спросила, как мне спалось. Я рассеянно ответил, что де не очень, дурь всякая в голову лезла, постоянно ворочался. «Думать надо меньше», глубокомысленно заключила она, глядя будто сквозь меня. Над хаосом послеобеденного стола победно кружили мухи, иные висели вверх ногами, держась лапками за потолок. Они бесились, что было сил, стараясь впитать всю жару солнечного дня: летали наперегонки, играли в салочки, беззастенчиво пинали засохшие трупы собратьев. Наверное у них нет чувств, нет радостей, как нет однако и печалей. Их ощущения примитивны, но если бы они обладали тем же, чем и мы, то им некуда было бы деваться от тоски, ведь они бы поняли, что очень скоро им этот мир придется покинуть. Разумная предусмотрительность или возникновение сложного мыслительного аппарата чрезвычайно маловероятно? А может им вовсе не так плохо, у них врагов, нет друзей, не может завязаться внутренний спор с самим собой, нет химеры совести. Дайте мне замкнуться в орех, и я почувствую себя королем бесконечного пространства, несомненно, жизнь существует в очень многих формах, и некоторым бы из людей хватило с избытком иного, более скромного обличья, совсем не следовало на них так разоряться. Хотя так себе теорийка, представляю: доклад министра сил и средств: «Уважаемая Госпожа, имею счастие сообщить вам радостную новость, в этом году план перевыполнен аж на целых пятнадцать процентов по сравнению с …». Во входную дверь застучали, дополняя самобытность фольклорной зарисовки зычным баритоном: «Хозяева!» Это были цыгане, продававшие по деревням одежду. Неопределенного возраста девушка и низкий мужчина с короткой черной бородой и золотыми зубами. С сельскими жителями они определенно не церемонились, продавая всякую ерунду и перемежая речь надменными интонациями. Но во мне они заметили кого-то иного и сами пошли со двора, на этом наша немногословная встреча и окончилась. Пора было идти, близилось время, в которое мы обусловились встретиться с Надей у соломенного стога. Как же быстро летит время, будто мы куда-то падаем! Не успел привыкнуть к настоящей обстановке, но тебя влечет все дальше и дальше, истирает до износа, сжигает, не оставляя воскового пятна. Не успеваешь осмыслить, понять происшедшего, покоя нет, его не может быть это стихия перемен, необратимой череды настроений. Несмотря на то, что у меня не было вчерашнего подъема всех жизненных сил и настроения, я шел не очень взволнованный, вероятно, потому что не пытался думать о предстоящей встрече; эта прогулка становилась, в данном случае, просто копией всех совершенных мною прогулок без всяких опознавательных черт, которые вовсе не имели права меня волновать, но так могло продолжаться, пока в дело не вступало воображение, и тогда из сотни деревенских домов, ничем друг от друга не отличающихся, один вдруг удивлял тебя, волновал, ты начинал особенно четко наблюдать в нем след русской души, яркой и неповторимой, в сознании поднимется пронзительная осень заброшенных садов, округлые верхушки холмов, покрытые лесом, неширокая река, задумчиво несущая свои темно-торфянистые воды и стебель кувшинки, уводящий на дно. Ты вспомнишь смущение, радость, упоение игрой, покой счастья и идиллический полет мяча на фоне детских голосов. А рядом шоссе выныривает из соснового коридора, стелется через речку и пропадает в кустиках земляники. Мы не умеем вовремя оценить то, чем обладаем, и равнодушно позволяем красоте, свежести, юности проплыть мимо нас, а сами остаемся позади, довольные. С опустошенной душой машем рукой во след уходящей повозке. Чем раньше поймешь, что окружавшее бесценно, что прошедшее через юную душу не заменит ничто впоследствии, тем меньше будешь потом в старости, пережив всех друзей, неизвестно для кого оберегая нажитые сокровища, рыдать в комнате с потушенным светом, по-детски кулаком проводить по сморщенной, дряблой, пожелтевшей, как пергамент коже. Одиночество будет вытягивать из тебя последние силы, чтобы скинуть обессиленное тело на руки темной служанке. Подошвы кроссовок оставляют резной след в придорожной пыли, вон стог. Длинная тень тянется через поле налево, а за ним стоит Надя, и сердце мое забилось чаще, тяжелее заходило тугим поршнем в груди, кровь бросилась к голове. Я испытал необычайный прилив нежности к этой простой крестьянской девушке, которая доверчиво придет на встречу со мной. Я себе показался особенно мерзок, «я же ведь дурной человек», - подумалось мне, много хороших людей я игнорировал за их обладание какими-то мелкими, досадными недостатками, будь-то несвязность речи, желание приукрасить собственные достижения или же громкий смех. Может, для какого-нибудь поэта добро было абстракцией, но для меня оно существовало несомненно, и сейчас, в особенности, ясно я это понимал. Добро – это человечность, отзывчивость, скромность; добро не в поступках (дьявольский эксперимент моих снов по отрезанию рук, ног, языка тому явное подтверждение), добро в реакции человека на человека; равнодушный человек не может быть добрым, снобизм – проявление бесчеловечности, а потому он скрадывает добро, хотя не делает своего обладателя злодеем (поверхностный парадокс). Хотя реальность меняет все порой до неузнаваемости, и добрый человек может запросто показаться нам бледным, неискренним, неоригинальным, он будет надоедать нам нравоучениями, бессмысленными самопожертвованиями, когда к месту, быть может, подходил бы здоровый эгоизм с примесью комически выставляемой самоуверенности. По колючим пенькам срезанных колосьев, в шуму птичьих голосов я подхожу к стогу, от него сбоку тянется тень поменьше. Я думаю, нет даже не думаю, рассудительность разума никак не сочетается с порывами души, сознание обволакивает субстанция нежности, признательности, и сердце чутким флюгером оборачивается ей во след. Но за стогом никого, пустой колосок без зернышек выбивался из общей копны, сине-фиолетовое, как поврежденный орган, облако стало медленно закрывать солнце. Я привалился спиной к соломенной стене и расслабленно вытянул ноги: видно, поспешил. От нечего делать стал выковыривать камешки подле себя и бросать их вдаль, ожесточенно, понапрасну распаляя свой гнев, и упирающимся каблуком разрывал впереди землю. Неожиданно она появилась передо мною, как отчаявшимся путникам является грозная богиня или приветливый покровитель этого места, которому наскучила однообразная жизнь в провинции, вдали от ключевых событий эпохи. - Вы, наверное, меня заждались? - Да нет, так, посидел здесь (неопределенно пожимает плечами). Одета она была гораздо наряднее, чем вчера, старательнее были заплетены в косы ее золотистые волосы. К краснеющему от поспешности лицу прилип раздавленный комар. Медленно шли через поле. Мне становилось скучно, я едва сдерживал зевоту. Тебе должно быть стыдно, для тебя сделано столь многое, а ты не желаешь сделать и первого шага. Бездушный, непонятно чему возгордившийся юноша, что является причиной твоего духовного обнищания, может, то, что ты держишь себя, как деревянный истукан, лишенный человеческих эмоций? Пренебрежение дружбой, человеческими связями мстит тебе, дав твоей природе иммунитет ко всему, что могло разжалобить, умилить, заставить почувствовать приязнь обычного человека. Все человеческие чувства воспринимались тобой, как слабость, как то, что затрудняет жизнь, делает ее непонятнее, смутнее, привносящее иррациональность. Чувства эти не имели ничего общего с разумом, на что ты по молодости делал такой акцент в своем поведении. Но такое восприятие жизни сушит человека, убивает его, невозможным становится общение с ним, как с другом. Пожалуй, длительное время подобный род внутреннего отмирания можно скрывать, обладая хорошим воспитанием, которое сводом правил, компьютерной программой, машинным кодом заставляло производить действия бессмысленные сточки зрения робота, но играющие роль смазки во взаимоотношениях между людьми (He pretends, свидетельство всеобщего Seeltodes ). Я подумал, что ни в коем случае не должен упустить шанс, дарованный мне свыше, чтобы вернуться к обществу тех, кто способен на любовь. Ведь любовь человека к себе подобным – единственное, что отличает человека от самых развитых животных с одной стороны и от современных сверхбыстрых машин, с другой. Если раньше возможны были поблажки, то сейчас грань между человеческим и нечеловеческим так зыбка, с обеих сторон движутся несметные полчища на Великий Оплот, взмывающий в небеса. А общаться, вести взаимоотношения, основывающиеся на понятиях добра и зла, морали и нравственности, не с человеком невозможно. К несчастью, множество, потерявших веру, было захвачено врагами, которые стерегут их у всех поворотов узкой тропы, один неверный шаг и ты в руках демонов, что задуют твой внутренний светоч, указывавший тебе путь до этого момента. А ведь современное общество чертовски шаткое здание, не подумали вы об этом господа? Надстрой еще один этаж, увеличь давление на фундамент, и все обратится в прах. Главное, не делать из людей никого другого, иначе цементирующая жидкость, квинтэссенция человечности, даст трещины и вы погибли. И пусть огонь ее страстной веры, заставит тебя это понять и разбудит дремавших слуг. Если же они умерли, то попытайся найти им замену в виде рассудка: учись у людей, что окружают тебя в деревне. Простых людей, живущих тихой размеренной жизнью, в постоянной нужде, общение с природой уменьшает их боль, заставляет их не жалеть о шумной роскоши городской жизни, дарует им мудрость покорности, довольствия, взамен твоей беспокойной ненасытности с невозможностью удовлетворения из-за презрительной скуки, которая растет на тебе, словно шипы древних драконов, оберегавшие их от стрел искусных воителей. С необъяснимой маниакальностью ты бережешь холодные груды бриллиантов и дорогих металлов, которые не доставляют тебе радости, ибо для этого необходимо пожертвовать твоей неуязвимостью, твоим пронзительным умом, обменяв его на поверхностный и неглубокий, но способный наслаждаться низменным и недостойным твоего величия. Дарованная власть совращает, дарованное знание самых корней явления лишает его обаяния тайны. Незнание, как и всякая жажда, стремится к открытию непознанного, но не зная, мы можем строить версии, доставляющее особое удовольствие нашей душе своей изменчивостью, сродством автора и зрителя. Тайна привлекательна ( когда же, когда? Какие ноги, - во тьме, освещаемой заревом), потому что мы стремимся распахнуть завесу, разделяющее познанное и непознанное, а любое стремление – процесс, означающий наличие цели, пусть даже самой пустяковой, но цель возвращает нашей жизни какой-то окрас, собственно, саму жизненность, то есть постоянное изменение ( сведущий человек может возразить, что в неживой природе также возможны изменения, которые отнюдь не свидетельствуют о наличии жизни, но эти изменения в итоге лишь стремление к тепловому равновесию, в живой природе это не так). По едва намеченной дороге мы выходим на широкое поле, пересекаемое до этого уездным шоссе, которое таинственно блестело вдали, как река, отражая ветви склонившихся деревьев. Иногда подует ветер, создавая будто волнующуюся рябь из коллективного безволия трав. Неторопливо, без особого желания сквозь ветер старается пролететь ворона, но он ласково играет с ней и поднимает пушок на черной голове. Потом на что-то рассердившись сбрасывает ее в придорожную березу, ворона, запутавшись в ветвях, отчаянно машет крыльями. Спокойствие разлито в этой пасторальной зарисовке, где косцы в противоположной стороне поля дружно взмахивают руками, охотно срубая прелую зелень трав. Справа нежный лесок из тонких березок, он оставляет легкое, воздушное чувство развеивающей тоски, как тепла давнего костровища. Ветки то шумят и лихо гнутся, то лишь треплют зелено-серебристой листвой. Мы идем в сторону полуразрушенной церкви из красного кирпича; в окнах давно нет стекол, в стенах зияют провалы, немым величием наполнены обломки разрушенной колокольни. Природа – великий художник с тонким вкусом, разрушив до определенной степени создание рук человеческих и преобразив в соответствии с композицией здешних мест, решило этими руинами дополнить местный пейзаж. Помпеи вживую. Проникшись случайной задумкой, я деланно произношу: « Ничего себе не могу представить более поэтичного, чем эта разрушенная церковь, обнажившая каменные уступы с березой растущей на стене алтаря. Наверное, вход туда возможен только ангелам в светоносных одеждах, как в приют временного ночлега, если дела на земле их задерживают». - Раньше была, говорят, замечательная церковь, с большим приходом. - Это из Каракалей люди ходили, Александровки, Новенькой и …? - Зубовки, Гремячевки, наверное, - не знаю. - А на Майдане своя была? - Да, побольше этой будет, и тоже разрушена была. Нелюди какие, и не понять, зачем делали. - С воистину маниакальным упорством (Бича божьего) воскресших адских прихвостней, выбравшись из зловонного притона своего двурогого покровителя, они, уже порядком обессиленные, забирались в самую глушь, чтобы и там вести дело угодное призраку нелепого догмата. Мы не бываем неправы, мы просто иногда меняем свое мнение на противоположное. Хм, в духе слащавой дряни о начальниках или всякой теологической ерунды, диалектика та же, расцвет отечественной демагогии: можно так, а можно эдак, триединство и двуличность, главное не рассуждать, а верить, знаем мы этот фарс. Те же, кто когда-то бросался на религиозный дурман с киркой и штыком, теперь стали перекраивать государственный бюджет на возведение храмов в Москве, вместо того, чтобы строить дома сиротам и неимущим или, на худой конец, основать храм, но здесь, где потребность в нем, действительно, ощущается. Что-то, куда ни глянь в Москве, каждый с крестиком на груди. Один такой чего стоит! А все почему? От того ли, что они верой сильны, духом своим, милости господней ждут, отнюдь, все дело в моде мимотекущей. Возможность оценки чего-либо по анализу проявлений формальных вызовет кучу лжи и абсурда. Как помните недавно: «Кто такой христианин? – тот, кто принял таинство крещения». Видите ли, всегда важна беспристрастность, все надо подвергать сомнению, этим отличалась истинная аристократия, которая старалась одинаково далека от всех политических течений, новых веяний, ничто не принимать на веру, стоять выше этого. Тогда за бурунами бушующей воды виден будешь ты и будешь возвышаться над стихией изменчивости, имя твое прослывет в веках, твои правые деяния будут служить примером поколению молодых». - Вы неверующий? – тихо спросила она. - Да. ( Трогательно и отрешенно). - Но почему? Вы же человек твердых принципов: не станете врать, предавать, обижать близких, вдов и сирот. Вам никакого труда не составит строго следовать заповедям. Пауза…. Что бы ответить? - По правде говоря, думал я об этом немного, но есть вещи которые смущают меня. Я бы мог принять христианство, это в своем первозданном облике замечательная вещь. Если бы верующие поступали согласно всем заповедям, то наш мир обратился бы в цветущий сад, однако эти лицемеры стараются везде найти лазейки. Но зачем нужна церковь? Как развернутая, богатая организация, единственное, за что ее следует уважать – это культура. Иконы, архитектура, словесность – всего бы этого мы не имели, не будь церкви, как не были бы народом со своей историей, обычаями, которые, однако, так настойчиво пытаемся в себе заглушить и подавить. Церковь также занималась просвещением, правда изрядной долей отсебятины, хорошо, что наша православная церковь не успела так запятнать свою репутацию, как с блестящим сумасбродством проделала это ее западная сестра. Никто не умеет обращаться со властью, не обращая ее в конечном счете себе во вред. Те же ведьмы, предрассудок на предрассудке, в этот день, в этот час, в этот момент. Мне неприятен религиозный фанатизм, который порабощает разум людей, находящихся на совершенно разных уровнях церковной иерархии: от кардиналов, стремящихся запретить показы мультиков, до угрюмых прихожан. Кажется, они озлоблены на жизнь, фанатизм их неопределен, им ненавистны все недоступные блага, ко всему новому или неизвестному они относятся с подозрением, убогое невежество – хорошая поддержка их слепой убежденности. Сейчас, пожалуй, будет забавно сопоставить их быт с бытом староверцев, полагаю, проскакивали бы общие крикливые черточки аскетического маразма. Даже агенты распространения веры неумелы и пугливы, при малейшем сомнении со стороны агитируемого сводят разговор на тему того, что они верующие, а мы вот нет. Идеальным вариантом были бы льстивоосторожные старцы, наподобие кардинала Ришелье, которые бы с долей иронии смотрели на противоречия современной науки и догмы и никогда бы не посягали словом на основы религии. Хотя, что касается меня лично, церковь неосознанно обладает беспроигрышным вариантом, так как все агитаторы очень наивны и трогательны в своем простодушии. И, если бы митрополиты задумали заполучить меня в союзники (пример показателен своей ненатуральностью), то стоило бы им прикрепить ко мне какую-нибудь суеверную вдовушку или калеку-послушника, которые толковали бы мне о вечной жизни и о спасении, и я бы сдался, не выдержав их интеллектуальных унижений. Постригся в монахи, принял обеты и всякое такое, ну, ты понимаешь, о чем я? С другой стороны мне чрезвычайно неприятно представлять себя, рассказывающие свои тайные, пусть и грешные мысли и поступки, слова и дела, старичку, лица которого не видать, логичнее было бы признаться во всем себе самому, то есть в конечном счете господу, ведь он умеет читать наши мысли, не так ли? Важным становится сам факт признания ошибки, нарушения. И вот я почти сбился на тему, мной бесконечно презираемую: на логические несовпадения теологии внутри себя самой, игры для дошкольного возраста, на что очень любят акцентировать внимание бездумные скептики в разговорах с религиозно небеспристрастными экскурсоводшами. Необыкновенно весело бывает разглядывать этот фарс, где один строит из себя современного Декарта, а другая смущенного Лойолу в юбке, хотя и другая едят один сорт хлеба, смотрят одно и то же по телевизору. Главным их орудием должно быть смирение, людей возмущенных обезоруживающее. Занимает меня и другой вопрос, а вдруг все это придумал в древности жутко талантливый старик, и все современные церковники толкают этот бред в массы оттого, что их старшие коллеги не позаботились сообщить им, что придумал это человек и воспринимать данную аферу слишком серьезно не стоит. Однако примерно знать, о чем речь идет в библии стоит: религиозные сюжеты служили основой прежней культуры. - Ведь вы говорили, что вам не чужды идеи православия. Не понимаю, что же вас останавливает? - Слишком очевидна нарочитость этих задумок, слишком броска, как дешевое платье. Это религия слабых, религия плебеев, рабов – мне, определенно, не по душе этот нравственный диктат, несвобода, во имя чего? Если Бог – это все, то зачем само понятие, из педантичного пристрастия к определениям? Я и так люблю мир, который меня окружает, а вот какую-то абстракцию, нет уж увольте: на дух не переношу подобных извращений. Положим, я поверю в жизнь после смерти, и здесь буду вовсю благодетельствовать, чтобы собрать на загробную составляющую. Хорош же: попадаю в рай, а там коммунизм, и что в итоге? Мерзавец, живший на земле, за счет чужих страданий, доживет до ста лет, а не щадившие себя, помрут, не поседев. Где же справедливость? Что за роковой чертой, никому не известно, оттуда не возвращаются, кто знает почему? – вдруг это все глобальный заговор… - Ах, молчите, молчите, такое неверие! Я молча поднес ее руку к губам, и уже тише: «Такой болезнью болеют в столице, оставайтесь в деревне, никогда не приезжайте туда, это либо сводит с ума, и они болтают без умолку, либо становятся непроходимыми дураками, берегите себя, мой друг!» Мы расстались, молча, глухими сумерками; темнота, до сих пор прятавшаяся в лесу, нехотя, высылала авангарды. Наши пути разошлись, когда я слева начал различать низкую посадку и проржавело-бурую крышу нашего дома, с тоненькой дымоходной трубой. Не выбирая пути после долгого, мучительного, почти символического взгляда, я побрел сквозь светло-зеленый овес, насквозь пропитанный росой, сгорбясь и низко опустив голову. Дома безынициативно лежал традиционный ужин в виде молока с хлебом. Молоко незаметно вливалось в тебя, и ты замечал это лишь, когда приходилось вставать, а мягкая кровать неодолимо влекла к своим прохладным просторам. Старая скатерть, не имея возможности содержать себя в полном порядке, стыдливо обнажало матерчатое исподнее, около повисшего лоскута клееной ткани. Бабочки самозабвенно бьются телом в прозрачную занавеску, привлеченные подложной синью, взятой в переплет, к свету, они не могут найти выхода. Пора менять прозрачные дневные шторы на вечерние, цвета моркови или кирпича. Сегодня стоит протопить печь, а то холод с росой, проникнет в дом, замечает бабушка. Протопишь, Ванюша? – говорит, замирает, дожидаясь ответа. « Непременно», – отражаясь, от стены, косо - в потолок, в не подметенный пол, прыгает у порога, триста сорок метров в секунду обволакивает и пляшет, затухая, череда последовательных сгущений и разряжений стихии. Топить будем в спальне: на кухне может развалиться. Захожу в хозяйственную пристройку, от земли, сжимаемой досками, тянет холодом. Поленьев шести хватит вполне, можно чуть больше. От влажной березовой тяжести немеют руки, смолисто-сосновые язвят обоняние сухой изысканностью. Соломинку с коричневым утолщением на конце, покручивая между пальцев, чтобы получше ухватиться, бьем о бочок коробки с бобровидной белкой, грызущей осину, тополь дражайший. Как из палочки искусного фокусника вылетают разноцветные ленты, платки, флажки, так и из спички вырывается, неистово трепеща пойманной птицей, дикое пламя. Со спички оно жадно перескакивает на архитектурный шедевр в самом горле столбообразной печи серебристого цвета: щепки шалаша склонились над колечком бумаги, между деревянных берегов неизвестной природы. Дым порывом нежданной грусти тянется к глазам. Тоска…, воющим духом в небеса, но ненадолго, приди в себя и снова на земле. Я вспоминаю о маме, где она сейчас, на кого смотрит, с кем говорит, может, она уже давно заснула. Законы, нам ведомые, все равно не теряют над нами власти, и близкий человек, которого мы покидаем, оставляет в иконостасе настоящего неисправимую брешь. Так непривычно понимать, что нам необходимо чувствовать его близость, его видеть, слышать звук его голоса, постоянно восполнять в памяти уходящие черты. Бабушка говорит, что я приглашен на поминки какого-то соседа: « А? А ты как же?». «Поеду, наверное, навещу племянницу в Ардатове». « Ну успехов ». Готовимся ко сну, надо аккуратно сложить вышитое покрывало и повесить его на спинку, впрочем так каждый день. Стоп! Надо открыть заслонку, так и погореть недолго. По старой привычке баррикадирую внешнюю дверь поленьями подлиннее, кирпичами из фундамента, лопатой в увольнении, затем запираю на крючок дверь комнаты. Гашу свет, желаю спокойной ночи, и – в кровать. Усталость наяву сменяется вначале бессонным оживлением, а потом, будто проваливаюсь под лед. Сознание привалено чем-то тяжелым, неподъемным, обезволено, обездвижено тело, потерявшее руководство. «Я» осознается откуда-то сбоку, отвлеченно, абстрактно, обобщенно, валяющимся демоном между скал, запутавшимся в павлиньих крыльях. Вот я в непонятной комнате, за плохим освещением не разглядеть людей, видны лишь их силуэты и сотни разнообразнейших гитар по стенам. Но тут освещение открывает способности зрения: передо мной трое господ, один слегка индийской внешности, в очках и белом пиджаке, другой наг и крашен серебряной краской, руками со скрещенными пальцами закрывает лицо, отдаленно напоминающее лицо Дэвида Боуи, третий похож на стройного кудреватого Осборна. Голос украинским напевом констатирует: сегодня мы выявим из вас сильнейшего ( субъектам наших снов безусловно простительна некоторая немногословность, вызванная исключительной неофициальностью обстановки, интимной атмосферой интеллигентского кружка и отсутствием должной мотивации, ввиду отсутствия определенного статуса у проходящих встреч). Первым будет Эй, что ты нам продемонстрируешь? Так сказать, на примере Rhapsody of fire…. - Достаточно, начинай. - Попса, - начинает серебристый. - Нехристь! – огрызается в очках. - Хватит, черт вас дери. Звучит означенный номер на акустической гитаре, пучком металлического звона перевертывает душу, бегая пальцами по струнам, просыпается прыгучий, гарцующий испанский дух, у любого, кто услышит этот грохот, словно тысячи руки бряцают по железным жилам, выпрядая ковер для танца врубелевской Испании. - Следующий будет Гиви! - Финн убогий, - злится серебристый. - Смотри, дисквалифицируем, - миролюбиво замечает голос. Гиви: я исполню Overture 1622. Только ( поворачивается к индейцу) зажми здесь, для начала. О’кей, супер, спасибо, дружок. Голос: уже заинтригован. Из динамика льются кристальные звуки, похожие на синтез скрипки и рояля. Повторяя неоднократно одну и ту же тему, но на разных уровнях, под разными углами, на разных скоростях, автор добивается эффекта волны, прибоя, затем быстрая эффектная концовка. Недолго, право, очень недолго. Но что-то в этом, согласитесь, есть, какое-то плотное, конкретное ощущение виртуозности, власти, дикого, всепокоряющего и безумного мастерства. То ли от этого эффекта скрадывания звука, аппетитных недомолвок, лихих наворотов ослепительной неоклассики, то ли от простоты и изящества, хрупкости и аристократической надломленности на монотонном протяжении звука. - Теперь, ты, сбацай-ка нам осточертевшего хард-рока. - Не тыкай мне, хохол, - горячится серебряный, - слушаем и анализируем, вашему вниманию будет представлена композиция Tender surrender. Медленная танцевальная мелодия с редкой импровизацией переходит в тончайшую клинопись мелкой и очень быстрой игры, классические роковые риффы совмещаются с талантливыми взвываниями и стонами, похожими на рев раненных животных. Где же наш беспристрастный? Посередине появляется тот, чей голос мы слышали. Сидя, он подбирает смычок и елозит им по струнам гитары: « Итак, все свободны!» - Но, как же, вы еще не…. - Молчать, меня плохо слышно? Гитары в руки и шагом марш отсюда Слух, между прочим, для музыканта важнее, чем зрение, - подумав, - и чем вкус. Поговорите со своим тур-менеджером, отмените ближайшие концерты, относитесь к себе как к людям и приучите к этому остальных. Сходите к отоларингологу, применяйте вату, наконец. Ужасно сварливы все эти музыканты, нельзя с ними дел иметь (сокрушаясь). На самом же деле, я мальчик из фундука, и руки мои плотно приросли к телу, так что в углублениях со временем собирается пыль. Я слишком мал и одинок для такого большого мира; внутренняя трансматериальная гипотетическая волноподобная субстанция улетает невесть куда, оставляя сухую мумию тельца глухим поленом валяться на земле. Тем не менее каждое утро я нахожу в себе силы продолжать дело, начатое еще не мной. На улице жуткая жара, нестерпимый тлеющий зной, словно разбивающий воздух на зримые корпускулы, находящиеся в дрожащем движении, мироточащие неутолимым страданием; все живое мается вне стен нашего дома. Во мне горит необъяснимое желание работать, словно дни мои сочтены, а палач, отрывая календарный лист, украдкой любуется мастерски отточенным топором. Что ж, любая деятельность, связанная с альтруистическим оживлением мыслей, несомненно, идет во благо, трудитесь, трудитесь, не покладая рук, о, кочегары горнил души моей! Сейчас я работаю над опровержением довольно распространенного мнения о схожести произведений одно русского и австрийского авторов. Труд этот многословен и погрязает в деталях, за которыми нет стройных идей, он, будто исподволь, подчиняется закону неопределенностей, возникшему здесь непонятно откуда. Иногда я начинаю задумываться, а не являюсь ли вечным оппонентом мнимого докладчика. Может, я не художник, может, я всего лишь бесплодный критик, ищущий прорехи в чужих доспехах, когда сам одет в рубище. Мной руководит жгучая потребность возражать, спорить, что никак не может претендовать на роль жизни, лишь на роль ее чахлого заместителя. А мысль проста: Йозеф окаменел и начинает просыпаться, а Ц. страдает, оставаясь, по сути, единственным живым на протяжении всего романа. Если Вы заведете разговор о стилистике почерке автора, то и здесь я найду, чем возразить. Немец не щеголяет в различных нарядах, облик его всегда уникален и узнаваем, хотя сила отдельных черт его таланта, глубина и объем их использования варьируют. Русский дворянин не так аскетичен, как бедный клерк, по иронии судьбы его стиль открыт влияниям всех стран и национальных особенностей, как и весь мир был готов когда-то приютить изгнанников. Он умело подражает, чего немец никогда не мог себе позволить: мимикрия в его понимании отрицала бы стихийность искусства, а, следовательно, и вдохновения. Часть мыслей не решаюсь пока доверить бумаге – храню в себе и любуюсь их свежей первозданностью, которая, наверное, содержит немало узнаваемых черт автора. Удовольствие хищника, спрятавшего убитую дичь и понимающего, что в любой момент может за ней вернуться, но, тем не менее, бродящего с пустым желудком. Мной овладело беспокойство, я брожу по деревне, заглядывая в некоторые дома с вопросом: « Не здесь ли живет плотник Петров?» Это условный адрес моего сегодняшнего приглашения. В ответ обычно появляется полная дама в цветастом халате и переднике, в свекольного цвета косынке; лицо ее явно дает нам понять, что его обладатель уж точно знает ответ, на мучающий нас вопрос, и готов им поделиться. Бабенка просит меня повторить меня вопрос. Снова и снова, мне бесконечно приятен звук вашего голоса. Вытирает руки о захватанный передник, готовясь к долгим объяснениям, но вдруг от ее былого энтузиазма не остается и следа, и след простыл, как говорится. На убогом, ущербном лице заметно лишь тупое изумление, как это такому умному юноше, как я, могло прийти в голову беспокоить ее высочество из-за всякой ерунды! Ступай в хлев, неразумная скотина, иди в стойло работать челюстями: в этом году мы поставим рекорд надоя. Но давно уж в перспективе взор мой сходится к одному дому, и, похоже, я точно знаю: это будет он, я фаталист – я в сговоре с судьбой, я Художник, обладающий предельно обостренной чувствительностью к разного рода совпадениям и перекличкам в аисторичном пространстве без времени. Однако не будем торопить события. Он отличен от остальных, по-иному отражен телеграфный столб в жидкой канители занавесок, иначе обрамлен фасад здания цветущим палисадником, прелесть тайны заключена в сладком облаке вокруг куста сирени. Не случайно, все предопределено, остановись, прислушайся и ты без труда поймешь, что ждет тебя дальше. По-другому быть и не могло, ведь я стучусь в ворота, на коих белеет номер пятнадцать. Хозяин обо всем осведомлен и жестом приглашает меня войти. Я извиняюсь, оправдывая ненужное вторжение желанием узнать о предстоящих событиях как можно раньше, чтобы не проделывать то же самое, но в спешке и совсем под ночь. « Я понимаю, остается добавить только то, что в наших рядах всегда отыщется местечко и для вас. Приходите попозже, в доме будет интереснее – ожидается много гостей, настоящий маскарад – не пожалеете!» - Можете рассчитывать на меня, сегодня, кажется, среда, в таком случае для меня большая честь…. Но господина теперь не видать, чересчур быстро растаял в излишне плоском проеме, неужели в него войти-то можно? Такое время сейчас, что из моих нехитрых пожиток тяжело собрать стоящий наряд, придется покопаться в кладовых, и то: старое тряпье будет выглядеть вычурно и нелепо. Поэтому здравомыслящий и чуткий сердцем человек непременно войдет в мое положение, пожалеет меня и не будет иронизировать над неуклюжими попытками найти компромисс между богатым чувствами миром прошлого и здравой умеренностью нынешних поколений. Глава 4 В этом году погода на черноморском побережье была особенно приятной. Каждый день был по-своему солнечный и незабываемый. Словно прощаясь, они сполна одаривали теплом и лаской всякого, кто выходил на прогулку вдоль морского берега. Если бы проезжали приблизительно в это время на поезде, путь которого пролегает вдоль скал воспаряющих прочь от соленых вод, вы бы, наверняка, увидели небогато одетого, ничем не примечательного юношу. Даже, если бы увидели, то, скорее всего не придали бы этому никакого внимания, собственно, в этом не было бы ничего такого, что могло бы показаться зазорным или неприличным. Сами подумайте, право, становится иногда смешно, когда видишь лица некоторых людей, которые думают, что упустили солидный куш. Но правы будут те, что заподозрят что-то неладное. Дело в том, что он был феноменально счастлив и одновременно мучался в неутолимом огне скуки и одиночества. По хорошему говоря, ему было наплевать на весь белый свет, кроме чего-то самого малого, это и заставляло теплиться жизни в его уставшем от невзгод теле. С определенной долей уверенности можно было утверждать, будто это непонятное и недоступное влекло его вдаль. Но посторонний наблюдатель, следивший за юношей в течение долгого времени, отметил бы, что вряд ли его целью стоит нечто конкретное и что он постоянно мучается отсутствием объекта поисков. Невозможностью выразить прекрасное и мимолетное конкретной формой. Чтобы, закрепив достижение, сделать его добрым средством от скуки и прочих невзгод. Непреодолимый барьер стоял на его пути, он знал о его существовании, но боялся думать, что настанет и его черед покорять неприступные стены крепости, обращать форпост неприятеля в изливающий свет Шлиссельбург. Но хватит попусту разглагольствовать, пора переходить к сути повествования. В этот летний день, утром, он, закрыв глаза, развалился на прогретых солнцем камнях выступающего далеко в море полуострова. Из-за резкого прохладного ветра глаза его немного слезились, припухли веки. Шелушились постоянно обкусываемые губы, по уголкам рта стояло легкое раздражение из-за сухой ветреной погоды. Надоедливым спутником нашего героя определенно стал проклятый насморк, в приятной полудреме он то и дело шмыгал носом. Иногда утирался рукавом свитера, у которого на локте красовалась знатная заплатка. Под голову для удобства была подложена рука, ибо немного удовольствия спать на сырых камнях. На ногах были потрепанные кроссовки, начинавшие расходиться по шву. Под ними прохудившиеся черные носки. В нелепой позе задралась штанина болотного цвета скромных брюк. От ветра и дождя спасает не очень теплая брезентовая куртка, уши предусмотрительно закрыты великолепной и аляповатой красной шапкой гребешком. Иногда сквозь сон он принимался скрежетать зубами, неразборчиво ворчать или угрожать. Порой мальчик начинал плакать, затем просыпался, чтобы успокоиться, глядя на затянутое низкими лохматыми облаками небо. Гнусно и тоскливо вопили чайки, чаинки, кружащиеся в океане всеохватного горя. Вокруг стоял солоноватый и бодрящий запах моря. Начинал приедаться постоянный звук прибоя. Откровенно говоря, не очень приятное местечко выбрал он себе для ночлега. Хуже на всем побережье не найти! Мчится, мчится с жутким воем поезд. Вихрь им поднимаемый подкидывает обрывок оберточной бумаги. Яростно бьют колеса по стыку рельс, летят камешки из-под прыгающих шпал. На их сухой, пористой поверхности, порыжевшей со временем, из едва заметных точек вырастают темные пятна. Гулко увесистые капли дождя ударяются об уставшее дерево. Еще не придя в себя после сна, сощурившись и суетливо, мальчик поднимается, надевает капюшон, и с поднятыми для тепла плечами бежит под ближайший мост. Вовремя, сразу после того его перехода в надежное укрытие разверзлись хляби небесные. Как завороженный, он смотрит на бахрому спадающих струй. Время замедляет свой бег, наслаждаясь природным действом. Морская гладь исколота тысячами игл. Чайки невозмутимо маленькими белыми лодочками колышутся у берега. Сомнительной чистоты земля под мостом, неожиданно расходится, разрезаемой вдоль по венам рукой, ручей крови увлекает комья грязи. Надежды на выздоровление нет, или все же…. Невозможно запретить человеку надеяться. Шикарными декорациями расходятся тучи над непроницаемо черной водой. Веер лучей одухотворяет неприглядный пейзаж, не вызывавший утром ничего кроме брезгливости, теперь полон романтического очарования. Можно выйти, он снова валится на землю и прислоняется к насыпи. Вчерашнее тепло переходит в презренное тело. Вновь смежаются веки. Ну и погодка разгулялась! Солнце светит вовсю, разгоняя оставшиеся силы неприятеля. Из по-утреннему мягкого оно становится ужасающим, грозным. Жарко что-то становится, душно вдобавок ко всему. Кристальная безоблачность неба. Перед сознанием проносится одна из многих картин, природа которых не вполне ясна и возможно, являющаяся разной для разных людей. Феномен, лежащий между миражом и галлюцинациями, особый род достовернейших воспоминаний того, что не было и возможно не будет. Руки по собственному желанию сводятся за спиной, искажается судорогой тело, голова отвалится назад, в бессилии закушена до крови губа. И снится мне, полдневный жар, иссушающе-камерная музыка церковного органа, пространство, пронизанное стеклянными нитями, или мозаика мрачных тонов, плывущих очертаний, восковое убранство пыточных камер, незримые клещи язвящие рассудок. Гениальный скелет крючится во тьме склепа, беззвучно воздевает руки в отчаянии, от невозможности разобрать захваченные на тот свет адски талантливые переливы d-moll. А то представляю, триумф по обе стороны, невиданный доселе успех. Сатана в восторге: Черт возьми, парень, как это ты так быстро пальцами двигаешь. Где это ты так наловчился? Практика, говоришь? Сейчас мы тебе твою практику-то и отрежем, рубите-ка ему пальчики, ребята. Будешь носом играть! А нет, – отжимайся на пальцах, развивай свои музыкальные отростки. Хотя, как посмотреть, индульгенций у прохвоста полный карман, пожалуй, был. Здравствуйте, - на таможне, мне наверх. А не жирно тебе будет, гнида? Ничего, нормально. А там господь, что надо, с чем пожаловал? Ну-ка, послушаем. Только он заводит свою песню, а боженька, сморщившись, как от дрянных яблок: Пошел вон, пока жив был, наслушался до дурноты. Думал все – утих, наконец, ан нет, он и здесь меня решил донимать. Сгинь, проклятый! Однако, что это со мной происходит? - подумал мальчик. Если так будет продолжаться, обращусь к врачу. Пока не поздно, хотя, впрочем, куда спешить? Стану инвалидом, все отвяжутся, оставят в покое, наконец. Многовато на себя берет мое окружение, мне нужно другое внимание. Ничком распластавшись на земле, он пробовал пошевелить головой, поморщился. Неприятно саднило, расшаталось все, - глубокомысленно заключил он. Не было никаких сил вырваться из плена горизонтального положения. Острые края камней кололи плечи и ребра. Лоб с проходящими поперек вертикали лица четырьмя крупными морщинами испачкался в размоченной глине. Нос попал в глубокую пропасть. Губы питались водой соленых брызг. И цунами бы, ударившее о берег, не заставило его изменить свое положение. Не было принципиальной разницы, куда обратить внутренний взор. С равным успехом можно было наслаждаться экзотическими проявлениями субтропической реальности или изучать новые оттенки игры причудливого инструмента души. Да-да, вот так валяясь в грязи под южным небом. Иван первый: я уже потерял всякую надежду избавить тебя от твоего невыносимого пессимизма. Прошу, конечно, твоего прощения, ты же не переносишь этого якобы плебейского выражения, но уже порядком много времени, я уже заждался того благословенного богом момента, когда ты подымешься с этой сырой земли. Ободрись, на дворе хорошая погодка, поют птички. Пошли, вставай! Иван второй: отвали. Иван первый: Какая грубость! Не пойму, что я в тебе нашел. За что господь назначил меня к тебе в провожатые, что я сотворил такого дурного. Смею надеяться, что не весь век мне придется занимать себя таким скверным образом. Послушай, тебе, действительно, нравиться так валяться? Мы с тобой, как хрюшки летом, которые возятся в ближнем водоеме. Иван второй: чрезвычайно трогательно. Тобой могли бы гордиться несколько веков назад голландцы. Иван первый: можно ли дождаться от тебя чего-нибудь кроме заносчивых замечаний, исключительно оскорбительного характера? Ты смотри, я слов на ветер не бросаю, сейчас вот встану и пойду один. Иван второй: пожалуйста. Я тебя не пленю. Иван первый: черт возьми! Что же ты такое говоришь. Слушать уже противно такие противоестественные заявления. Как ты себе это, интересно, представляешь, позволь поинтересоваться? Иван второй: да что ж тут непонятного? Есть один способ…. Иван первый: да нет, нет. Ты на это не пойдешь. Я в это никогда не поверю. Чтобы ты? Никогда в жизни. Слышь, ты же не станешь этого делать, ведь правда? Пожалуйста, я тебя умоляю! Иван второй: старайся избегать патетических сцен. Они делают твое поведение ненатуральным. А насчет этого, я же не говорил, что все решил наверняка. У меня нет особой мотивации, мне и здесь не плохо живется. К тому же все это слишком броско, слишком ярко, как будто я кому-то бросаю вызов. А мне не хотелось бы, что бы меня запоминали, как позера и пустышку-человека. Постой, чувствуешь эту томительную прелесть, разлитую в воздухе, словно мы в розовом саду? Сладкое предпраздничное волнение победителей, предвкушение обладания немыслимыми прелестями молодой жены, когда застенчиво сознаешь собственное счастье. Отчего радость до боли переполняет мою истерзанную душу, я не перенесу величия такой страсти, я не создан для нее. Ведь на созерцание красоты сбегаются немыслимые толпы, так я не могу существовать. Где же выход, ведь одновременно я не смогу играть на пианино, запершись в чулане, мне надо с кем-то поделиться своим настроением. А они разнесут всем; нет надежды, я не знаю что делать…. Иван первый: преклоняясь перед вашим величием, я, тем не менее, отношусь с сомнение к здравости вашего рассудка. Что-то несвязное, я бы так выразился. А что касается прелести, как вы выразились, (краснеет) то я только за. Только где эта самая замечательная возможность, о которой вы твердите? И вот еще, меня тревожат ваши пристрастия к удовольствиям чисто платонического характера. Так на мою долю ничего и не перепадет. Иван второй: Что ты там бормочешь? Я тебя не слышу. Говори, пожалуйста, членораздельнее. Ты будто запыхался? Оправься, приведи себя к нормальному виду. Не выношу, когда ты весь красен и вспотевший, словно весь день работал или только что изза стола. Омерзительно (вздрагивает)! Почему, интересно, между нами такой разлад, почему мне приходится тебя все время одергивать, держать под неусыпным контролем? Мы должны жить в гармонии и понимать значимость друг друга, а выходит нечто совсем другое. Постоянная ругань. Чертова жизнь! Как меня все это достало, если б ты знал. Как все же истощает обыденная жизнь. Еще немного и моего терпения не хватит. Сколько будет продолжаться это посмешище, этот бродячий цирк, этот передвижной зверинец? Иван первый: (робко) Если это вопрос, то можно уточнить, о чем идет речь. О каком зверинце, о каком цирке вы говорили? Иван второй: Считай это загадкой, в которой я не желаю становиться медведем в клетке. Иван первый: Час от часу не легче, вас понимать труднее от предложения к предложению. Вы движетесь вниз по воронке и когда завершите свой путь будете совсем один. Иван второй: Я должен бояться? А разве я не обречен вечно скитаться в одиночестве и пугаться собратьев? Иван первый: Все же помните, были немецкие романтики, они говорили ровно об обратном. Иван второй: Эх, дорогой, знаю, знаю и потому сомневаюсь, только времена сейчас другие. Плотного сложения Иван первый сидит, облокачиваясь спиной на насыпь и свистит, сложив толстые губы в трубочку. Проводит руками по волосам. Иван второй валяется в грязи, в размокшей куртке с бледными оголившимися руками. У него узкие плечи. Нескладная фигурка длинна; под глазами, разными по форме, синие круги. Немытые волосы в беспорядке. Делает вялые попытки приподняться, наконец волшебным образом принимает то же положение, что и его собрат. На упоминавшееся подобие набережной, где и происходила описываемая сцена сходит по наклонно-проселочной дороге дивной красоты девушка. Иваны замирают глядя на то, как солнечные лучи ласкают ее полное молодой красоты лицо. Это был чрезвычайно живописный образ, и если бы наши друзья были художниками, то они немедленно взялись бы за кисти. Необязательно бы этот шаг исправил создавшееся положение, так как для этого требовалось и умение понять, проникнуть в красоту, передать скорее свое отношение к образу, чем конкретные детали. Символ вечной женственности или горящий огнем незыблемый профиль юности. Незнакомка не была красавицей, но излишняя привлекательность, соответствие идеалам может и отталкивать. Это лишает живости и своеобразия, ведь если бы все было таким, как нам хочется, очень скоро мы зевали бы от скуки. Лицо было слегка неправильным, но отчетливо было видно благородное происхождение. Может, кровь египетских фараонов, индийских раджей или татарских темников, вошедших в родство с русскими князьями. « Ах, потаскушка», удовлетворенно заметил первый из Иванов. Второму это, очевидно, приходится не по вкусу. Он больше не может терпеть грубость и хамство первого. Любительски размахнувшись, боязливо тычет кистью, основанием пальцев в лицо первому. Он же под влиянием физического действия и в большей степени из-за эффекта неожиданности принимает положение, в начале действия занимаемое его собратом. Ах, все же, это настоящее наслаждение для художника, образ такой чистоты, такой силы! Настолько цельный, что в воспоминаниях невозможно различить отдельные черты. Что же осталось в памяти, что не затронуло чувств? Она была очень худенькой. Казалось, можно сказать, что находится прямо за нею, будто и лучи света восторженно огибали ее, боясь обидеть, нарушить священный покой, а затем, добровольно приняв завидную роль новых избранников, послушно торопились принять прежний порядок шествия от объекта до наших глаз. Все в ее внешности располагало к близкому знакомству, говорило о ее тактильной привлекательности. Должно быть, чрезвычайно приятно держать в своих искалеченных пальцах ее восхитительные ручки или в уединенном месте обнимать ее мягкие плечи. В постепенной эволюции своих взглядов, я остановился на одной простой, но как мне до сих пор кажется, верной мысли: в отношениях с любимыми людьми абсолютно не применимы категории порядочности, одухотворенности, интеллектуального развития. Разумеется, в отрыве, от общего русла привязанности. Лицемеры и лже-эстеты хором примутся нас уверять, что такое упрощение недопустимо, что оно низводит человека на уровень пещерных людей. А почему ваше представление не является намеренно-безвкусным схоластическим усложнением? Создание мнимых сложностей, не имеющих реальной опоры и только, а я, по крайней мере, остаюсь искренним. Впрочем, отчего-то я заговорился, дорогой читатель, став посланником собственных мыслей, когда я являлся всего лишь воображаемым свидетелем, а героем был, тщедушный и утомленный мальчик, сидевший на берегу. Примерно в тот самый момент, когда я отвлекся от повествования, первый, а теперь и единственный из Иванов, взглянул наверх. Странный зрительный образ явился ему: два практически игрушечных паяца, с ногами пружинками и корявыми ручками из деталей конструктора, мерзко пританцовывая на месте, показывали ему табличку, лозунг, начертанный от руки. Говорить ли, к чему он побуждал нашего скромного героя, не привыкшего к негласным нормам все же временной действительности? Однако откуда это во мне столько манерности рассказчика? Специально, дабы искоренить непозволительное автору чувство стыдливости: на смастеренном вручную плакате, было написано «она твоя». Не говоря о том, что это порядком походило на упражнения третьеклассников в определении родов существительных и о том, что полукоммерческого характера надпись была видна весьма нечетко герою, страдавшему неожиданной близорукостью, все это было призвано омрачить моменты радости и вдохновения Ивану. Тревожно под чужим взглядом, тем более, что под неопределенно-распутной нею подразумевалась та прелестная девушка. С беззаботной безнаказанностью сна, египтянка подходит, загораживая собой солнце. Пора и ему начинать свой разговор. - Hello, I love you, want you tell me your name? - хрипло, простуженным голосом. - Простите, что? - Двери восприятия отворены настежь, скоро их вообще снимут с петель. Арабески причудливых рисунков наших судеб имели счастье пересечься, так не будем же делать вид, будто нам все равно! - Как то, так сразу, да я даже не знаю вашего имени. - Я Король ящер. - Возможно, это очень смешно, но боюсь, я не поняла смысла вашей шутки. - О, это не страшно, можете называть меня Иоганн Маусман. - Ваш псевдоним? - Почти, имя моей души, прихоть сознания или желание самоопределиться. Так ли это важно? На поводке она ведет изящную кошечку бело-рыжей расцветки. Аккуратно переступая с камня на камень, она путается под ногами хозяйки. Водит закрученными вперед усами по бронзовой ноге, тычется в нее влажным носом. Иван пробует встать на ноги, опирается на цементный уступ, но привычная боль в плече правой руки сводит его усилия на нет. Он оставляет этот план. Делает вид, будто ему необходимо придти в себя, трясет опущенной головой. Но вдруг заученным движением запрокидывает голову назад, прижимает руку к носу. Кисть обагряется свежей кровью. «Ах, досадно, мне, право, очень неловко, что я вас делаю свидетелем не слишком приятной сцены. Со мной такое частенько происходит. Представляете, едешь в метро, вагон полон народа, и тут все разом на тебя оборачиваются. Не люблю привлекать общего внимания, что за гнусное любопытство! Хуже всего, когда в руках книга, какая-нибудь сумка. Соберешься убрать, там, в рюкзак, скажем, книгу. Поворачиваешься, чтобы открыть молнию и опять кровь заливает подбородок, надгубье, подбирается к шее, марает одежду. Успеваешь достать побуревший платок, чтобы закрыть нос, вроде успокоилась, отнимаешь от лица, вытереть куртку, она опять прорывает временную плотину, застит лицо, клейкой жижей плещется в глотке, невыносимо. Черт знает, как с этим бороться! » «Несчастный, как же вы с этим живете?» «Если бы это было единственным, что досаждает мне! Ветер, дующий прямо в лицо непременно заставит меня условно заплакать, или солнце, что-то, похожее на аллергию. Бывает так, что, не о чем не думая, брожу вдоль улиц шумных и встречаю известных мне людей. Но, верите ли, не могу смотреть на них прямо, не отворачивая взора. Мистика не иначе, если же упорствую на своем, начинают слезиться глаза, я неестественно часто моргаю. Часто бывает так, когда я знаю этих людей весьма поверхностно. Странное смущение овладевает мною во время самого выбора: подойти и поприветствовать либо оставить незамеченным, сделать вид, что не признал. Ведь в их силах обратить это против меня, жестоко насмеяться надо мною в своей компании, сказав, что незнакомы со мной или просто промолчав, оставив мое приветствие незамеченным. На самом деле, я очень замкнутый человек. Я боюсь быть со всеми откровенным, это как сдаться на милость врагу ». «Странно, по вашему поведению этого не скажешь». «Да, с вами у меня получилось по-другому: в вас я сразу разглядел близкого человека. Я чувствовал себя обязанным предупредить вас о своих врожденных недостатках, прежде, чем начать разговор». «Благоразумно», - с улыбкой. Какое суждение мимоходом высказал Иван в разговоре с прелестной незнакомкой, на черноморском побережье, во второй половине дня? О вечном утверждении человеческого духа во всемирной литературе. О чем они рассуждали также особенно увлеченно? О роли традиционного мифа в современной литературе. Какое из его мнений было достаточно смелым и прогрессивным, если не сказать, объясняющимся с позиций элементарного невежества? Мнение, заключавшееся в том, что Чехов был прирожденным автором рассказов и острота его таланта меркнет, тускнеет на протяжении длинных пьес. Из которых «Вишневый сад» - самая нудная и скучная, хотя написанная с большим вкусом. «Признаться, я вам не очень поверила, вы со мной не очень откровенны». Кто из нас смущен больше? «Вы думаете, я стараюсь себя выставить в выгодном свете? Я заслуживаю более сострадания, чем любопытства». «Это тоже, но тот ли вы за кого себя выдаете? Впрочем, это не так важно, ведь неизвестно, какой из слоев считать подлинником, не лучше ли прогуляться?» «Удивительно верно сформулировано, всей душой за ваше предложение!» Перед тем как взять ее за руку и пойти вдоль безмятежных просторов новой земли, Ваня долго смотрит вдаль, на то, как волны подтачивают небесный свод. Два года назад, точно, два, все то же самое. Как во сне, будто с нами играют, вертят нами, как хотят, будто мы марионетки. Подгадывают наши встречи заранее, хохочут над нашим изумлением от совпадений, а то и мстят за прошлые промахи. Ничего не бывает просто так, без связи с прошедшим и, если она замечена, то считайте ее своим достижением, но не просчетом. Не увидевший композиции полотна, не насладится множеством незаметных симметрий. По дороге со втоптанными в поросшую неприметными травами землю камнями мы движемся вверх. В не слишком заселенный назойливыми туристами городок, более провинциальный, нежели курортный. Но, знаете, есть в их пустоте, тишине их простых улиц, зелени их бесконечных садов, закрывающих собой низенькие многоквартирные дома еще довоенного происхождения какой-то свет, какая-то привлекательность. Сознание обособленности; в нашем мире постоянных трагедий и громких перемен они несут спокойствие, непритязательную мудрость. Они смирились со своим положением провинциальных городов и живут своей внутренней жизнью. Радости их жителей более полны, более осмысленны, они успевают их прочувствовать, ощутить вполне, а не пробежать, забыв на следующий день. Событие надо ожидать, тогда его появление доставит больше радости, впрочем, смысл этого понятия растворен, его невозможно выявить в однородности течения уездного пребывания. Но главное в другом, моменты радости чрезвычайно кратки, это впечатление, которой своей силой держится в течение множества лет. Связанные чаще с переворотом нашего сознания, его краткой способностью преломлять сущность обыденности, искажать ее. Баба в металлическом тазу тащит мокрое белье через весь двор, затем вешает его на веревки, протянутые на металлических опорах. Спугнула голубей, примостившихся в тени дома и плотных крон орешника с рябиной. Двое ребят бегут наперегонки, один на самокате и резко отталкивается левой ногой, другой старается дотронуться до беглеца клюшкой. Сухой дедушка дрожащими ногами уже полчаса идет от скамейки до подъезда. Движение теней по лицу незнакомки напоминает кинематографические изменения пластилиновых гуманоидов, тут лицо улыбается, но вот уже хмурится. Ваня продолжительно окидывает ее взглядом. «Что, что-то не так?», - она спешит узнать. «Я где-то запачкалась?» «Нет, все в порядке, впрочем, мне отчетливо хочется, чтобы вы засмеялись или хотя бы улыбнулись, а я не могу вспомнить никакого анекдота. Мне хочется увидеть вас непринужденной, иначе, получается я вас веду силой. Это ужасно мрачно. Однако я осознаю, что переживаю лучшие моменты своей жизни. Заметьте, какое настроение создают эти пирамидальные тополя (мы вышли из дворика, окруженного жилыми домами), единения, античной четкости, эпичности. Знаете, что мне хочется сейчас? Чтобы мы совершили вместе какое-нибудь преступление, может быть, украли машину (печально, что слишком по-американски) и вместе бежали. За нами будет организована погоня, в лучших традициях приключенческих эпопей. Мы будем связаны этим проступком и будем нуждаться в помощи друг друга. Но это не будет кровавым деянием, ничего мрачного. Никаких последствий и гонений на нас, разумеется, тоже не будет. Всего лишь милая шутка. Почему-то мне запоминается последняя картина, будто мы ловко удираем от преследователей на водном мотоцикле, брызги, солнце. А потом мелкая деталь, оказывается, если вдоль берега идет железная дорога, то в момент прохождения поезда под водой слышен только шум перекатывающихся камешков». Египтянка, похоже, не слышит Ивана совсем. Но они невозмутимо идут дальше. Подобие набережной, тот ли это городок или уже новый? Неважно, все они на одно лицо. Слева покрытые дорожной пылью и солнечным светом харчевни. Между неаппетитными магазинами проглядывают дома местных жителей с крепкими деревянными или крашеными железными воротами. Поверху узоры-финтифлюшки из железа, безвкусная работа станка. Обильные грозди винограда манят прохожих внутрь. Внезапно поднимается ветер, слабый, но тревожный отзвук. На море веером расходится рябь. Тоскливо кличет чайка свою родню, трусливо бегут прочь собаки, поджав хвост. Козлы, встав на две ноги, опершись передними о школьную ограду, втихомолку пожирают листву. Неизвестно откуда почти перед ними взлетает с омерзительным воплем петух и растворяется в воздухе, как летний дождик. Впереди послышался шум, крики полоумных. Купцы едва успевали выбежать из лавки, чтобы затворить ставни, матери прятали детей, мужчины робко выглядывали из приотворенных дверей. Вот шестеро странников идут им навстречу. Иван уводит свою спутницу с дороги, она безропотно подчиняется и тихо выглядывает из-за его плеча. Они производили впечатление гигантов, хотя вряд ли бы нашелся человек, который с уверенностью принялся бы утверждать, что запомнил их рост. В них было множество черт дикарства, но сквозь них виделись барельефы героического прошлого. Странники двигались с удивительной быстротой, поднимая за собой вихри, крутящиеся столбы пыли. В раскаленном асфальте оставались глубокие вмятины их следов. Они не оборачивались на посторонних, взгляды их были обращены вовне, устремлены за пределы зримого. У первого из них в жилах, вероятно, текла толика арабской крови, это выражалось в грубом, черном волосе и смуглой коже. Руки его были рассажены и кровоточили. Два других были словно близнецами, отличающимися лишь ростом. Они были чрезвычайно атлетично сложены, тот, который повыше, нес за поясом широкий топор. Хищно блестело острие. Останавливаться на других не было бы смысла, если бы нас не удивляли последовавшие затем события и экстраординарная персона одного из путешественников. Он был среднего среди них росту, не очень широкоплеч, но массивного сложения. Он был грязен и устал, лицо сильно загорело на солнце, но, сохранив свои первоначальные черты, являло совершенно поразительную картину дьявольской силы и магнетизма, обаяния и невозможности долго находиться с этим человеком. Испепеляющий и безумный взор, контраст белка глазного яблока и черноты скул. Скоро они исчезли из вида. Пережившие эти волнительные моменты еще долго находились под впечатлением от увиденного, будто они заболели параличом или окаменели. Иван встряхнулся и подошел к дороге, там валялся маленький блокнот. Не долго думая, он схватил вещицу и запихнул к себе в карман, оглянувшись, вернулся на прежнее место. - Пойдем ко мне домой. Ты не против? - Охотно, познакомлюсь с твоими родственниками (говорят у греков чрезвычайно обширная родня). По дороге Ваня листает блокнот. Откуда бы начать? Можно из середины, ближе к концу: « Когда же закончится этот сумасшедший спуск! Вначале мы спускались по иссохшему руслу практически вертикальной реки. Прыгали с камня на камень, хотя с рюкзаками это не так просто. С особенно высоких приходится соскальзывать. Мы обречены двигаться вниз, по этому чертову руслу: края долины покаты и не укреплены в достаточной степени растительностью, лишь побледневшая трава, а сверху сомневающееся небо. Но и это не бесконечно, впереди обрывы, которые, если бы по ним текла вода, напоминали водопады. Обходим сбоку, чувствуя холод пустоты позади. Страсть, как не люблю открытые пространства. Но выхода нет: соскальзываем по грязи с фантастическим наклоном. Хватаемся за любую растительность, которая попадает в руки. Смехотворные лопухи влажно трещат и ломаются. Того гляди я упаду, потеряв равновесие, ненавижу всякие фокусы, связанные с ориентацией в пространстве. Лучше бы уж сразу закрутился калейдоскопом горизонт. Кажется, приходит избавление: погружаемся в заросли. Но облегчением это является довольно относительным. Вокруг экзотически вьются колючие лианы, нет, это не фантастическая декорация субтропиков, это, скорее, элемент обстановки пыточной камеры средневековья. Угодливо кланяется падуб, стелется по земле и мстит за свое положение угнетенного, впиваясь жесткими шипами в ноги. Рододендроны организуют невысокие преграды, внимание сбивается, и ты то и дело спотыкаешься. В конце концов, плюнув на все, начинаешь прыгать по этим кустам вниз по склону. Ощущение правдоподобия пропадает совершенно, в итоге, я упускаю из внимания неожиданно выступивший скальный участок и кубарем лечу вниз. Еще цел. Когда же закончится этот сумасшедший спуск! …» Ладно, потом дочитаю, - решает Иван и опускает блокнот в карман записной книжки. - Дорогуша, долго еще, я проголодался? - Нет, за этим углом, - чересчур обезличенно, холодно. Такое впечатление, вырежи из картины Ивана и вставь на это место какого-нибудь придурка, ее интонация осталась бы той же. Что за коровища? - М-м, это вот этот деревянный что ли? - Точно. Мы поднимаемся на второй этаж, до квартиры, дверь которой чудесно обита красными ромбиками кожи. Щелкает замок под напором ключа. Открыта новая часть необъятного мира. Снимаю куртку, вежливо здороваюсь с жильцами. От души пожимаю руку немому здоровяку. Прочувствовавшись, целую в лоб дряхлого старика. Утешаю упавшего малыша. Стоп, назад. Причем здесь я? Иван, вот кто. Чуть не задев головой люстру, проходит к богато уставленному столу. Вокруг суета, бегают то ли официанты, то ли слуги, то ли заботливые родственники. Пропадают одни угощения, на их месте тут же появляются новые. Не успевает наш друг откусить яблоко, как и оно пропадает в недрах системы. Но его это только веселит. Он продолжает наблюдать этот маскарад. Над столом, вокруг стола летают шлейфы слухов, обрывки фраз. «Мне кажется, он идиот», не в обиду ему будет сказано. « Это следует объявить на государственном уровне». « Да не его ли это вышли записки?» Наконец хором с видом первооткрывателей: «Да он сумасшедший!» По чьему-то умелому наущению. Или послышалось? – Иван вертит головой. Входит неприятного вида молодой человек с короткой прической и непринужденной улыбкой. - Евгений Ардалионович, смею представиться, подходит тот заискивающе. - Очень рад, - рассеянно отвечает Ванюша. Он теряет общий план размеренного повествования, он заблудился, заплутал в перипетиях сюжета. Он не любил многолюдные сборища, состоящие из малознакомых субъектов, ему нравилось валяться на диванчике дома и читать либо слушать меланхоличную музыку. Вот, но это сбоку от основной линии событий. Он замечает, что Евгений удаляется с новоприобретенной подругой Вани, медленно затворяя за собой дверь. Ваня пытается вскочить и остановить их, но захмелевшие гости хватают его за руки и дружно усаживают на место. Грузный сосед весело грозит пальцем: « Озорник, так быстро не уйдешь!» Вскоре они возвращается, гречанка, слегка запыхавшаяся, поправляет юбку, вращая ее по часовой стрелке. Обнажая миловидный животик, покрытый загаром страсти. Они ненадолго расходятся по разным концам залы. Жадно налегают на бутерброды с икрой, с сыром и оливками на сдобные кексы с изюмом. Затем вновь, будто случайно, по наитию, со множеством неверных ходов и окольных путей находят друг друга. Воссоединяются на невысоком табурете у стены. Она сидит на коленях у мимолетного дружка, жадно прильнув к его устам, словно оторваться не в ее силах. У Ивана темнеет в глазах от ярости и бессилия. Тяжелая горечь опускается ему на сердце. Он в отчаянии, мир прекрасных замков и радужных, но робких надежд рушится на глазах. Теперь никакой тайны. Не впервые ему приходится столкнуться с болью этого рода. Мы помним, в каком состоянии он пребывал той зимой. Зимой, наполненной смесью черного и синего цветов, зимой глаз, приникших к холодному оконному стеклу. Зима гулкого бездействия. Истребляющей ненависти к собственному бессилию. Квадратных воплей и гнусного довольства пинг-понговых шариков. Снег, недавно истоптанный у окна, закрытого невзначай решеткой. Территория не для всех и он это отлично понимал, но времена те уже давно прошли, да и нынешние события воспринимались совершенно по-другому, без связи с его прежней подневольной жизнью. Я не могу позволить так цинично коверкать мои светлые надежды, - подумалось ему, - но кому будет адресовано это возмущение? Себе ли самому, этому стриженому мерзавцу, ветреной девушке или собственному прошлому, которое жадно посягало на нынешние достижения нашего героя. Весельчак с заплывшими глазками, сидевший, напротив, по неосторожности опрокинул на его руку заварочный чайник, дымящаяся вода заструилась по скатерти. Ваня ничего не заметил. Он вдруг почувствовал, будто вырос на две головы, плечи налились невиданной доселе мощью. Веселый здоровяк робко поежился; ты-то сиди спокойно, не ты причина моего гнева. И с этого момента имеет смысл разработать несколько вариантов дальнейшего развития описываемых событий. Связано это, пожалуй, с некоторой неординарностью ситуации. Ее всамделишной беспрецедентностью по причине малого опыта, как героя, так и автора. Первый из возможных путей состоит в примитивном приятии произошедшего, как некоего фактора действительности. Путь приятия жизни во всей ее полноте, во всем обилии приятных и отвратительных черт. Во всем искать для себя урок, считать это горьким, но, тем не менее, необходимым опытом. Правда, как и любому другому нашему поступку, этому можно дать другое объяснение причины. Наш дорогой Ваня обладает задатками фаталиста, и все затруднительные ситуации он возвращает судьбе на дальнейшее обдумывание и обработку. Этот поступок вполне объясним с позиций сложившихся в его жизни норм поведения; ему хочется воспользоваться ими в данный момент, так проще. Впрочем, внутреннее чутье нам подсказывает, что дело-то конечно не в этом: наш друг просто слабоволен, как ни печально это осознавать. Он рохля, тюфяк, он не может постоять за себя. Ему нет места в мире взрослых отношений конкуренции и борьбы. Всю жизнь будет прятаться за маминой юбкой. Что ж пусть страдает, пусть его мучают угрызения совести, пусть язвит попранное самолюбие. Последний пункт этого нехитрого варианта развития событий – внешние проявления. И тут все предельно ясно: он жалок и достоин сожаления, он ничтожество. Поведение соответствует созданному образу, Ванюша обмякнет, осядет, ссутулится. Оглядываясь, наполнит не до конца стакан и с грустью опорожнит. Затем будет долго смотреть в мутное стекло, вдыхать с обидой морской запах. Теперь, положим, он не вполне доволен сложившимся порядком раздачи. Его не очень устраивает поведение Евгения Ардалионовича или этой легковерной дурочки. Он не Ванечка, он Иван (принимает героическую позу), он не намерен служить посмешищем всем этим незнакомым людям. Иван порывисто встает, брезгливо стряхивает руки, пытающихся урезонить его собутыльников. Часть из них падает, опрокидывая лавки с оставшимися соседями. Они обильно орошают друг друга крепкими напитками, часть пребывает в состоянии шока от увиденного преображения или неожиданного падения. Гости испуганно расползаются по углам, закрывают головы обеими руками, вжимаются в грязный пол, чтобы и им не перепало. Иван разгоняет их ногами, желая поскорее добраться до уже изрядно присмиревшей пары. Он стоит перед нарушителями. Как поступить в данный момент, на кого обратить праведный гнев героя? Для начала, предположим в нем нелепое в данной ситуации рациональное зерно. Несомненно, Иван начинает разговор. Если на то пошло, то пусть он будет как можно более пафосный. Драматическая сцена в приморском городке. Окруженный со всех сторон пьяницами и нищими он начинает речь, гений риторического мастерства. Иван: Все, с меня достаточно, ноги моей больше не будет в этом доме! О, вероломная, зачем ты привела меня в общество почтенных горожан и осрамила пред их очами? Как я смогу теперь появляться на улицах нашего великого государства, как смогу поднимать глаза на людей?! Тебе больше никого не одурачить; ты думала, что можешь вертеть мной, как пожелаешь, но нет же, не подобает русскому дворянину валяться в ногах у простолюдинки. Как же тебе не стыдно появляться на людях сначала с одним кавалером, затем с другим? Что за атавистические проявления борьбы за господства в стае? Человечество благополучно пережило этот унизительный этап, но некоторые вновь возвращаются в те темные времена, благодаря своим богомерзким делам. Хорошо, я смирился с поражением, я уже ничего не требую. Но удовлетворите хотя бы любопытство того, кого вы унизили: в чем вы видите, получаете непонятное для меня удовольствие? Неужели было необходимо вовлекать меня в свои мерзкие интрижки? Вы хотите видеть мои красноречивые взгляды отчаяния и мольбы? Что ж, сейчас вы довольны, если так, то позвольте мне удалиться. Евгений Ардалионович: Ваши беспорядочные речи внушают нам опасения известного рода. Мы очень смущены произошедшим инцидентом и со всей возможной деликатностью попытаемся загладить свою вину. Иван: Твою мать, придурок, да ты что охренел? Что ты там мелешь? Ты часом не тронулся, ты победитель, я с позором себя изгоняю, я проиграл, а ты извиняешься. Ты должен гордиться такой добычей (горько усмехается и сокрушенно качает головой). Евгений Ардалионович: Никак не я в данном случае …. Смущенно замолкает, оглядываясь на гречанку. Гречанка: (надменно Евгению) Что ж ты извиняешься, пугало? Ты еще ниц пади перед этим самодуром. Да ты лучше всех их во много крат, - говорит она, обводя рукой толпу. Однако как ты робок, как всех их боишься. Нет в тебе гордости. Но за то я тебя и люблю, за твою кротость, за то, что ты слово грубого не скажешь, не съязвишь. С каждым стариком рад переговорить о его болезнях. Всем поможешь, каждому услужишь…. Иван: (продолжает) к каждому подольстишься. Однако, какой странный оборот принимает наш разговор. Я, значит, вовсе не причем. А пострадал наш любимый Женечка. Оказывается… Гречанка: Замолчите же, наконец (с видом монахини или сестры милосердия). Что, вы не можете хотя бы раз уступить, хотя раз не ответить. Учитесь проигрывать. Что касается меня, то я в данном предприятии отнюдь не преследовала целей корысти или удовлетворения естественных потребностей молодого организма. Иван: О как, намечается что-то интересное, если не это, то, что же? Гречанка: Мне было его жаль, я старалась вернуть его к жизни, к жизни наполненной наслаждениями, расцвеченной радостью и чувствами (задумчиво теребит кудрявую чернь его длинных волос). Иван: Хорошо, пусть так, верится с трудом, ну да ладно, а причем здесь я? Зачем было делать все в моем присутствии. Это же целый план по заманиванию меня в этот бордель, этот кабак. Зачем заставлять меня страдать. В чем повинен я? Гречанка: А вы будто не догадывайтесь? На вашем месте мог быть любой другой человек. Я лишь хотела дать Евгению возможность ощутить вкус победы. Чтобы он привык к этому, чтобы он боролся за это. Чтобы он учился жизни сильных ощущений, чтобы он вырос мужчиной. Иван: Чрезвычайно трогательно, мне бы тоже не помешала такая опека, - устало падает в кресло, наморщившись, потирает лоб. Как же так, как же так…. Значит я всего лишь средство? Но ведь это недопустимо с этической точки зрения. Как вы боретесь с моральным неудобством, которое возникает при постоянной смене, ну вы меня понимаете? Вам должно быть, наверное, стыдно. Я теряюсь, это невероятно, как такое может быть? Я всегда полагал, что все это совершается со всей искренностью, со всей чистотой души, а выходит, для вас это игра, обман. Я не верю, вы же такая молодая, - он пристально смотрит ей в лицо. Вдруг она открыто, не стыдясь, смеется ему в лицо. Сужаются разрезы глаз. От краев каплевидных разрезов отходят грубые морщины. Египтянка смеется грубо, во все горло. Иван, пораженный, отходит, заслоняясь, как заслоняются от сильного огня. Растерянно глядит вниз расширившимися глазами. На лице отражено неприятие, точнее сказать, отвращение к этой девушке к ее образу жизни. Омерзительно: получается налет доступности и растления коснулся и ее души. Осмысливая пришедшую идею, он ужасается: О, болезнь нашего века! Непостижимо, я всегда полагал, что красота неподвластна пороку. Выходит, это была ошибка, я заблуждался на ваш счет. Гречанка: Зачем вы подходите к нам, поколению будущего, со своими прежними нормами? Они устарели и не на что непригодны. Мы смеемся над ними. И потом ваши представления о единственности избранника, с которым ты собираешься соединить свою судьбу, этот пережиток рыцарства, агония темного средневековья – всего лишь желание собственника сохранить свое имущество неприкосновенным, а может, сквозь эти высокие слова о долге и нравах проглядывает низкая звериная сущность. Иван: Какая звериная сущность, где проглядывает?… Гречанка: Да полно, хватит притворяться, вы были похожи на интеллигентного человека, который в состоянии понять любой намек, а теперь кривляетесь. Вы не заставите меня отречься от своих слов. Мне не стыдно это произнести: пункт о единственности партнера, о борьбе за его поруганную честь и тому подобной ерунде пошла со времен турнирных боев самцов. Зверье, низменное и темное. Иван: Может, вы и правы, но ведь эти обычаи, эти порядки облагорожены временем, историей человека и его культуры. Они основаны на понятиях красоты, верности, благородства. Прошлое видоизменено в настоящем и его теперь не узнать. И, кстати позвольте поинтересоваться почему вас так отталкивает ваше звериное прошлое, ненавистное вам естество? Не от того ли, что вы сами своим поведением очень напоминаете дворовых собачек, жаждущих совокупления. И все ваше священное волнение, беспокойство ожидания – всего лишь раздражение перед течкой. Увы, аналогии губительны, вы сами мне подали пример, я же им воспользовался. Я не хотел вас оскорблять. Египтянка: Да у вас это и не получилось, не обольщайтесь. Странно, у вас несколько искаженное представление о нашем сообществе. Мы лишены предрассудков, нас не стесняют принципы, делающие вас невольниками. Мы свободнее, чем вы. Мы раскрепощены, мы вольны поступать, как пожелаем. Да, мы свободнее, мы, словно бестелесные духи, повинуемся любой своей прихоти. Мы не мечтаем, мы делаем, мы не ведаем томлений и душевных страданий, мы их скоро утоляем. Ваня, не мешкай, присоединяйся к нам, за нами будущее. Как экзотические, но безопасные и безвредные существа, наши последователи будут бродить по развалинам прежних мегаполисов и поражаться их мрачному сложению, их довлеющему консерватизму. Иван: И вы будете цыгане, а я буду Алеко. Нет, благодарю, я некогда не смогу принять вашей позиции, даже, если для сохранения суверенитета, мне придется стать отшельником. Мне противно то, что вы проповедуете. Тем не менее, не могу исключать зерна рационального в ваших рассуждениях. Конец. Это уже неплохо. Мы достигли некоторого конфликта основных героев, который позволил отразить некоторые черты исходного объекта (то есть Ивана), что нам и было необходимо. С определенной степенью глубины мы познали его эмоциональное строение, ознакомились с частью его убеждений, узнали его позицию в отношении определенных щекотливых вопросов. Наиболее проницательные из читателей могли предположить историю формирования его противоречивой личности. Однако, будем откровенными, нас не очень устраивает конец. Он бледен, он молчит, мы застаем всех героев задумавшимися, они расходятся, погруженные в размышления над позициями прежних противников, но они больше не убеждены столь несомненно, как ранее, в собственной правоте. Что ж это плюс, но данное сомнение никак не начинает проявляться в их репликах, читатели могут его только подозревать. Рассмотрим иной вариант развития событий. Таким образом, уже третий по счету. Придадим ему сенсационный окрас противоречий слабой и развращенной души. Итак, Иван стоит, расправив плечи, перед изменницей. Делает несколько шагов в их направлении, пока не подходит к ним вплотную. Девушка озадаченно оборачивается. Со слабой и мечтательной улыбкой Иван берет ее кисть, захватывая с тыльной стороны. Затем не резко, но с силой подносит руку к губам. Ориентируя плоскость ладони вертикально, так, что ее кожа и жилы напрягаются в районе запястья с большой силой. С удивительной нежностью он смотрит на сиреневые дорожки вен, порывисто подносит запястье к губам. Вынуждая испуганную девушку чуть ли не закричать. Юноша долго стоит в этом положении. Что-то неуловимо изменяется в воздухе, будто незримая искра пробегает между ними. Иван опускается на колени, все от бармена до последнего забулдыги замечают, как изменяется внешности красавицы. Она становится более рослой, более широкой в плечах, правда прическа остается прежней – хвост позади. Ноги немного согнуты, мыски обращены немного внутрь. Лицо волевое, округлое, на нем появляется что-то от преданности собачьего выражения глаз. Теперь она в джинсах и свитере, рука в ладони шире прежнего. Ее тело так и излучает необъяснимую уверенность. «О, властвуй мной, Венера в пуловере», - причитает Иван. Не говоря ни слова, дивчина ногой в кроссовке бьет Ивана по рукам так, что тот оказывается на коленях, опираясь на локти. На расположенную отныне горизонтальную спину Ивана она ставит ногу. Проходит минута и бывшая гречанка вдруг неожиданно заговаривает тонким голосом подростка: « Это все, что ты мне можешь предложить?» - Я ваш раб, госпожа. Я в вашем распоряжении. - Прекрасно, а что ты можешь сказать о моем новом друге? - Он великолепен. - Мало, тварь, - она бьет Ивана наотмашь по лицу. - Он неподражаем, он красив, он умен, я по сравнению с ним полное ничтожество. - Правильно, - девушка улыбается находчивости слуги. Затем бьет Ивана мыском ноги под дых, затем той же ногой по лицу, благо он наклонился, чтобы восстановить дыхание. Из разбитого носа ручьем хлещет кровь. - Как тебе это? - О, госпожа, любое ваше прикосновение – для меня неизъяснимое блаженство. - Ах, пачкун, да у меня весь ботинок в твоей крови. - Не беспокойтесь, я все почищу. - Не надо, после доделаешь. А сейчас будешь сопровождать меня с моим другом в спальню. Они втроем скрываются из виду. Иван сгибается под несильной тяжестью госпожи, но на его лице изображено удовольствие. Через несколько минут он сбегает вниз запыхавшийся и растрепанный, под правым глазом лиловый синяк. Раболепно согнувшись, он подбегает к бармену: «Знаете, госпоже понадобился кипятильник, у вас не найдется?» Ваня с видимым удовольствием проделанной работой, почесал голову и отложил карандаш в сторону. Поднял занавески и глянул в окно. Недурно получилось. Хотя проучить подлеца не помешало бы. Представиться, скажем, господином Яблоковым и вызвать его на кулачную дуэль. И для полноты картины проиграть: так эффектнее. Как Джонс Тарверу или Баррера – Пакио, а потом объяснять всем, что лишь желал счастья этой туземной красавице. Впрочем, уже поздно, а завтра надо подняться пораньше. Глава 5 ( под знаком Potamophylax’а) Пуская в свет мои мечты, Я предаюсь надежде сладкой, Что может быть на них украдкой Блеснет улыбка красоты... А.А. Фет На улице бодрствует солнце. Я, несмотря на очевидные несостыковки в сюжете повествования, нахожусь в одном из самых душных классов школы. Учительница вышла пообедать или по иной посторонней причине, но я понимаю, что учить меня собираются английскому. На доске уже записано сложнейшее задание. Похоже, самостоятельно выполнить его мне не судьба. Одновременно я с удивлением обнаруживаю, что являюсь всеобщим любимцем, этаким душой компании, заводилой и беззаботным весельчаком. Жизнь мне не в тягость. Мне благоволят все в стенах этого здания. Вот и подыскалась маленькая помощница. Как нечто само собой разумеющееся я принимаю ее услугу. Меня переполняет веселая благодарность, оттого что существование мое столь легко и приятно. Девочка торопливо пишет что-то на коричневой доске. Она ниже меня почти на голову, и моя рука с видом руки взрослого родственника по-отечески ложится к ней на плечо. Она с рыжими волосами, по лицу рассыпаны веснушки. Часть волос убрано в хвост и ложится поверх других, распущенных. Одета в мантию со свисающим капюшоном. В воздухе разлито чувство беззаботной нежности, бесконечного настоящего, веселой жизни в кругу друзей и приятелей. Собственное всесилие не знает границ. Теперь я вижу себя сзади и немного со стороны. Вероятно, с задней парты. Я кажусь себе невероятно обаятельным и остроумным. Хозяином вселенной, королем бытия, который каждого может одарить своей лаской. Я поднимаюсь с горячей подушки и сажусь. Охватываю стопы руками: за ночь ноги хорошо замерзли. Скорее всего, я плохо укрылся. Свет с трудом пробивается сквозь красноватые занавески. Иногда мне приходится долго приходить в себя после сна. Я люблю такие томительные состояния тепла и нечувствительности, когда слегка вспухает лицо, слипаются глаза, во всем теле ощущение уюта. Замкнутости и приобщенности. Не знаю, не получается выразить это еще понятнее. Да что и говорить, все и так с этим знакомы. Особенно немилосердно доверять себя в таких случаях холодному уличному воздуху. Внутрь прокрадывается гнетущее чувство незащищенности. Будто сидишь голышом в оживленном магазине. Где на тебя каждый может смотреть, сколько ему вздумается. И даже вслух обсуждать подробности твоего тела. Лицемерно прикрывая ладонью подлые уста, нашептывать подруге неприличности. А то и указывать пальцем. Затем не бывает ничего лучше, чем вместе рассмеяться. С поводом или без – непринципиально. Это, наверное, похоже на обличение друзьями в, без сомнения, мерзком поступке, а у тебя имелись причины его скрывать. Тебе охватывает стыд, позор разоблачения, груз осуждения знакомыми людьми. Ничего не поделаешь, надо хранить свои секреты. К тому же разряду мерзостей относятся публичное обсуждение дневниковых записей, выставки личных вещей. Общество не должно слышать исповедей! Это недопустимо. Мысли подобного содержания приходят и при виде проституток на специально отведенных для таких увеселений бульварах в цивилизованной Европе. Я теряюсь. Как можно стерпеть такое унижение? Как можно обрекать себя на такие нравственные страдания по собственной же воле? Представитель этой профессии будто объявляет конкурс: попробуй пасть еще ниже, чем я. Или они находят специальное удовольствие в наличии зрителей? Позволяет упиваться с небывалой яркостью абстракцией свободы. Из всех поступков, наиболее откровенно и кощунственно попирающих принципы западной морали и христианского учения проституция является самым ярким и возможно самым легализованным. Но, впрочем, все это ерунда и пища публицистов, а не повод душе заворочаться в своем гнезде. Кстати, нигде не выходили научные или популярные издания, посвященные психологии проституток? Получилось бы довольно свежо и остроумно. Но результат общественного приговора предсказывать не берусь. Одному моему близкому другу я в детстве говорил о своем оригинальном понимании этого социального явления. У меня это ассоциировалось с большой классной комнатой, полной учащихся. Со сплошными сиденьями и снегом за окном. Всех клонит ко сну от душного воздуха и дурного расписания без перемен. И на самых задних партах под покровом плотных дубовых панелей наших отечественных столов происходит самое интересное. Бледные лица и разметавшиеся волосы. Я опустил взгляд на доски под ногами и внушительные щели между ними и решительно встал. Хотелось есть. Недовольно урчал уменьшившийся в размерах желудок. Я снял крючок с железного кольца рядом с дверью, что в целом замышлялось, как замок, и толкнул тяжелую дверь наружу. Потом налево, хоть с закрытыми глазами могу пройти. Скамья у синей стены напротив двери. Спускаемся по лестнице за три шага. Но устройство дома не располагает к слепому воспроизведению предыдущих действий: дверь во двор открывается внутрь. Перешагиваем через порог и оказываемся на небольшом крыльце. Прямо и справа деревянные перила между столбами, поддерживающими наклонный козырек над крыльцом. Наряду с перилами от столба к столбу идут прочные и вместительные скамейки. Если вы пожелаете продолжить путь и не испытываете простительного желания преодолеть препятствие из перил, то ваш путь опять налево. По старому деревянному настилу, с проросшей между составляющими его досками травой. Небольшой участок земли около дома, со стороны крыльца, огорожен забором и превращен в принадлежащий нам же двор. По деревянному настилу вы пройдете к воротам. Они открываются на дорогу; изъезженный тракт оброс домами, претерпев метаморфозу обращения в населенный пункт. Трудно не согласиться с внимательным человеком, который, посетовав на мою непоследовательность, укажет рассказчику на необходимость описания забора, примыкающего к воротам. Забор подходит к ним только справа, так как с другой стороны они прочно вцепились в деревянную обшивку дома. Часть забора, идущая параллельно грунтовой дороге более древняя и сооружена нашими предшественниками. Он является, по сути, сплошным деревянным щитом, состоящим из двух вертикальных столбов, врытых в землю, двух горизонтальных реек, прибитых к столбам на разной высоте и перпендикулярных рейкам широких досок. Доски эти крепко приколочены к деревянным рейкам. Снаружи зазоры между ними загорожены дополнительными вертикальными брусками. Иная часть забора расположена относительно первой под углом более девяноста градусов. Инженерное решение по расположению новой части забора было продиктовано желанием закрыть брешь, возникшую на место разрушенного гаража переехавших соседей. Еще немного о внутренней обстановке двора: посередине стоят ровно четыре столба, оканчивающихся на уровне пояса. Это опоры для стола под открытым небом. После этого объяснения вам нетрудно будет понять назначение двух лавок и одного грубого стула, сооруженных неподалеку: здесь мы часто обедали всей семьей. Сейчас я собираюсь идти на другую сторону деревни за молоком. Так я хожу каждый день утром и вечером. Ради вас я начну свой путь немного из другой точки. Придется пройти до ближнего конца деревни и ради простоты и стройности повествования, начать нашу экскурсию оттуда. Это займет совсем немного времени, вот он уже виднеется. Значит, так, сзади нас знаменитый нефтепровод Горький-Рязань со штаб-квартирой в Кустово. Дорога идущая через село раздваивается, одно направление ведет вдоль нефтепровода. В конечном счете, оно приведет вас через плотину к просеке. По просеке вы путем недюжинных стараний, дрейфуя во мгле и неопределенности некошеной травы, молодых березовых лесов и более старых еловых, достигните деревни Комбре. Другое направление элегантно перешагивает нефтепровод, оставляя ему пространство подземных тоннелей и уходит в поля. Огибает видимую отсюда рощицу, скрывается за ней проходит еще немного и растворяется в траве. Отдавая путешественника на руки случаю. Странное здесь место начинается, глухое и нелюдимое, но приятное сердцу. Издалека оно тешит взгляд мягкими красками и общей завершенностью. Запустение – вот слово более всего подходящее к описанию здешних полей. Редкая пожухшая трава, вытоптанная стадом земля. Просторы, незнающие плуга и бороны. Можно пройти чуть дальше, до голых берез у Дальнего Болота. Держу пари, и вы будете поражены иллюзией дымки, создаваемой высохшими травами и редким ветром, который подобен водному течению на большой глубине. От непривычного отсутствия сильных звуков немеет слух, поднимается звон в ушах. В вышине, задумавшись, скользит хищная птица, властно расправив крылья, совершает неторопливый поворот, может, заснула? Или выглядывает признаки наступающего конца света, роковые события, заметные только с огромной высоты, течения пород земных? Несколько уверенных взмахов, не столько для поддержания полета, сколько для завершения романтического облика пейзажа. Делает круг, петлю, направляясь в лакуну лесного массива, обступившего ее со всех сторон. Мне кажется эта птица так же, как и я мечтает о далеких морях, по наивной ошибке или собственному желанию, принимая это локальное обрамление степной пустоты древесными породами за скалистые берега экзотических фьордов. Уныло или горько, скучно или восхитительно будет вам, оказавшимся здесь внезапно? Но не стоит предполагать диковинных сил, что сочтут за честь оказать вам услугу по моментальному переносу в страну описываемых событий. Это только наша с вами забота. Причем на мне лежит еще и труд убедить вас в обязательности этого предприятия. Чем мне еще уговорить вас, какие аргументы привести в защиту своего маршрута? Доверьтесь мне и внемлите душевности слов. Мягкие дороги возникают неоткуда и вновь пропадают в небытие, столь незаметно, что вы сами не успеете почувствовать как вдруг окажетесь посреди трав, скрывающих вас с головой, нежно щекочущих ваше лицо. Куда ни глянь, везде мрачные своды или стрельчатые арки высоких ветвей, зеленые фронтоны и стройные колонны ионического типа. Купола и причудливые пустоты. Сотни мелодических линий птичьих голосов. Тут можно провалиться по колено в канаву с водой, здесь вы станете выглядывать из окна на шум каждой из проезжающих машин. Вы прекрасно одичаете. Впрочем, что же это я? Мы еще стоим на пересечении двух дорог при выходе из деревни. Ежели вы смотрите на плотину, огораживающую искусственный водоем и по которой проходит дорога, ведущая на просеку, то ваш затылок обернут и любуется на продолжение этой же дороги. Про нее стоит сказать еще и то, что она проходит слева от огородов, пересекает еще одну плотину, задевает своим левым бортом о покосившийся забор кладбища и поднимается к автобусной остановке. Читатель, обладающий крепкой памятью, не преминет добавить, как это порождение инженерных навыков крестьянства, расположено относительно двух валов означенного нефтепровода. Вы уже немного ориентируетесь, можете пока сфотографироваться, а я отойду на пару минут. Так, ну ладно, все ли готовы, все ли в сборе? Можно начинать совместную прогулку по деревне с обзором местных достопримечательностей. Итак, первый дом справа – жилой. Рассчитан на две семьи. Крыт шифером. На одну семью приходится шесть окон, не считая окна боковой части дома. Чуть вправо от дороги сарай с загоном для скотины и курятник, или как его называют? К крыльцу ведут две ступени, под козырьком исправная лампочка. Рядом с сараем баня, еще дальше, вниз к зарослям – огород. Богатый палисадник. Пленкой против дождя накрыты шесть валков сена на зиму. У стены стоят удочки, вилы, грабли. Номер дома пятьдесят четыре. Над домом возвышаются печная труба и телевизионная антенна. Ах, милая моя, я бы расцеловал бы каждый миллиметр тех ступеней, я бы ринулся вниз с антенны, я бы подрядился работать у вас батраком на самую черную работу, я бы совершенно бесплатно нарубил вам дров на десять зим вперед, только не пропадай, не исчезай! По каплям ты выходишь из меня, растворяешься каждый день и каждый час тебя становится меньше, я теряю твой запах, я не вижу твоих волос, ветер стирает дорогие следы. Но я же делаю все, что в моих силах, я делаю сверх этого, и где прощение, почему все стерто забвением? Если этого недостаточно, я вспомню еще. Так, так, что же еще? Ах, да, сам дом бревенчатый, боковая стена скрывает свою наготу за посеревшими досками. Огород закрыт от проходящей здесь частенько скотины редким забором. Ха-ха, как в картине одного художника, помнишь? – забор был метафорой пилы. У забора, в тени, укрывшись от жары, дремлет пес. Слева от двери висит кнопка электрического звонка: черная на белом цилиндре из пластмассы. Она бережливо укрыта от дождя отрезанной половинкой консервной банки. У двери, перед порогом лежит потрепанный зеленый коврик из резины с шипами. Старые туфли и черные галоши облокачиваются на низенькую лавку. Все, моя память истощена, она отказывается говорить. Я умолкаю, про этот дом больше не слова. Могу прибавить еще и сведения такого рода : от этого дома до плотины обычно ходят напрямик. До нее около двухсот метров. По пути вам посчастливится встретить наполовину вкопанную в землю трубу, множество кочек и чудес внушительного роста представителей дикой флоры. Некоторые из них достигают таких показателей размера и цвета по сравнению с культурными собратьями, что суеверные местные жителями вправе считать их порождениями и плодами деятельности нечистых сил. По другую сторону от дороги ныне пустующий дом, выполненный небрежно и в нетрадиционном ключе. Ибо нижняя его часть сделана из белого силикатного кирпича, до уровня подоконника, а верхняя, как я себе это понимаю, из досок. Сзади покосившиеся хозяйственные постройки. С их крыш снят весь рубероид. Отчего при виде этих неудачников архитектурного наследия мне на ум приходят освежеванные туши диких животных. Отталкивающе натуралистично. Дорога из грязного песка и, словно лысина стареющего интеллигента, покрыта редкой порослью топтун травы. И, следуя заповедям великого русского любителя мелочей и деталей, отметим: выносимый сквозняком из слепых глазниц оконной рамы торчит клочок еще белой тюлевой занавески. Далее по этой же стороне белокаменный дом на две семьи. С ближнего к нашему дому края здесь до сих пор жила знакомая моих родителей. За счет коровы дружелюбно снабжавшая нас молоком и овощами, во время нашего здесь проживания. Но она переехала, оставив эту часть дома в своем владении, и живет теперь неподалеку, в новой части деревни. И ведь как странно получается: с одной стороны деревня умирает, а с другой растет. Будто есть в ней некое стремление, некий неизвестный наказ, который она терпеливо выполняет. Живет ли кто, с другого края дома мне неизвестно. Через хилую изгородь позади дома видны огороды и та дорога, ведущая к автобусной остановке. Напротив, в березах, небольшой дом с крышей из красного железа. Железный, метровый высоты забор. Кто здесь живет, мне, увы, неизвестно. На подоконнике увядшие цветы, лепестки мишурой закончившегося праздника лежат рядом с вазой. Снаружи обстановка комнат видна не очень ясно, с какой стороны не подходи – деталей не разобрать. Между рамами засохшие мухи висят в грязной паутине. Калитка закрывает подход к крыльцу. Из земли торчат закопанные вертикально резиновые покрышки грузовой машины. Для каких целей, шут его знает. Для разнообразия их можно пнуть. Делать мне нечего, в принципе, так я и брожу, день за днем. Убиваю их один за другим, разбрасываю бесценное богатство. Он чересчур расточителен, он мот, чем ему перед нами хвалиться? Видно есть чем; если богатство использовать как деньги, то оно лишится своей ценности. Продолжай в том же духе, у тебя неплохо выходит! В нашем деле самое главное – не потерять веру в собственную правоту, быть уверенным в том, что твое дело несет людям свет, твои речи наполняют их сердца надеждой и успокоением, ты нужен им, как воздух или свет. Постоянно, не эпизодами, не отдельными картинами, обрывками, а единым потоком, в котором будут купаться их души. Окружить себя ореолом славы, стать недостижимым идеалом, но оставаться неизвестным и желанным. Через твою работу они будут надеяться постичь тебя целиком, собрать тебя заново в своем сердце, ведь им так нужно удостовериться в твоей конкретности, реальности. Раньше они и представить себе не могли, что предмет их обожаний носит такую же одежду, как и они, его заботят те же новости, что и остальных. Но тогда получается, что они сами ничуть не хуже его, они равны ему, между ними вовсе нет никакого различия. А мысль о собственном богоподобии будоражит кровь. Но постойте же! Где я сейчас, и о чем думаю? Чем будут мои слова, прочитанные теперь вами? Где кончается моя миссия и где начинается труд самого читателя? И есть ли между ними, вообще, сколько-нибудь существенная разница при сознательно вносимом мною беспорядке. Вопросов попрежнему больше. Это хорошо, ведь это значит, что до конца еще очень долго. Далее, по правой стороне, если смотреть вниз от ближнего конца деревни к пока еще скрытому пруду посреди деревни дом моих старых знакомых. Не то чтобы я с ними почтенно здороваюсь при встрече, но знаю я их подольше, чем многих из вас. Слегка смещенный к центру от этого дома и немного до него не доходя стоит колодец. У него обвалился сруб, он весь порос крапивой и уже ни на что негоден. Метра три в правую сторону от него широкая и пыльная лавка. В солнечные дни это место будет выгодно отличать возникающая там тень от невысокого куста черемухи. Бревен, слагающих дом не видно, они закрыты зелеными досками, которые уложены многократно повторенным элементом в форме примитивной перевернутой треугольной крыши. Если вам придется проходить мимо этого дома ночью, то вы обязательно заметите горящий где-то в глубине потаенный свет, неприятно поражающий взгляд своим стремлением подражать свету солнечному. Вниз вдоль дороги сплошной забор высотой в человеческий рост. Как и во многих других домах входная дверь обращена на дорогу, а большинство окон правее двери. Вроде все, только, да, как и водится везде в округе венчает дом антенна, напоминающая корабельную мачту и нанизанное на него черненькое мухоподобное существо. Как-то получилось так, что я стороной обошел важный вопрос о населенности деревенских домов, поэтому и в данном случае позволю себе ограничиться сведениями такого рода: наряду с непостоянными жителями, являвшимися, видимо, родственниками, здесь наблюдались две более-менее постоянных персоны. Пожилая женщина неопределенного возраста и буйного нраву, любившая хорошенько выпить и поругаться, колоритный и молчаливый мужчина цыганских кровей. На жизнь преимущественно зарабатывавший, работая пастухом. У него были серебристые волосы и незаметная борода, да отчего-то кроткие и мечтательные глаза. Давно еще он любил утром, подгоняя отставших коров, звонко щелкнуть кнутом. И, представьте себе, был у него странный музыкальный инструмент вроде пастушьего рожка с экзотическим и раздражающим тембром. Я люблю глядеть на светящиеся окна в ночной темноте, на эти архипелаги, грозди, россыпи. Помню, эта привычка возникла у меня еще давно в Москве, когда я читал слова из букв, образованных каждодневными комбинациями зажженных окон соседнего многоэтажного дома. У каждого своя странность и, чем более эта странность непонятна остальным людям, тем более подвержен ей человек, словно стремящийся подчеркнуть свою отдельность, свою особенность. Будто бы эта особенность не могла придумать ничего лучше кроме, как заключаться в самой ничтожной детали. Иногда подобная верность человека своим оригинальным прихотям начинает нас раздражать, а этот человек делает вид, что все в порядке и не происходит ничего сверхъестественного. Порой это, действительно, проявление наивного, непосредственного характера, в другой раз позиция, согласно которой остальным придется мириться с чужими чудачествами, пусть даже и выдуманными искусственно. Впрочем, через дорогу, имеющую в профиле вид буквы U латинского алфавита, от дома пастуха, нежилой дом. Он почти развалился. Старуха, которая жила в нем то ли съехала, то ли померла от старости. Лет пять-шесть назад она еще сидела под окнами собственного дома и глядела на дорогу, может, ожидая чьего прихода или сама готовясь в путь. Двор зарос, опасно накренившись, безмятежно дремлет хозяйственная часть дома. Доски прогнили, ввалились внутрь, поросли мхом; вечный сон их судьба. По этой же стороне далее – образец ведения хозяйства. Дом какихто начальников. Не дает покоя призрачный дух богатства, вокруг терема разбросаны не распиленные дрова. Окна слегка запотели, нежные фиалки глядят из горшков. Скворечник, прибитый к левой стене ждет пернатых гостей. С другой стороны гараж из кирпича на две машины, с поржавевшими воротами. Гнедой конь переминается с ноги на ногу и отмахивается хвостом от мух. За забором богатый палисадник, над ним окна, правее крыльцо. Чтобы попасть к крыльцу, надобно отворить калитку, пройти по засыпанной гравием дорожке и подняться по короткой лесенке. За домом роскошный сад, в нем два строения, напоминающие обыкновенную деревенскую баню, они соединены двумя трубами. В пространстве между гаражом и домом узкий лаз, куда заходит корова на пути в хлев. На боковой стене, обращенной к нашему дому, еще одно окно. Здесь же живет подруга моих сестер, но теперь бы они друг друга и не поприветствовали; вот, что значит возраст, отдаляющий людей. На противоположной стороне, чуть ниже по дороге, но, в целом, на этом же уровне дом бабы Нюры. Также нашей благодетельницы. Дом очень опрятен, словно игрушечный. Довольно высок. Крыша из шифера и узкие серые доски чрезвычайно подходят друг другу и создают впечатление целостности и продуманного решения дизайнеров. Дверь смотрит вниз по дороге. Проход к огородам преграждает редкий забор, одновременно выделяя собственный двор, в дальнем углу которого баня. Около дома ходят куры, сокрушенно потрясая головой, стаей вышагивают гуси белого и серого цветов. Изредка встречаются две враждебные стаи и между ними случается стычка. Это сопровождается вытягиванием шеи, наклоном корпуса вперед, как жерла пушки, грозным шипением и устрашающим хлопаньем крыльями о тело. До прямых столкновений дело не доходит. Противники расходятся напуганными и довольными тем, что соперник испытал еще больший ужас. Входную дверь баба Нюра запирает на щеколду, при входе вам придется подняться по еще одной лестнице. Пол сооружен из оранжевых досок или коричнево-рыжих, как кому будет угодно. На полу цветастые половики, сделанные так, будто сплетены из пестрых веревочек. Когда поднимешься по лестнице, тебя встретит распластанная лисья шкура. Плотная и гладкая от множества прошедших по ней ног, она еще диковато пахнет зверем. У стены, что по левую руку, когда заходишь в дом газовая плита. Штампованная четырехконфорочная хозяйка унылых тюрем штампованных многоэтажек, здесь вынуждена умерить свои беспричинные амбиции и по велению крестьян тянуть газ из баллона. Блудливые язычки синего пламени, дрожа от наслаждения и трепеща на сквозняке, гложут железные формы траченной кастрюли. В пару кипит и благоухает простая похлебка. Если вас угораздит двинуться вдоль ближней стены по часовой стрелке от плиты, то вы очутитесь возле двери, из коей будет изрядно тянуть холодом – легко догадаться, что речь идет о двери на скотный двор. Его обитатели по разным причинам поразъехались, кто на скотобойню, кто на рынок, кто к родственникам на иждивение. Элементарный прямой угол образовали бы некогда отрезки, прочерченные от дома бабы Нюры, к коричневому дому на другой стороне, а от того в свою очередь к нам. Но вот уже несколько лет этого дома нет ни на одной карте, он стерт с лица земли, он канул в Лету, перелестнулась еще одна страница из жизни села. Тут жили строптивые дети то ли Мурманской, то ли Муромской земли. Они славились своим гостеприимством и хлебосольством, выдали замуж всех своих дочерей, похоронили своих стариков и исчезли с этого места, перешли на новое. Что заставило их так поступить, мне не известно. Может это был такой тип людей перекати-поле, которым все нипочем, у которых за душой ничего нет, или тяжелая тоска терзала душу их. Я их не виню, я не выношу им приговора, пусть этим неблагодарным делом займутся другие. Однажды поздней ночью, когда небо лизало крыши домов, из дома задом наперед вышел напомаженный старик и сказал фразу, запавшую мне надолго в душу своим стремлением к обманчивой простоте, к двойному дну, а говорил он, что очень опасно забыть ключ в квартире, которую он сам запирает. А его седой глуповатый внучок, что лупцевал меня, когда было время, носил на выбритом затылке надпись: узнать, проверить номер собственного телефона труднее всего, он дается нам извне, он дается нам заранее, но отчего все тогда с такой уверенностью обращаются к нам именно по нему? Этот племенная крепость северных кочевников была смежной с нашей развалюхой и поддерживался этот контакт цивилизаций и обмен технологиями через угрожающего вида сарай, сотворенный левшами, у которых, очевидно, ампутировали ту самую левую, из ржавого листового железа. После своего отъезда они не оставили и этого сарая, хотя он-то как раз более всех строений из принадлежащей им недвижимости подходил на роль собранного из конструктора. В итоге, на следующий год на месте сарая мы получили пустое место, и так как раньше с этой стороны у нас не стояло забора, ведь здесь был сарай, то пришлось строить новый. Таким неожиданным образом этот отъезд коснулся и нас; что и говорить – так бывает очень часто, человек, которому ты не уделял много времени в своей жизни, закрывал в тебе какую-нибудь брешь, но вот он исчез, и ты спешно пытаешься понять, что же все-таки произошло, как это так получилось, такая маленькая роль и столь громадная возложена на нее ответственность. Мелкая досада заполняет наше существо, как незаметная ноющая боль, как провинность в небольшой краже, лишенная выхода, она многократно изменяется посредством наших внутренних представлений о чести, нравственности, морали и совести, атрибутов, с определенной точки зрения, слабого человека. Но было очень верно сказано, что и эта слабость способна возвеличить человека. Но тогда, пожалуйста, устраивайте это вне связи с долгом и всякой моралью, быть может, это и не плохо, но к искусству не имеет ни малейшего отношения. Да что и говорить – абсолютно ему противопоказано. А подверженность героя коллективным нормам тотчас разрушит все наши планы, ибо наше детище перейдет на несколько разрядов ниже. Потому что оперировать мы станем вещами номинальными, не имеющими истинного значения, торговать обыденностью, в самом дурном смысле этого слова. При упоминании о ржавом сарае, я подумал об одном сюжетце, который сам ко мне некогда явился и я не сумел его никуда пристроить. Теперь самое время. Мои родители и я идем по некой улице, внутренним чутьем я понимаю, что это – улица, ведущая к Гимназии. И идем по направлению к ней от театра на Юго-Западной, из-за поворота самой Гимназии еще не видать. Тут начинает говорить отец: « А все же, Константин сегодня играл не очень». Тут надобно пояснить; обычно я с родителями играл в Гимназии в волейбол, помимо всего остального, разумеется. Происходило это по субботам. В таком случае, возникает законный вопрос: о чем же тогда говорит мой папа, если мы идем к самой гимназии, то есть по-видимому как раз играть? О событии, которое произойдет в недалеком будущем, или экстраполирует известные соотношения на момент времени ненаступившего? Эта одна из загадок. Но тут появляется очередной персонаж: Костя. Пока он молчит, но уже своим появлением заставляет нас хорошо задуматься. Он едет на низенькой платформе с колесиками, которую используют безногие калеки, разъезжая по вагонам столичного метро в поисках милостыни. Право, это очень весомый аргумент. Что же отец? Возьмет ли он неосторожно вылетевшие слова обратно? Но и он не так прост, после недолгой паузы к нему вновь возвращается самообладание. Он делает вид, будто нисколько не удивлен. И то ли разводит руками, мол, ничего не могу поделать, то ли бойко отвечает, что сейчас инвалиды и не такое творят, все рекорды бьют, самая спортивная часть населения. Костя в ответ на такое пренебрежительное отношение к собственному пожертвованию, немо поднимает совершенно убийственный аргумент – искалеченную руку, кисть без пальцев, словно обглоданный артефакт. Мне неведомо, сколько должна была продолжаться эта молчаливая дуэль, но, по любому, мы покидаем несчастного. И перед нами вырастает довольно непривычный пейзаж: на взгорке, как всегда Гимназия, а вокруг, куда ни глянь пустошь, как выжженная степь. Следует отметить, что все это носило несколько индустриальный характер, мрачные ландшафты редких кустов и вырастающих из земли ржавых кусков арматуры и ни души, ни следа от бывшей улицы. И последняя деталь: на лугу, справа от священного здания, в паре играют в волейбол мой бывший одноклассник, этим видом спорта никогда не увлекавшийся, и блистательный Максим Терешин, не нашедший ничего более остроумного, кроме как и здесь формой продемонстрировать свою клубную принадлежность. Загадка, одним словом, но ничего, меня сперва даже порадовала. Люди любят парадоксы, ляпы, казусы, любят когда городят несусветную чушь с невинным видом, любят, когда паясничают и беснуются, любят, когда над ними откровенно издеваются, любят, когда хлопают по плечу, когда пожимают руку, когда предлагают вместе выпить. Воспринимайте это как предложение покутить, вместе побить стекла дорогого универмага, угнать модную тачку соседа, которая постоянно воет сигнализацией под окнами, взывая о помощи, а потом сбросить ее с обрыва. Подумайте над моим предложением, оно еще в силе, вы же здесь по доброй воле? Собственно, как вам больше понравится. Я для вас как шут, арлекин выделывающий на потеху публике затейливые кульбиты. Далее, если двигаться по этой же стороне, вы поравняетесь с моим домом. У нас еще будет время поговорить о нем, обойти его со всех сторон, залезть в каждую щель, исследовать все углы. Глядя на его окна, не могу не рассказать об одном случае, как я раз проходил мимо этих окон ближе к ночи. В них горел свет, проникавший на улицу через красноватые занавески. Я совсем поравнялся с ними и тут понял, что боюсь заглянуть в окна, за занавески: их можно было отдернуть руками, так как форточка была отодвинута. Причем не так, знаете, в шутку, как боятся дети, сознательно понарассказав друг другу страшных историй, а по-настоящему. Испытываю необъяснимый мистический ужас перед этим. Так, что внутри что-то срывается и ты начинаешь торопливо вздыхать, а сердце биться о ребра как сумасшедшее. Кости в ногах растворяются, а правая нога мелко и неукротимо дрожать. До сих пор ни за какие деньги я не согласился бы этого проделать, сама мысль об этом внушает мне страх. Но это, скорее, был не страх, а боязнь испугаться еще больше, открыть ужасный факт, жизнь с которым мне представлялась невозможной. Дело вот в чем, увидев окна собственного дома снаружи, горящими во время моего отсутствия, я вдруг понял, что с большой вероятностию рискую, отдернув шторы столкнуться нос к носу с собственными двойниками: меня и моей семьи, которые преспокойно там расхаживают и занимаются там повседневными делами, которыми обычно занимаемся мы. Вдруг я увижу там самого себя, и я другой будет расхаживать в ярком свете электрических ламп, заместо меня кланяться и целовать ручки, лживо улыбаться и со знанием дела кивать. Улыбаться, вот это и вправду было бы невыносимо для меня, стоящего снаружи. Белозубой американской улыбкой, обнажая крепкие клыки, источая радость и невозмутимую уверенность в собственной правоте. И если его взгляд пересечется с моим, то он ни единой черт не даст понять окружающим, кого они видят, и кем двойник является в действительности. Отвергнет мое существование, и мне некуда будет податься. Метрах в двадцати пяти, в направлении перпендикулярном направлению дороги, на уровне нашего дома был еще один. Он пустовал еще с того времени, как мы заселились сюда. Окна были забиты досками. А стекла блестели черным в те редкие случаи, когда солнце удостаивало своим посещением проемы между досками. Еще тогда, стоя на чердаке заброшенного дома и глядя на свой дом с нового и необычного ракурса через щели фронтона, я понял, что моя судьба состоит в двойственности постижения, что я не должен принимать все сразу, что я должен оставлять часть впечатлений на потом, себе же самому, но умудренному, завидующему себе, но в детстве. Всегда я подозревал о существовании помощника, всемогущего, но пока бесплотного старшего брата. Так и теперь некто третий обращается за советом к ним обоим. Но родственники предпочитают разговаривать загадками и не любят грубую прямоту ясных ответов, ведь они не содержат ничего кроме самих слов, с помощью которых можно сообщить очень малое и над каждой деталью надо биться часами. Недавно нам пришла зашифрованная телеграмма от тайного агента на месте. Очевидно, он совсем сбит с толку опытной работой вражеских дезинформаторов и умелой пропагандой либо давно находится в плену и пытается подать знак, намекнуть о способе, который бы помог его вызволить оттуда. Что же он пишет? Вначале хорошо поработала вражеская цензура, если что-то и можно было разобрать, то только не после этих извергов. Он сообщает, что едет на пригородной электричке известного маршрута, идущего через Красногорск в Москву, под автомобильным мостом, принимающем эстафету Пятницкого шоссе. Вокруг неясные сумерки. В вагоне свет не зажжен. Говорит, будто очень напоминает раннее утро зимой, когда горят фонари вдоль крупных дорог. Рядом сидит известный ему человек, в некотором роде сосед. Неоднократный победитель чемпионата России по пляжному волейболу Дмитрий Карасев. Они не произносят не слова. Тут в вагон входит еще один замечательный пляжный волейболист. Сообщена, к сожалению, только фамилия: Кашкарев. Кстати, тоже участник последнего чемпионата России. Этот второй направляется к нашему агенту и в знак приветствия подает ему руку, тот разумеется польщен и не остается в долгу, протягивая свою. Но тут мнение Кашкарева о нашем агенте резко меняется и он протягивает руку сидящему рядом Карасеву, с которым также, скорее всего, знаком. Потом они выходят в тамбур, оставляя нашего шпиона в одиночестве. Вот и все, что можно извлечь из его бессвязного повествования. Придется выходить на него через этих двух волейболистов, может чего и получится, кто знает. Теперь снова по нашей стороне. Обзорный экскурс по окрестным территориям продолжается. Следует через небольшой промежуток за нашим домом. Их разделяет зеленая полянка с коричневой тропинкой, протоптанной коровами и нашими соседями. В доме, построенном на средства колхоза проживало две семьи. Поэтому у дома было два раздельных входа. Заколоченное окно нашего дома смотрит на этот дом уже не первый десяток лет, не моргая. Под этим окном скамеечка, облюбованная молодыми деревенскими парами. Мы собственно не имели бы ничего против, так как мы, похорошему говоря, люди приезжие, далекие от здешних проблем, а потому не имеем права вмешиваться во внутреннюю жизнь села. Но их взаимоотношения и бурная переписка оставляла следы не только на местной достопримечательности – лавке, но и на стенах нашего дома. Нехитрые чувства молодежи находили свое выражение в стихотворной форме, известных рифмах и романтических изображениях луны, соловья, розы. Ближе к нам жила угрюмая семья: низенький, усатый отец казахского или мордовского происхождения с испитым лицом, добродушного, но суетливого нрава, любящий к месту и не очень употребить грубое русское словцо, привыкший к этому настолько, что начал выражать применением таких оборотов не определенное чувство или настроение, а свое отношение ко всем явлениям природы, общественной жизни, конкретным людям, местам и так далее, полная, типично русского происхождения жена его, с белой и незагоревшей на солнце кожей, бегающими вороватыми глазами и, в целом, несколько мелкими чертами лица, что можно сказать, возможно, привыкшая к городской жизни и измученная суровым деревенским бытом, но свыкшаяся за долгие годы своего обитания здесь с обработкой огородов, обращением со скотиной, замкнувшаяся в себе и не умеющая улыбнуться, ответить просто без напряжения и тайной мысли и единственное дитя их – дочь, которая была старше меня на один год, сейчас-то я сократил этот разрыв, что замечательно интересной внешности девушка – ей бы играть в мексиканских сериалах соблазнительных мулаток ли, знойных ли дочерей пиренейских просторов, гордых и совращенных, и мечтающих отомстить за оскорбление кровавой местью сицилийской братии. Вот такие дела, единственный их недостаток – они быстро взрослеют и вырастают из круга твоего общения. Становятся неузнаваемыми, начинают ставить себя гораздо выше нас. Будто вместе не приходилось стоять под солнцем, тающим в бегущих облаках. В садах теперь растет южный виноград, ему стало гораздо привольнее, чем раньше, а девушка поехала в город из числа сокурсников выбирать себе жениха, с которым она примкнет к новому гнезду, где и проведет оставшуюся часть жизни. Или не так? Обычно, за вычетом редких случаев так все и происходит. Только придают этим событиям черты неожиданности и спонтанности, надеясь обмануть этим себя или кого-нибудь другого, выдать закономерность за случайность и сказать: нет, ничего подобного, ничто этого не предвещало, на это ничто не указывало, как будто это не было предопределено с самого рождения. Ну ладно, не будем больше об этом. Семья, живущая в этом же доме, но с другой стороны, низкоросла, но общительна, держит свору злобных собак, а детей воспитывала, прохаживаясь по их спинам колодезными цепями. Почти все в деревне приходятся друг другу родственниками, а потому вступают в родственные браки. М-да, не без этого, отношения между ними очень запутаны. Все лица мужеского пола с самого раннего возраста пытаются оседлать мотоцикл, если в детском сообществе обретение собственного транспорта выглядит почетным, то потом это становится повсеместным явлением и иногда приходит в голову, что люди забывают, как можно передвигаться пешком. С другой стороны два очень похожих дома, заросшие крапивой и лопухами. Боковые окна безнадежно и тоскливо поблескивают в лучах низкого желтого, как сыр, солнца. Они уже замаслились, оттого, что хозяева давно не глядели в них. В палисаднике часто сидят старушки и что-то обсуждают, иной раз и кого помоложе увидишь. Нигде он не ведает покоя, даже воспоминания заставляют его сердце биться учащенно. Одну прелестную девушку я часто вижу в той унылой компании, зря она пытается вникнуть в разговор старушек, когда я прохожу мимо. Некоторое время тщетно я пытался узнать милые черты среди проходящих мимо или сидящих на лавочках. Она изменила прическу, и это преобразило ее. Волосы приятного светло-русого цвета, теплых оттенков, она превратила в мертвенно-бледные выжженные, будто ненастоящие. Это напомнило мне питерских отморозков, тот тип людей которыми наполнена наша северная столица, с их пустыми лицами и обессмысленными глазами. Местность взращивает человека в своем духе. И лицо ее из по-детски шаловливого и невинного стало холодным, незнакомым, неприветливым. Ух, это убивает меня, после долгих и упорных поисков я пришел к закрытым дверям. С первого раза я даже не узнал ее, в магазине, просто улыбнулся, как и всем остальным. Если бы я знал с кем стою рядом и непринужденно раскланиваюсь, то звук потек бы из моих ушей обратно. Ее походка угнетала меня своим величием, за нею можно было следить только затаив дыхание, такая плавная и низкая, как раскачивающийся маятник судьбы, как орудие богов. Взгляд сам покорно следовал за нею, сложив оружие и вымыслы. Ее природная худоба и бледность мертвой хваткой вгрызались мне в память, эта естественность, против выпестованной, болезненной худобы нынешних московских красавиц, в это есть что-то роковое и властное. Я покорен. Тут же ведь существовал еще некоторый подтекст, дело в том, что незадолго до моего приезда сюда, в предыдущую описанную семью приехала старшая дочь повидать собственную дочку, взятую под опеку родственниками. Говорили, что она достигла таких глубин порока, что даже бывалые сельчане кривились от омерзения и называли ее ведьмой. Ее маленькая дочка с успехом осваивала бранные просторы русского языка и, как плеткой, охаживала выученными словами своих впечатлительных бабушку с дедушкой. Эта несостоявшаяся мать славными подвигами на ниве алкоголизма изрядно подорвала собственное здоровье и теперь выглядела как нельзя хуже. Она ходила постоянно с опущенным до глаз головным прибором – глухой косынкой, а ее иссохшее лицо напоминало выбеленный временем череп. Так вот эта госпожа своим синим спортивным костюмом и белыми волосами сильно напоминала красавицу описанную ранее. Тайная суть заключалась в этой связи, предсказание ли, предчувствие ли. По нашей стороне после двойного дома располагался отчетливо синий дом. Живущий там мальчишка, часто проезжающий на мотоцикле под нашими окнами и сверкающий голым торсом, не без основания подозревался мной в приязни к той красавице, но старые люди успокаивали меня, говоря, что ночью у него за спиной видны крылья, а один глаз обернут вовнутрь. Также тоном особой секретности они мне сообщали, что его старшая сестра с рыбьим лицом и водянистыми глазами сбрасывает уже третьего ребенка. Спотыкаясь о собак, заснувших посреди дороги, мы идем и разглядываем следующий дом с красивыми наличниками и красной крышей. Окна поросли паутиной, и, наклоняясь, смотрит в окно с высокого обеденного стола старик, положив голову на этот самый стол. Он так и не сумел привыкнуть к телевизору, потому большую часть времени смотрит себе в тарелку или в окно. Лицо его окаймляет широкая борода, он имел привычку вытирать жир с бороды прочитанной газетой. Поэтому, говоря о своем возрасте, старик замечает, что в самых корнях бороды у него еще можно найти сбежавшие со старых газет яти. Воздух у него в комнате стал таким тяжелым, что окна со стороны улицы похожи на аквариумы, а ложки часто всплывают со стола без посторонней помощи. Его вид вызвал у меня в памяти одно воспоминание, там я стою в очереди с мамой у молочного лотка, что возле метро. Мы покупаем кефир, простоквашу и что-то еще. Покупатель, стоявший впереди нас, еще раскладывает покупки по сумкам. Тут я обращаю на него внимание: он преклонного возраста, с развесистой русой бородой, озорными, веселыми глазами, в поношенной и заплатанной одежде. Говоря современным языком, старик был бомжем, но не до конца прошедшим эту долгую дорогу. Да и, как большинство остальных, так и не осознавшим себя в этой новой роли. Легко понять, что человеком, обозначаемым этим термином, стал кто-то другой, кого ты можешь увидеть со стороны, но, если ты сам становишься им, то это остается для тебя тайной до самого последнего момента. Ах, бедный актер, он так и не узнал, чью роль он играл столь талантливо. Помимо всего остального он, как и я, запасся в магазине картонным пакетом кефира. Это невинное совпадение очень обрадовало его и, будто одобряя мой поступок и мою покупку, он стал что-то с жаром шептать, улыбаясь и указывая на мой кефир. Вначале мне показалось, что его пафосные реплики обращены непосредственно ко мне, но затем я уловил в его речах толику помешательства и прекратил попытки вникнуть в их смысл. А глядеть на него просто из любопытства, совсем его не слушая, мне не позволила бы совесть, ведь тогда бы он принялся меня чтонибудь спрашивать с надеждой получить ответ, принял меня за спасительный остров в океане людского непонимания, стал бы, как утопленник, бить об лед белыми вспухшими ладонями. Не буду лицемерить, но это было курьезно, видеть его нелепое возбуждение и детскую радость. Еще немного и я бы к своему позору рассмеялся совершенно непозволительным образом. Вначале-то я не мог понять, как себя следует вести со стариком и то с непонимающим и отсутствующим видом отворачивался, словно ожидая за собственной спиной увидеть того, к кому незнакомец обращался, то начинал вслушиваться в его бессвязное лепетанье, логика которого была ясна ему одному. Через некоторое время, играя в волейбол в совсем другом месте, я заметил себя говорящим непонятно с кем и непонятно кому о причинах поражения в текущем розыгрыше, подбадривающим игроков, допустивших ошибку, но так тихо, что они и сами этого не слышали. Гугниво и безобидно я откликался на каждое очко перешедшее противнику или наоборот, доставшееся нам. Тогда же я вспомнил об уже упомянутом нищем старике и нельзя было не заметить очевидного сходства между нами. Это заставило меня задуматься о собственной судьбе, искать способы предотвращения объявившегося пророчества. Как бы не оказаться на том же дне, как бы не упасть еще глубже? Я постепенно подходил к концу этой части деревни, состоявшей из одной улицы. По противоположной стороне за двумя домами шло еще несколько, ничем уже не примечательных: невысокий синий, со старым колодцем поблизости и грузовой машиной, чей кузов испачкан навозом, сеном, зерном, затем два преимущественно кирпичных дома, но различно ориентированных относительно дороги и вообще несхожей планировки. Посередине между ними ничейный или обобществленный гараж, не освещенный изнутри, с разнообразным тряпьем выглядывающим из глубины и неопределенного происхождения черными подтеками, словно это место, которое служило прикрытием страшным и омерзительным операциям, имело смысл припрятать в глубинке. Чуть ниже, совсем практически на отшибе – аккуратный, квадратных очертаний домик, облицованный черным, аж блестящим деревом. Рядом с ним заросший травой, полуразрушенный, забытый людьми, которым он был когда-то беззаветно предан, ржавый комбайн, словно чудом сохранившийся реликт, перенесенный чудодейственной силой машины времени. На каждой травинки по кузнечику, сосредоточенно гложущему сочные листья. Можно углубиться в сторону от дороги и попасть в средних размеров болото, окружающее здешнюю речку. В доме живет Янав Рибосович, очевидно, какой-то эстонец или сын другой прибалтийской страны. Возраста своего он и сам хорошенько не знает, говорит от шестидесяти одного до семидесяти одного года. Между походами за грибами и путешествиями в прошлое Янав рассказал мне свое давнее ощущение перед сном, раньше посещавшее его каждую ночь, а теперь все реже. Оно приходило в момент, когда сознание еще цепляется за окружающую тело явь, когда человек еще понимает, где, он на самом деле, находится. От того-то на сон это было похоже не очень, а скорее на реальный рефлекторный акт, человека представляющего себя не в том месте, в котором он находится, действительно. Янаву грезилось, будто он стоит на волейбольной площадке и готовится к приему подачи. То, что она в самом деле последовала, явствовала из дальнейших событий: мяч вдруг медленно подплывал к его правому плечу, а затем скоро улепетывал от незадачливого игрока. При этом Янав обычно вздрагивал, но продолжал крепко спать. Но переменчивого Янава сейчас не было дома и он не вышел рассказать мне новую историю по дороге к соседям. По песчаному перешейку я пошел один вдоль берега озера. Узорные отпечатки моих подошв отсчитывали расстояние в обратную сторону, они, будто шли в обратную относительно меня сторону, да никак не могли со мною разминуться. Послушным доместикатом вьется возле ног тень, а я безжалостно калечу ее гибкое тело. Ветер бьет широким крылом по берегу, вздымая пыль, и хлопает по воде, оставляя отпечатки своих крыльев на текучей поверхности озера. Деревья окунают туда свои спутанные ветви; на дальнем берегу, где раньше стоял химический завод, стволы, листья и кустарник расположены столь плотно, что подробностей не различить и все представляется в виде мрачных декораций второго плана. Черт развалился на сымитированной пристани и удит рыбу длинным хвостом. На солнце поблескивает золотая серьга в его сморщенном ухе, с толстой сигары падают искры на тощую грудь, покрытую жестким серым волосом. Его нечищеные зубы желты, а от затхлого дыхания вянет растительность. Мошкара кружит вокруг его головы и образовывает оригинальный нимб. Заметив меня, он с удивлением разводит руками: мол, какими судьбами, никак не ожидал тебя в таких краях увидеть и приветливо машет. В этот момент на его хвост польстилась диких размеров и нездешнего происхождения рыбина. Улов оказался не по силам рыбаку и он с душераздирающим визгом и причитаниями уходит под воду вместе с добычей. Кукольный театр, одним словом, кто, интересно, так со мной развлекается или подает знаки. Вроде, ты идешь неверным путем, подумай-ка еще. Ну, я не знаю, пусть тогда заодно сообщат поконкретнее причины моих ошибок и, собственно, список замеченных нарушений. По крайней мере, не один я. Есть те, кто с успехом поддерживают меня на этом сомнительном пути. Смотрите, через перекресток прямо и налево здание сельского клуба ступенчатой формы, облицованное красными плитами отделочного материала. Облезлые ворота на запоре, замок в железном рукаве, чтоб не срезали. Сквозь пыльные окна выглядывают бумажные занавески или ширмы против посторонних взглядов. Соседнее здание - деревенский магазин из молочного кирпича. Так сказать, прямоугольной формы, со множеством труб, прободивших сложную поверхность крыши, состоящую из набора плоскостей, которые находятся под некоторым углом друг относительно друга и составлены из отдельных листов, разделяемых швами; на сторону, которая была ранее улицей, что до сих пор верно вела нас к намеченной цели, выходит прочная железная дверь магазина. Узкий ход сперва идет прямо, затем сворачивает в перпендикулярном направлении влево. Здесь стены гладят взор голубой масляной краской, а полоски полиэтилена не пускают в святую святых шестиногих чревоугодников. Слева окна, если бы вы смотрели в них около минуты назад, то могли увидеть себя со стороны, справа деревянный прилавок, на нем: стрелочные весы со шкалой и набором гирек, электронный помощник продавца и его деревянная прабабка до сих пор, стоящая на службе почетной профессии продавца, емкий железный совок, коим пользуются служащие магазина при развешивании сыпучих продуктов, таких как сахарный песок, манка, ржаная мука, всевозможные крупы, горох и можно продолжать до бесконечности; с оштукатуренного потолка свешиваются омерзительным натюрмортом ленты с прилипшими к ним мухами, зримая часть помещения магазина представляет из себя параллелепипед с примерно квадратным основанием, при этом вертикальная грань этого тела, обращенная на только что пройденное нами озеро, полна изделий легкой промышленности, необходимых жителям деревни в повседневной жизни: пластмассовые и железные тазы, фарфоровая посуда, стеклянные вазы, клеенчатые скатерти, школьные ранцы, богатый ассортимент канцелярских принадлежностей – букеты шариковых ручек в подставках, громадные и поменьше железные скрепки, цилиндрической формы клей, по устройству напоминающий женскую губную помаду, аморфные пеналы всех оттенков голубого, розового и салатового, портативные челюсти кровавых степлеров, кроме школьных приборов на полках в замысловатом порядке, как шахматы на доске были расставлены расчески, заколки, крокодильчики для занавесок, гвозди, шурупы, лампочки, садовый инвентарь; остальные две стены, ведь третья, как я упоминал, занята окном, готовы с грохотом обрушиться на прохладный и не очень чистый пол, ибо полки, которые они удерживают, служат пристанищем бесчисленным ордам лучащихся на солнце бутылок со спиртным, грехи коего не позволяют ему вознестись над землей даже на сколь угодно малую высоту, пластиковые баллончики золотятся подсолнечным маслом холодного отжима с жарких плантаций родственной Украины, маленькие рыбешки бьются головой о мрачные своды жестяных темниц и грезят о прохладных просторах зеленой, чуть подсоленной воды, подлинные произведения декоративного искусства престанут перед нашим оком в тот момент, когда мы решим полакомиться, жирным как чернозем, шоколадом несомненно отечественного производства, нам с вами любезные сограждане можно плакать обо всем, кроме положения дел на фронте кондитерских амбиций поваров всех стран-империй, здесь мы по заслугам увенчаны лавровым венком, и пока каждый из поваров, как сейчас, обладает дополнительно одним художественным образованием, пока закрома идей отечественных поваров по искусству оформления съедобного продукта будут столь же полны как ныне, до тех пор никакие китайцы нам в подметки не годятся, несмотря на их громадный человеческий ресурс, здесь дело менталитета, что подталкивает несостоявшегося художника реализовывать свои идеи на податливом шоколаде в виде губастых рыб с рельефной чешуей, барельефов ушастых зайцев, фокусников с тросточками и в колпаках, двугорбых верблюдов, оседланных наследниками восточных тронов, русских новогодних дедов с бородою и мешком за плечами, чуть тронутых морозом и хмельным дурманом веселья. Мы немного увлеклись в то время, как в пасмурные дни магазин освещался электрическими лампами в матовосерых плафонах, они висят на длинных ножках, словно грибы, растущие с потолка. Этим скупым замечанием мы и ограничимся при описании одного из центральных мест деревни, расположенного рядом с развлекательным клубом. Напротив магазина через центральную площадь стоит сельская администрация, она оставляет немного позади продолговатое здание школы, справа от них через пыльный тракт уютно растет из земли опрятная почта, с разинутым почтовым ящиком, телефоном, крупно выписанным адресом и российским флагом, смущающим население. Я выхожу из магазина, устало хлопает дверь или она заложена кирпичом? Все это время меня не покидает ощущение, будто я что-то напутал, будто позабыл какую-то вещь. Я переминаюсь с ноги на ногу и пытаюсь решить, как поступить, но тут вижу впереди потрепанную собаку с черной шерстью и бурыми отсветами. Вообще меня раздражают собаки и собачники, даже не знаю кто больше. Идешь себе спокойно, думаешь о своем и хочешь, чтобы никто тебя не тревожил, даже забрался подальше в лес, но не тут-то было, несмотря на позднее время суток, как грибов здесь нежданных гостей. Я отношусь с пониманием к милым проказам четвероногих друзей, до тех пор пока либо эти проказы не заходят слишком далеко, либо к этому бесполезному занятию не подключаются бестолковые хозяева ручных зверей. Коли взяли на себя ответственность содержать такое крупное и буйное создание, как ваши псы, так потратьте немного сил и средств научить их правилам проживания в крупных городах. За пять дней я так или иначе встречу настолько поглощенных общением друг с другом влюбленных, что ревнующее и не находящее себе от этого места отпущенное без поводка животное вымещает свою злобу на случайных прохожих. Примеров не счесть, кроме активных и безмозглых собак есть еще более потерявшие связь с реальностью хозяева, которые доходят до таких степеней отвлечения, что поторапливают бедных путников, чтобы те не задерживались около них, ведь чертовы собачки без поводков и видите ли, могут разволноваться и напасть на прогуливающихся людей. Неужто то вы уже успели присвоить городской лесопарк? Иногда я начинаю жалеть, что во мне нет ста килограмм и двух метров роста, а в ярости мое лицо не приобретает синего оттенка. И упаси вас бог оказывать сопротивление напавшему зверю, если рядом околачивается его отморозок-хозяин с кованым кожаным поводком. При виде собак, ходящих без поводка и которые реально могут причинить мне вред я теряю самообладание. Следите в этот напряженный момент за собачниками с их постными лицами, будто выдерживающими экзамен, даже в тот момент, когда атлетичное чудовище взгромоздиться на вас, дабы, следуя древним инстинктам, перегрызть вам глотку, они будут уверять вас: ничего не бойтесь, она вас не обидит, она не кусает людей, она такая милая, только не оказывайте ей сопротивление. Черт всех вас дери, что это за хреново убожество! Я просто ненавижу, когда мне кто-то в открытую угрожает, и собака, получается, это единственное животное, которому это позволено. Если ему и даны особые полномочия то только для того, чтобы оно охраняло людей, а не угрожало им. А сколько мячей мне сгрызли эти скотские создания! Культ насилия воцаряется с внедрением этого животного в состав современного общества. В моем московском лесу я как-то катился с горы на санках, люблю скорость, знаете ли, люблю, чтобы ветер лизал и напевал в уши. А тогда я был порядочно маленьким, и одна сволочь вцепилась мне в ногу своими зубищами. Ну, тут родители подоспели, посыпали собаку солью, прочитали над ней молитву и она сама отпала. Тут пешочком и хозяева подходят, что, вашу мать, ничего вам не отъело наше дитятко, ну и хорошо, всего вам наилучшего! Так и смылись. Были бы мы посмышленее, можно было их и по судам потаскать. Если вашему питомцу не хватает места для прогулок в вашей квартире или на специально оборудованных площадках, наденьте на него намордник, удерживайте его от гнусных попыток воскрешения волчьих обычаев людоедства ошейником. Вы можете заметить на моем примере, как изменяет человека боязнь или неприязнь к собакам и этому причиной отнюдь не моя природная подверженность сему недугу, а сегодняшняя ситуация и ситуация в недалеком прошлом, куда нас с вами занесла немилосердная судьба. Несмотря на мою природную расположенность к иным кроме человека живым существам и на полученное мною естественнонаучное воспитание, я испытываю страх и душа моя содрогается при виде тирана, которому развязали руки. Заметим, что никакая кошка без особого на то повода не нападет первой на человека, не вздумает ограничивать пространство его перемещений. Думай, что хочешь мнительный читатель, но я горячо против легализованного предателя в стане людей и с первого взгляда могу одобрить представителей этого племени только размером не более кошки. Но этой собаки я не испугался, не захотел ударить ее ногой, да и она сама не вздумала на меня рычать или лаять. Впрочем, объясниться это могло очень просто: только те из собаки не брешут на путников, кому не досталось охранять дома, то есть самые благородные из племени, те, что ближе к своим праотцам. Я подошел к ней, она не двинулась с места. Тут я случайно заметил, что нахожусь, словно, перелестнув несколько страниц назад, между своим домом и домом из трех человек, меня это не смутило и я опустился на колени перед смиренным существом и принялся ласкать его мягкую теплую голову. Как изваяние, собака не сделало ни одного движения. Небо опустилось очень низко и стало пестрым, как одеяло, выглядывая через черные ветви без листвы. Я подумал: стоит открыть рот и ходить так молча по улицам, словно стал рыбой. Ведь воздух теперь плотный, как тесто, где люди варятся вместо изюма. Я гладил собаку, будто мыл запыленное окно и вдруг заметил, что тем же самым занята очаровательная девушка с противоположной стороны. Как завороженный, я стоял на коленях и продолжал выполнять движения симметричные движениям девушки, пока собака не исчезла совсем. Был содран верхний слой краски и была пробита брешь в стене, разделяющих наши два мира. Я ликовал, а руки мои исподволь задерживали ее мраморные пальцы. Я вновь перед магазином валяюсь, пожиная пыль, лицом уткнувшись в кепку со странной надписью: мне дороги мои владения. Нет никого, кто бы успел обратить на меня внимание, это к лучшему, нам не нужны свидетели. В данный момент мне глубоко чужды мотивы позерства, я думаю лишь о себе. Похоже внутри у меня что-то разъялось, то, что недавно было единым. Я до сих пор ощущаю в руках следы тающих спиц, огарки дремлющей боли памятью пройденных дорог и испытанных наслаждений золотыми блесками всплывают в воображаемом сосуде при любом неверном движении и случайном встряхивании, возвращаюсь на прежние пути и испытываю те же мучения. Отдыхаю в сладкой тени забора и рассказываю себе недавно пойманный сон, в котором Наш Лес обратился ночью в увеличенный прототип нашей квартиры в Москве. Каждой тропинке и лесному отрогу я знаю соответствие в виде части квартиры. За тем орешником журчит капающая вода, в воздухе празднично повисли свечи, тихо наигрывает тарантелла, в новосозданном доме обилие родственников и добрых друзей. Везде хохот и болтовня, звон посуды, ложек, вилок. Каждый стремится договорить свое, а то и заглушить другого. Зеленые гирлянды волнуются на неощутимом для людей ветру, цветочный аромат волнами окружает гостей, томно разлегшихся на диванах П-образной формы, расположенных вокруг стола. Атмосфера полнейшего единения пропитала весь лес, связанная с общими воспоминаниями всех участников торжества. Но подходит ночь и все укладываются спать, у меня в ногах лежит неизвестная девушка. Интересна дальнейшая судьба этой предприимчивой авантюристки, вздумавшей сослаться на нехватку спальных мест: она стала пляжно-волейбольной рабыней, и в дальнейшем она ассоциировалась у меня с оголенной спиной, перепачканной в песке. Но не все было спокойно в нашем царстве, в полночь я вешал полотенце на ветку рябины и шел в сторону второго микрорайона от всем известной развилки, где дорога со спортивной площадки пересекает дорогу, ведущую от сходненской панорамы к военному городку. Я знал: этот низкий ход служит канализацией и освещается зеленым светом разложения. А далеко внутри там обитает грозное чудовище, которое я должен одолеть, дабы огородить семью от всяческих опасностей. Я совершил не одну попытку, но что-то каждый раз заставляло меня вернуться и не допускало геройства с моей стороны. Оно было способно раз и навсегда нарушить спокойный уклад нашей жизни, возмутить дремотное очарование глухой отчужденности. Сходные мечты овладевали мной и в ином контексте: я порой хотел оказаться с классом или школой в сказочном миру компьютерной игры или какой-нибудь книги. Где я бы в полной мере продемонстрировал свои необычайные способности героя и спасителя людей от всевозможных напастей, я бы первый вскочил на белого единорога и, оседлав его, прогарцевал на нем исполненный достоинства перед изумленными друзьями. Все будут жаться друг к другу, им непривычно и страшно в этом мире, где все дозволено и сбываются все людские мечты. Среди которых могут встретиться очень неприятные, от них следует держаться подальше. Но тут ты сам можешь стать совершенно другим, изменить себя, начать жизнь с нуля, перекроить ее на свое усмотрение. Что и говорить, я сам испытываю недоверие к подобным глобальным лозунгам, что ради красного словца готовы весь мир перевернуть, дешевое трюкачество, способное привлечь либо человека наивного, либо простофилю от природы. Но нам и вправду иногда хочется небольшого разнообразия, когда каждый шаг будет светиться новизной, когда незнакомым станет даже дубовый лист, когда мы станем наклоняться над каждым ручьем, в очередной раз надеясь увидеть в качестве отражения нечто непохожее на прошлую попытку. Я уверен: не только меня посещают такие мечты. Как ни крути, а это несправедливо, что человеку дана одна попытка для превращения в жизнь своих планов. Как быть, если ты на середине пути понял свои ошибки и жаждешь исправить, а пути назад совсем нет? Что хотел сказать этим творец, чему научить, если заведомо выученный урок ничем нам не сможет помочь, если и запоминать-то его незачем. Возможно, чтобы мы сразу относились с уважением, со всей серьезностью к сделанному подарку, но подумайте сами, не разумнее ли было бы тогда представить иные, более веские аргументы, например, список тех, кто был готов вступить в жизнь, но по тем или иным причинам не удостоился такой чести. Из такой неопределенности пожалуй и проистекает великое множество философий, религий, общественных движений, от того, что мы толком ничего не знаем о теперешнем нашем положении и не в нашей власти добиться выдачи этих знаний. Мы, как беженцы на полустанке на полустанке, не знаем, куда податься, к кому пристань, кто подарит нам кров и новую родину. Кстати, вы видели, недавно передавали один сюжет про беженца из Ирана, лишившегося всех документов и с тех пор уже пятнадцать лет живущего в аэропорту. Вы только вдумайтесь пятнадцать лет, убитых в стекле! Пятнадцать лет можно сидеть в тюрьме за тяжелое преступление, но в чем провинился этот безобидный человек? Ни одно из государств не желает помочь тому, кто остался наедине со всем миром, кто открыт ему. Несчастная жертва бюрократических софизмов, в тисках незримого процесса, вышедшего из пустого места и вылившегося в такую катастрофу. До чего докатилась цивилизованная Европа в своем лояльном лицемерии, когда усилия прикладываются лишь в том случае, если дело грозит вылиться в скандал или сулит некоторой наживы. Молчат сентиментальные французы, вежливо отворачиваются безукоризненные англичане, зазнавшиеся бельгийцы служат отличным примером того, как можно тратить все силы на дела планетарного масштаба и допускать такие бесчинства у себя под носом. Сперва я мог улыбнуться от растерянности: вероятно, что-то перепутали операторы, какая чушь, пятнадцать лет, будто случай перешедший в реальную жизнь со страниц пестрящего излишествами антиутопического романа. Но увы удрученное лицо южного типа, с утонченными, мягкими чертами не может ни пропасть, ни забыться. Добрую часть жизни сидеть на своем багаже, быть готовым каждую минуту отправиться в путь и постоянно ошибаться, разочаровываться, смотреть, как проходящие пассажиры идут на встречу своему счастью и идут мимо тебя, тебя не коснется ни частицы их радости, их уверенности в правильном устройстве мира. Ты, бедный друг, успел стать местной достопримечательностью, памятником людскому бездушию, на тебя смотрят, как на дикое животное, когда тебе как никому другому необходима поддержка окружающих. Полагаю, ужасно оказаться жертвой случая, волей судьбы быть казненным таким бесчеловечным образом, хотя любая казнь негуманна. Наверное, он встречался до тех пор лишь с пониманием европейского человека, был свидетелем уровня их культуры, познал доброту и сочувствие, насколько же более тяжелым стало тогда для него это неожиданное открытие. Такая фанатичная преданность современного человекам пустым, собственного изготовления символам. Неумеренная жажда самоутверждения психопатов за чиновничьими столами, им наплевать на все условности, на отношение к себе остальных людей, на соответствие их поступков каким-то разумным началам, законам нравственности, но им не все равно, уважают их или нет. И это уважение может проявляться для них единственным образом – в виде соблюдения сочиненных ими заповедей. Беспрекословном почитании немой буквы закона. Ни в чем не повинный бывший житель Ирана, стремящийся найти своих родственников в Англии, превратился в заложника, которого никто не торопится спасать, он вне чьей либо сферы интересов, он теперь никому не нужен. В не приспособленных для постоянного проживании стеклянных темницах аэропорта, не по своей воле, ему негде укрыться. Шум двигателей будит его несуществующими ночами. А вдруг он желал всю жизнь прожить в уединении и покое? Кто в ответе за разбитую жизнь? От чего они медлят, чего боятся, неужели он все эти годы нес в себе смертоносный заряд и собирался на кого-нибудь его обрушить? Что ж, останься во мне жажда хоть какой-нибудь деятельности, я бы непременно добрался бы до этих вершителей судеб. Можете упрекнуть меня, что в мире миллионы обиженных и угнетенных, а я ищу красоты, необычного, торгую болью и страданием, стараюсь придать ей заманчивый вид. А что вы от меня требуете: разгребать тонны исковерканных судеб, разрушенных надежд, украденного счастья, но нет, сострадание имеет смысл только по отношению к одному человеку. Сочувствие народам – абсурд и бессмыслица, годная лишь для использования в личных целях. Ну ладно, говорить и мечтать русский человек любил всегда и делал это с великом мастерством, а чем я бы смог помочь этому иранцу в самом деле? Пожалуй, ничем. Поговорил бы с ним на своем скудном английском, погулял бы с ним по Нашему Лесу, показал ему наших кошек. И всего-то; не густо, впрочем. А вдруг ему больше и не надо, если он устал находиться на виду, жить на проходном дворе. Мне стало грустно от мысли о такой пустоте в жизни, какая пришла в существование перса. Похоже на дом на мосту, под которым течет вода, вынося из твоего сердца все значительные события, старательно их затирая, не позволяя стать тебе архитектором собственной жизни. Такое непрочное, поверхностное существование губительно, когда ты не можешь окончательно решить: то ли тебе начинать обосновываться здесь, то ли ждать более пригодного для оседлого образа жизни места, и начав метаться ты не можешь успокоиться и вместо того, чтобы заняться запланированной работой, ты принимаешься ходить из угла в угол, стучать пальцами по крышке стола или крутить в руках карандаш. Мне было и грустно и как-то не по себе, беспокойно, как перед отъездом. Такое настроение вызвало в памяти песню, отвечающую тому же самому беспокойству, живительному движению души в ответ, лечащее сочувствие. Пляска символов, игра, граничащая с реальностью; песня называлась Silicon dream, кажется. Но с этой песней у меня неразрывно связано впечатление от проспекта Вернадского, вид на который открывается со станции метро Университет, от того выхода, что в конце платформы. Вдаль спускаются машины. С шумом скатываются по наклонному шоссе, на встречу с судьбоносным полуостровом, мимо неаккуратных, наспех собранных небоскребов с одной и низких, продолговатой формы, умиротворяющего вида жилых домов с другой стороны. Пронестись бы как-нибудь по этой дороге на спортивном автомобиле, шикарном, блестящем новизной, с открытым верхом. Лучше летом, когда поменьше народа. Потом в обратную сторону еще быстрее мимо цирка с куполообразным верхом. Хотя продолжение вам уже известно. Так что имеет смысл оставаться там, откуда мы и начали свой путь, то есть на станции метро, сплющенной как блин, на невысоком постаменте, подобно церкви. Сзади половинкой цилиндра стеклянный магазин, он торгует шумом и блеском. Я туда заходил в девятом классе, в ноябре, тогда шел дождь, и я читал «Анну Каренину». Странное место эта станция, в ней невозможно долго работать, больно шустро она меняет людей, и грязные бродяги по лавкам. Да там еще кто-то сидит! Я их знаю, он иногда поигрывает в волейбол, у него на коленях сидит девушка, которая говорит ему что-то на ухо и смеется, глядя на меня. Они все в шортах, пытаюсь медленно перевести взгляд на лицо девушки и уже знаю, кем она окажется. Но вдруг туман окутывает ее голову, и как не пытайся, невозможно заглянуть через этот покров. Я чертыхаюсь и перехожу на другую сторону проспекта Ломоносова, по платному переходу с фиолетовым семафором, где принято компостировать талончики. Такая четкая связь музыкального произведения и определенного места характерна не только для конкретной песни. Вспомнить нужную ассоциацию я могу только при вспоминании той самой песни и никогда не могу перечислить такие пары с места в карьер, так сразу. Вот была песня Пристов, в которой Хэлфорд поет печальным осенним голосом: она прекрасна, она чудесна. Когда начинается этот трек, я неизменно представляю себе пруд в Майдане со стороны шоссе, с видом на затертый местный пляж. Там еще береза наклоняется над зеленой водой, наверное, ей надо что-то вытащить оттуда. Толстые слепни жужжат от перегрузки и сухая, пахнущая бензином пыль. А с песней Gamma Ray, в которой роль вокалиста на себя взял незабвенный Михаэль, я вижу одну горку в Нашем Лесу. С нее я катался раза два зимой на лыжах. Место, надо заметить, для таких целей не очень приспособленное. Лыжи могут попасть в уже набитую колею и тогда тебя может занести куда угодно, может даже шмякнуть о дерево. Одно такое растет как раз посередине спуска. В целом этот ландшафт напоминает небольшую речную долинку, правда, без отчетливого русла. Ее берега заросли дубами и кленом. Снег скрадывает звук шагов и ты думаешь, будто и тебя давно уже нет, только мягкие снежные узоры, которым нет счету, которые до неузнаваемости меняют внешний вид знакомых мест. Лыжня изгибается, уходя из под ног незадачливого лыжника, обернутый в детское пальтишко шагает ребенок и, поскальзываясь, волочит за собой санки. Иногда я знаю и кое-что другое, мои тайные познания идут еще дальше. Важно не то, насколько они совпадают с оригиналом или оправдываются логичными соображениями, а то, что я абсолютно уверен в их непогрешимом правдоподобии. Например, я знаю, где настоящая лестница из дома Настасьи Филипповны. Кто из вас обладает такой информацией? Ну, сделайте хотя предположение. Ладно, так и быть расскажу: элементы обстановки дома, который она снимала и в котором принимала Князя и кого-то еще находятся не в Петербурге, а в Москве. Причем в здании, которое ежедневно посещает не одна тысяча людей. Это строение – трехзальный корпус спортивного городка МГУ. Но, разумеется, не все элементы этой довольно новой постройки принадлежат древним архитекторам северной столицы. Во-первых, это лестница, как я уже говорил, ведущая с первого на второй этаж корпуса. Во-вторых, это сакраментальная ниша на втором этаже ближе к волейбольному залу, но в сторону зала гандбольного. Вот так, это мне известно совершенно точно. Я взял молоко, принес его домой и крепко позавтракал. Употребив оное с белым хлебом, а также увеличив разнообразие собственного рациона творогом со снятой сметаной и укропом с солью для пущего аппетита. Выпил чаю с ароматом вначале жасмина, затем один из самых любимых – с ароматом бергамота. Разгрыз друг за другом два сектора сот, из них брызнул янтарный мед. Соты, несмотря на их совершенно нейтральный вкус, я дожевывал и выплевывал в виде комков на улицу. Шоколад у меня идет на вес, из кондитерских изделий он мне ближе всего остального. Предпочитаю тот, что погорше. Чтобы рот вязало и твердый, чтоб не разгрызть запросто. Кушаю я, да именно кушаю, черт вас дери! Что за нейтральное, политкорректное ем, кто как захочет, тот так и скажет, долой принуждение и диктатуру! Так вот, за столом я в одиночестве и тем не менее едой занята добрая половина. Люблю довольство и не терплю принуждения организма, тем паче рукотворного, которое еще ближе к наслаждениям сомнительного толка, культивируемым порочной Европой. Насытившись, я, как змея, вылезаю через дымоход на крышу, летягой планирую на шаткую антенну, затем осваиваю спуск с гладкой жердины вниз головой, на манер редких южно-американских кошек – тех единственных, что умеют спускаться по вертикали вверх тормашками. Хитрые твари, мечтаю с детства, завести себе какую-нибудь. Оцелота, например, чем не душка? Песок, подобно снегу хрустит под ногами. Я делаю на него красивое падение, и думаю: одиночество плохо отсутствием напарников по игре в волейбол. Мой план проскользить по-зальному лодочкой, так, чтобы одна голова впереди, а руки сложены по швам не прошел, ибо я набрал порядочно песку воротом майки. Я еще бодрее, чем ранее подпрыгнул, исполнил танец волейболиста и понял: мое поведение диким образом напоминает собравшимся посмотреть на невиданное зрелище уличным птахам гитарное соло в песне Shine on crazy diamond (part two). Я также показал зрителям отличное владение иными навыками, поймав ртом летящего жука и определив его по усикам языком, то был подлый Noterus, но на этот раз я был удивительно сметливым и зрители по праву это оценили аплодисментами. Помнится, мне однажды вечером чуть не подстрелили задницу в Нашем Лесу из игрушечного ружья резиновой пулькой. Сейчас бы они покраснели и раскаялись. Убогие охламоны, с типично русскими мордами беспризорников. Теперь я наелся стероидов за троих и у меня даже кости становятся толще. Нынче я уворачиваюсь не хуже Берда, а в умении прессинговать мне позавидуют Туа с Фрезером, языком я изначально молочу быстрее веселого электрика, мои руки не утратили подвижности, а ноги лучше, чем у бедолаги Джонса. Я мчусь по пройденной при вашем присутствии дороге и как есть в одежде погружаюсь в мутные воды местного Байкала. Хватаю рукой проплывающего плавунца, а затем, пользуясь законами поверхностного натяжения, как крестьянин мотыгой, бешено подражаю стандартным водомеркам и топчу башмаками приводнившихся комаров. С плавунцом в кулаке мы садимся на порог чужого дома. Я разглядываю его глянцевые надкрылья и черные бусинки глаз. Неожиданно отворяется ближнее окно, хлопая ставнями, словно птица себя по бокам. Оттуда выглядывает старуха лет под сто: « Убогий несмышленыш, ты небось подумал, что держишь в руках простого Agabus’а, но обломись, моя теперь взяла, это местный вид Nebrioporus’а, коготок-то снизу надкрылий ты прошляпил, не отмазывайся!» С этим она затворяет ставни и улезает внутрь, как кукушка, живущая в часах. « Однако», думаю я озадаченно, похоже, ее правда. Раскрываю ладонь, а там никого уж и нет. Мимо на большой скорости пролетает катафалк коричнево-желтого цвета, там меланхоличнопроникновенный голос заклинает слушателя: « America, America, America». Я попытался вспомнить роман с аналогичным названием и прошел с этакой задачей до своего дома и назад, но вместо этого мне на ум пришла такая картина: мальчик, ни о чем не подозревая, качается на качелях, разглядывает свой мысок, где нестриженый ноготь проделал знатную дыру в черном засаленном носке; качели подвешены на толстых, белых, шелковых веревках. К той же перекладине подвешены и другие качели на них сидит высокая девушка в синей мешковатой майке и клетчатых шортах, она в очках, ей безусловно идет короткая прическа светло-русых волос. Качели, которые использует девушка гораздо ближе к перекладине, непонятно зачем и специально ли девушка свешивает над ним голову. Ее шея безропотно путается между двух веревок, поддерживающих качели мальчика, он не понимает в чем дело и пробует раскачаться посильнее вследствие чего душит девушку белыми шелковыми веревками насмерть. Я сплюнул на землю и ощутил себя очень одиноким, но это отшельничество переставало угнетать меня. Я воспринимал такое свое состояние нормальным. И жаждал перемен только в мечтах, ничего не планируя, ни о чем не размышляя всерьез. Я просыпался не по будильнику и большего счастья я себе сейчас не представлял. Предыдущая жизнь моя казалась мне до ужаса казарменной, где «я» человека ни во что не ставится. Порядок порабощения своего творческого прихотливого двойника, там культивировался и это было невыносимо. Когда я после непродолжительного сна пытался настроить себя на учебу и из моих попыток ничего не выходило, я приходил в отчаяние, я клялся самому себе сегодня точно лечь не позже десяти. Но из благих планов ничего не выходило, срок, когда я должен был оставить все интересные дела, прибереженные напоследок, все откладывался. Но я все-таки справлялся с дремотной болезнью. После чего меня не покидало ощущения, будто я вымыт до основания и исчерпал все силы для любого сопротивления. Я становился покладист и мало говорил. Окружающий мир казался на удивление зыбким и непрочным, страшно было сделать лишнее движение. Тело мелко кололо иголками, мне хотелось уставиться в одну точку и ничего не делать. Вокруг кружились непонятные люди; все были неглубоки и очень похожи, просто близнецы, приходилось прилагать усилия, чтобы отличить одного от другого. И все, как сумасшедшие строили из себя совсем не то, чем они в самом деле были. Причем неумело, несимпатично, претенциозно и агрессивно. Комбинат крутил всеми, как ему хотелось. Меня он тоже пытался сбить с толку, но его от его готовой, сработанной красоты меня начинало мутить. Чего-то постоянно требовали чиновники. Звонили и угрожали, торжественно обещали применять ко мне штрафные санкции, присылали развернутые письма, содержащие классические послания, составленные с помощью учебников по теории шантажа. Не кажусь ли я вам чахлым нытиком, если нет – хорошо, но только представьте: третий раз мне присылают счет за разговор с Казахстаном. Такое впечатление, что я со сна, еще лунатиком, наугад набираю номер и веду длительные (судя по размеру требуемых сумм) разговоры с казахским населением на произвольные темы. Может, веду просветительскую работу. Надо попросить, чтобы следующий мой разговор они записали на диктофон, тогда и послушаем. Или в другой раз не пускают меня по моей универсальной справке в метро, объясняя это неким мифическим шестнадцатилетним рубежом или выходом из употребления этого варианта пропускных документов. Меня разворачивали уже столько раз, что я всегда на удивление хладнокровен, ничто не может возмутить моего античного спокойствия. Прекрасная традиция и замечательные отношения сложились у русских людей за последние годы с контрольно-пропускными службами метро, в основном, ну и уж чего поменьше, вам там лучше знать. Отношения заходили далеко за рамки, определенные законодательством: женщины в форме возле турникетов пользовались услугами автобусных жлобов-вымогателей, надрываясь, дули в свистки, сами пытались заниматься рукоприкладством или практикой частного детективного сыска, определяя на глаз происхождение некачественно состряпанного документа. В этом всенародном соревновании не отставали представители, собственно, народа, как лиц лишенных, каких бы то ни было, льгот на проезд в общественном транспорте. Они ласково пристраивались за впередиидущими, зажимали светодетекторы, грубо проламывались сквозь хрупкие воротца подземного мира. Робкие нарушители с аналитическим складом ума пытались под это дело употребить дефекты черных полосок магнитных талончиков, которые ни с того, ни с сего вдруг обнаруживали скрытый ресурс во вроде бы уже использованной карточке. Но это были уже измышления неспортивного свойства, все было почти легальным и ни какого риска. Некоторые станции позволяли и другой способ: в момент обратного потока пассажиров, поднимающихся наверх, используя общее смешение, скорым шагом пересечь вестибюль от дверей выхода до лестницы, упирающейся уже в платформу. Но и тут, как говорят, интереса было немного, способ достижения цели, чистое эксплуататорство, к тому же еще и не везде возможное. То ли дело прямо перед носом у одетых в форму: «Все в порядке, шеф, букву закона, как родную мать чту». Но эти фантасмагории потихоньку изживали себя, они были детищем другого мира. Хотя, знаете, мне отчего-то иногда кажется, будто двадцатый вид длился много дольше положенного, а в иных местах и до сих пор остались клочки, словно остатки сора, сохранившегося после половодья на прибрежных кустах и деревьях. У меня захватывает дух, когда я представляю себе громадную пропасть между двумя эпохами, наивной и верящей Европой девятнадцатого века и теперешней, скажем, Америкой: раем вседозволенности и произвольности, правда, потерявшем единое лицо, лишенным конкретной цели. Человечество вне истории – очень верная ассоциация, возникающая при виде такого немотивированного общества. Такое состояние нравственной распущенности позволяет существовать как формам крупного объединения человеческих особей, так и феноменам редкого по своей силе отчуждения некоторых субъектов. Ты становишься предоставленным самому себе, это воспримет каждый по-своему, с кем-то это может сыграть и злую шутку. Не скажу так о любом моменте, но иногда хочется, чтобы отчизна приняла немного иноземный облик: всякие небоскребы, дорогие рестораны, большие кинотеатры, многоэтажные транспортные развязки. Зачем? Это решение, появившееся не логически, а интуитивно, на основе чувственного восприятия. Небоскребы – это возврат к романтическим эпохам замков, ко временам готических соборов и торжества архитекторов. Никому не придет в голову искать разумное зерно в подобии современных башен древним донжонам. Это означает поиск новой доминанты, теперь эстетической наряду с прежней грубо-финансового толка. Нам грезится свержение мерзких ящиков-сот перестроечного периода, следствия вульгарной бедности и нужды. Всем нужна живописная маска, соблазнительный мираж. Когда я вернусь в Москву, в глаза будет бросаться странная бледность жителей столицы, их болезненная хрупкость. Легкая озабоченность делами сомнительной важности, они бродят околдованные духами. Чем дольше продолжится их пребывание, тем более неузнаваемый они примут облик. Пленники могут неожиданно вспылить, но быстро утихнут и незаметно попросят извинения, как будто это очень стыдно. Они легки на подъем и летают по узким улицам и переходам метрополитена, используя одни им известные внутренние ветры. Выглядеть жертвы начинают слишком легкомысленно, взгляд их перескакивает с одного места на другое, они постоянно меняют тему разговора и никогда не глядят в глаза. Наложение естественного прошлого человека и нынешних условий его проживания имеет совершенно губительные последствия. Даже представить себе невозможно, насколько мы недооцениваем этот первейший фактор. Колоссальные давления и нагрузки, впрочем я перехожу на язык заправского шарлатана. Я это представляю таким образом: человек, как фокусник несет на жердочке сложное строение из тарелок и сосудов: всяких атрибутов фокусников, одно лишнее движение и сооружение обрушится со страшным грохотом. Здесь совсем другое, человек становится невозмутим лентяем, неспособным на порыв, на авантюру. Он боится больших расстояний, ибо принимается оценивать их не из окна автобуса, а такими, какими они представляются после утомительного похода за грибами. Моя жизнь линяет, она, будто змея, меняет кожу, руслом реки отходит в сторону, и свое прежнее пребывания я начинаю воспринимать далекой и странной сказкой про борца с тьмой в глухих сумерках. Я расхаживаю по кругу и ищу, чем бы развлечься. В это время по улице семимильными шагами передвигаются три призрака, малой степени правдоподобия. Два из них - девушки с руками, обожженными кислотой, они преследуют третьего, который немного полноват и не по ситуации весел. На нем оранжевая майка и короткие шорты. С видом ярмарочного шута он мчится по деревне и картинно машет руками. «О, здорово, Иван, не думаешь ли ты, что пора включить Сибирское кантри, как раз, к случаю подойдет». Я тщетно пытаюсь вспомнить причину лютой ненависти призраков к своему собрату. Скорее всего, причиной окажется сущий пустяк, возведенный в ранг божества непомерным самолюбованием. Вдалеке видны их смутные силуэты, их погоня продолжается. Охотники метают в неунывающую жертву волейбольные мячи; кожаные мячи чудесным образом снова возвращаются в руки измотанных девушек. Старая компьютерная игра воскрешена скучающим маразматиком и выпущена на свежий воздух, избрав себе в актеры пленников обстановки, тех, что не могли манипулировать ею по своему усмотрению. Жизнь постепенно убивает в нас жажду возмущаться, и говорить «нет», размягчает нас. Чаще соглашаемся с вещами возмутительными, непорядочными, глядим на происходящие рядом события сквозь пальцы. Теперь мы не станем возмущаться по любому поводу, мы знаем и не такие примеры: надо терпеть. Часто это попытка компромисса, попытка внушить себе, будто все в порядке и такая обстановка вещей тебя устраивает. Мы сами пробуем помирить себя с настоящим, ведь подобный шаг возможен только с нашей стороны. А постоянно находиться в конфликте с большинством тяжко. Здесь не идет речи ни о заблуждении и фанатизме, ни об относительности правды, ни о давлении масс на отдельного человека, составляющего общества. Уместнее вставить в распростертые объятия скобок слово «безгласность». Стыдливое молчание заранее поверженного, испугавшегося осуждения. Ими руководит боязнь повторения событий, пока обошедших их стороной. Страх это простительно, слабость человека это его достоинство, это свидетельство принадлежности к этому миру. Но слабость благородна, если в нем отражено страдание. Не буду оригинальным и повторюсь: страдание возвеличивает человека. Но не простейшего страдания боли, а страдания в широком смысле. Если продолжить мысль, заложенную в страдание, за пределы органов тела, в конечном счете мы подойдем к сомнению, борьбе с самим собой. В волнении заключена человечность. Вот видите, иным увидится в этом глубокий вывод, обращение к горним сферам, а через несколько страниц нам придется заключить чуть ли противоположное этому откровению. А ежели некто совершенно равнодушен к событиям, которым мы пользуемся в качестве индикатора человечности, раскованности, внутренней свободы, непритворно равнодушен? Возможно наш герой влюблен или поглощен проблемами искусства, науки, или элементарно устал, работал над достижением до изнеможения. Имеем ли мы в таком случае право осуждать его? Ответ очевиден: этот критерий должно употреблять в тех случаях, когда событие-индикатор вправду возымело действие на подсудимого, не прошло мимо него незамеченным. Отсюда следует абсолютная неприменимость нашего критерия, ибо нам неизвестно, в каких случаях возможно, а в каких нет его применять; так же, как нельзя узнать мысли человека. Элегантное изобретение будет только формальностью, как мысленный эксперимент, как возможность получить точный и никому ненужный ответ. Во мне часто закипает кровь при виде несправедливости. Надо отдать должное и стороне обвинителя: я гораздо более хочу проучить обидчика, чем привести в себя унижаемого. Не собираюсь строить из себя кладезь добродетели, поэтому продолжу: раздражает проявление чужой силы, чужого могущества в виде унижения некой третьей стороны. Противна уже сама демонстрация – неорганичный акт знакомства с лишними для вас подробностями. Парад и фиглярство, символические намеки на твою уязвимость. Я просто бешусь при виде угнетения одного человека другим. Могу быть неуправляемым или заорать глупость фальцетом, что-нибудь вроде: «Прочь, ничтожество!» Назидательная роль всяческих унижений еще более абсурдна, чем унижение-самоцель. Потворствовать такому или оставаться в бездействии при виде подобного тоже подлость. Надо бежать. Случаи иного исхода очень редки. Но все же? Пренебречь собственной жизнью ради справедливости? Я в схожих случаях погружаюсь в долгое размышление о реальной ценности жизни. На что она дана нам и дана ли она нам, вообще, для чего-нибудь конкретного, ведь вероятна и иная версия: наша история ждет своего наполнения, как пустующий сосуд. Содержимое зависит от нас, все заповеди – выдумка. Два гончара лепят кувшины: гончар зодчих и гончар – пламени. Первый мастерит прочные кувшины, что растут долгие годы, долгие же годы наполняясь заветной влагой. Второй делает кувшины, которые красиво и звонко бьются, их покупают все реже и реже, ведь они только на то и годятся, чтобы бить их о землю. Ежели положишь в них что ценное, неровен час, они и разобьются, все расплескав. Меня смущает жизнь ради одного поступка. Никчемная она, получается, была, раз ты ее так бросил на алтарь всемирной правды, немого абсолюта королевства абстракций. С другой стороны, моментальное помутнение рассудка может толкнуть на самые непонятные и необъяснимые геройства. Ты теряешь масштаб поступка предстоящего и всей прожитой жизни. Впрочем, порой истинное значение многих деяний обнаруживается далеко после времени их совершения. Оттого безрассудные храбрецы могут пойти ва-банк и не прогадать. Рассчитать заранее часто не представляется случая. Заманчиво погрузиться в эпоху притеснений, в Белград или Прагу, например. Свободно шествует толпа митингующих людей. Лозунги и речовки. Подвыпившая молодежь и старички со внуками, вспомнившие молодость. Дети машут флажками. По центральным улицам настроены благодушно. Но механистичная уверенность в собственной правоте правительства не знает границ. Высшая ценность и сокровенный смысл жизни заключен в беспрекословном подчинении подчиненного начальнику. Цепочкой выстроились статуи милиционеров, история театра пантомимы на бразильском карнавале. Остужающее пыл «помни о смерти». Вездесущий контроль пока нем и неподвижен, не дана команда. Слишком смелыми стали высказывания, далеки прогнозы, прозорливые ораторы грозятся бунтом. Службы начинают теснить народ. Несколько людей в глубине вскрикивают. И что из того, что нет на крышах пулеметов, что большинство останутся живы, кому нужны эти объедки? Кто стерпит унижение резиновых побоев и разгона водой, будто они не граждане, а зазнавшаяся скотина? Толпа ропщет и медленно отступает назад, отталкиваемая передними рядами безликих шлемоголовых стражей. Вот тут и начнется самая интересная часть повествования: я стою в глубине, окруженный крикливыми студентами и ворчливыми стариками. Но даже те, кто со мной хорошо знаком, не узнают меня. Я сильно поправился, прибавил сантиметров пять. Беспризорники смотрят на меня с недоверием, контролеры в автобусах упорно принимают за своего. Волны отходящих людей разбиваются о мою широкую грудь, как волны о выступающий мол, о древовидные руки, апатично сложенные на груди. Храбрые одиночки, смельчаки, опьяненные близостью толпы и не перенесшие трагического накала близкой развязки бросаются на легионы в масках, словно приносят себя в жертву общему делу, делу освобождения от рабского гнета власти. В голосе начинает проступать фальшь и неубежденность, ладно вернемся…. Многие меня сторонятся, обходят. С выражением деланного недоумения я принимаюсь смотреть по сторонам и на полицейских. В нерешительности замирают они: «Что стал, пошевеливайся, какого иначе мы вас тесним, в пустую что ли?» Друзья, ( играем роль покровителя всех угнетенных) я полагаю вам следует оставить моих подопечных в покое, вам пора ловить нарушителей и управлять движением! Ишь, чего вздумал, сейчас и тебя погоним, приказ есть приказ, затверди себе, да ты не штатский ли, огрызаешься больно охотно? Я не намерен выслушивать бредни недоучившихся школьников, полуграмотных жеребцов, почуявших силу. Вас в чему-нибудь кроме, как в карты играть да руками махать, учили, доблестная жандармерия? После необычно краткого вступления псами, спущенными с цепи, они летят на меня. Я оказываюсь в родной стихии, пучина, которую я искал всю жизнь, сама приходит ко мне. Не чувствуя их немощных тычков, я разбрасываю поработителей мощными апперкотами, трещат шлемы из оргстекла, аппетитно и плотоядно хрустят суставы, шлепаются с глухим стуком и звуком лопающихся пакетов о прогретый жаркой битвой черный асфальт человеческие тела. Они стаей волков загнали одного из мятежников к стене. Дико озираясь, он приседает в окровавленной рубашке, с мокрыми спутанными волосами. Видите ли разницу, он предан своему делу, все в нем дышит борьбой, а то система, я презираю целенаправленное подавление человеческого системой, порядком, уставом. Заносят карающую руку, но напрасно, уже не успеть. С какой радостью и упоением я разрушу их планы, повергну их на землю. А они, как жертва, не до конца осознавшая расстановку сил, будут по инерции еще долго брыкаться, пытаться усмирить меня. Я почту за честь увидеть в их глазах недоумение и страх. Силой верну им человеческий облик, через страдание, через боль, через утраты, заставлю выступить на лице слабость. Если придется вы впервые и очень ненадолго сумеете вернуться в свое человеческое обличье. Предсмертные судороги разгонят мрак заблуждений, первое слово о прошении пощады, вернет вам мое расположение, а меня выбросит за пределы ваших конфликтов, будто никто и не ставил вас на колени. Ничто так не заставляет человеческое сердце ожесточиться, как неразумное упорство, как попытка сопротивления нашему влиянию, попытка двигаться собственным курсом, не внимая никаким доводам. Людей влечет к сражениям непонятная сила. Притягательность крови и конфликта насколько очевидна, настолько же и непонятна, удивительна. Достаточно вспомнить, как школьники сбегаются посмотреть на поединок своих товарищей, их влечет желание видеть унижение и растерянность на лице побежденного. Меня всю жизнь сопровождало обостренное чувство справедливости, я подстерегал унижение за углом, я искал неправду и поражался ее громкой, вопиющей безнаказанности, безоглядности, уверенности в своих силах. Запоминаются отдельные моменты, фрагменты речей и выступлений…. Хочется быть конкретным, так как мне нечего стыдиться, но владеет мною и желание оставаться независимым, отстраненным, вознесенным над объектом переосмысления. Я требую права голоса, без лимита времени и аплодисментов фоном. Итак, как это не удивительно, но предметами спекуляции становятся даже такие непонятные, смутные и нечеткие понятия, как любовь к родине. Казалось бы, никто хорошенько и не знает, что это, собственно, такое, но каждый торопится публично во весь голос это заявить. Наверное, они и не скрывают характер собственных заявлений, кто знает, я теряю границу их отношений к проблеме: как к серьезной ли, как к шутке, как к сознательной профанации или же игре на публику, да так, что и сами успели проникнуться произносимой речью. Хорошо знать меру всем хвалебным речам, после потери этого качества воспринимать речь говорящего нельзя будет воспринимать без смеха. Но, допустим, перед нами своего рода публичное лицо, выступающего на интеллигентском собрании, его даже транслирует телевидение. Оно (лицо) сделало уже упомянутое заявление сомнительного характера о существовании интимных отношений между собой самим и, как бы это сказать, национальнополитическим образованием на территории его проживания. То есть своей страной. Ладно, пускай. Через несколько реплик, последняя из которых направлена в его адрес, он взрывается искренне-возмущенной тирадой. Он или оно, я уже запутался, обвиняет старушку, мать профессора МГУ, в том, что она сами виноваты в собственной финансовой неспособности обеспечить достойное обучение внуку. Надо было, как мы! Кто ж виноват, что мы такие талантливые и так много работали. А сегодня пожинаем плоды прошлых достижений. Я (автор) заступлюсь за пожилого человека. Маленькое замечание: русский человек, если не пьян, не примется так истово клясться в своей любви (внимание, будем избегать нечетких формулировок ) к России. Если по сути: существуют, дорогой оппонент, таланты разных характеров. Способность разбираться в трудных вопросах, быть уникумом в изучаемой области: искусстве, науке, мало ли еще где. А есть одаренности иного плана: они умеют приспособиться к любым условиям жизни и везде почти процветать. Сфера их занятий, что характерно, не так важна для них самих, это массовые занятия, где в состоянии устроиться каждый. В качестве критериев дара, финансовая обеспеченность им обладающего – наименее подходящий. Что-то Вы теперь о своем патриотизме не вспоминаете! Я бы сказал так в этом не ваша вина. Вы и вам подобные обязаны хотя бы делать сочувствующий и солидарный вид. Основное требование многих людей постоянно переиначивается, то ли от неспособности строго сформулировать, то ли от желания избежать прямого обсуждения, гражданского диалога. Возмущает не богатство, возмущает нищета. Лично я не имею ничего против довольства, я не могу видеть страдание неимущих. Ведь самое странное в том, что в тех случаях, когда помощь не приведет ни к чему кроме облегчения страданий перед приближающимся концом, помощь эта будет активно предлагаться, но, когда чья-то беда не носит катастрофического характера, о ней предпочитают забывать, замалчивать, утаивать, отводить глаза, принимать усталый вид хронического инвалида, дабы не уступить сидячего места пожилому человеку. Я вполне понимаю человека, ставшего вором, если не грабителем из-за своей неизбывной и беспросветной нищеты, в детстве и потом после учебы, а коли не понимаю, то уж осудить точно не смогу. Современный город будто искушает и подталкивает к преступлению, обещая воплотить в жизнь мечты человека из низов общества. Невыносимо видеть украшенные витрины ювелирных и продуктовых магазинов, если ты питаешься объедками. У революций были благие намерения до тех пор пока и туда не просачивались люди здравого смысла, организаторы, ставившие все на свои места, агенты внешнего мира, посредники денежного монстра, вселяющегося в людей. Он меняет цвета радуги местами и заставляет солить круглые предметы, чаще треугольных. Воплощения современных святых и инквизиторов – это нищие и революционеры, причем роль последних уже сходит на нет. И те и другие – жертвы по собственной воле или по случайности, избегающие притягательных иллюзий, искусительного обмана пропагандируемых ценностей. Хотя я под понятием «нищий» понимаю не совсем то, что принято обозначать этим словом. В моей интерпретации это нечто более изысканное и романтическое. Нищий не должен исторгать ужасный смрад, то есть, конечно, может, но это необязательное требование, он непременно мучается своим нынешним положением, он с болью сознает собственное унижение, беззлобная обида на весь мир душит его от отчаяния. Раньше этот несчастный должен был занят какой-нибудь приличной работой: милиционер не окончит жизнь в трущобах. Нищий не ходит в рванье, засаленном и грязном, он не теряет человеческого облика ни в коем случае. Его одежда истерта и старомодна, бедняк ( то же, что и нищий) вызывает не омерзение, а сочувствие. Едва ли клошар является инвалидом, раненые и больные окружены определенной заботой, а он одинок на этой планете. Вполне вероятно, он так и не женился, а родителей поглотили земля и время, не было ни братьев, ни сестер. В семье его баловали. Таким вот любимцем он дожил до преклонных лет, не научившись заботиться о себе самостоятельно. Детство продолжалось несколько десятков лет, а когда счастливая пора закончилась, он обнаружил себя совсем одиноким и никому не нужным. Но события могли развиваться и по другому сценарию, коих великое множество; неисчислимое множество ручьев питает скорбный поток прозябания. По привычке мы проходим мимо протянутых рук: в детстве не хочется тратить карманных денег для такой не совсем понятной цели, а потом появляется вкус к жизни и ее прелестям. Из-за постоянного довлеющего присутствия их постных физиономий, служащих нам укором, мы начинаем невольно злиться и осуждать их, искусственно придумывая повод, основание для такой позиции. Укрепляясь в этом мире человеку все меньше хочется признавать себя неправым или виноватым, косная старческая неповоротливость мышления, гордость, уходящая корнями в память, не позволяет легко отказаться от выбранной когда-то позиции. Старшая половина общества до посинения будет отстаивать идеалы, взятые некогда на вооружение, но уже обнажившие свои пороки. К такому разряду заблуждений относится и презрительное отношение к неимущим, якобы они бездельничали, тем самым заслужив в награду бедность и унижение. Но существуют и такие персонажи, что внушают мне непреодолимый страх и омерзение, окраины промышленных районов кишат полулюдьми, полуживотными. Они собираются в небольшие стаи и кочуют по свалкам, побираются вдоль желтых кирпичных стен заброшенных заводов. Чумазые лица с раскосыми от пьянства глазами на фоне грязного неба, опоясанного колючей проволокой. Эти твари практически разучились разговаривать и перебрасываются нечленораздельными фразами туманного содержания. Все поголовно балуются сильными ядами, наркотическими составами, получение сильных примитивных удовольствий – единственная цель их существования. В их дружины доброй воли идет все больше и больше детей; до взрослого состояния никто и не доживает. Какая непонятная сила вытаскивает дочек богатых родителей из уютных квартир и обеспеченного будущего в ночной мир открытых желаний, острой, необоснованной ненависти ко всему остальному миру. Беспризорники околачиваются в метро, глобальном притоне сумеречной неразберихи. Чтобы не заблудиться в подземных лабиринтах, они не уходят далеко от поверхности, и зимой, к примеру, стоят между стеклянными дверьми входа на станцию у нагнетателей теплого воздуха, в сладком изнеможении прижимаются к проволочным решеткам, впитывают крохи жизни, купаются в блаженстве. Но проходить мимо них просто невозможно, приторный удушающий аромат их гниющих заживо тел соединяется с аппетитными запахами экспресс-пекарни рядом в переходе. Стоят обычно по трое, к ним прибилась ничейная собака. Лица убирают в высокие застегнутые воротники, шапки нахлобучены до самых бровей. Подрастающие рыцари бедноты с малых лет чтят законы конспирации. На кольцевой, по вечерам последние вагоны всецело принадлежат им, фамильярно, без чувства ложного стеснения, они лежат на коричневых лавках, как гости семьи Лариных после пира. Благонравные господа, ожидающие автобусов, опасаются вглядываться в темноту, где идут пугающие их игры, но порой встреч с ними избежать не удается. Когда они сами выходят на освещенные пространства оранжевого света. Ваша робость пока не позволяет вам разгуляться по полной, вы чувствуете себя еще не в своей тарелке. Ждать, впрочем, осталось не долго. Все предпочитают закрывать на это глаза, но мне такое положение дел совсем не по душе. Я первый нанесу удар. Легальная часть населения не будет на нас в обиде, они считают, что вас попросту нет, вернее хотят, чтобы так было действительно. Я выйду на охоту и каждую ночь вас становиться будет на одного меньше. Отчего ночью? Меньше свидетелей, да и вас не так-то просто выделить из остального люда, вы, как нечего делать, смешиваетесь с церковными прихлебалами и цыганятами магистралей. Вам не уйти. Я буду нанизывать одного за другим призраков неуемной воли на зазубренные кинжалы для жертвоприношений. Вы будете вынуждены ассимилироваться с легальной составляющей. Ничего личного, это бизнес, детка. Вы, мои конкуренты и вы перешли мне дорогу, за это и многое другое придется заплатить сполна. Но следует признаться: и в каждом из нас, даже в самом открытом и дружелюбном человеке есть страсть к потайному и низменному. Желание, горящее слабым огоньком, оказаться на краю дозволенного, испытать многовековые запреты на прочность. Проверить себя, мы терзаемся, когда не знаем, что творится в соседней комнате. Адвокат обвиняемого, господин С. Д. Б., в качестве дополнительных аргументов в пользу невиновности автора зачитал суду присяжных следующее стихотворение: Люблю блуждать я над трясиною Дрожащим огоньком, Люблю за липкой паутиною Таиться пауком, Люблю летать я в поле оводом И жалить лошадей, Люблю быть явным, тайным поводом К мучению людей. Я злой, больной, безумно-мстительный, За то томлюсь и сам. Мой тихий стон, мой вопль медлительный – Укоры небесам. Судьба дала мне плоть растленную, Отравленную кровь. Я возлюбил мечтою пленную Безумную любовь. Мои порочные томления Все то, чем я прельщен, В могучих чарах наваждения Многообразный сон. Но он томит больной обидою. Идти путем одним Мне тесно. Всем во всем завидую, И стать хочу иным. Одет в скользкий и прилегающий черный комбинезон. Вдоль позвоночника впечатляющий ряд острых шипов. Лицо скрывает черная маска, тяжелые ботфорты на ногах. С правого и левого боков висят плоские ножны. Пока дремлет холодная сталь в ожидании тьмы. Обе мои руки работают одинаково быстро и действенно: судьба подвела меня к решению развиваться симметрично. Это было в ту пору, когда я, упав ничком, получил крепкого тумака под ребра. Затем правая лопатка стала скрести злополучные ребра и в конце концов вынудила выйти в отставку. Люблю, знаете, почувствовать себя незаметным, раствориться в траве, тенью скользить по асфальту, таять в соседнем леске, но чувствовать свою ловкую, изворотливую силу. Ужасающую выносливость, сумасшедшее проворство. Прелесть, как хорошо мелко дрожать в засаде, на секунду закрыть глаза и втянуть когти перед решающим броском. Наше время – доли секунды, годы хищника длятся в самопостижении. Особого рода удовольствие таится в предвкушении броска, в накоплении сил, в кропотливом расчете подробностей нападения, спектра ответных реакций и их интуитивного отражения. Как пружина, мы долго копим импульс броска, созидаем для будущего и в один момент это будущее разрушаем, рассекаем время на прошлое и предстоящее, словно с треском разрываем ткань. Пусть наша порода уступает кому-нибудь силой мышц, это ни капли не удручает нас, ибо так устроен мир: мы все время играем белыми, и именно наш поступок следствие, а ответ мишени, оттого я и называю его ответом, - только следствие. И как реакция на произошедшие уже изменения это следствие будет немного запаздывать. Роковая несимметричность мне на руку. Я вылезаю из квартиры ночью по веревке, свешивающейся с балкона. Ее никто не заметит: к концу заветного каната прикреплены две лески, одна заставит его спуститься за нами, другая – поднимет вверх и свернет клубком на балконе, словно змею. Избегаю мстительных соседей, по ночам они предпочитают спать в отсутствии посторонних звуков. Но охотники, как никто другой подвержены болезням души, унылой меланхолии, скуке. В Ноябре на меня напал голод, после мирной ночи в своей комнате, поднимаясь утром, я не мог подвинуть тапок, чтоб нацепить их на ноги. После трех часов наяву, без подкрепления я терял силы. Спать укладывался в девять, но и это не спасало от беспамятства. Хмуро и нахохлившись, закутавшись в екатеринбургские платки приближалась вьюжистая зима. Она плевалась кожурой от семечек и раскидывала соленый песок по мокрым тротуарам. После одного знаменательного концерта, когда мне пришлось простоять около трех часов на льду, застеленном ковром, я заболел. Зашел в дом, отлепляя спелые листья от подошв ботинок, а вышел впервые после отдыха на белые и холодные проспекты всеохватной московской больницы, странноприимного столичного дома. Каждая ночь обещалась быть кошмаром и с большой изобретательностью выполняла свое обещание. В те дни передавали итоговый международный турнир женщин по большому теннису. У меня же во рту как раз вскочило множество нарывов, из-за которых я и говорил неразборчиво. Одной неспокойной ночью мне снилось, будто я на трибунах вокруг теннисного корта. И бегаю по ним, поэтому боль во рту я сам себе объяснял тождественностью собственной челюсти и одной из трибун. Соломоновым решением было внушить себе не бегать по своим трибунам, то есть забыть о нарывающих деснах. Большую часть времени я проводил на вражеских трибунах с влажным лицом, блестящем от жары в сиреневом свете уличных фонарей. Но три врага с заразительным упорством игривой молодежи сгоняли меня с чужих трибун. Один был крепкого сложения, в бейсболке, с невыразительным лицом из чипсов, мне моментально пришло в голову, что он американец. Не знаю почему. Второй был егозливым и все время подначивал жлоба, чтобы тот и мне отвесил горяченьких. Сам он не отличался высоким ростом, размахивал большими картонными кистями болельщика, а лицо его было плоским и красным, таким, что в тот момент я мог поклясться: его часто бьют по лицу неким плоским и тяжелым предметом. Вроде тех же кистей болельщика или щелкают линейкой, если он гимназист. Я подумал: наверняка он такого поганого характера, который принуждает людей подлизываться к командирам и в их отсутствие шпынять подчиненных. Отчетливого продолжения не было, может быть, я ударил спинкой стула или доской по лицу того пострела. Я садился в кровати и измерял комнату тяжелым вздохом. За окном детский сад наполовину закрывал панельное здание районной школы. Бессмысленным взглядом я останавливался на этом строении. Волна смутных страданий бередила мою душу. Я задумывался: отчего моя судьба пихнула меня по той дороге, что ведет к нынешнему времени, отчего не иначе? Могло ли получиться лучше? - спрашивал я сам себя. Наверное, могло бы быть более результативно; в целом я мог достигнуть большего. Но вряд ли нашлось бы иное место, позволившее мне испытать большее, сумевшее так потрясти меня, так безбожно и расчетливо перевернуть все сидевшее во мне до того в девственном порядке. Я с удовольствием бы попробовал быть спортсменом, впрочем, с позицией меня сегодняшнего это кажется интересным, а там, глядишь, и не так бы запел. Все неплохо, да не то, чтобы очень это было отчетливым. Жизнь – головоломка со множеством ответов, пояснения к твоему решению даются лишь на смертном одре. Печально, ведь надо бороться, можно двигаться вперед, есть силы и энергия, но непонятно, куда держать путь, я заблудился и зашел совсем не туда, так какой же смысл лишь усугублять свое бедственное положение. С другой точки зрения: а не все равно ли тогда? Движение есть смысл нашего существования, движение в широком смысле, как проявление активности, как необузданный танец, как подлинное выражение нашего естества. Теперь ответ мнится простым, лежащим на поверхности. Все, чем бы мы не были заняты есть отражение наших внутренних порывов и склонностей, путь, по которому мы идем, подчиняясь приказам внутреннего компаса. И сей прибор сделан на редкость некачественно. Не существует адекватных географических карт. Обзор таких terra incognita займет в аккурат всю жизнь. Занимайся, чем просит душа: совершай открытия либо обустройся на одном месте и занимайся хозяйством. Никто не вправе тебя за это бранить, никто не вправе читать тебе наставления, никто не властен над твоею жизнью, никому нет доступа к твоей совести. Как бы хотелось сделать одну мысль очевидной, сделать ее наглядной и простой. Я испытываю огромное желание донести ее до множества людей, сделать ее привычной, как воздух, и необходимой, как пища: мы изначально свободны, никто не может заставлять нас делать что-то вопреки нашей воле; для удобства и безопасности люди, собравшись, вынуждены были ввести некоторые ограничения изначальной свободы. Дитя этих собраний – государство, оно лишь орудие в руках общества, это всего лишь шлаки, собранные вокруг подлинных самоцветов, руды, кем, собственно, и являются индивидуумы. Не должно быть целей государства самого по себе, вне человеческих нужд, а тем более вопреки им. Такое государство является гнусным спрутом, паразитом, чертовым нахлебником. Единственной разрешенной для государства нишей должна быть ниша слуги, едва ли ей может стать даже ниша собрата, это не симбиоз. Каким должно быть идеальное государство будущего? Прежде всего неприметным, не оттого, что ему есть, что скрывать. Оно будет чтить человека, как святыню! Вялый комментарий, не имеющий непосредственного отношения к власти и ее правам: с некоторых появились непонятные мне популяризационные движения, словно переливающие из пустого в порожнее. Что-то вроде молодежных движений в поддержку озеленения Москвы, средство занять беспокойные руки. Мы не разделяем их шумного оптимизма. Занимайтесь своим делом! Меня поражают люди, до сих пор ходящие на демонстрации. Добровольное порабощение коллективом, – унизительно! Так и недавно мне посчастливилось увидеть проявление сознательного общественного поведения: некто расклеивал перечеркнутые изображения кроликов с прижатыми ушами, на манер знаков дорожного движения. Что это символизировало говорить излишне, но с энтузиазмом принял бы я расклеивание иных постеров на лобовых стеклах автобусов. Перечеркнутые изображения медведей-дуболомов, сделанные на манер дорожных знаков. Мне кажется мое предложение нашло бы отклик в рядах населения. Добродушно-хамоватые служители Мосгортранса, вынырнувшие из болот криминального мира в смутные эпохи перестройки, порой не знают границ. Их поведение демонстрирует наше бессилие перед лицом правового хаоса. Иначе бы как могла подобная свинья вышвырнуть девушку из троллейбуса, если та начала сопротивляться. Немыслимо; мы созданы молчать, наш удел – покориться. И уже не хочется залихватски прыгать, цепляясь за белые поручни в дверях. Нет сил распрямив ногу, выбить передние зубы, помять искаженное страхом и пьянством лицо. Не нужны ваша боль и раскаяние. Мне не достает одиночества, в смысле тишины. Я богат одиночеством пустоты и молчания, но оно лишь разрушает и не способно создать ничего нового. Ведь оно не значит покоя, оно скрывает отчаяние и бесплодную борьбу с самим собой. Полно пустоты соблазна, но нам не хватает сил и смелости перевернуть ее, превратить в богатство и достаток. Сегодняшнее положение лишь отчетливее обрисовывает мне мои недостатки, и я не готов к выходу, много людей примутся отождествлять меня со мной прежним. Нужно много времени, нужно замкнуться и расстаться со своим ранним образом. Я попытаюсь войти в эту жизнь заново, чуждым страхам и сомнениям, но разве смогу я устоять против вымышленных салютов Семеновского, запущенных взаправду? Есть много странных событий и мест из детства, за которые мы может отдать очень много. Оранжевое небо ночью – очень уютно, но я бы с гораздо большей охотой очутился бы в глухой тайге. Сидящим на лавке возле теплой избы в вязкий сорокоградусный мороз, без ветра, а ноги в бездонном сугробе. Посидеть чуток, да и в избу – спать на печи, есть кашу на топленом молоке, воровать сухой мох из щелей между бревен, густо зевать и часто позевывать. Ждать настоящей тишины, что оставляет места скрипеть растущим волосам, тишины плотной, как непропеченный пирог с грибами, тишины, от которой звенит в ушах, тишины, в которую не веришь. Она приходит с того света, очищенная от людских стенаний. Она струится между звезд, отрада рожденных без слуха. Тишины не сомнительной уступки, а тишины-завоевателя, тишины покорителя душ. Она измеряет ценность звука, делая его эпизодом, это холст, на котором звук становится мазком, художник без красок, он вынужден рисовать пустотой. Каково? Мечтать и не знать, не ускользают ли твои мечты украдкой от тебя. Не быть уверенным на все сто, что тишина не раскроет ночью твои уста и не извлечет оттуда сокровенной тайны, но она не плюнет в конце, закрыв тебе рот. Она не хранит секретов. Только жаль мыслей, гибнущих на полпути. Тишина – умный собеседник, не осудив тебя, даст понять, что не прав, выслушает до конца и не упрекнет. Я ей кое-что задолжал, продолжу: государственная власть обязана стать робкой и бояться своих граждан. Я позволю каждому сорвать гербы и флаги, и …. Отнести их в музей, остальные снести на свалку. Да здравствует безжалостное попрание символов и реликвий, долой церемонии, восхваляющие ничтожество отдельного человека перед лицом машины целенаправленного порабощения. Воспитаем же поколения, лишенные раболепных инстинктов перед статуями вождей. Основное направление наших чаяний – максимальное очеловечивание выражения государственной воли. Ни к чему торжественность и помпезность, я приветствую простоту и естественность дружеского времяпрепровождения. Сорвать с чиновников маску недоступности и превосходства! С этих пор все начнут смеяться над гнусным словосочетанием долг перед государством, перед страной, не мы, государство обязано нам, без нашей на то воли оно раствориться, пропадет. Мы творцами своей судьбы должны являться, но отчего-то жизнь отпускает нам очень немного моментов выбора. Все получается как-то само собой, помимо нашей воли, зазевался, глядишь, а за окном уже другой век, зеркало знакомит нас с нашими родственниками, сильно смахивающих на повзрослевших нас самих. Мир кормит нас с ложечки, готовыми подсовывает решения, наверно, безвредные, но определенно не те самые, о которых нам снились сны, не те, которые хотели сделать мы. Бояться распорядка, сковывающего собственную свободу, держаться подальше от ключевых решений, так называемых, важных, судьбоносных решений. Этого-то нам никто и не позволит. Никто не простит нам промедления, момента размышлений, задумчивости. Пускай упрекают в малодушии, в пассивности, значит, так и есть, я не вижу в этом ничего зазорного. Смешные обвинения, дикие атавизмы непросвещенного, дремучего мира; переучивайте левшей, всех под одну гребенку, в этом наверное заключено гордое счастье наставлений. Да я не прав, уже мой тон противоречит моим демократичным изысканиям, но спишем это на счет эмоций. Есть прелесть в беспристрастности, в изначальном отсутствии интереса к чужой жизни, в корректном молчании. Мне же самому не хватает уважения к чужому своеобразию: приходится ставить себя выше остальных, мысленно диктовать другим свою волю. Увы, главное заблуждение множества исторических лиц: их непоколебимая уверенность в правильности своих решений, уверенность, граничащая с помутнением рассудка, вера в собственное предназначение, в мессианство, в собственную исключительность. Догматичность положений, взятых из ниоткуда, да многие и не пытались доказывать что-либо самим себе. Смешное, детское предположение о возможности изменить существующее положение вещей раз и навсегда силовым вмешательством, вырвать якобы лишний орган из тела, вымыть руки и полагать, что все заведется дальше само собой. Весь день меня не покидает ощущение, будто меня принимают за кого-то другого. С вами не бывало такого, дорогой читатель, что из речей собеседника становится ясно: вас с кем-то путают? От меня ждут совсем другого, а те решения, которые мне казались блестящими, судьи находят просто ошибочными. Неужели я перепутал конкурс, неужели я ошибся кабинетом? Где соперники, разделавшие меня в пух и прах, где мудрые оппоненты? Почему не все произносимое мной разит в сердце читателя, вероятно, я расстался с языком, который родился вместе со мной, подрастал и крепчал. Становился похожим на избранных им идолов, мечтал о будущем, жаждал найти себе достойное место в жизни. Я разочарован, но хочется верить: причина моего поражения устранима, а то ее и вовсе выдумали, пытаясь обосновать внутреннее неприятие моих сюжетов. Внутри все ходит ходуном: я разгорячен, я пытаюсь запеть во весь голос, и мне не хватает легких, срывается горло на горькие, хриплые вскрики. Как бороться с ограниченностью мира, в чем источник этой конечности, оставляющей ощущение скуки и умиротворения? В нашем восприятии, словесном воспроизведении пережитого, в изначальном убожестве вселенной, несовершенстве плана. Это ошибка полагаться на всесилие вдохновения, вдохновение, как упоение сладкотекущей ерундой. Самоуспокоение, попытка закрыть глаза на неподконтрольность восторженных излияний. Ждите холодной, расчетливой ярости, она сменяет благодушие. Любому художнику дельный совет: представлять своего зрителя своим врагом, противником, которого вы собираетесь сбить с ног. И у вас нет иного способа помимо кистей, камеры, резца. Вам желательно его огорошить, потрясти до основания, чтобы после первого знакомства он уходил, словно с поля боя, чтоб созерцателя качало от усталости, чтобы он путал право и лево. Радуйтесь, если он не прошел мимо, надолго остановился перед вашим трудом, силы потрачены не зря, ежели зритель уходит погруженным в размышления, с утопленным взглядом. Я был в раздумье и глубоком волнении. Сделать я ничего не мог, но чувствовал, что не могу оставить этого просто так. Я шел, потупив голову и размышляя, как вдруг мятный голос окликнул меня по фамилии. Оглянувшись, я заметил хмельного человека, одетого вполне чисто, но в мятом кителе. Лицо очень знакомое. Я стал вглядываться. Он хитро улыбнулся и спросил: не узнать меня сейчас? А, да это ж ты, - вскричал я радостно, узнав в незнакомце с острыми глазами и бородой Грбича своего прежнего школьного товарища по губернской гимназии. Ах, Ваня, дорогой мой, ну а кто же! Долго же мы не встречались, долго же мы по земле мыкались, прежде чем опять сошлись в этом странном месте. Впрочем, как я тебя пропустил? Давно ли ты здесь? Дней пять точно. Как же ты? Неужто с самой весны здесь сидишь? Постой, не обо мне речь. Ты, получается, из Москвы недавно. Что нового произошло, расскажи – не томи! А чего ты ждешь? Все, что могло случиться, произошло до твоего отъезда. Разве, что Барсуки хозяйничают в Турции, да в МГУ появился факультет этики и педерастии. Да что ты! Проклинаю вас женщины моей молодости: интеллигентки, декадентки, проститутки! Да о ком ты? О Натали Портман, Доминик Суэйн, Брук Шилдс, Уме Турман, Миле Йовович. Впечатляет, однако лучше было вложить эти слова в уста Стивену. Это звучит кощунственно. Наверное, - согласился я, возвещая окончание нашей дуэли. Как ни крути, а надо сказать несколько слов о моем давнем знакомом. Грбич был старше меня на неопределенное количество лет. И видел я его довольно редко. По непонятным законам он долгое время вращался в той же среде, что и я. Про него рассказывали, будто он жил на верхних этажах Главного Здания с веселыми и беззаботными духами. Там было очень тепло, а как же хорошо им было воскресным утром, на ярком солнце, золотящем летучие пылинки. Они устраивали игры на пустых лестницах и бегали по истертым паркетинам свободных этажей. Однажды всему этому пришел конец, когда университетский парк со стороны Москва-реки оказался заселенным кочевниками в мехах. Они жрали человечину, а плотный белый дым низко стелился по земле. Сильно запаздывало желтое утро. Грбич привык просыпаться оттого, что луна заглядывало к нему поверх растений, расставленных на подоконнике. Как-то он почувствовал во рту тяжелый вкус крови и понял: пора уезжать из Москвы. Хотя до описанного случая Грбич носил свою левую руку в кармане, как преступник револьвер или нищий горбушку про запас. В толпе он прижимал читаемую книгу лицевой стороной к груди, словно икону, а волосы мыл в два раза реже остального тела. Интересный вопрос: для чего он уехал в деревню. Сам Грбич объяснял свое решение долго и запутанно, вот, что из этих объяснений понял я. С давних пор он был приверженцем особого отношения к жизни, базировавшемся на научном подходе. Он верил в наличие закономерностей, экзистенциальных уравнений, руководящими нашими поступками, подозревал существование связи между ними и происходящими вокруг нас событиями, против нашей воли. Одной из рассматриваемых им проблем была задача о поле опасности, то есть житейский вопрос об отображении наиболее опасных мест на улице ли, на станции метро или в обычной комнате, не важно. Мой приятель пытался осмыслить появление новых сущностей при изменении величины опасности, хотел выявить численные соотношения между опасностью, настроением, сосредоточенностью и уверенностью. Он пытался стать пионером новой науки, и как все первооткрыватели начал плутать. Некоторое время он усиленно занимался психологией, осваивал литературу, посещал бесплатные лекции, но затем счел все их предположения вздорными и беспочвенными. Вскоре он перестал доверять математике и стал заниматься историей языка. Грбич чихал и, сморщившись, начинал убеждать меня в примитивности чисел по сравнению с языком. Вот, в чем секрет человека, язык – это модель развивающегося общества, растущего народа. Пока от нас требуются только наблюдения, но даже ими никто не желает заниматься, - жаловался обычно мой приятель. Этот циник ни во что не ставил нынешнее поколение молодежи, ругал его почем зря и отказывал в достойном будущем: « Эти даже монолога Рудина не произнесут. Будут только лезть на телеэкраны и мямлить там, молчать, краснея от своего косноязычия. Каждый старается представить себя сложной, противоречивой личностью и путается в сложноподчиненных предложениях. Вам еще расти и расти». В деревню он уехал ( хронологически сие бегство совпало с моим выбором на роль малыша-акробата одним из лучших коллективов в стране; услышал о проводимом сайтом команды конкурсе я в залитом роскошью и блеском золота подземном ресторане «Синяя птица»; отправив предложение своей кандидатуры под фамилией Аулибов, я поступил весьма осмотрительно, ибо их проверка состояла в интегрировании фамилии по контуру области, в которой малыш-акробат намерен их сопровождать), чтобы познакомиться с настоящей жизнью, не осложненной колоссальными влияниями Города. Вместе с тем он просил настоящего труда, желал коснуться земли плугом, так как не смел жить иждивенцем у крестьянства. Особенно раздражали свежеиспеченного земледельца литературные поделки русских муз, философского характера, с глубокомысленными названиями вроде: «Дружба и дружественность». Через несколько минут он вновь ввязался со мною в спор. Ваня, я, однако, успел уже подобрать краткую метафору, которая выразит тебя целиком и вполне верно. Очень интересно будет услышать. Сохрани мою речь. Как, что ты имеешь в виду? Ты обожаешь слушать самого себя. Тебе до посинения нравится красоваться перед всеми своим стилем, своим мнимым или нет совершенством. Тебе не хватает фанатично преданного читателя, с ним бы ты был на седьмом небе от счастья. К твоей персоне надо приставить льстивых бездельников, которые денно и нощно будут говорить о твоем превосходстве. Иван, тебе наплевать на содержание твоих речей, достаточно приятно обернуть их емким оборотом, красивым словцом. Ваши сочинения это только упражнения в красноречии, бездушные мраморные статуи, полные холода и презрения ко всему насущному. Тебе, наверняка, известен такой прелюбопытный факт: людей, пролистывающих газеты и журналы в поиске статей на злободневные темы, влечет и убеждает более не логичные связи в повествовании и серьезное, систематическое изложение материала, а гладкость рассказа, убежденность пишущего. Внешняя атрибутика способна сделать гораздо больше истинного знания. Тем самым я хочу указать ту нишу, которая весьма бы тебе подошла, где бы приносил несказанно много пользы, возьмись за правильные идеи. Да, ты меня удивил такой убежденностью. Хаос иудейский, одним словом! Я очень благодарен за такое доверие, но вот беда, заказные темы вызывают у меня отвращение. Никаких эмоций. Творчество – это спонтанное возбуждение мысли, никакими силами у меня не выходит его контролировать. Мне иногда это напоминает школьные сочинения, если нет интереса – беда, пожалуй, в какой-то мере это ребячество. Ребячество – не самое плохое, прихотливость и непостоянство твои недостатки. Непрофессионализм, я бы сказал. Странно получается, что же профессионализм – это способность работать на заказ, вопреки желанию, пристрастиям, превратиться в робота, чернорабочего, разгребающего сугробы. Унизительная служба! Здесь нет царской дороги. В одном ты неправильно истолковал мое существо, правда, я подозреваю, этот вариант находит поддержку очень редко у людей далеких от моего занятия. Будь я один на белом свете, я бы все равно не прекратил, с вашего позволения, заниматься искусством. Самолюбование и упоение процессом сочинения – гораздо более ощутимая радость, чем восхищение гипотетических зрителей. Прежде всего, я сам свой читатель, и если мне нравится собственный труд, то плевал я на все остальное. Конечно, предупрежу бурю твоего возмущения, - текст, написанный мною, обладает неким родством со мной и поэтому буквально обречен на одобрение, в определенном смысле, тупик. Он может быть разрешен, не до конца, в количественном порядке, используя мой опыт, в качестве читателя. Тяжело бывает отстраниться от родного произведения, часто бывает жаль подвергать его унизительному сравнению, но иногда получается забыться и скользить по волнам знакомого сюжета. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Что-то я хотел добавить, да позабыл. Что же, ах, ну вот, есть определенный смысл в работе над отвлеченной темой. Состоит он не ценности самой работы, каждой раз новой и заранее неизвестной, а упражнении языка, подготовке выверенного стиля для дальнейших свершений. Очень важно создать такой аппарат, добиться его точной работы, сделать так, чтобы стиль произведения был устойчив, а не прыгал с одного на другой. Маловажная работа для таких целей, пожалуй, была бы и полезнее, так как она меньше задевает чувства, позволяет сохранять спокойствие, твердую руку. Хотя зачем я все время начинаю оправдываться. Будто признаю себя отчасти виноватым, поменяемся на время ролями. Давно хотел узнать: чем увенчались твои попытки стать музыкантом? Здесь не помешало бы объяснение. Мой друг с давних пор пробовался на роль вокалиста в рок-группе. Помпезные и величественные произведения Queen он переделывал под свой голос. Почти сразу он понял, что это не его доля соревноваться в силе и диапазоне с их незабвенным Фредди Меркьюри, поэтому приглядывался к песням, в которых требовались более чувство ритма и эмоциональность, нежели сильный голос. Он очень любил исполнять «Somebody to love», «It’s a kind of magic», «Sheer heart attack», «Killer queen». Всего не упомнить, очень много песен он подхватывал, а затем бросал на середине. Слова узнавал не из буклетов, а пытался снять мелодию на слух. «Главное это не смысл, а похожее настроение, это я обязан передать без изменения», - без устали твердил Грбич. Метеором по небосклону его музыкальной жизни проскользнули Blind Guardian, петь вслед за Ханзи Кюршем он не начал. Однако он усердно заучивал отдельные интонации мужественного голоса великого Толкиениста. Тевтонские менестрели Helloween были главной любовью его жизни, но Хансену он помогал бэквокалистом только на стремительной Ride the Sky, чтобы поднять себе настроение подключался в припевах на Reptile, Murderer. Разинув рот, Грбич почтительно молчал, когда вступал Михаэль Киске, ведь даже непосвященному было понятно: ему не найдется достойных подражателей. А вот в Энди он увидел своего близкого друга и с охотой подражал его хриплому голосу. Затем наступили темные времена засилья блэк- и дэтметаллических составов. И неотступно меня преследовал дикое рычание Николы, а затем и менее удачные попытки, очевидно, с коммерческими целями, утвердиться на антихристианской сцене, где требовалось умение совмещать визг и гроул, трешевые вопли с безобидным кряхтением Бона Скотта. Вскоре он услышал один греческий коллектив, где участвовал вокалист, исполняющий гроулом, которому Никола не годился в подметки, после этого в довершение всех разочарований он узнал, что некоторые зарубежные коллеги с успехом пользуют электронные способы преображения голоса, что при умелом применении сводило на нет все усилия моего товарища по укреплению органов ответственных за производство рычания. С досады он начал много размышлять за - прослушиванием инструментальной музыки, а потом обратил внимание на милые моему сердцу семидесятые. Грбича безмерно восхищал Гиллан. Он превозносил его технику и не советовал сравнивать с ней технику современных паверных вокалистов. По причине скудности таковой. Не помню точно, но Machine Head, кажется, он пел целиком. Несмотря на всю требовательность и скептицизм Николы, не помню не одного отрицательного слова в адрес Яна Гиллана. Грбич говорил, что в небрежных словах английского повесы сквозил гигантский потенциал неистраченных сил, отчаяние и веселье, сравнимые по своему накалу со стихийными бедствиями. А история, как Гиллан принес славу претенциозному творению, отчего-то названному рок-оперой, вообще заслуживает чести стать историческим анекдотом. Гефсиманского сада было достаточно, чтобы сделать оперу шедевром. Нас поражало резкое развитие настроения, создаваемого Яном. Нам приходилось держаться за спинки стульев, если мы желали остаться в сидячем положение, перепады чувства напоминали американские горки. От восхищения спирало дыхание. Но все-таки Гиллан второго состава Deep Purple – совершенно особая статья, это мир, постепенно растущий при ознакомлении с ним, расширяющийся, завлекающий. Чарующий своею неприглядностью, внешней скромностью. Затруднительно сказать, чем именно он так нас манил. Открытым это было только для посвященных, лишь для тех, кому не нужны были слова объяснения. Тайное сияние, невидимое снаружи леса, но увеличивающее свою яркость при движении вглубь чащи. Ритм, колдовство, страсть. Сперва Никола также пошел вслед за Богом хэви, Робом Хэлфордом. Никто не мог так же, как Роб работать на высоких частотах. От его криков переворачивался мир, они шли из глубины земли, они били могучим потоком, разворачивая пласты земной коры. Это время выбивалось из непрерывной последовательности мгновений, искажалось, растягивалось до невозможности, пускало нас плавать в невесомость. Они будили в душе слушателя гордость, заносчивость, бесстрашие и лихачество. Дикий кураж, стремление к свободе. Непосредственное выражение скорости музыкальными средствами. Приятно соглашаться с резкими, хриплыми припевами; в хранителей духа песен они обратились к концу пребывания Хэлфорда в составе Judas Priest. Собственно, лишь они поддавались более-менее верному воспроизведению. В иных случаях Грбичу нечем было поживиться, мой друг не умел так резко и рвано петь, не рискуя совсем сорвать голос. Много раз судьба Николы пересекалась с музыкальным миром Led Zeppelin, проведение старательно, по сходящейся спирали подводило его к решению попытаться воскресить в себе погребенную легенду. Мой приятель, умело подражая вступлению «Black dog», размышлял над тем, как случайность ведет нас по минному полю, заготовленному до нашего рождения. Мне он говорил, что с удовольствием исполнял бы вещи Планта, если бы обладал таким же темпераментом, прихотливым и переменчивым, грустным и солнечным одновременно, ежели бы всевышний одарил его способностями любоваться этим миром и собой. «У меня нет в голосе улыбки, - жаловался Никола, а просто добиваться сходства упражнениями мне не хватит терпения». Вначале он доверял тем горластым паренькам с еще детскими голосами. Они были задорными и хотели двигаться вперед по кратчайшему пути. Началось все, пожалуй, с Дикинсона, который и вправду был заправским крикуном. За ним, очертя голову, потянулись и остальные. Им открылись недоступные ранее вершины исполнительского мастерства, но они почему-то оборотили свой взор в другую сторону и предпочли путь развития, указанный ранее мастерами оперного жанра. Иные на этом поприще добились неплохих результатов и окончательно утратили черты индивидуальности. Из не лишенных дарования вокалисты металлических групп превратились в обледеневшие памятники собственной наивности. С высоты сегодняшнего сознания, обладая некоторыми неутешительными свидетельствами, мы вправе утверждать: часть молодых артистов неумело распорядилась своим даром. Став опытными музыкантами они по-прежнему являют собой пример скованности, отсутствия эмоционального развития. Совсем недавно Никола, обратив внимание на великолепного Йорна Ланде, пошел вниз от ветвей по стволу к корням. К основателям подобной манеры. Ему полюбилась изящная, неброская манера Ковердейла. В то же время очень чувственная, раздраженная. Вместе с ним ты погружаешься в другую эпоху. Время лелеемых запретов и доступных соблазнов. Вопрос искренности для артистов перестает быть решающим и, вообще, сколько-нибудь важным. Ибо артисту важно уметь перевоплощаться, почувствовать себя нормально на месте другого человека. Это его работа, Дэвид прекрасно владел мастерством вживаться в новый образ. Его голос с тех пор ассоциируется с образом плохого парня, порочного, распущенного и тем не менее страдающего. К сожалению, он часто злоупотреблял приемами из арсенала соулмузыкантов. Высокие тона делали его исполнение неуверенным и как будто просительным. Заразился он этим, наверное, на ниве соперничества с Хьюзом, впоследствии «голосом Рока». Медленные блюзовые номера у Ковердейла получались куда естественнее, та же «Mistreated». Эти песни, отражали настроение вдумчивой умиротворенности, сочувствующего самосозерцания. К тому же подражать манере Дэвида было проще, чем в случае других исполнителей: долгие вздохи для зрителя, нарочито невнятное произношение. Хотя надо отдать ему должное, он умел заводить своей игрой. У него была уверенность в собственной правоте, он был силен, как личность, Дэвид побуждал двигаться за собой. Все еще в пути его извечный соперник, его прежний союзник, Гленн настолько легок, что ему впору заскользить по переливающимся на солнце волнам. Король квакающей бас-гитары, окрыленный первыми успехами в освоении нового инструмента, сумел подняться очень высоко в погоне за искомым пределом, ему удалось потеснить уже признанных мастеров воздушного исполнения. Только на концертах мы можем услышать незабвенную «Джорджию». За этими стенания открывается новый космос, потайная вселенная. А как маэстро фанк-роковых слияний достойно проявил себя, не отказав в помощи поколению более юных музыкантов! Будем наступать единым фронтом. Его голос, как приелось это начало, более всего напоминает саксофон, еще отчетливее сие сходство обнаруживается, когда Гленн форсирует голосом физиологические барьеры и издает нечто вроде рычания. Раньше умели культивировать самые разные настроения для создания оригинального образа. Но излишняя свобода всегда приводит в плохую компанию, перебирая варианты и кормясь слухами, мы вплотную подошли к Полу Роджерсу. Его ли рук дело означенная революция? Полноте, хватит скромничать, достаточно показаний свидетелей. Такого почета списка мест службы редко у кого встретишь. Каждому исполнителю с известной долей условности можно привести в соответствие оттенок определенного цвета, не так ли? Потому как цветовая азбука доступна и неумеющему читать, незнающему используемый язык. Алфавит красок дан всем с рождения, хотя добиться совпадения знаков и смыслов не суждено никому. А пока приходится общаться с помощью знаков, приблизительных и неточных. Матово-бежевые излучины, глубокой бархатистой долины. Меандры спокойного течения равнинной реки. Пол Роджерс не кричал во весь голос, не вопил, рискуя надорвать глотку, он согласовывал динамику своего выступления со внутренними ритмами, которые награждали его чарующей естественностью, простотой. Это был гений детали, который, мечтая, покорил Олимп. Его тактика состояла в воспроизведении дыхания жизни, в его компании нельзя было устать и не соскучиться. На этом мой друг предпочел остановиться, ибо сознавал: другой подходящий случай привидится очень нескоро. Неподобающее для нас это дело обсуждать мою судьбу, - глухо отвечал Никола. Перед тобой стоит человек, заслуживающий прежде всего сострадания, продолжал он. Я изменил себе, своей судьбе, я предатель вверенных мне идеалов. И повернуть меня заставила жизнь: я разочаровался в судьбе, которая вела меня самыми неудобными тропами, которая роняла меня, будто нарочно, на самые острые камни. Болезнь одолевавшая меня была подобна прибою. Злосчастный недуг опрокидывал мои сооружения вновь и вновь. Всякий раз, когда я после длительного перерыва принимался за повторение пройденного материала и изучение нового, лишь только я достигал своих прежних результатов, тут же находились в небесах высшие существа, кому угодно было мое молчание. Усталость была всему причиной и разочарование, мои возрождения теряли смысл, превращаясь в сизифов труд, я остановился в развитии и решил прекратить попытки сопротивляться. Мне пришлось покинуть Город еще и оттого, что под влиянием серии поражений характер мой необратимо изменился. Долго скрывать это было невозможно, но мне и не хотелось испугать родных, чтобы они отвернулись от меня. Они запомнят меня неизменившимся. Однако, согласись есть определенное очарование в таком прозябании в глуши, на краю земли, вдали от всякой суеты, - Грбич сладко зевнул. На дне реки. И так сойдет, - согласился мой друг. Я повернул голову и ни с того ни с сего приметил на поляне за деревней песчаного сфинкса. Все как полагается: сложенные лапки, богатая грива. Я так опешил, что испугался, как бы не заметил этого Никола, поэтому задал ему вопрос, который первый пришел мне в голову. А как ты полагаешь, может ли один образ совмещать в себе античную полноту черт и каноническую скупость, символичность икон? Не знаю, смотря, о чем речь. Отчего тебя это так взволновало? - беззаботно ответил Грбич. Если будешь водить долго пальцем по краешку безобидного альбомного листа, то вскоре он обагрится твоей кровью. Но не бери в голову, - спешил успокоить его я. Знаешь, недавно я посетил замечательный концерт заезжих знаменитостей. Перед этим мне пришлось выстоять длинную очередь на улице, и в один из моментов я услышал прекрасный голос. Знакомый голос, который заставляет мое сердце биться учащеннее. Я упивался этим мгновением обмана, сладким неведением. Конечно, то была не она. Я не был разочарован, скорее, удивлен, как природа расточительно делится своими богатствами. А после, в самом конце, когда зрители стали расходиться, в соседнем секторе мне попалась на глаза девушка с волосами, черными, как смоль и горьким лицом. Меня эта встреча изрядно освежила: на ней был свитер с надписью «Queen». Произошло причащение к собственному прошлому. Скажи-ка, брат, где ты столуешься, - оживился вдруг Никола, чуть не уснувший под мой монолог. Изволь. Впрочем нет, сие не хорошо, - прервал он меня тут же. А что же хорошо? Да вот что! Видишь, - и он указал мне на вывеску шагах в ста от того места, где мы остановились. Буфет, ресторан, бордель – очень, в целом приятное заведение. И цены вполне; а какая там водочка, душа моя. Чутье подсказывает мне, что там нас заждались. Да не робей, Ваня, меня там знают, я там своим числюсь, а ты – почетный гость! Право мне несподручно, ей-богу, ежели только на несколько минут заскочим. О чем речь! Что за человек, мой Ваня! – прогремел мой друг. Пинком Никола распахнул егозливые створки, начинавшиеся на уровне пояса. На веранде прятался от удушливого летнего солнца небритый судья, коротая время за рюмкой ядреного виски. Сопьешься, - небрежно предупредил я. Он не повернул головы в мою сторону. Стоял перед лужей у лавочки сирийского торговца падре, не решаясь перепрыгнуть через нее. Внутри стоял тяжелый удушливый запах. Войдя со свету, я сперва ничего не заметил, только потом обратил внимание на множество деревянных столов, бильярд, балкончик, редких посетителей, притаившихся в сумраке. Дымится самовар, начищенный до блеска – золотится броней золотой, пропел негромко Никола. По всей длине зала тянулся довольно опрятный прилавок, уставленный целиком сырными пирогами и пирогами с грибной начинкой, затейливыми плюшками, намазанными клюквенным и брусничным вареньем, увесистыми сдобными пряниками, таящими внутри яблочное повидло. В сторонке возвышался шкапчик с выдвижными полками, куда для охлаждения были в кувшинах поставлены в лед морс, квас, фруктовые напитки. Рядом на темной от влаги доске лежал искромсанный брусок льда. Растопившаяся печать указывала фамилию хозяина фабрики по производству льда. Неподалеку в спешке брошено шило для колки льда. Сброду тут всякого немало, - подумалось мне. Грбич отправился за пропавшим официантом. Окинув стены взглядом, я с дрожью заметил в темном углу женскую фигуру, обхваченную примостившимся сзади дьяволом. Он мирно соединил руки из лепестков пламени на ее груди. Ах, чур-чур, меня! Наваждение пропало. Я прошел вдоль стульев возле стены и лишний раз удостоверился в отсутствии незадачливой парочки. Я прошел назад до моего столика, но ногой нашарил на полу черный кухонный нож. Улыбающееся лезвие направлено вверх, обычная столовая рукоятка стиснута упругими половицами. Испугался ( вот напасти, хозяин-то погубить меня вздумал, шел-шел бы да и напоролся). Быстро поднял злосчастное орудие и бросил в крапиву за разинутым окошком. За хлопотными заботами осталось незамеченным появление нового субъекта в тени балкона, расслабленно развалившегося на стуле с прямоугольной спинкой. Он что-то настукивал тросточкой и еле заметно кивал. Широкие поля ковбойской шляпы скрывали почти все лицо, оставляя для свободного просмотра один казенный, граненый подбородок. Тяжелый, как бронзовый комплект для письма с чернильницей и жуком-рогачем для стягивания сапог. Похож на очередного шпиона. Никак не успокоятся. Там сидят еще большие параноики, чем я. Они и подсылают этих недоделанных чудаков. Этот просто сидит и пялится на меня. «Возьми, почитай газетку, представь, чего тебе будет стоить этот промах!» Самопальный Бонд отвернулся, сделав вид, будто не услышал меня. Пышный гроссбух взгромоздился на прилавок, смастеренный в стиле узких, университетских лекционных парт. Список посетивших славный кабачок «Зачарованный странник». Посмотрим, кто были наши предшественники: Эрвин Визард, Мирана; Симеон Гангутский, Лион; Иов ибн Разор ван Часови, Константинополь; Тарас Олихвербов, Монтре; Solus R.; Аурелио Ромб, Марс и его приятель, очевидно, Ардалион Бром из неизвестного селения S-ram, также в разное время здесь гостили Адам Вин с раскрашенными интуристами-ацтеками Graptodydes bileniatus’ом и Plea minutissim’ой, посещавшими Астрахань. В журнале также сочли необходимым расписаться Frank, Papa and Mothers – необычная семья из Невады. Я уже начал подумывать: не расписаться ли и мне, как молчаливый бармен остановил мою руку: «Нет нужды записываться дважды». Послушно отошел; отчего бармен появился так внезапно? За столом меня, приосанясь, ожидал Никола. Он аккуратно окунал воскового цвета пельмени в дымящуюся сметану, затем трезубой вилкой, преувеличенно широко отводя нижнюю челюсть, осторожно опускал их в рот. Никола указал на пузатую бутылку и похвалил вино. Не любитель я, да еще с друзьями, ни разу не напивался в компании. Похвальный предрассудок, - воодушевившись заметил Грбич. Забудем об этом. Предпочитаю не акцентировать на этом ничьего внимания, но с тобой можно быть откровенным. Что правда, то правда. Но я не люблю людей с принципами! Ненавижу упертость, необоснованную гордость мнимых обетов. С возрастом люди меняются, наверное, изменяюсь и я, но отсутствие чувства меры режет глаз. Я сразу отрекусь от добродетели, если увижу в ней проявление косности, людской заносчивости, априорного желания главенствовать. Все верно, но знаешь (морщу лоб, ладонью тру лицо, закрытые глаза: изображаю усталость) трудно наверняка отличить истинное лицо человека, от его позиции. От той маски, что он добровольно носит, от того, каким он себя желает видеть. И множество причин что-то скрывать, изображать, на что-то надеясь. Есть ли смысл во всем этом разбираться, изобличать, негодовать и осуждать подлецов? И я таков: притворялся чистоплюем, но внутри был любителем грязнотцы, недостойных увлечений. Тратили свою жизни, портили чужие. Это получалось само собой. Некоторые были расположены к этому с самого начала знакомства, другим помогал я. Помню: была одна чистая душа – нескладная девушка со светлыми волосами. Святая наивность! Ты, пожалуй, удивлен узнать мою подноготную? Не чаял увидеть мое истинное лицо, мою темную сторону? Прости, пришло как-то в голову: почему принято связывать темную сторону души и истинное лицо? Почему, считается, будто мы прячем себя настоящих. Почему наше сегодняшнее поведение и не есть наша суть? Постой, что там случилось? Тут наш разговор был прерван странной сценой: дюжая мужебаба с густыми усами: вела под руку невысокого худого, костлявого мальчика в очках. «Все, что ни случается, все к лучшему», - грубо скаламбурила объемная сводница. Она приваживала сюда робких посетителей, в злачное место в обитель греха. На улице сидела в кресле на длинной мачте, издали выглядывая мечтающих утвердиться. Она мастер своего дела, во всяком случае у нее были достойные учителя ... Эх, Никола, отчего мы постоянно злорадствуем? Что за счастье жить чужим горем? Он не знает никого счастья, неумелого отвлечения, скользкой абстракции. Признание, за которое затем сполна придется заплатить. Нет уж, эта история не про нас, мы живем иным. Дружно рассмеялись, представив тщетные попытки малыша овладеть какой-нибудь спящей красавицей с томным лицом и сонными глазами. Как бы она его не раздавила! Чего только не придет здесь в голову, за с неспешным разговором у ворот в долину безмятежных краев. Все время на обочине, в неявной изоляции, в опале, вдали от настоящих страстей. Modus vivendi, изобретенный в России, запатентованный Гончаровым. Полу-существование, скучная тягомотина, серая интеллигентность и боязливое ерничанье – наш удел. Еще один гость промелькнул за окном, сплющившимся из-за нашего угла обзора. Сейчас войдет, знакомый образ! Но вначале, перед ним шесть негритянок бразильской внешности и огромного роста. Немного меньше двух метров. Только что с плантаций: длинные волосы, завитые в тонкие косички, взмокли. Под их пружинистой поступью звенят стеклянные стаканы и поднимают головы экзотические растения. Кто провожает их по лестнице наверх, в заранее оговоренные покои? Бледный, немногим выше предыдущего, орлиный профиль, высокий лоб, нервничает и слегка картавит, колоритный наци Бонапарт. А как тебе такой посетитель? Слишком самонадеянный, со всеми ему не управиться. Мы неспешно обсуждаем приходящих. Собирается народ. Занимает соседние столики. Дым сигар сообщает всему сладкий богемный настрой. Завязались тихие разговоры. Журчащий звук электрооргана медленно укачивает в хлипком кресле. Я вспоминаю про бразильянок: «Знаешь, меня чуть не стошнило от этих бабищ». «А чем они тебя так не устраивают?», - заступается Грбич за представителей угнетенных народов. Я: Здоровые - чертовки, и одинаковая зеленая форма, словно приросла к телу. Это не девушки, это машины. Я представитель древнего народа, в нас постепенно угасает жажда жить, желание наслаждаться. От них у меня рябит в глазах. Грбич: Любопытная попытка объяснить дурное расположение духа, подключив к этому цивилизационные теории. Около семидесяти лет назад у вас была революция. Отчего не признак молодости нации? Я: (устало и бессмысленно качает головой, говорит невнятно, подбоченясь) Я против любых революций. Это мерзко, когда никто не хочет уступать, когда все грызутся, когда рабы порабощают своих прежних господ. Дети поднимают руку на старых родителей. Поверь мне, друг, никогда еще польза от бунтов, восстаний не окупала тех бед, что они принесли. За террором либеральным, случайным, традиционным, придет террор намеренный, разгульный, мстительное подавление. Если услышишь трубный глас перемен, беги, беги не глядя, не озираясь, не жалея. Тут же, иначе опоздаешь. Не вздумай никого уговаривать, что-то доказывать, все бесполезно. Революция – обманчивая приторная привлекательность слов, этому не будет оправданий. Даже против самых бесчеловечных правлений. Если прошло время, достаточное для появления нового поколения, появятся невинные жертвы. Что еще хуже, они образованны, избалованны и так подходят на роль мучеников, что искупят грехи отцов! Колдуют продавцы за прилавком над вытянутыми стаканами, в то время как хмурятся игроки за столами карточных игр. Еще раз проглядывают выданные карты, с сомнением трогают их, ищут решение в глазах друзей. Нервно кусают губы. Костяные шары с номерами лупят о деревянные борта и проминают зеленое сукно. Низкие лампы оставляют длинные тени. В сторонке протирает верхушку кия джентльмен в очках и с галстуком, уползающим вниз по рубашке в надушенные глубины пиджака. Наклоняется и, примерившись, бьет коротким движением от пояса. Досадный промах: шарик просто выскользнул из лузы. Снова отходит, кому-то улыбается щекастым лицом. Раскрасневшимся, с благородно-умеренной щетиной; в глазах блестит ум, и, кажется, он способен сострадать. Нельзя исключать и притворства, ловкой сообразительности. Я бы ему не стал доверять. Solcher тип людей способен очень долго водить за нос, часто и не понять истинной цели его поступков. Один день он щедрый друг, на следующий делает вид, будто с вами не знаком. Быстротечность жизни, они понимают ее, как никто другой. В любом случае в последствии мы осознаем: о чем-то мы пеклись чересчур сильно, на что-то стоило посмотреть не столь серьезно, но не сразу. Где же тогда, действительно, вся сложность мира, часть, к которой не приложишь обезболивающей улыбки? Общение с гладкой благостью их личности бодрит, словно глоток кислорода. Оно никого не утруждает, ничего не постулирует, мерными шагами необременительная экскурсия. Разговор ни о чем либо на приятные и хорошо знакомые темы, спор с ними теряет актуальность. Так же бессмысленно, как пытаться проткнуть воду в кувшине. Я думаю, он никогда не теряет самообладания, черты его лица повинуются исключительно его воле. Перед тем, как к нему подходит девушка в жемчужном ожерелье и в платье с открытыми плечами, он на секунду принимает задумчивый вид. Сдержанно улыбается, делает комплимент, неспешно целует ее руку. Странная внешность греческой царицы. Знатного рода, в ней много чего от актрисы. С легкостью ее представляю на сцене греческого театра, в белоснежном хитоне на постановке классической трагедии. Ей идет обсуждать государственные вопросы с приближенными, своенравная наместница черноморской колонии. Наместницу боялись бы, как огня, перед ней бы дрожали и заискивали, лепетали и старательно ее избегали. Бросались бы вон при ее приближении, но она настигает провинившихся. Карает и милует по своему усмотрению, деспотам не чужды странности в поведении: неуемное сладострастие их частый спутник. У царицы звонкий, но тусклый голос. Небольшого роста опрятная фигурка, ничем непримечательное лицо. Грбич погрустнел и неприметно съежился. Он качается из стороны в сторону. «Скажи мне по секрету, Иван, не было ли в списке имени Самаэль Каин? Не помнишь, ну ладно, мне не так срочно это нужно. То ли я слишком много выпил, то ли спинка стула и вправду иногда вздрагивает, как часть живого организма. Меня смущает пренебрежение к моему присутствию даже со стороны неживых предметов. Чем я провинился перед ними? Мой друг несколько раз повернул головой, чтобы прийти в себя и размяться: «Мне приснилось или ты действительно спас какую-то девушку из-под поезда на Баррикадной?» Я решил подыграть ему, дополнив его миф собственными подробностями. Тебе не соврали, все было именно так. Простодушная дуреха развалилась на рельсах в надежде, что привлечет к себе и своей жизни внимание общественности. Но у нее не получилось бы насладиться кратким мигом всеобщего участия в ее судьбе, коли не поспел бы я подобраться к ней раньше лупоглазого локомотива. Ты как никто осведомлен о моей блестящей физической подготовке, тогда она пришлась очень кстати: только я подхватил несчастную жертву, тут меня почти целиком накрыл подземный экспресс. Приличная у него была скорость, на уровне середины платформы, зачем привирать! Еле вывернулся из цепких объятий смерти, захватив с собой бесценную ношу. Не скрою в тот момент я натерпелся такого страха, что не стал дожидаться премий и аплодисментов, а тотчас выбежал вон. На этом я прервал свой рассказ, заметив известное мне лицо. На сцену выходила презанятная пара плоских, народных, китайских персонажей Толстая Девочка с пыльным лицом и Уродливый Младенец, которого она волокла по земле, словно не замечая ужасных особенностей перемещения своего братца. Черт знает откуда организаторы вытащили этого зародыша и какой им был доступен реквизит, но кисти его были упрощены до крабьих клешней. Вместо того, чтобы открыто выказывать свое возмущение таким произволом, Уродливый Младенец бессвязно и с легким оттенком скандальности что-то лепетал. Завидев меня, Толстая Девочка еле заметно кивнула. Я спросил, какими судьбами она забралась в этот притон. Она лукаво подмигнула и стала делать какие-то развратные пространные намеки. Я плюнул на все и перестал оборачиваться в ее сторону. Не спеша покачивается, косолапо ковыляет улыбчиво-кудрявый глист. Свидетель двух моих поражений, причина одного из них. Ты словно на скорость обрастаешь знакомствами и не приплетай сюда волейбол. Хотя спору нет, она божественна, в ней есть что-то от цветка, от пряной гвоздики. За окном гудела сирена и хлестал по стеклам погоняемый ветром дождь. Бородатый капитан прохаживался между представителями полусвета, вселяя уверенность в наши пропитанные страхом сердца. Что ты нам можешь обещать, старый морской волк! Даже не подумав над вопросом прохвост отвернулся и пошел к себе наверх. Сбоку от меня сидел заправский пьянчуга. Я его знал. Несколько лет был под его началом. Он сделал вид, будто не узнал меня, но я вежливо поздоровался с ним. Хрыч промямлил невнятное ругательство. Он променял всю свою молодость и подвижность, поддавшись губительной страсти, а затем погасил ту вином. Семантической связью обусловленная ваша метаморфоза очень помогла худощавому голубому близнецу по профессии и положению прежнего либеро белогорских львов. Как ты меня достал, - буркнул неожиданно выпивоха. Простите, что? Дождь перестал. Да, пожалуй. Катился бы ты подальше! Как вы сказали? – замялся я. Неплохо поживали раньше. Но я тебя сразу вычислил ублюдок. Я вас сегодня плохо понимаю. Купи ей букет незабудок. Эти головоломки мне что-то напоминали, но я не решился напрямую выспрашивать источник их происхождения. Мне очень жаль, что пути наши в итоге разошлись. И серьезно прошу не держать на меня зла. Никто не виноват в моем характере, в вашей необузданной прямоте. Вы несдержанны и зачем-то строите из себя святого недотрогу, или сей тип поведения всегда обусловлен моим эпизодическим появлением? Иногда я даже готов тебе позавидовать, ну не делай удивленного лица, ты прекрасно понимаешь о чем я. Но я не могу раз и навсегда расстаться со всеми надеждами, покинуть прежние устремления. На сцену зашла растрепанная женщина средних лет, уморительно ханжеского вида. В нее плевали и бросались всяким хламом. Но она сохраняла олимпийское спокойствие: за каждый оскорбительный заход ей платили кругленькую сумму. Я поинтересовался, кто эта терпеливая матрона. Прицеливающийся интеллигент, убеленный сединами и нездоровым образом жизни, назвал ее имя. Она была автором детективного отребья низшего сорта. Недавно взялась за более монументальные жанры. Состоялась проба пера на новом для нее поприще. Результатом явились ворох неопрятных идеек, созвездие близнецов-персонажей, отличавшихся только именами, отчетливое деление на черное и белое. Отвратительное чувство уверенности в своих добрых отношениях с читателем меня угнетало. Пресловутое обилие исторических реалий, бытовая пустота реализма перемежалась с лубочными, богомольными восклицаниями автора. Но самая поразительная деталь, вначале заставлявшая меня тихо недоумевать, а затем откровенно держаться за бока: монологи-заставки, выделенные курсивом, предваряющие части ее неохватной эпопеи. Попахивавшие гнилым мистицизмом и абсолютно непонятно чьего авторства (кого из персонажей). Из-за недостатка литературы я прочитал и ее безделушку, под конец горько раскаявшись. В таких концентрациях продукцию столь низкого качества поглощать небезопасно, иной, более чувствительный читатель, вполне бы мог и слечь вскоре после прочтения этой книжонки. Но сегодня был точно день встреч и запоздалых признаний. Краем глаза я заметил знакомых любителей декадентских вариаций на тему апокрифических подробностей личной жизни Адама. Меня передернуло от легкого отвращения, как иногда случается от тертой моркови или не прожаренной яичницы. Я также очень тяжело переношу коллективные восторги на тему поэзии, всякие, знаете, чтения, кружки. Плотоядная любовь к книгам, во многом сочетавшаяся с доминантой совершенно невыносимого, прикладного, травоядного здравого смысла. Я предпочитал не вступать в споры, затравленно молчал, колупал глянцевую корочку стен. Меня ужасно смущало подспудное вовлечение в их тайный круговорот. И был ли я груб? Несдержан? Что делать, не для всех у меня найдутся ответы, не всех я помню по именам. И в детстве все мы верим собственную звезду, время которой просто еще не настало. Опять беру паузу, чтобы собраться с новыми силами, чтобы с нездешней яростью обрушить всем на головы дичайшие признания, шокирующие описания, чтобы с маркесовской любовью к пестрым нарядам еще раз пройтись по дальним коридорам памяти, с жестокостью иноземного завоевателя подчинить всех своей воле, заставить выполнять прежние требования, наивные просьбы воспринимать меня серьезно, а не как пустышку, самозванца. Прогуливаюсь (рассеянно, не спеша) между рядами столов, обрывками слов. Обхожу стороной шустрых официантов и молчаливых солдат со стаканами вина и в замерзших шинелях. Рассеивается горький дым сигаретной марки «Приап», обещающий смутные оргии, буйные и долгие застолья. Властная рука провидения столкнула меня с моим давним знакомым Жаном Скиллером. И это был довольно интересный, неоднозначный приятель. Представьте себе оголтелую помесь бескостного битника, любителя экзотических восточных верований и унылых музпродуктов постбардовского пространства незнакомой родины. Кофейное дитя, парубок прелестный и бестолковый. Он мялся и коротко посмеивался, странно ходил вразвалку, как Чарли Чаплин. Обожал носить длинные рубахи и шаровары, пользовался популярностью у женщин и персон, лишенных сколько-нибудь определенных ориентиров. Задолго до моего вмешательства его дальние родственники за поступки известного толка загнали меня по улице, обставленной двускатными погребами, в мелкое осеннее озеро. Низкое небо мохнатым ковром стережет мой покой, тесной толпой обжили столетние дубы резкую границу берега. Я по грудь в воде, забывшей свою температуру, дрожу от напряжения, от усталости лижу мучнистый туман. Но вот на лошади вышагивает прямиком ко мне местный предводитель, на сером в яблоках коне. Он стоит передо мной, положив мне на плечи презрительный взгляд охотника. Еще секунда и я нахожу под водой, за ширмой кленовых листьев серебряный револьвер. Свинцовые цилиндрики хрустят звонкими ребрами, разрывают сочные мышцы и упругие связки. Конь закрывает глаза, чтобы их не залила кровь. Скоро у него будет новый хозяин. А мне придется вернуться к семерым моим кошкам, на каждый день недели по одной. Пять из них известны всем, а шестая невидимая; третьей же принадлежит два имени. Жан, кстати, питал необъяснимую страсть к представителям редких национальностей; он то и дело был на короткой ноге с каким-нибудь чукчей или индусом. Не скажу, что он был человеком подлым, но иногда он принимался высмеивать меня за глаза. Причем я бы не был так возмущен, если бы не его странная привычка говорить нечто нелицеприятное обо мне в непосредственной от меня близости. В целом, я не вынесу ему никакого приговора, он был живым человеком, воплощением непосредственности. Открываю дверь в следующий зал, здесь собралась немного другая компания, не имеющая уже никакого отношения к Дому У Нила, откуда мы были родом. Я становлюсь понурым, что за час и где я очутился? Миловидной продавщице: «Сколько с меня за стаканчик Sprite?» Шурша и погромыхивая, он скользит ко мне – стакан, лучащийся призматической многогранностью. Ядовитая зелень обожги мне нутро! «Так сколько, хозяйка? » «Один песо и двадцать сентаво », - ответила она с задержкой. «За меня заплатит алькальд », - бросил я ей в ответ. Барменша, ничего не сказав, отошла. На полке поблескивал огромный, острый мачете, который заставил меня ощутить непрочность собственных суставов. «Ничего, потужит, да услужит, хи-хи». Я сперва не сообразил, чей слышу голос. Это был известный заводила, бретер, остряк, душа компании, в последствии павший жертвой легкоатлетических фантазий. С гладким, моложавым лицом, похожим на масленый блин. Пускай, он останется для нас неизвестным, за пеленой мрака, тем более, что основные события будут разворачиваться вокруг его соседей. (Кем это было сказано, может, Енохом?) Сверху, из трубы в самое пекло колоритного камина падает скальпель, а вот уже лишнее, - говорит один из моих друзей, способный после длительного поста превратиться в известного телекомментатора, и кидает ланцет обратно в дымоход. Эге, они, кажется, забыли отодвинуть заглушку: здесь душно, как в бане. Куда-то пропал Грбич, все непостоянно, все движется, одни кадры настойчиво становятся на место других. Все медленно скатываются со стульев на кушетки, кое-кто на пол. Я решил последовать примеру большинства и стал примериваться к цветастому спальнику прямо у моих ног. «Мое!» - сказал сосед мой грозно, пододвинув покрывало поближе к себе. И я плюхнулся на пол. Подняться не позволила проклятая конституция. На нечищеном полу разложен пестрый гоголевский тюфяк. В него завернут перепуганный скандалист, бывший компаньон. Он заискивающе улыбается. Здравствуй! Ты уже сказал. Прости, прошло столько времени, поверь, я не хотел оскорбить твою семью. Я и не говорил, что это оскорбляет мою семью. Так что же тогда? Это оскорбляет меня. Из-под носа у плотного манекена с длинными распущенными волосами я стащил кусок недоеденного пирожного. Трудно доверять своему зрению, коли замечаешь такие же детали, как я. Там и сям следы спешных приготовлений, ложное старание, усилия, не увенчавшиеся успехом, вопрос в том, где моя ошибка. У одной не до конца приклеены волосы, другая все время повернута ко мне лицом: из спины выстрелившими пружинками изорванного стула выглядывают искусственные ребра. Четыре месяца назад все было иначе, но тогда меня еще можно было огорчить, теперь мне все нипочем. Что-то качает меня, стоит прилечь, а то совсем закружится голова. Взгляд небрежно бросил между ножек стула, сюрприз преподнесло боковое зрение: оно сообщило мне, будто мои ноги затеяли друг с другом незаконную возню, о которой мне ничего не было известно. За деланным возмущение автора прилежно наблюдали из окна два фонаря, сложившиеся вместе в пренеприятного соглядатая. Я поднялся и попробовал понять, кто меня окружает: фосфоресцирующие призраки, сочетающие в себе несколько существ: зловещего вида скелет с прободенной головой и разбитной малый в пятнистых брюках и волосами, закрывающими глазами; фрагменты разных животных, собранные вместе и осененные сверху красным колпаком, встретились с добродушным и отзывчивым рохлей. Череда превращений перешла на новый этап своего развития. Не знаю, для чего судьба устроила этот ретроспективный сеанс, какие чувства во мне должна воскресить эта встреча. Сеть отметин разбросанных там и тут, вихрь осенней пустоты, слабый ветерок переживаний. Так ли необходимы были эти обещания тогда, в самом ли деле я не заслужил отдохновения от этих переживаний сейчас? Где искомый приют, где долгожданный гэмют, который давно готов к тому, чтобы я тихими стопами завершил в нем свои странствия! Или нет, гэмют у них значит что-то другое... Возвратимся к настоящим событиям, читатель должен понять, как нелегко мне унять волнение. Я не знаю, что сулит мне предстоящая встреча. Необыкновенная картина мне представилась: за широким деревянным столом, заставленным стаканчиками из пластмассы и всяческими сладостями, сидело человек двадцать в цветастых одеждах, разгоряченные вином, с красными лицами и глазами, блестящими от возбуждения. Я молча сел на краю; все обходились между собою чрезвычайно просто и душевно. Невозможно рассказать, какое действие произвело на меня это собрание людей, обреченных на расставание. Их прекрасные лица, грустное выражение, с которым они произносили прощальные слова и без того печальные, - все заставило меня содрогнуться от гнетущего предвкушения потрясений, волнение за жизнь детей в подземелье, в свете наступающих перемен. Я же сперва не приметил между ними главного, того, кто заправлял всеми их непонятными делами. Вычислить его было довольно просто: достаточно ему было подать знак и все принимались выражать громкое одобрение, удивление или кто-нибудь подносил ему еще угощений. Он хозяин – это ясно, как божий день. Мне стало неприятно это раболепие, это самодурство. Я решился встать и уйти, но я не мог вернуться один. Правитель разгадал мой замысел и схватил длинный нож, окружающие схватили меня за руки, за полы одежды, задержали меня, заломили руки. Главарь, размахнувшись, всадил нож извилистым лезвием под ребро. Смертный сон поволокой, как текучий пепел, закрыл мне глаза. Ноги разошлись в разные стороны. Язык разбух и неожиданно разросся во весь рот, внутри меня начался пожар, горячая река орошала гирлянды моих внутренностей. Укором стучала в голове мысль: не все еще сделано, но предметы теряли свои очертания, становились вязкими и серыми, как один, вселенная вывернулась наизнанку ко мне и превратилась в серый холщовый мешок. - Поднимайся, - мистер Вежливость аккуратно раздавал легкие пощечины моему лицу, своим состоянием больше всего напоминавшее тающее мороженое. Горизонтальные морщины сухой кожи лба показались мне знакомыми. Жирно поблескивало черное двоеточие глаз. Резкий запах дорогих духов. Ну разумеется, на помощь ко мне подоспел швейцарский дядюшка Густав с простой корабельной фамилией и изысканным французским. «Я не предполагал, дорогой племянник, что мне придется вытаскивать вас из такой дыры! Я чуть было не переменил своего мнения на счет объявления вас наследником своего многомиллионного состояния. Не ждали? Пойдемте, - он подал мне руку, - в таком подвале вы запросто заработаете ревматизм». По лестнице с обглоданными ступеньками мы вышли на свежий воздух. Утро выдалось холодным, но день начинался с красивой зари. Непосредственно у крыльца стоял туровой автобус Dream Theater известной марки «Икар». «Здесь мой кум, погрейся у него немножко, - посоветовал дядюшка, - указав на отворенную дверь. А я пока разберусь со всем этим отребьем». Я поднялся в салон, на одном из сидений спокойно сидел пророк Савл в бело-голубых одеждах. Дядюшка вскоре вернулся: «Никак не мог уговорить одну рыжеволосую прелестницу, пришлось посулить ей часть твоего наследства. Надеюсь, когда-нибудь мне доверят в провинциальном театре играть роль Гермеса-адвоката. А теперь поехали, мне не терпится покинуть это место. Прочь из города, в котором нет вокзала!» Приветствую тебя жизнь! Я трепетно пожимаю белые руки дорог и тянусь с радостью пожать черные рукимачты кораблей. Мимо пыльных, выжженных солнцем долин, мимо пожухлой, бледной травы, невысоких бревенчатых оград для скота. К горе Хермон, к северным озерам, родным корралям. Кататься на лодках и наслаждаться печеными бананами с рисом. Покидаем место, с которого начали свой путь в лихом, говорливом сумасшествии экскурсантов, мотающими головой маятникоподобным способом. Потоки молодого света врываются в замшевый салон и с нетерпением из него выскакивают: они прикованы к щелям между кронами деревьев. Сворачиваем и едем по второстепенному шоссе к сколу шоколадных скал. Глушь, нет признаков человеческого пребывания. По узкому мостику без перил переезжаем ручей, журчащий студеной водой. «Вот корни гор, этим утесам известно то, что неизвестно никому. Нас ждет храм у гор». По узким ступеням вдоль отвесных стен. Бесплодные, высушенные деревья, скрученные ветром, черные жилистые стволы. Короткий коридор ведет в галерею с горизонтом, открытым для обозрения из стрельчатых окон. Каменная змея толщиной в палец множеством витков поддерживает колонны с искусной резьбой. Ее пасть раскрыта, между смертельных зубов застыл ветвящийся язык. Видна далекая ночь, сумерки, черника, раздавленная в молоке. Догорает последняя звезда, в болота туманы уползают по долинам с крокодильей травой. Мы ждем? Уже скоро. Скоро разверзнутся небеса и появится карающий луч, орудие, безразличное к происходившему. Немногим дан шанс наблюдать его действие, но пускай: из этой привилегии трудно извлечь практическую пользу. Вначале переливаясь зеленым, фиолетовым, малиновым, голубым, как северное сияние, обрастая бесполезной мишурой слепых стримеров, он ищет, наугад шарит по городам и землям. Скоро найдет и остановится, заметив, что хотел, обнаружив долгожданную жертву. Несколько секунд неизвестности, и вся сила, вся энергия, злоба выплеснется на этот городок, поглотит его целиком, безрассудно утопив в страдании и муках, как искупление, оправдание, залог. Я без сил падаю на руки предупрежденных слуг, меня спешно переносят в приготовленную к моему приезду спальню, заботливый доктор настраивает манометр, играет стетоскопом.