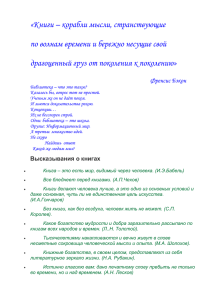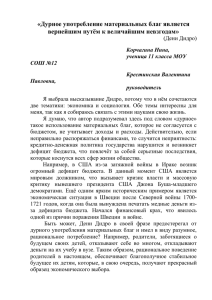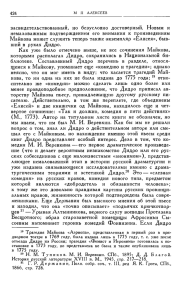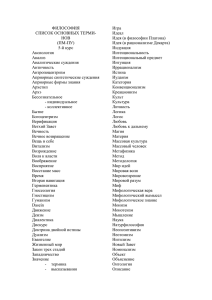1. ПРОБЛЕМАТИКА Попытка охарактеризовать некую
реклама
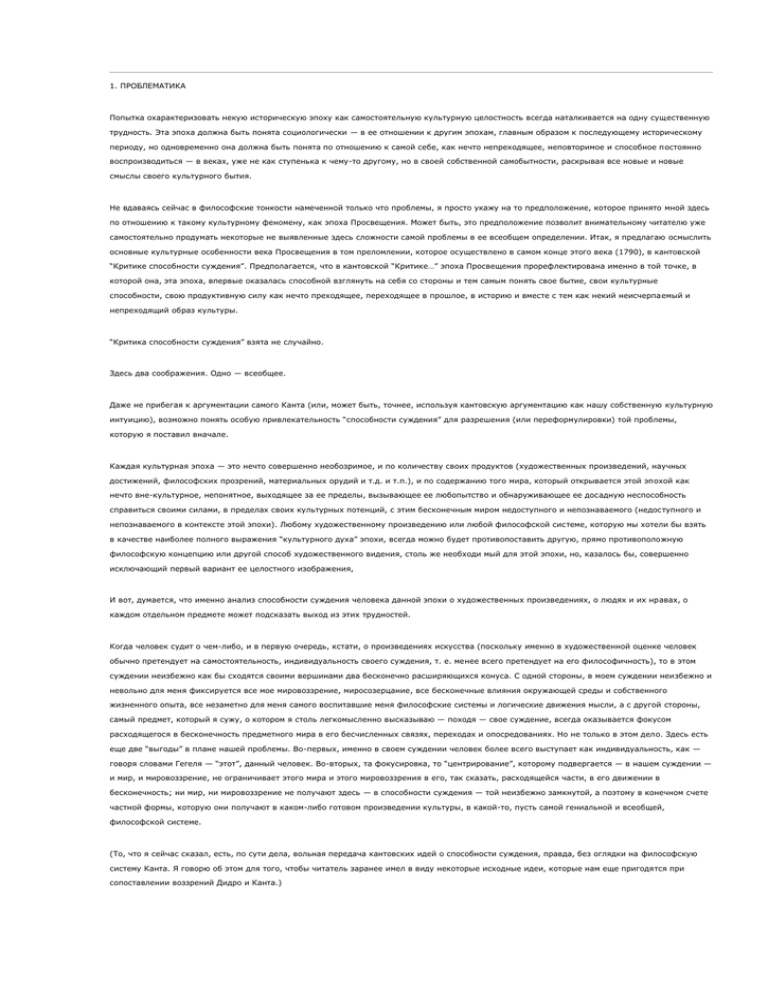
1. ПРОБЛЕМАТИКА Попытка охарактеризовать некую историческую эпоху как самостоятельную культурную целостность всегда наталкивается на одну существенную трудность. Эта эпоха должна быть понята социологически — в ее отношении к другим эпохам, главным образом к последующему историческому периоду, но одновременно она должна быть понята по отношению к самой себе, как нечто непреходящее, неповторимое и способное постоянно воспроизводиться — в веках, уже не как ступенька к чему-то другому, но в своей собственной самобытности, раскрывая все новые и новые смыслы своего культурного бытия. Не вдаваясь сейчас в философские тонкости намеченной только что проблемы, я просто укажу на то предположение, которое принято мной здесь по отношению к такому культурному феномену, как эпоха Просвещения. Может быть, это предположение позволит внимательному читателю уже самостоятельно продумать некоторые не выявленные здесь сложности самой проблемы в ее всеобщем определении. Итак, я предлагаю осмыслить основные культурные особенности века Просвещения в том преломлении, которое осуществлено в самом конце этого века (1790), в кантовской “Критике способности суждения”. Предполагается, что в кантовской “Критике…” эпоха Просвещения прорефлектирована именно в той точке, в которой она, эта эпоха, впервые оказалась способной взглянуть на себя со стороны и тем самым понять свое бытие, свои культурные способности, свою продуктивную силу как нечто преходящее, переходящее в прошлое, в историю и вместе с тем как некий неисчерпаемый и непреходящий образ культуры. “Критика способности суждения” взята не случайно. Здесь два соображения. Одно — всеобщее. Даже не прибегая к аргументации самого Канта (или, может быть, точнее, используя кантовскую аргументацию как нашу собственную культурную интуицию), возможно понять особую привлекательность “способности суждения” для разрешения (или переформулировки) той проблемы, которую я поставил вначале. Каждая культурная эпоха — это нечто совершенно необозримое, и по количеству своих продуктов (художественных произведений, научных достижений, философских прозрений, материальных орудий и т.д. и т.п.), и по содержанию того мира, который открывается этой эпохой как нечто вне-культурное, непонятное, выходящее за ее пределы, вызывающее ее любопытство и обнаруживающее ее досадную неспособность справиться своими силами, в пределах своих культурных потенций, с этим бесконечным миром недоступного и непознаваемого (недоступного и непознаваемого в контексте этой эпохи). Любому художественному произведению или любой философской системе, которую мы хотели бы взять в качестве наиболее полного выражения “культурного духа” эпохи, всегда можно будет противопоставить другую, прямо противоположную философскую концепцию или другой способ художественного видения, столь же необходи мый для этой эпохи, но, казалось бы, совершенно исключающий первый вариант ее целостного изображения, И вот, думается, что именно анализ способности суждения человека данной эпохи о художественных произведениях, о людях и их нравах, о каждом отдельном предмете может подсказать выход из этих трудностей. Когда человек судит о чем-либо, и в первую очередь, кстати, о произведениях искусства (поскольку именно в художественной оценке человек обычно претендует на самостоятельность, индивидуальность своего суждения, т. е. менее всего претендует на его философичность), то в этом суждении неизбежно как бы сходятся своими вершинами два бесконечно расширяющихся конуса. С одной стороны, в моем суждении неизбежно и невольно для меня фиксируется все мое мировоззрение, миросозерцание, все бесконечные влияния окружающей среды и собственного жизненного опыта, все незаметно для меня самого воспитавшие меня философские системы и логические движения мысли, а с другой стороны, самый предмет, который я сужу, о котором я столь легкомысленно высказываю — походя — свое суждение, всегда оказывается фокусом расходящегося в бесконечность предметного мира в его бесчисленных связях, переходах и опосредованиях. Но не только в этом дело. Здесь есть еще две “выгоды” в плане нашей проблемы. Во-первых, именно в своем суждении человек более всего выступает как индивидуальность, как — говоря словами Гегеля — “этот”, данный человек. Во-вторых, та фокусировка, то “центрирование”, которому подвергается — в нашем суждении — и мир, и мировоззрение, не ограничивает этого мира и этого мировоззрения в его, так сказать, расходящейся части, в его движении в бесконечность; ни мир, ни мировоззрение не получают здесь — в способности суждения — той неизбежно замкнутой, а поэтому в конечном счете частной формы, которую они получают в каком-либо готовом произведении культуры, в какой-то, пусть самой гениальной и всеобщей, философской системе. (То, что я сейчас сказал, есть, по сути дела, вольная передача кантовских идей о способности суждения, правда, без оглядки на философскую систему Канта. Я говорю об этом для того, чтобы читатель заранее имел в виду некоторые исходные идеи, которые нам еще пригодятся при сопоставлении воззрений Дидро и Канта.) Второе соображение (в пользу ключевого значения — для наших целей — “Критики способности суждения”) связано с особенным определением века Просвещения. Если до сих пор я утверждал, что именно анализ способности суждения позволяет наиболее полно выразить культурную целостность какой-либо исторической эпохи, то сейчас необходимо внести в это утверждение солидную щепотку соли. “Способность суждения” выражает сущность любой культурной целостности только в том повороте, только в той мере, в какой она — эта иная целостность, эта иная эпоха — понимается, фокусируется в качестве… Просвещения, т.е. обнаруживает новый смысл того образа мыслей и жизни, который составляет неповторимое своеобразие XVIII столетия как века Просвещения. В другом повороте, в другом измерении “эта” эпоха (каждая понимаемая нами эпоха) обнаруживает и актуализирует иные культурные смыслы и возможности — скажем, культуры Возрождения — или, наконец, формирует свой собственный неповторимый культурный смысл — свой непреходящий образ культуры. Но ни в том, ни в другом повороте способность суждения уже не будет иметь определяющего культурноформирующего значения. Это второе (особенное) соображение и составит сквозную линию настоящей статьи. Примем — в качестве исходного — одно из расхожих определений культуры века Просвещения как культуры просвещенного вкуса. С самого начала ясно, что такое определение предельно узко (для многозначного, необозримого богатства “достижений” XVIII века в сфере техники, социальных преобразований, науки, искусства, философии, политических потрясений…) и очень провокационно в плане логическом. Исторические и искусствоведческие работы нам объяснят следующее. Определять через “культуру вкуса” целостность великой культурной эпохи — очень опасная штука. Чем вкус утонченней, многообразней, объективней, чем он, попросту говоря, культурнее, тем он более не способен к истинной продуктивности, тем он более разъедает творческую силу, тем более можно сказать, что культура оценки, смакования, зрительства, слушательства съедает культуру созидания, пафос гениальности. Съедает ту “варварскую” культуру творчества, которая в значительной мере есть культура нарушения всех норм вкуса. Если вкус и способствует некой продуктивной деятельности, то, пожалуй, только в одной области — в том, что можно назвать творческим вкусом формирования культуры быта — утвари, мебели, интерьера, наконец, в творчестве, ну, скажем, — “прогулок”, “пейзажей”... Творчество в этой сфере, неизбежно слитое с идеей вкуса, есть то, что называется “стилем”/1. Нет спора, XVIII век вошел в историю искусства и эволюцией стиля — капризной, лихорадочной и очень прихотливой эволюцией (стиль классицизма, рококо, стиль Людовика XVI…). Вкус разыгрывает здесь в бесконечных вариациях все свои возможности, находя наиболее полное выражение каждый раз, в каждое десятилетие, в каких-то формах значимой “пустоты” — в интерьере, мебели, в организации открытого пространства парков и лесов, в острой игре воображения при оформлении празднеств, балов, маскарадов, королевского двора (музыки Просвещения я здесь не касаюсь). Стиль — и вкус — вот в чем сразу, уже на поверхности, поражает взгляд историка культуры XVIII век. ...Но ведь это именно поверхность, видимость, пена, отброшенная историческим прибоем века Просвещения! Где в этой изысканной эволюции “вкусов и стилей” сам пафос просвещения (“просвещением” самоосознал себя XVIII век), пафос, в конечном счете сфокусированный в Париже 1789 года?! И все же пойдем на риск. Попытаемся логически переосмыслить этот исходный тезис (“культура Просвещения — культура просвещенного вкуса”), специально анализируя те “болевые точки”, в которых Просвещение самообосновывало и переосмысливало самое себя. Я предполагаю, что обращенные на себя и преобразованные через культуру “вкуса” предопределения культуры Просвещения смогут (будем надеяться, что смогут) включить в себя и логически развить все иные определения века Просвещения как целостной культуры. _____ 1. “Стилем” как таковым, самоценным, на грани стилизации (в игре с этой гранью). Это — очень вкратце — о логической форме дальнейшего исследования. В основу последующего анализа (переосмысления исходных тезисов) заложен такой проблемный треугольник Первый угол — сама культура Просвещения, и прежде всего искусство этой эпохи. Но об этом искусстве я буду здесь говорить не непосредственно, я буду о нем судить, исходя из взглядов Дени Дидро. Я буду смотреть на полотна Шардена и Греза глазами Дидро. И это будет второй угол треугольника, являющийся как бы основным предметом моего анализа. Способность суждения, характерная для культурных людей эпохи Просвещения, будет представлена “Салонами” Дидро. Причем сам Дидро для меня интересен не как философ, не как создатель культурных ценностей (будь это “Племянник Рамо” или “Мысли об объяснении природы”), но как “характерный (это уж бесспорно!) представитель” просвещенного вкуса этой эпохи. Кстати, именно фигура Дидро особенно хороша для такого осмысления, поскольку сам Дидро вполне сознательно и активно стремился избежать системосозидания, стремился понять науку своего времени и свое собственное мышление в его внутренней обыденной стихии, как мышление живое, неуловимое, реально совершающееся. И, наконец, третий угол. “Критика способности суждения” Иммануила Канта. Кант, в свою очередь, интересен для нас не в плане общей характеристики его философских воззрений, но как своеобразный культурный феномен саморефлексии XVIII века. Той саморефлексии, в которой век Просвещения был выражен (во всей своей ограниченности) наиболее полно и закругленно и вместе с тем в которой этот век сумел взглянуть на себя, как я сказал вначале, “со стороны”, “выходя за собственные пределы”. Меня совсем не интересует, в чем “ошибался”, в чем “не ошибался” Кант, развивая свою теорию способностей суждения. Меня интересует другое: в какой мере Кант сумел выразить именно ограниченную, а значит, именно выходящую за свои границы способность суждения, характерную для эпохи Просвещения? Здесь у читателя может возникнуть один вполне законный вопрос — о праве автора говорить о всей культуре Просвещения на основе одного феномена — “Салонов” Дидро и одной рефлексии — “Критики…” Канта. Но в том-то и дело, что вся эта работа строится как своеобразный мысленный эксперимент. Предполагается, что “Критика способности суждения” представляет собой некий экспериментальный прибор. Когда мы введем в этот прибор такой особенный феномен “просвещенного вкуса”, как художественные обзоры Дидро, то вкус Дидро будет поставлен в предельные условия и в нем должно будет (во всяком случае, таков замысел) обнаружиться всеобщее содержание века Просвещения. Или, иначе, он, этот особенный феномен, должен будет в нашем “приборе” преобразовываться во всеобщее (оставаясь особенным). Многих примеров (по принципу: “для полноты неплохо бы рядом с Дидро взять еще Руссо, или Гельвеция, или Гримма, или…”) здесь не нужно просто по определению. Но, конечно, и исходный материал не случаен. В “Салонах” мы уже имеем препарат, готовый к эксперименту. Дидро — центральная и самая парадоксальная фигура Просвещения, в нем органически, осознанно сочетается художественное, философское, теоретическое, обыденное мышление, и это сочетание естественно фокусируется не в какой-то теоретической системе, неизбежно дающей абстрактное выражение определениям культуры, но именно в способности суждения, оживляющей и размораживающей любые застывшие, претендующие на всеобщность и как раз поэтому односторонние определения. Кроме того, вспомним, что в “Салонах” уже представлены другие феномены “просвещенного вкуса” (т.е. сами произведения искусства). Вот почему я демонстративно строю эту работу в плане идеализации — с помощью Канта — отдельного, единственного феномена культуры XVIII века. И еще. В этой работе я сознательно не анализирую (вслед за многими исследователями) эстетические воззрения Дидро или “влияние” этих воззрений “на эстетическую систему” Канта. Чем меньше обнаруживается такое “влияние” (о, конечно же, здесь связь Канта и Хэтчисона или Канта и Руссо гораздо существеннее), тем лучше! Нет. Я беру вкус Дидро как некий реальный, общезначимый, но очень остро выраженный общественный феномен и пытаюсь обнаружить в “Критике…” Канта необходимую (для эпохи) форму рефлексии, и схематизации, и идеализации… “просвещенного вкуса”. Канту не нужно было знать вкус Дидро, чтобы развивать антиномии “эстетической способности суждения”. Кантовское суждение было окружено, пропитано этим просвещенным вкусом, дышало им, как человек дышит воздухом. Мы уже не дышим эстетическим вкусом эпохи Просвещения, и для нас существенно сопоставление кантовской “Критики…” с тем сгущенным кислородом просвещенности, что собран в “Салонах” Дени Дидро. Итак, проблема намечена, условия ее развития определены. Пора переходить к делу. II. “Салоны” дидро, ИЛИ ПАРАДОКСЫ ПРОСВЕЩЕННОГО ВКУСА Открываем “Салоны” Дидро. Для целей нашего анализа это, пожалуй, самая удобная книга. “Салоны”, в которых Дидро в течение двадцати двух лет (1759 — 1781) в письмах Гримму давал обзор парижских выставок, не претендуют ни на какую общую теорию искусства (как, скажем, “Парадокс об актере”), не выходят ни на какую общефилософскую систему. Сама растянутость во времени делает невозможной внутреннюю цельность и превращает обычную для Дидро игру (в непосредственность) в нечто вполне необходимое и совсем не игривое. Тут непосредственность не изображается, а возникает в значительной мере случайно. Поэтому перед нами предстает в “Салонах” действительно история просвещенного вкуса французских культурных людей XVIII века. Даже если проследить за внешней канвой “Салонов”, то начинаются они от живых еще воспоминаний о Пуссене и Ватто и кончаются первыми суждениями просвещенного вкуса о картинах Давида. Мозаика стилей XVIII века сразу же, с пылу с жару, оборачивается мозаикой вкуса, причем сама эта мозаика оказывается формой единственно возможного — для культуры вкуса — внутреннего единства. “Салоны” привлекательны еще тем, что сами парадоксы Дидро, сама парадоксальность его мышления также вычитывается в этих бесчисленных письмах как что-то случайное, просто по недоразумению возникшее, как что-то невольно “выговоренное”. При первом чтении вообще кажется, что это самое скучное, самое банальное, самое нравоучительное и самое одностороннее из всех произведений Дидро. Правда, произведение несколько непоследовательное, противоречивое. Но, помилуйте, за 22 года два-три раза попротиворечить себе — вполне извинительно. Однако присмотримся внимательнее. Как будто наш первый взгляд легко подтверждается: симпатии и антипатии определены совершенно четко и аргументированы достаточно тривиально. На первом месте, конечно, Грез. “Вот, поистине, мой художник… Прежде всего мне нравится этот жанр. Это — моральная живопись. Так что ж! Не была ли кисть слишком долго посвящена разврату и пороку? Не должны ли мы быть удовлетворены, видя, наконец, ее соревнующейся с драматической поэзией в искусстве нас трогать, поучать, исправлять и побуждать к добродетели? Смелее, мой друг Грез, проповедуй в живописи и всегда поступай так, как здесь…” (33). Или Шарден. “В Салоне есть несколько маленьких картин Шардена. Почти все они изображают фрукты с принадлежностями для еды. Это сама природа. Предметы вне полотна, и так правдоподобны, что обманывают глаз… Когда я рассматриваю картины других художников, мне кажется, что я должен сделать себе новые глаза. Для того же, чтобы рассматривать картины Шардена, мне достаточно сохранить те, которые мне дала природа, и хорошо ими пользоваться” (34). Вот две основные опоры вкуса Дидро: искусство должно учить нравственности и быть правдоподобным. Так же четки антипатии. Главный предмет ненависти — Буше. “Смею сказать, что этот человек совершенно не знает, что такое изящество; смею сказать, что он никогда не знал правды; смею сказать, что понятия нежности, честности, невинности, простоты ему совершенно чужды; смею сказать, что он ни на одно мгновение не видел природы…; смею сказать, что у него просто нет вкуса”/4. Можно было бы принять эти утверждения Дидро за чистую монету… Но уже при беглом чтении одно настораживает: Дидро сам и вполне осознанно проводит через все “Салоны” идею о каком-то “двойном вкусе”, и мы сейчас увидим, как эта идея разрастается и становится глубинной характеристикой двойственности вкуса самого автора “Салонов”. Первое замечание достаточно невинно. “Мы имеем о красоте два противоположных суждения; одно условное, другое на основании изучения. Это разноречивое суждение (согласно которому я сам необходимо называю красивым на улице и в собрании то, что назвал бы безобразным в мастерской художника, и красивым в мастерской художника то, что нам не нравится в обществе) не позволяет нам иметь строгий вкус”/5. Но когда под влиянием этого мимоходного замечания, брошенного в самом начале книги, мы еще раз — вместе с Дидро — остановимся перед картинами Греза, Шардена, Буше, то ситуация значительно осложнится. Возникают такие странности, которые — если всерьез вдуматься в суть дела — постепенно перевернут все наши исходные представления о суждениях просвещенного вкуса. Последними словами клянет Дидро картины Буше. Клянет, а уйти от этих картин не может. “Чувствуешь всю их бессмысленность, и при всем том нельзя оторваться от картины. Она вас притягивает, и невольно возвращаешься к ней. Это такой приятный порок, это такое неподражаемое и редкое сумасбродство! В нем столько воображения, эффекта, волшебства и легкости! Когда долго смотришь на пейзаж… кажется, что уже все увидел. Ошибаешься; находишь еще бесконечно много ценных вещей! Никто другой не владеет так, как Буше, искусством света и тени. Он создан для того, чтобы кружить голову и светским людям, и художникам/6. Странно все получается и с Грезом. Впрочем, тут для того, чтобы добраться до парадоксов просвещенного вкуса, понадобится немного больше усилий. Проследим, так сказать, “систематику похвалы”, расточаемой Дидро картине Греза “Сыновнее почтение” (“Паралитик”). Это та самая картина, которая — помните? — должна нас “трогать, поучать, исправлять и побуждать к добродетели”. Это общая декларация. Но вот какая система “аргументации” разворачивается дальше. Прежде всего Дидро начинает безудержно фантазировать по поводу каждого из изображенных лиц, придумывая опять-таки — по поводу (!) этой назидательной картины — свои поэтические “картинки” — и назидательные, и игривые, и двусмысленные… В азарт безудержной игры воображения включается рассудок и острый художественный глаз, уже не подкупаемый никакими нравоучительными соблазнами. Дидро со смаком перечисляет те недостатки картины Греза, о которых “говорят знатоки” (о, конечно, только “посторонние знатоки”, отнюдь не сам Дидро). “Некоторые говорят, что паралитик слишком запрокинут и что невозможно вообще есть в этом положении… Говорят также, что внимание всех этих лиц неестественно… Говорят еще, что старик при смерти, а не просто в параличе и что у него лицо человека в агонии… что руки этой фигуры прямы, сухи, плохо написаны и лишены деталей. О! Что касается этого, то это чистая правда. Что это художник не плодовит и что все головы этой сцены те же, что и в других картинах… Что… А, чтобы тысячи чертей взяли критиков и меня первого! Эта картина хороша и все! И очень хороша, и горе тому, кто хоть мгновение будет ее рассматривать хладнокровно!”/ 7. Мы еще не дошли до самых глубоких слоев этой “систематики похвалы”. Пока еще можно предположить, что Дидро говорит о недостатках или неестественности “деталей” в картинах Греза только для риторического “несмотря!” (дескать, несмотря на всю эту неестественность, все же главное — мораль!). Но вот автор “Салонов” перед другой картиной Греза — “Молодая девушка плачет над своей мертвой птичкой”. Сначала — аффектированное восхищение “прелестной элегией”, “очаровательной поэмой”, пастельное сочувствие “бедной малютке, потерявшей свою любимую птичку”... Вдруг — холодноватое замечание: “Такая печаль?! В ее годы? И из-за птички? Но, позвольте, сколько ей лет?.. Ее голове лет пятнадцатьшестнадцать, а ее кисти и ее руке по меньшей мере — восемнадцать-двадцать. Это недостаток, тем более чувствительный, что, поскольку голова дана опирающейся на руку, одна часть совершенно не соответствует другой”/8. Так, мелочь, неудачная техническая деталь. Но перечитаем текст еще раз. Странно… ____ 6. Там же. С. 11. 7. Там же. С. 41—42. 8. Там же. С. 79 (курсив мой. — В.Б.). Сознательно или бессознательно, Дидро строит свою оценку этой картины Греза, строит свое суждение вкуса, отталкиваясь именно от “неудачной детали”. Он обнаруживает два “портрета” в одном “портрете”, две трагедии в одной трагедии. Малютка плачет над погибшей птичкой, но в тот же момент, на той же картине взрослая девушка плачет о погибшей любви. “Ну, малютка, откройте мне ваше сердце: скажите мне правду; действительно ли смерь птички заставляет вас с такой силой и с такой грустью углубляться в себя? Вы опускаете глаза, вы мне не отвечаете: вы готовы расплакаться. Бросьте. Я не отец; я ни нескромен, ни строг…”/9. И развертывается великолепная игра на этих двух возможностях трагедии, на этих двух возможных источниках печали. Дидро изощренно развивает мотив “обманутой любви”, фантазирует, играет словами и вскоре совсем забывает о “бедной малютке”. Одна история компрометирует и как бы исключает другую. В результате ни та, ни другая не может быть взята всерьез. Сентиментальность исчезает в гривуазности, а сострадание “обманутой возлюбленной” оказывается очень холодным и несерьезным, поскольку оно сразу же переключается в легкую улыбку, адресованную “бедной малютке”. Именно в неестественности, в двузначности этой картины таится для Дидро ее эстетическое очарование, скрывается возможность суждения вкуса. Точно так же работает “механизм” просвещенного вкуса перед другими картинами Греза (или Фрагонара, или Мишеля Ван-Лоо). Каждый раз вкус “знатока” оказывается удовлетворенным, когда ему представляется возможность играть двумя (или несколькими) вполне серьезными нравственными оценками, сталкивая их между собой и превращая в нечто нравственно двусмысленное, но эстетически ценное. Да, для Дидро “нравоучительный жанр” — вершина живописи. Но… “Живопись, которая зовется жанром, должна быть живописью стариков или тех, кто родится старым. Она требует только изучения и терпения. Никакого восторга, мало гения, никакой поэзии, много техники и правдивости: и это все”/10. Наконец, Шарден. Это, пожалуй, вкус Дени Дидро, взятый совсем всерьез. Шардена Дидро действительно любит, здесь он никогда не преувеличивает свои восторги, не играет нравственными оценками, здесь он серьезен, здесь его оценки наиболее продуманны и аналитичны. Но именно в этой аналитичности вскрывается одна из основных странностей “просвещенного вкуса”. Читатель, наверное, помнит, что Дидро особенно ценит Шардена за его “верность природе”, за то, что изображенные им предметы как бы витают в воздухе, “находятся вне полотна”, тождественны природным предметам. Но, когда эта исходная оценка хоть слегка развивается, она оборачивается совсем иными словами, получает совсем иную мотивировку. “Манера Шардена своеобразна. У нее есть общее с наброском, о котором вблизи не знаешь, что это такое; по мере удаления вещь оформляется и наконец становится самой природой. Иногда бывает так, что он вам нравится одинаково вблизи и издали. Этот человек настолько же выше Греза, насколько небо удалено от земли… Поскольку у него собственная манера, ему следовало бы в некоторых обстоятельствах быть лживым, а он им _____ 9. Там же. С. 76. 10. Там же. С. 66. никогда не бывает”(35). “Шарден между природой и искусством; он отодвигает другие подражания на третье место” (36). Оказывается, что точность, с которой Шарден воспроизводит природу, хороша тогда и в той мере, в которой он природу воспроизводит, “снова производит”, в какой предметы на картинах Шардена — не природа, но становятся природой. Неуловимая точка между природой и искусством, между предельно формальной, чисто музыкальной гармонией тона и цвета (так говорит Дидро о Шардене в другом месте) и природой как таковой, совершенно не формальной, естественной и праобразной, именно эта точка — есть точка вкуса, есть точка эстетического значения картин Шардена. “Как соблюдена перспектива! Как отражаются друг на друге вещи! Как разрешены массы… Это гармония, выше которой нечего желать; она незаметно пронизывает его композицию, в каждой части, на всем протяжении его полотна, так же как богословы говорят о духе: “ощутим во всем и всюду скрыт” (37). Так начинаются парадоксы просвещенного вкуса. Парадоксы пронизывают все годы работы над “Салонами”, и парадоксальность эта, скорее невольная и бессознательная в первых “Салонах”, все более начинает осознаваться самим Дидро, мучить его, выводить из эстетического равновесия и толкать на какие-то попытки саморефлексии. Саморефлексия возрастает в “Салонах” 69-го, 71-го и особенно 81 годов. Но одновременно с возрастанием рефлективности “суждения вкуса” теряет свою естественность, непосредственность и становится уже не вкусовой оценкой, а философским размышлением. В контексте нашего исследования эти самооценки Дидро существенны только на фоне первоначальных “Салонов”, только как момент необходимого развития и неизбежного исчерпания самой “культуры художественного вкуса”. (Впрочем, культурное значение этого самоисчерпания можно будет с полной определенностью установить в кантовской “Критике способности суждения”.) Очерченные только что странности просвещенного вкуса (читатель найдет в “Салонах” десятки таких странностей…) стягиваются к двум средоточиям, образующим как бы фокусы того основного парадокса, того “большого эллипса”, по которому движется, в котором развивается “способность эстетического суждения”. 1. Парадоксальность просвещенного вкуса, во-первых, сосредоточивается в двусмысленности эстетического идеала. Вкус Дидро, вкус безусловно “просвещенный”, удовлетворяется лишь тогда, когда художественное произведение воспринимается — одновременно — как природа, как нечто совершенно естественное и — вместе с тем — как нечто неестественное, искусственное, классическое, идеальное, стоящее выше природного образца, точнее, вне этого образца. Этот второй полюс суждения просвещенного вкуса Дидро чаще всего выражает в понятии “античность”. Художник должен — одновременно — подражать природе и подражать античным образцам, и он должен каким-то чудом согласовывать, сводить в одну точку эти несоизмеримые устремления. ”... Тот, кто презирает античность ради натуры, рискует остаться навсегда малым, слабым и скудным в рисунке, в характере, в драпировке и особенно в выражении. Тот, который пренебрегает природой ради античности, рискует остаться холодным, лишенным жизни, без единой из тех скрытых и тайных истин, которые можно увидеть только в самой природе. Мне кажется, что надо изучать античность, чтобы научиться видеть природу38. Последним замечанием симметрия вкуса как будто нарушается, изучение античности нужно как средство для того, чтобы видеть природу. Но Дидро быстро восстанавливает симметрию противоположных утверждений, соединенных в суждении вкуса. В каждом эстетическом идеале — естественности и искусственности, природы и античности — своя правда, своя красота. ”...Солнце искусства не то же, что солнце природы, свет художника не то же, что свет неба, мясо с палитры не то же, что мое мясо, глаз художника не то же, что глаз другого; это различие дается манерой…” (39). Одно разъяснение. Когда я сейчас говорю о “парадоксах” в мышлении Дидро, в его суждениях вкуса, то не имею в виду никаких особых философских тонкостей. Здесь парадокс означает просто какую-то органическую несогласованность, несоответствие суждений вкуса, характерных для Дидро и, как нам думается, вообще для просвещенных людей XVIII века, но такую несогласованность, которая не может быть устранена, без которой вкус перестает быть вкусом, эстетическое перестает быть эстетическим, искусство ссыхается до моральных норм и философских максим. Это то значение парадокса, которое дано уже этимологически: “парадокс” — это то, что “возле истины”, рядом с ней, интуитивно совпадает с истиной, но логически разрушает всякое истинное утверждение. Форма парадокса — это то, что “возле истины”, рядом с ней, интуитивно совпадает с истиной, но логически разрушает всякое истинное утверждение. Форма парадокса — это форма загадки, что обычно и подчеркивают поэты и мыслители Эллады. Исходный парадокс суждения вкуса приобретает далее особую остроту. Художник стремится воссоздать природу — без этого он не художник, — но он достигает своей цели лишь тогда, когда проскакивает мимо цели, дальше ее, когда за природой он видит нечто невозможное в природе, нечто противоречащее природным определениям. “Ваша линия, если бы вы в точности подражали природе, не была бы линией правильной, линией красоты, линией идеала, но линией измененной, искаженной, портретной, индивидуальной” (40). Прекрасная линия, линия искусства не открывается (в природе), но изобретается художественным гением, постепенно и мучительно создается (канон) в бесчисленных поисках и находках, в бесчисленных исправлениях, преобразованиях, очищениях, перегонках… природного сырья. “Со временем, в результате медленного и боязливого пути, длительного и мучительного нащупывания, неясного скрытого познания аналогий, в результате бесконечного количества последовательных наблюдений, память о которых исчезает, но результат которых остается, исправления распространились на маленькие части, откуда еще на меньшие, и на самые мельчайшие — на ноготь, на веки, на ресницы, на волосы… удаляясь все время от портрета, от неправильной линии, чтобы подняться до настоящего идеального образца красоты, до правдивой линии. Правдивая линия, идеальный образец красоты не существовал нигде, кроме как в голове Агасия, Рафаэля, Пуссена, Пюже, Пигеля, Фальконе…” (41). “Античность” нельзя перенять, нельзя скопировать — вне того пути, которым шло изобретение прекрасной линии, нельзя взять как готовый итог. Античность — это не образец прекрасных линий, это пример их достижения, стремления к ним. Но что здесь подразумевается под “античностью”, какой ее образ взят за прообраз? Это какая-то особая, изобретенная XVIII веком античность, скорее римская, чем аттическая, но все же и не римская, это — античность канона, античность, нужная для… антитезы к “природе”, изобретенной тем же XVIII векам. Или, скажем иначе, это античность, открытая в исторической античности (она там действительно скрывалась) для того, чтобы обрести (уже — не изобрести!) природу, предстоящую перед человеком Нового времени. “Так, восемнадцатый век, отвергнув источник света, исторически им унаследованный (христианскую литургию. — B.Б.), должен был разрешить заново для себя эту проблему. И он разрешил ее своеобразно, прорубив окно в им же самим выдуманное язычество, в мнимую античность, отнюдь не филологическую и не подлинную, а вспомогательную, утилитарную, сочиненную для удовлетворения назревшей исторической потребности” (42). Смысл “античности Просвещения” — это форма действия, освобожденная от трудностей действия. Это форма (что крайне существенно для культуры вкуса), не несущая никакой излишней нагрузки, освобожденная от реального значения, — опустошенная. Это — по сути своей — форма, могущая возникнуть как идеал не у работника, а у праздного зеваки, а если не употреблять сильных выражений, у человека, смотрящего со стороны. Дидро пишет: “Если то, что я тебе только что говорил, правильно — самая прекрасная, самая совершенная модель мужчины или женщины была бы мужчиной или женщиной, наиболее способными ко всем жизненным функциям и достигшими возраста их полного развития, не исполняя ни одной из них”. Все формы, вышедшие из мастерской природы, в этом плане всегда испорчены, они “подчинены условиям, функциям, нуждам, еще более их исказившим” (43). Здесь исходный парадокс суждений вкуса уже перестает быть общим требованием к любому произведению искусства, любой эпохи, но приобретает точную прописку в культуре XVIII века, в культуре Просвещения, где противоречивое сочетание утонченности и естественности, элитарности и руссоизма оказывается важнейшим определением всех эстетических стремлений. Впрочем, детальнее об этой стороне дела дальше, когда мы сможем полным голосом говорить вместе с Кантом. 2. Второй полюс притяжения эстетической мысли Дидро определяет парадоксальность суждений вкуса в плане, так сказать, формы существования эстетического, того “места”, на котором осуществляются вкусовые перипетии. Просвещенный вкус требует от произведения искусства, чтобы оно удовлетворяло двум, остро противоречивым, но требующим согласования оценкам. Во-первых, произведение искусства должно быть самодостаточным, замкнутым в себе, предельно цельным, гармоничным, — особым микрокосмом. Этот микрокосм художественного произведения принципиально не имеет никаких критериев своей красоты или своей человеческой ценности вне себя, в каких-то иных формах культуры — ни в нравственных оценках, ни в соответствии природе, ни даже в соотнесении с бесконечностью реального макрокосма. “Эх, безумные глупцы, я требую натуры не для того, чтобы правильно сделать нос, рот, глаза, но для того, чтобы схватить в действии фигуры тот закон симпатии, который располагает всеми этими частями и располагает способом, который будет всегда новым для художника, будь он наделен самым невероятным воображением и имея за собой тысячу лет учения” (44). Или еще. “Он (Буше) не знает, что такое эти отдельные тонкие аналоги, благодаря которым размещаются предметы на полотно один рядом с другим и которые связывают их воедино тайными и незаметными нитями” (45). Вот картина Виена “Торговка амурами”: “Интерес этих трех лиц в их соотношениях выявлен с глубокой продуманностью; нельзя ни на йоту изменить действия или страсти одной, не нарушив в этом отношении согласованности всех. И какая элегантность в позах, в телах, в лицах, в одеждах; какое спокойствие в композиции, какая тонкость… Аксессуары тонкого вкуса и замечательной законченности… В общем во всех этих частях мало изобретательности и поэзии, никакого энтузиазма, но тонкость и бесконечный вкус… Гармония красок, столько важная во всякой композиции, лежит в самой основе этой картины, она действительно доведена до высшей ступени” (46). Идеал этой самодостаточности и законченной гармоничности — музыка, но живопись лишь отдаленно приближается к идеалу. “Соберите предметы всякого рода и всяких цветов — белье, фрукты, бумагу, книги, материи, животных, — и вы увидите, что воздух и свет, эти два всеобщие гармонизирующие фактора, каким-то образом согласуют их с помощью незаметных рефлексов; все будет связано, несоответствия сгладятся, и ваш глаз не придерется к целостности всего произведения. Искусство музыканта, который берет на органе совершенный аккорд… дошло до этого; искусство живописца никогда до этого не дойдет. Дело в том, что музыкант посылает вам самые звуки, а то, что живописец растирает на своей палитре, это не мясо, не шерсть, не кровь, не солнечный свет, не атмосферный воздух; это земли, сок растений, жженая кость, размолотые камни, окиси металлов. Отсюда невозможность передавать незаметные рефлексы вещей друг на друга; есть враждебные друг другу цвета, которые не удается примирить… Что собой представляет… техника (живописца. — В.Б.)? Искусство спасти некоторое количество диссонансов, избавить живопись от непреодолимых затруднений” (47). В идеале живопись должна не изображать, но — во внутренней гармонии — означать самое себя! Но — здесь начинается основной парадокс — целостность, самодостаточность художественного произведения сразу же противопоставляется Дидро (см. выше — о Грезе, о Буше) свободе воображения, разрушающей исходную целостность. “Я вам опишу картины, и мое описание будет таково, что с помощью небольшого воображения и вкуса их можно будет воспроизвести в пространстве и расположить на них предметы приблизительно так, как мы их видели на холсте…” (48). Увы (или к счастью), совсем не так. Воображение, без которого нет искусства и нет его восприятия, “призвано” как раз разрушать гармонию холста, провоцировать бесформенность, многозначность, разрывать целостность. “Воображение быстро переходит от одного образа к другому; глаз охватывает все сразу. Если воображение различает планы, оно их не разделяет и не устанавливает; оно удалится внезапно на огромное расстояние — вдруг вернется с той же скоростью и надвинет на вас предметы; оно не знает, что такое гармония, размер, равновесие; оно нагромождает, спутывает, удаляет, перемешивает и окрашивает, как ему нравится. В композициях воображения нет ни монотонности, ни какофонии, ни пустот, как это понимает живопись” (49). Воображение просто не знает всех этих понятий, оно вне формы, а поэтому не может обладать и “плохой” формой. (Конечно, в контексте “истории эстетических идей” все эти противоречия можно было бы истолковать как некую непоследовательность воззрений Дидро, “несогласованность” его “классицистских” и “романтических” симпатий, но, когда мы анализируем генезис “просвещенного вкуса”, эти противоречия выступают необходимыми условиями самого формирования способности эстетических суждений.) Суждение вкуса может состояться лишь тогда, когда самодостаточное произведение искусства, в том же самом отношении (в отношении художественной оценки), оказывается лишь поводам для игры воображения, рассудка, разума, для игры моральными нормами. Игра эта возникает в слушающем или смотрящем индивиде и постепенно заслоняет, оттесняет на задний план тот повод, в связи с которым она возникла. Произведение искусства — точка приложения для субъективных перетасовок смысла, возникающих в сознании судящего об этом произведении знатока. Произведение искусства обречено — в суждениях просвещенного вкуса — потерять свою плотность, свою самодостаточность, оно обречено стать лишь одним из многих, одним из бесчисленных вариантов той игры воображения, что ведет сам с собой умудренный знаток искусства. Причем воплощенный на полотне вариант, он лишь провокатор произвольной фантазии, сама его плотность и предметность мешает ему быть, так сказать, лучшим, совершенным вариантом. Он хорош только для начала (вспомните “Паралитика” Греза). О нем следует забыть, расплавив его эстетическую непроницаемость в произвольных и бесконтрольных картинах воображения, Однако необходимо, чтобы “самодостаточность” и “провокационность” художественного произведения были сфокусированы в одной точке, постоянно вытесняли друг друга, существовали — и не могли существовать — в одном и том же “месте”, в одном отсеке сознания. Как только начинается эта игра на вытеснение — сразу же становится возможным суждение просвещенного вкуса. Если произведение не способно расплавляться под взглядом знатока, оказаться лишь поводом для игры воображения, для столкновения нравственных оценок, если это произведение слишком плотно, слишком активно, если этот образ культуры сам в себе несет бесконечные смыслы и варианты, а читателю или слушателю остается только поворачивать этот бесконечногранный кристалл, то тогда мы имеем дело уже не с феноменом культуры вкуса, а с какой-то другой культурной целостностью, или, скажем мягче, мы имеем дело не с культурой вкуса эпохи Просвещения, а с какой-то другой сферой способности суждения, которая уже не обладает самостоятельной целостностью, а выступает где-то на вторых ролях, по отношению к какому-то неисчерпаемому образу культуры (Эдипу или Прометею, Гамлету или Гаргантюа). Эту же мысль можно выразить и иначе. Суждение просвещенного вкуса может состояться тогда, когда собственно эстетическая оценка оказывается как бы сжатой между двумя внеэстетическими реальностями. В начале суждения вкуса лежит, к примеру, какое-то моральное суждение, которое затем раздваивается, приобретает двусмысленный характер, включает игру воображения, переходит в эстетическое качество. Но это эстетическое качество, в свою очередь, имеет как бы неэстетическую закраину. Игра воображения, рассудка, моральных норм должна привести к тому, чтобы человек забыл и об исходном пункте своих размышлений, и даже об их эстетическом преображении и погрузился в себя, в свой субъективный мир, в нечто бесформенное, неопределенное, не могущее быть замкнутым и ограниченным. Вот тут мы подошли к очень важному моменту. Замкнутый микрокосм художественного произведения соприкасается — в суждении вкуса — с безграничным и неоформленным миром человеческой индивидуальности. Именно в точке соприкосновения двух миров вспыхивает вольтова дуга собственно эстетического суждения. Особое значение в этом втором средоточии парадоксов просвещенного вкуса имеет игра с “нормами нравственности”, с моралью. XVIII век — век наибольшего размаха нравственных поучений, бесчисленных моралите, очень ограниченных и жестких, но вместе с тем это век наибольшей самокомпрометации моральных ценностей (тот же Дидро очень точно воспроизводит это сопряжение в “Монахине” или в “Племяннике Рамо”). Это и понятно. Мораль XVIII века проповедуется со всей страстью первооткрывателя, но открывается эта мораль в субъективном и неуловимом мире случайного индивида, она впервые лишается всех священных санкций, она — редкий случай — способна действовать вне ритуала освящения. Вне ритуала религиозного освящения и даже вне ритуала освящения творческим экстазом, героическим энтузиазмом, как это было в эпоху Возрождения. Мораль эпохи Просвещения постоянно балансирует на грани полной безнравственности, она всегда страшно туманна и неопределенна по характеру своих санкций, хотя именно поэтому обычно очень жестка и докторальна по характеру своих предписаний. Такое состояние морали, такое неустойчивое равновесие, для нее характерное, и оказывается самой удобной точкой коловращения для суждений вкуса. Эта мораль легко срывается в игру, в двусмысленность, быстро переключается из мира объектов во внутренний, субъективный мир человека. Мораль XVIII века сразу же врывается в эстетизм. Но вместе с тем, может быть, именно в мире эстетического мораль вообще находит свою единственную прочную санкцию, становится (используя противопоставление Канта или Гегеля) моралью, не переставая быть нравственностью. (В предыдущем изложении для нас были несущественны те отличия между понятиями “мораль” и “нравственность”, которые столь характерны для философских систем Канта или Гегеля. Дело в том, что как раз в культуре Просвещения эти понятия оказываются очень неустойчивыми и постоянно переходят друг в друга. Больше того. Непрерывное переливание нравственных импульсов в моральные нормы и обратно составляет одну из особенностей культуры Просвещения.) Но санкция эта очень своеобразная. Эстетическое освящает нравственность за счет того, что лишает ее определенного содержания, делает чем-то бесформенным, неограниченным, игровым, и именно поэтому как бы предназначенным для непрерывного наполнения и изменения. Мы сейчас увидим, какую роль играет этот выход в бесформенное и неограниченное в общей системе парадоксов просвещенного вкуса (Дидро) и в особенности в кантовской “Критике способности суждения”. Выход в бесформенное эстетизирует нравственность, но — одновременно — означает преодоление собственно эстетических оценок, суждений вкуса. Здесь эстетическое уже не срабатывает. Все, что вкус признает достойным, изящным, красивым, вся игра форм, света, цвета, рисунка здесь теряет всякий смысл. Бесформенное безобразно и безобразно по определению, но именно в этом бесформенном, бесконечном, неопределенном кипении человеческих или природных сил осуществляется формообразование культуры, получает свою санкцию и эстетическое, и нравственное, и полезное, и священное, и любые — предметно воплощаемые — стремления человеческого духа. Это та область возвышенного (определение Канта), в сопряжении с которой культура вкуса только и может существовать как нечто культурно целостное, серьезное, попросту говоря, как действительный вкус, но не манера, не манерность. Только тогда, когда вкус в каждом своем высказывании, в каждой точке своего приложения граничит с этой серьезностью бесформенного, беспредельного, внеэстетического, он имеет право на существование, он может быть отнесен к определению человеческой деятельности, творчества, а не безделья, не смакующего любования. Бесчисленное число раз Дидро фиксирует это странное соединение вкуса, требующего строгой и изящной формы, и внеэстетических требований бесформенного, неопределенного, колоссального, необозримого. Приближаясь к вожделенной точке — где вкус достигает наибольшей утонченности и… теряет свою силу, — художник сразу же ощущает деспотическую требовательность бесформенного. Эта требовательность растет с двух сторон. Выходя в бесформенность природы, художник должен переводить исходное изящество и легкость эстетических форм в нечто неподвижное, в определения безграничной силы. Чем глубже художник погружается в собственный духовный мир, тем настоятельнее он чувствует потребность перевести суждение вкуса и нормы в суждение деятельности, в динамику движений духа. “Я считаю, что нужно тем меньше движений в композиции, чем действующие лица строже, величественнее, более крупного масштаба, более значительного размаха… Этот закон замечается как в области духовной, так и в физической, в физической — это закон масс, в духовной — это закон характеров” (50). Область суждений вкуса всегда существует в середине “между холодным, и потому бесформенным, и чрезмерно беспокойным, и потому не имеющим формы; и эта середина — это та точка, в которой соответственно с изображенным действием выбор натур сочетается, к их наибольшей выгоде, с количеством движений” (51). “Я заметил, что постоянно путают два выражения; группировать и давать массу… Каким бы способом неодушевленные предметы ни были расположены, я никогда не скажу, что они сгруппированы, но скажу, что они образуют единую массу. Каким бы способом одушевленные предметы ни были соединены с неодушевленными, я не скажу никогда, что они сгруппированы, но опять скажу, что они образуют массу. Но каким бы способом одушевленные предметы, только одушевленные предметы, ни были расположены друг по отношению к другу, я скажу, что они сгруппированы, поскольку они объединены каким-нибудь общим действием” (52). И, наконец, тот образ звездного неба, что оказывается ключом к систематике Канта. Но сейчас я говорю не о Канте, а о Дидро. Это Дидро, подчиняясь парадоксальности просвещенного вкуса, избирает тот же образ сквозной темой всех своих размышлений. “Небо нас восхищает не своим цветом и не светилами, которыми оно сверкает ночью. Если бы женщина пошла к продавцу шелка и он предложил бы ей локоть или два небесного свода — простите, я хочу сказать, материи лучшего голубого цвета, усеянной блестящими точками, — сомневаюсь, чтобы она выбрала ее на платье. Откуда же рождается восторг, который небесный свод возбуждает в нас, в звездную и ясную ночь? Это — или же я сильно ошибаюсь — зависит от огромного беспредельного пространства, которое нас окружает, от глубокой тишины, которая царит в этом пространстве, и от других, невольно возникающих неопределенных мыслей, из коих одни относятся к астрономии, а другие к религии” (53). Обозначенные только что основные полюсы (1—2), притягиваясь к которым движется парадоксальное суждение вкуса в “Салонах” Дидро, эти полюсы вступают и между собой в определенное сопряжение, порождая своеобразную парадоксальность уже внутри каждого отдельного суждения вкуса (на первом полюсе в “оппозиции” Природа — античность — выход в форму бездеятельного, на втором полюсе в оппозиции “целостность” — “игра воображения” — выход в бесформенность действия…). Огрубляя, можно сказать, что у человека есть вкус тогда (так действует и первый, и второй полюсы), когда его вкус граничит с безвкусицей, но, конечно, не любой безвкусицей, но, так сказать, “хорошего качества”, “безвкусицей” возвышенного. Дидро фиксирует эту рискованность суждений вкуса, подчеркивая, что вкус и стиль (т.е. творческий вкус) всегда грозит перейти в “манеру”, всегда тяготеет к манере, но никогда не должен переходить в эту манеру полностью. Вкус всегда должен балансировать между точками предельной индивидуальности, оригинальности, изящества и точкой неопределенности, неоформленности. “При зарождении общества мы находим грубое искусство, варварские речи, простые нравы, но все это вместе совершенствуется до тех пор, пока рождается великий вкус; но — горе! — этот вкус подобен лезвию бритвы, на котором трудно держаться… Владычество разума распространяется, речь становится эпиграмматична, остроумна, лаконична, поучительна; утонченность портит искусство… Пишут правила поэтики; выдумывают новые жанры; становятся странными, причудливыми, манерными… Когда хороший вкус возведен у нации до высшей степени совершенства, это уже означает, что он перерождается в манеру” (54). По сути дела, я уже несколько страниц говорю не столько о Дидро, сколько о Канте, хотя и в формулировках Дидро. Мы уже движемся в контексте кантовской “Критики способности суждения”. Но, прежде чем открыто осуществлять это движение, договоримся с читателем о трех уточнениях. Во-первых. Пусть читатель еще раз вспомнит, что даже там, где мы обращали внимание на саморефлексию Дидро, для нас автор “Салонов” был интересен только как предмет анализа, как стихийный феномен просвещенности вкуса. В рефлексии Дидро фиксировался необходимый момент в объективном развитии культуры вкуса — момент замыкания на себя. Во-вторых. Я все время говорил о суждении вкуса по отношению к произведению искусства. Собственно, сам предмет анализа — “Салоны” Дидро — делал необходимым такую ограниченность. Но после небольшого размышления читатель, наверное, сам переформулирует все только что сказанное как определение любой рафинированной способности суждения. Разговор о картинах здесь только пример, образец. Столь же парадоксально и по форме и по содержанию своему суждение человека (со вкусом) о людях, о нравах, о семейных неурядицах, о книгах — о чем угодно, если только судящий или осуждающий остается в пределах способности суждения. И, наконец, третье, самое существенное уточнение. Хотелось бы, чтобы этот раздел о “Салонах” сосредоточился в сознании читателя (это существенно для понимания — вместе с Кантом — глубинных идей Просвещения) как размышление о цельной культуре XVIII века. Дидро — зритель. Но зритель очень благодарный, его вкус “знатока” выявляет смысл самого искусства (и не только искусства) этой эпохи. Требование вкуса определяет — в культуре Просвещения — не только суждение об искусстве, но тайный замысел самих творческих потенций художника. Грез, или Буше, или Шарден — это искусство, рассчитанное на суждение просвещенного вкуса, т. е. это искусство, смысл которого в том, чтобы исчезнуть, раствориться в игре воображения, моральных норм, воспоминаний, рассудочных поучений и в конечном счете — в бесформенном мире “возвышенного”, в хаосе индивидуальной “души” (этот мир бесформен, но он источник форм). Такое искусство создается с целью быть позабытым, с целью некоей мгновенной инъекции. Укол сделан — и все. Начинается основное — та внутренняя перетасовка смыслов и суждений (в сознании индивида происходящая), та сумятица духа, в которой рождается действительно прочное произведение искусства, настоящий образ культуры Просвещения — субъект хорошего, просвещенного вкуса. Человек “со вкусом” — вот величайшее художественное “произведение” века Просвещения. Это человек опустошенный, но — жаждущий наполнения. И — могущий быть наполненным. Для того и пустота, “Восемнадцатый век похож на озеро с высохшим дном: ни глубины, ни влаги — все подводное оказалось на поверхности. Людям самим было страшно от прозрачности и пустоты понятий. La Verite, la Liberte, la Nature, особенно la Vertu вызывают почти обморочное головокружение мысли, как прозрачные, пустые омуты” (55). Но где же точка превращения, в которой “просвещенный вкус” выходит за свои пределы и становится основанием Образа культуры Просвещения как единого целого, как целостной культурной эпохи? Ведь именно такое превращение я обещал в методологических набросках на первых страницах этой статьи. Мне кажется, что такой точкой оказывается в “Салонах” Дидро и в салонах Парижа превращение “просвещенного вкуса” в особую форму общения, общения с самим собой, общительности как таковой, легкой, непринужденной, свободной по духу и почти свободной… от всякого содержания. Наслаждаясь произведением искусства, я беседую “по поводу”, спорю, не соглашаюсь, обмениваюсь фантазиями, новеллами, — только что сочиненными и тут же позабытыми, — я сталкиваю в своем сознании неопределенные мысли, различные нравственные оценки; я гармонизирую эти произвольные продукты моей фантазии, я удерживаю их — свои мгновенные создания — от столкновения, от непримиримости, от угрюмости и фанатизма… Я — человек “Салонов”. Впрочем, известно, какими социально значимыми оказались салоны Парижа… Но скорее к Канту. Иначе мы скажем все относящееся к “Критике способности суждения”, делая вид, что придумали это сами — автор и читатель… III. КАНТОВСКАЯ КРИТИКА СПОСОБНОСТИ CУЖДЕНИЯ. парадоксы СХЕМАТИЗИРУЮТСЯ В АНТИНОМИИ В нашем анализе “Салоны” Дидро представляли стихию просвещенного вкуса и были тем “образом культуры” века Просвещения, который мы стремились понять. “Критика способности суждения” Канта уже не относится, во всяком случае непосредственно, к этой культурной стихии. Кант не столько обладает просвещенным вкусом, сколько его определяет. Кант замыкает век XVIII и начинает XIX, первым делом которого (в сфере культуры) было воспроизвести историческую реальность века XVIII как нечто культурно значимое, т. е. окончательно превратить Просвещение в образ культуры.. В деятельности Канта культура эпохи Просвещения преодолевалась, подвергалась критике, оказывалась уже неспособной к новому самостоятельному творчеству, но зато приобретала способность постоянного воспроизведения — в новых и новых формулировках, новых и новых поворотах своего культурного смысла. Кант превратил культуру Просвещения в постоянное предчувствие, в своеобразную “синюю птицу” просвещенного вкуса. “Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл… Это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было… Ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер” (56). В контексте причинных определений Просвещение, конечно, возникло единожды, под влиянием сложнейших социальных сил, общественных отношений. И в этом контексте итогом Просвещения была Французская революция. Но вернемся к проблемам культурной целостности. Возникнув в ходе социального развития, культура Просвещения, как и любая другая культура, начинает затем определяться своим собственным смыслом и, превращаясь в “образ культуры”, действует — в веках — как особый субъект деятельности. Смысл этой культуры, как смысл любого культурного феномена, не может быть объяснен причинами его возникновения. В этом плане именно Кант или Гегель — или, если взять совсем в другом разрезе, Пушкин — были творцами культуры, прошедшего века — XVIII. Они, участвуя в создании века XIX, превращали историческую феноменологию Просвещения в нечто культурно непреходящее, в источник бесконечного культурного обновления. Вот почему именно в свете кантовской “Критики способности суждения” (и вообще “Критик” Канта) можно понять не только своеобразие просвещенного вкуса, но сам век Просвещения, саму идею Просвещения как культуроформирующую идею. Я сказал, что такую роль могут сыграть “Критики” Канта вообще, и все же это не точно. “Критика способности суждения” имеет здесь особенное значение. Особый смысл. “Критика способности суждения” (1790) — последняя “Критика” Канта — до сих пор остается философской загадкой. В гигантской “Кантиане” она все время выглядит как-то очень неустроенно. С трудом влезает в общую схему “Критик”. Делает непоследовательными, неясными, незаконченными и “Критику чистого разума”, и “Критику практического разума”. Грандиозная систематика Канта в “Критике способности суждения” как-то не срабатывает, рассыпается в отдельные тонкие парадоксы и афоризмы. В этой последней “Критике” начинается — по мнению историков философии — упадок творческих сил Канта, особенно резко проявленный в “Антропологии…”. Я сейчас не думаю вдаваться в философский спор. На мой взгляд, кстати, и “Антропология” Канта недооценена. И без нее кантовская система в целом будет понята неверно, схоластически. Что же касается “Критики способности суждения”, то, может быть, она и загадочна, но, перефразируя слова Маркса о “Феноменологии духа” Гегеля, можно сказать, что именно в этой последней кантовской “Критике” заключены тайны и исток всей кантовской философии в целом, Дело не в том, что сама эта “Критика” непонятна и загадочна. Дело как раз в том, что она сдвигает всю кантовскую систему и показывает загадочность и странность остальных кантовских “Критик”, не позволяет — к счастью! — свести концы с концами в отношении теоретического и практического разума и тем самым раскрывает действительный, а не школьный смысл философии Канта. “Критика способности суждения” наиболее точно показывает историческую определенность тех философских проблем, которые стояли перед Кантом. Проблемы эти, на мой взгляд, сосредоточиваются как раз в самокритике культуры Просвещения. Философской сверхзадачей Канта является превращение способности суждения в “образ культуры”. И критика чистого, и критика практического разума понадобились именно для этой цели. Я высказал сейчас много утверждений, которые отнюдь не собираюсь доказывать в дальнейшем, но все же высказать их было необходимо. Последующий текст, непосредственно касающийся той схематизации, которой подвергнутся у Канта парадоксы просвещенного вкуса, этот текст читателю необходимо все же вписать в намеченный выше общетеоретический контекст. И в таком контексте, по-моему, обнаружится (если высказать последнее замечание о философии Канта в целом), что анализ способности суждения не только подводит итоги кантовской критике чистого и практического разума, не только пытается согласовать противоречие между этими двумя классическими критиками; способность суждения является вместе с тем исходным предметом анализа, той сферой духовной деятельности человека, которая, по Канту, в собственном своем развитии неизбежно раздваивается на чистый теоретический разум и на разум практический. Но перейдем к характеристике некоторых исходных определений “Критики способности суждения”. (Конечно, я буду касаться этого вопроса лишь в той мере, в какой это существенно для нашей темы, для понимания особенностей века Просвещения как образа культуры, для дальнейшего анализа тех парадоксов просвещенного вкуса, которые были только что фиксированы в “Салонах” Дидро.) Читатель, наверное, помнит еще, что в первом средоточии парадоксов просвещенного вкуса (парадоксов Дидро) мы обнаружили несоответствие, несогласованность двух эстетических идеалов. Просвещенный вкус требует, чтобы, к примеру, произведение искусства было верно природе вещей, но он же требует, чтобы это произведение воплощало классическую, античную форму, “лживую” (!) по отношению к природной правде. Этот начальный парадокс просвещенного вкуса переосмысливается Кантом как определяющее условие самого формирования способности суждения вообще и как объяснение того, почему способность суждения имеет в нашем интеллектуальном арсенале самостоятельное место наряду с рассудком и разумом или, говоря более широко, наряду с такими основными способностями человеческого духа, как познание и желание. Приведем несколько выдержек из Канта. ”...Две различные области, беспрестанно ограничивающие себя (законодательства свободы и законодательства природы… рассудка и практического разума… науки и нравственности… — В. Б.), не составляют нечто единое… Между областью природы и областью свободы… лежит необозримая пропасть, так что от первой ко второй (следовательно, посредством теоретического применения разума) не возможен никакой переход, как если бы это были настолько различные миры, что первый не может иметь никакого влияния на второй, тем не менее второй должен иметь влияние на первый, а именно понятие свободы должно осуществлять в чувственно воспринимаемом мире ту цель, которую ставят его законы…” (57). Прервем на этом месте цитату, хотя для нас самое существенное начнется как раз после многоточия. Но, чтобы понять это “самое существенное”, подчеркну следующее. Во-первых, кантовский индивид не поглощается полностью двумя сферами своей деятельности (теоретической и практической), он находится как бы между ними, он существует (но действует ли?) в этой самой пропасти между сферами познания и желания. Я обращаю на этот момент внимание читателя, потому что само это пребывание познающего и желающего индивида в некоем междумирии дает возможность предположить еще одну, иную форму человеческой свободы, чем та свобода в области практического разума, в сфере нравственного долга, которую обычно замечают исследователи Канта и которая столь подозрительно связана с категорическим императивом, с железной необходимостью долженствования. Во-вторых. Можно заметить, что кантовская симметрия между миром свободы и миром природы не выдержана до конца. Если мир природы никак не должен и не способен влиять на сферу свободной деятельности человека, то сама это свободная деятельность (сфера нравственности, сфера свободы) должна — по Канту — каким-то образом накладываться на природные законы. Без такого проецирования идей свободы в сферу природных закономерностей деятельность человека вообще была бы бессмысленна. Зачем же действовать — по отношению к пресловутой вещи в себе, — если наверняка известно, что всякий результат моего действия будет неопределенным, неизвестным!. И вот тут-то, для этого согласования миров, которые принципиально не могут быть согласованы, и включается… способность суждения. Вообще-то смысл этой способности совсем прост. И на первый взгляд о ней и говорить-то в серьезной философии не стоит. Пусть у нас в голове самые великолепные теоретические системы и философские концепции, пусть перед нами бесконечный, цельный мир. Но вот мы вышли “на улицу” и увидели отдельный, единичный предмет. На нем не написано, в каком отсеке наших великолепных систем он находится, под какое общее понятие его подвести. Здесь уже никак не обойтись без нашей собственной — моей, личной — способности суждения. Предмет надо определить и — обратите внимание — к нему надо как-то отнестись, наш “первый встречный” требует поступка. В этой самой элементарной задаче суждения уже сталкивается мир теоретического разума и мир разума практического: этот предмет (суждение о нем) должен фокусировать бесконечные и трудно согласуемые миры. Безоблачность нашего “первого взгляда” исчезает; как раз в отношении к особенному необходима вся сила моей личности, моего собственного мнения и моей проницательности, как раз тут все антиномии познания и желания достигают предельной силы. Способность суждения была бы, впрочем, не нужна, если бы мышление и бытие непосредственно совпадали и если бы мое место в мире было бы просто функцией каких-то всеобщих связей. Но все это не так, я — самобытен, и… способность самостоятельного суждения необходима. Продолжим теперь прерванную цитату: ”...природу надо мыслить так, чтобы закономерность ее формы соответствовала по меньшей мере возможности целей, осуществляемых в ней по законам свободы” (58). Или иначе, если использовать определение последней части кантовской “Критики…” (из “Аналитики телеологической способности суждения”), предметы природы надо понимать так, как если бы они были сделаны человеком, как если бы они были результатом искусства, техники. В общей системе кантовских понятий это условное суждение (“как если бы…”, “als ob…”) очень существенно и очень напоминает одну из методологических “игр” XX века. Это, так сказать, стержень современной “кибернетической философии”: необходимо понять естественный предмет природы как потенциальную машину, как возможный механизм (Кант прямо формулирует такое утверждение). Но — здесь начинается отличие — Кант не только формулирует “кибернетическую философию”, он, с одной стороны, ни разу не забывает об условности такого подхода, об его ироничности (“как если бы…”), а с другой стороны, Кант сам подвергает далее этот подход тончайшей теоретической критике. Но это мимоходом. В этой статье мы не будем специально рассматривать кантовскую критику телеологической способности суждения. Важно было только отметить исходное определение, заложенное в основу характеристики способности суждения в целом. Итак, способность суждения — это способность, по Канту, судить об естественных предметах природы как о предметах искусства, как если бы они были созданы… Причем здесь важны оба момента: предметы должны быть поняты как природные и они же должны быть поняты, “как если бы” они были созданы человеком. Этот зазор между двумя определениями необходим — для суждения об особенном. Тот парадокс, который возникает у Дидро просто как проявление хорошего вкуса, Кант схематизирует в некую норму, необходимую для того, чтобы (понимая, что это условность) рассматривать природу, как будто она “сделана” по законам свободы. (А как она “сделана” в действительности, нам никогда не будет известно… Но жить-то как-то нужно.) И обратно. “При виде произведений изящного искусства надо сознавать, что это искусство, а не природа; но тем не менее целесообразность в форме этого произведения должна казаться столь свободной от всякой принудительности произвольных правил, как если бы оно было продуктом одной природы” (59). Но способность суждения опосредствует не только законы природы и закон свободы. Эта способность вообще постоянный посредник, ее смысл в том, что она лишена своей собственной предметной сферы. “В семействе высших познавательных способностей существует… среднее звено между рассудком и разумом. Это способность суждения..._ Этому принципу не полагается сфера предметов в качестве его собственной области, тем не менее он может иметь какую-нибудь почву и определенные свойства ее, для которых именно только этот принцип и мог бы быть действительным” (60)/36. Способность суждения — своеобразный Харон в мышлении Нового времени. Этот перевозчик постоянно движется между берегами желания и познания, рассудка и воображения, теоретического разума и разума практического, связывая эти берега воедино, но связывая их роковым образом (если выразиться каламбурно, — роковым “образом культуры”). Те понятия, которые способность суждения перевозит на берег желания, перестают быть реальными понятиями, а оказываются лишь условными предположениями. В них умерщвлена логическая сила, но зато они приобретают нравственную и эмоциональную окраску. Те желания, которые способность суждения доставляет на берег рассудка, в свою очередь, умерщвляются в своей эмоциональной силе, оказываются сухими схемами, опустевшими сотами, но все же сохраняют какой-то отпечаток, какойто почти неразличимый аромат свободы. Но главное сейчас в другом. Если все другие персонажи кантовского мира быстро превращаются в деперсонализированные “аргументы” и “функции” (в сфере рассудка) или “нормы” и “санкции” (в сфере нравственности), то наш Харон — единственный — должен (!) быть живым, индивидуальным воплощением личного начала. Когда индивид остается наедине с самим собой (или — наедине с другим индивидом) и не может уже опереться ни на костыль рассудка (он оскользается на почве нравственного долга), ни на бечеву категорического императива (он превращается — на почве природных закономерностей — в чистую условность, в сплошное “если бы да кабы”), тогда этот индивид может полагаться только на самого себя. Но что это значит — полагаться на самого себя? Это значит, предполагает Кант, обладать всеми своими способностями, но, так сказать, не всерьез, не прилагая их к делу, наслаждаясь только тем, что они у тебя есть. Каждый раз, в последний момент, надо останавливать свою способность на самом пороге ее “использования”... Ведь стоит попробовать ее применить к чему-либо — к природным ли предметам или к нравственным явлениям, — и она обнаружит свою недостаточность, неопределенность, обернется тем самым костылем, который… и т. д. “Самоудовлетворенность” способностей, их постоянное культивирование (так сказать, в свободное время), погружение в субъективную стихию (игру?) формообразующих сил — вот что такое опора на самого себя. Я сказал, что этим приятным занятием — культивированием своих способностей — можно заниматься только в свободное время! Это утверждение здесь существенно. Резко снижая весь план нашего изложения, но выясняя органичные его характеристики, можно сформулировать так: действительно, только в свободное от работы время может человек буржуазной цивилизации отключаться от жестких технологических цепочек и заданных социальных отношений, которым он подчинен в обычное, рабочее время и по отношению к которым он никогда не может себя чувствовать демиургом, творцом, но всегда — только винтиком, исполнителем, пускай — как в сфере нравственного долга — винтиком, сознающим, что эта “винтообразность” отвечает “человеческим законам свободы”. Но вернемся к Канту. Мы помним, что способность суждения всегда — в этом ее миссия путает карты. Она придает серьезным сферам природы и свободы некий метафорический, переносный смысл. И — тем самым — судя о предметах природы как о предметах искусства и судя о предметах искусства как о предметах природы, индивид приобретает пусть узкую, но действительную, а не иллюзорную самостоятельность, возможность определять предметы и поступки не по их собственным законам, но — метафорически! И — в этом смысле — свободно. Наверное, внимательный читатель уже заметил, что в этих рассуждениях Канта схематизирован тот парадокс Дидро, в котором автор “Салонов” выходил к определению “формы бездеятельности”, т. е. идеальной формы, “воплощающей полное развитие человеческих или природных сил, без всякого их применения, без всякого использования”. Но, схематизируя этот парадокс, Кант обнаруживает очень существенную закраину культуры Просвещения, которую Дидро фиксировать не мог. Способность суждения не имеет своей собственной сферы применения, но как особая способность человеческого духа она обладает своей формой априорности — это не априорность познания и не априорность желания, это априорность удовольствия. По Канту, способность суждения содержит априорные принципы для чувства удовольствия или неудовольствия. В основе этих принципов лежит идея неопределенности или, точнее, неопределенная идея. Способность суждения стремится подвести особенное (тот предмет, о котором я сужу) под общее, под некое понятие. Но, чтобы получить удовольствие, чтобы суждение о предмете не перешло в знание или в осуждение предмета, я должен подводить этот предмет, это особенное под неопределенное понятие, понятие, которое еще только угадывается, которое становится понятием, по отношению к которому я сохраняю внутреннюю свободу. __________ 33. Дидро Дени. Об искусстве. М., 1936. Т.2. С. 37. 3 Там же. С. 33. 4 Там же. С. 58—59. 5 Там же. С. 13. 34. 1 35. Там же. С. 68 (курсив мой. — В.Б). 36. Там же. С. 189. 37. Там же. 38. Там же. С. 94. 39. Там же. С. 181. 40. Там же. С. 125. 41. Там же. С. 130. 42. Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 65. 43. Дидро Дени. Указ. соч. С. 129 (курсив мой. — В.Б). 44. Там же. С. 176. 45. Там же.С.59. 46. Там же. С. 25,26. 47. Там же. С. 30. 48. Там же. С. 53. 49. Там же. С. 153—154. 50. Там же. С. 144. 51. Там же. С. 145. 52. Там же. С. 149—150. 53. Там же. С. 32 (курсив мой. — В.Б). 54. Там же. С. 177—178. 55. Мандельштам О. Указ, соч. С. 78. 56. Там же. С. 7—8. 57. Кант Иммануил. Критика способности суждения. — Кант Иммануил. Сочинения: В 6-ти т. М., 1966. Т. 5. С. 173—174 (курсив мой. — В.Б.). 58. Там же. С. 174. 59. Там же. С. 321. 60. 1