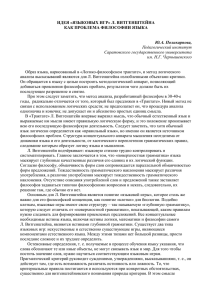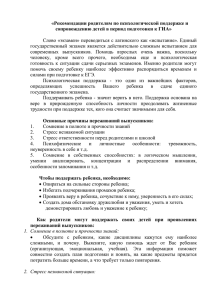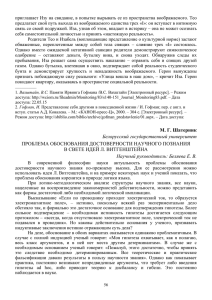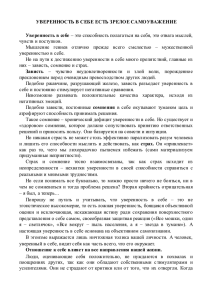Еникеев А.А., канд. филос. наук, доцент
реклама
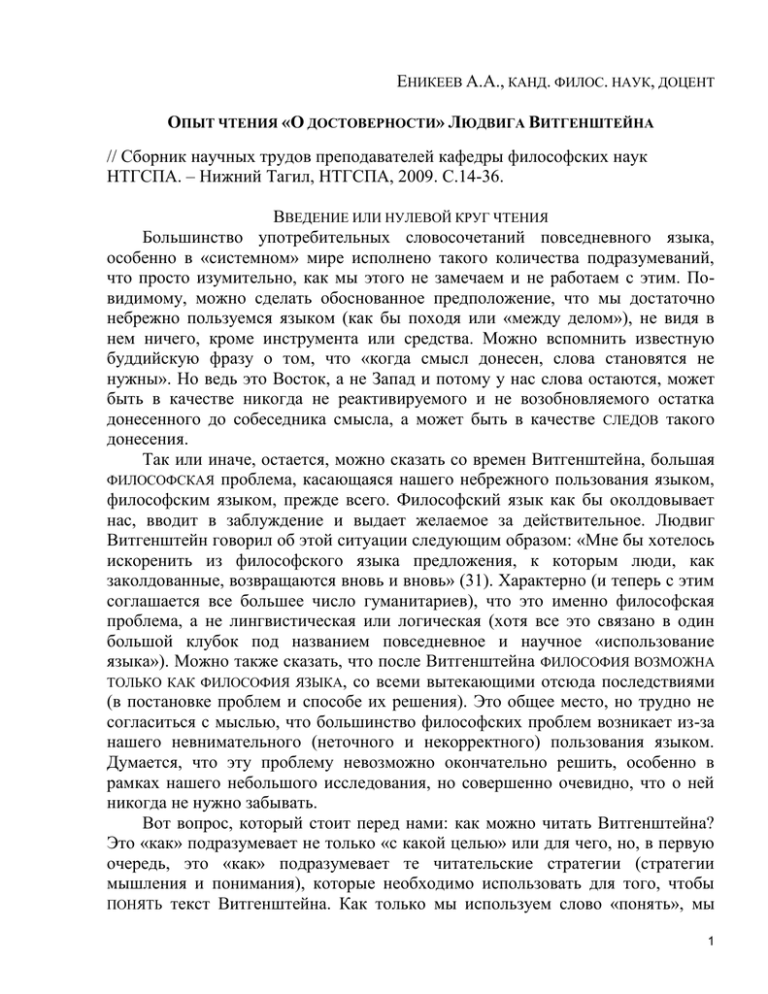
ЕНИКЕЕВ А.А., КАНД. ФИЛОС. НАУК, ДОЦЕНТ ОПЫТ ЧТЕНИЯ «О ДОСТОВЕРНОСТИ» ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА // Сборник научных трудов преподавателей кафедры философских наук НТГСПА. – Нижний Тагил, НТГСПА, 2009. С.14-36. ВВЕДЕНИЕ ИЛИ НУЛЕВОЙ КРУГ ЧТЕНИЯ Большинство употребительных словосочетаний повседневного языка, особенно в «системном» мире исполнено такого количества подразумеваний, что просто изумительно, как мы этого не замечаем и не работаем с этим. Повидимому, можно сделать обоснованное предположение, что мы достаточно небрежно пользуемся языком (как бы походя или «между делом»), не видя в нем ничего, кроме инструмента или средства. Можно вспомнить известную буддийскую фразу о том, что «когда смысл донесен, слова становятся не нужны». Но ведь это Восток, а не Запад и потому у нас слова остаются, может быть в качестве никогда не реактивируемого и не возобновляемого остатка донесенного до собеседника смысла, а может быть в качестве СЛЕДОВ такого донесения. Так или иначе, остается, можно сказать со времен Витгенштейна, большая ФИЛОСОФСКАЯ проблема, касающаяся нашего небрежного пользования языком, философским языком, прежде всего. Философский язык как бы околдовывает нас, вводит в заблуждение и выдает желаемое за действительное. Людвиг Витгенштейн говорил об этой ситуации следующим образом: «Мне бы хотелось искоренить из философского языка предложения, к которым люди, как заколдованные, возвращаются вновь и вновь» (31). Характерно (и теперь с этим соглашается все большее число гуманитариев), что это именно философская проблема, а не лингвистическая или логическая (хотя все это связано в один большой клубок под названием повседневное и научное «использование языка»). Можно также сказать, что после Витгенштейна ФИЛОСОФИЯ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО КАК ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА, со всеми вытекающими отсюда последствиями (в постановке проблем и способе их решения). Это общее место, но трудно не согласиться с мыслью, что большинство философских проблем возникает из-за нашего невнимательного (неточного и некорректного) пользования языком. Думается, что эту проблему невозможно окончательно решить, особенно в рамках нашего небольшого исследования, но совершенно очевидно, что о ней никогда не нужно забывать. Вот вопрос, который стоит перед нами: как можно читать Витгенштейна? Это «как» подразумевает не только «с какой целью» или для чего, но, в первую очередь, это «как» подразумевает те читательские стратегии (стратегии мышления и понимания), которые необходимо использовать для того, чтобы ПОНЯТЬ текст Витгенштейна. Как только мы используем слово «понять», мы 1 целиком погружаемся в Витгенштейновскую проблематику, утопаем в ней с головой. Чтобы окончательно не утонуть, необходимо придерживаться берегов (не терять их из виду) и обладать достаточным самообладанием (выдержкой), чтобы не заплывать слишком далеко. Коротко говоря, читая Витгенштейна нужна осторожность и внимательность, это требование здравого смысла и первое правило любых «стратегий чтения». Конечно, предуведомление на самом деле ничего не предуведомляет, к тому же довольно трудно представить, как должно выглядеть предуведомление к чтению Витгенштейна. Наверное, что-то вроде «забудьте все, что вы знали до этого» или «рассматривайте этот текст как пособие по изучению родного языка, где любые примеры носят не более чем грамматический смысл», а может быть «это канонические тексты новой религии, религии языка». Так или иначе, данное предуведомление необходимо хотя бы для того, чтобы «настроиться» на нужную волну, чтобы по возможности обеспечить необходимое понимание этого простого, но в то же время такого необычного текста. Впрочем, в случае с Витгенштейном ни в чем нельзя быть уверенным до конца и вовсе не потому, что автор «Логико-философского трактата» избегал ясности и предпочитал говорить загадками, скорее наоборот, в силу «невыносимой ясности» того, о чем говорится. Оставим сомнения в качестве «ориентиров для чтения» и отправимся в путешествие, охоту за «смыслами», этими пугливыми зверьками мысли. ПЕРВЫЙ КРУГ ЧТЕНИЯ 1. Можно ли научить кого-либо ПРАВИЛУ (например, правилу счета или письма), если из этого правила больше исключений, чем правильных (нормальных) употреблений? Не будем торопиться с ответом, ведь на первый взгляд это невозможно, либо мы будем учить его «другому» правилу. На самом деле все гораздо сложнее и в этом еще нужно «разбираться». 2. Правило в данном случае располагается в пространстве между ошибкой и сомнением. В любом случае речь идет об определенной «языковой игре», смысл которой в том, чтобы научить ученика данному правилу. «Есть разница между ошибкой, для которой как бы предусмотрено место в игре, и чем-то совершенно неправильным, что бывает как исключение» (647). 3. Можно ли чему-нибудь научить ученика, если он ПОСТОЯННО сомневается в словах учителя? Например, учитель учит ученика считать и говорит, что 2 х 2 = 4. Но ученик сомневается в этом и ДОКАЗЫВАЕТ учителю, что 2 х 2 = 5. Учитель вынужден согласиться, даже если он ЗНАЕТ, что ученик еще не умеет считать правильно. Или учитель изначально отбросит мысль о том, что ученик может что-то ЗНАТЬ? Ведь знание – это не только убежденность (уверенность в собственных словах), но и определенного рода ОПЫТ, в наличии которого у ученика можно вполне резонно усомниться, что и делает учитель. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9. «Учитель и ученик. Ученик не дает ничего объяснить, то и дело перебивая (учителя) своими сомнениями, например, в существовании вещей, значении слов и т. д. Учитель заявляет: «Перестань меня перебивать и делай то, что я тебе говорю; твои сомнения пока что не имеют никакого смысла»» (310). Что важно в данной ситуации: то, что ученик проявляет больше рвения к учебе, чем следует или то, что учитель знает «правила игры», а ученик нет, и поэтому его сомнение не имеет смысла? Или разговор между учителем и учеником имеет смысл только тогда, когда мы понимаем, что один передает другому ПРАВИЛО? Витгенштейн развивает данную ситуацию. «Это походило бы на то, как ктото искал бы в комнате какой-то предмет так: выдвигая ящик и не находя искомого, он бы снова его закрывал и, подождав, опять открывал, чтобы посмотреть, не появилось ли там что-нибудь, и продолжал в том же духе. Он еще не научился искать. Вот так и ученик еще не научился задавать вопросы. Не научился той игре, которой мы хотим его обучить» (315). Сомнение должно быть ПРАВИЛЬНЫМ сомнением. «…Такое сомнение непричастно к сомнениям в нашей игре» (317). Нужно учить ученика сомнению, поскольку это особая познавательная игра, которая производится по определенным правилам и имеет совершенно особый смысл. «Учить сомнению» и «учить правилу» - это две различные практики. Нужно действительно «учить сомнению», ведь «…сомневаться – значит думать» (480), это фундаментальная предпосылка для любой языковой игры. И вообще, что означает считать или писать ПРАВИЛЬНО? Только ли сообразуясь с неким признанным ПРАВИЛОМ? Но ведь именно нарушение правила придает ему свойство КАНОНА. «Как» и «когда» в таком случае СЛЕДУЕТ нарушать правило? Существует ли правило нарушения правил? Ведь очевидно, что правило НЕОБХОДИМО нарушать, ибо в противном случае у нас не будет возможности проверить его ИСТИННОСТЬ. Если слова учителя ВСЕГДА будут подвергаться сомнению со стороны ученика, то ученик не сможет ничему научиться. Потому что учение – это «заучивание» тех истин, которые сообщает учитель, даже если он сам в них не верит. Учитель как бы «делится» знаниями, определенным образом «распространяя» их на ученика. Можно предположить, что, сомневаясь в словах учителя, ученик сможет научить его самого (во всяком случае, если учитель достаточно «подвижен» и критичен по отношению к себе), но научит ли ученик таким же образом себя? Учитель и ученик в этой ситуации могут поменяться местами (в качестве элемента определенной педагогической игры или чисто умозрительно). Наверное, это означает, что, сомневаясь, мы хотим на самом деле занять место того, в чьих словах мы сомневаемся. Зная при этом, что место учителя обладает большей репрезентативностью (силой языковой власти), чем место ученика. Но здесь следует учитывать всю СИСТЕМУ обучения, которую нельзя представить 3 только как «борьбу за место» учителя или того, кто говорит «истины» (делится знаниями). 10. Мысль о том, что существует «борьба за место», обладающее властью слова, возвращает нас к известной фразе, что любое высказывание ВСЕГДА звучит из какого-то МЕСТА. Отсюда и у-местность и понятность сказанного. Но остается открытым вопрос: что определяет это место? Что его конституирует? Какого рода правом обладает тот, кто занимает это место? Насколько он устойчив (основателен) в своих высказываниях? Допускает ли он сомнение в своих словах? 11. Является ли СОМНЕНИЕ способом «занять место»? Если человек сомневается в себе, то возникает вопрос, какое (чье) место он хочет занять (этим своим сомнением)? Кстати, выражение «сомневаться в себе» не лишено некоторого лукавства: в чем именно в себе ты сомневаешься? Подразумевается, что человек не может ПОЛНОСТЬЮ сомневаться в себе, но только в НЕКОТОРЫХ своих убеждениях или установках. Следовательно, он должен быть способен отличить в себе то, В ЧЕМ ОН, собственно говоря, сомневается и то, ЧТО В НЕМ совершает такое сомнение. Причем довольно очевидно, такое различие между «в чем он» и «что в нем» не является различием между внутренним и внешним в человеке, равно как и между говоримым и подразумеваемым им. Скорее это особенность производимой философской работы, которую со времен Рене Декарта называют «сомнением». 12. Как же тогда производимая работа, которая по существу является процессом, может «занимать место», то есть иметь сугубо пространственную характеристику? Все просто: здесь речь идет о внутреннем пространстве мысли, которое виртуально по своей природе, поэтому вопрос «о месте» здесь решается предельно парадоксальным образом. В виртуальном пространстве возможно и не такое. 13. Человек здесь (в процессе сомнения как захвата места) как бы раздваивается, причем, скорее, в смысле Виктора Пелевина («внутренний прокурор», «внутренний адвокат» и прочее из «Чапаева и Пустоты»), чем в смысле Рене Декарта («нужно сомневаться во всем, кроме самого сомнения» из «Рассуждений о методе»). Но ведь это НАМЕРЕННОЕ, можно даже сказать методологическое раздваивание, а не философская шизофрения (примерами работы которой является тексты Жиля Делеза). 14. И все-таки вопрос остается: какое место пытается занять сомневающийся (в себе) человек? Хочет ли он избавиться от своего сомнения? Является ли его сомнение чем-то тягостным и обременительным для него или это «ход» в некой игре, специальная жертва, на которую он идет, чтобы достичь чего-то большего? Во всяком случае, ничто не мешает нам полагать сомнение в качестве некоторой «философской уловки», существующей со времен новоевропейской рационализации. Уловка для разума, чтобы его обмануть и «заставить работать». Пусть это будет предварительным допущением. 4 Можно еще продолжить вопрос: насколько «быть сомневающимся» является сущностным (онтико-онтологическим) состоянием или, возможно, экзистенциальным модусом существования человека познающего (говоря конкретнее, ученого)? Словосочетание «избавиться от сомнения» подразумевает ли некую отрешенность, когда нужно отказаться от какой-то важной части своего естества? Или «избавиться от сомнения» это как отогнать от себя надоедливую муху, которая мешает спокойно думать? Во всяком случае, сомнение не следует рассматривать как некую ущербность или недостаточность уверенности, нужно учитывать его продуктивность, производимую им философскую работу. Об этом же говорил и Декарт. 16. Возвращаясь к первому предложению: НАСКОЛЬКО ПРАВИЛО ПРАВИЛЬНО? (Это не вопрос о количестве). То есть, как мы проверяем ИСТИННОСТЬ правила (например, правила употребления того или иного слова)? Только через употребление этого правила, через его использование в языке. В этом ПОЛЬЗА правила, его сущностная и смысловая необходимость, конституирующая сила. В сущности, правило нужно только для самого себя, оно самореференциально (отсылает только к самому себе), можно сказать самодостаточно (не нуждается в дополнительном удостоверении или готово принять любое количество таких удостоверений). 17. Можно также сказать, что истинное правило проверяется через другие (родственные ему) правила и так получается замкнутый круг «правильного» ЯЗЫКА. Наверняка есть масса неправильных языков, но они, как правило, находятся вне сферы человеческой применимости, то есть в пространстве возможного (виртуального). «Правильность» языка в его обусловленности правилами, но язык существует раньше любого своего правила употребления, поскольку он присваивает эти правила одним только фактом собственного существования. 18. Язык в определенном смысле может быть каким угодно разным, и он все равно будет ПРАВИЛЬНЫМ, то есть таким, каким нужно. Язык сложная и самоорганизующаяся система, он готов «принять в себя» любое количество исключений, неправильных употреблений, которые, казалось бы, должны его разрушать, но на самом деле только укрепляют. В этом ОСОБАЯ ФУНКЦИЯ языка, которая оставалась до Витгенштейна без должного внимания. 19. Замкнутость языка в том, что он отсылает только к самому себе, он автореферентен (об этом писал Фердинанд де Соссюр). Однако язык не монолитен, его можно анализировать: раскладывать (буквально: расчленять) на составляющие, то есть на слова и правила их употребления (грамматика). 20. При этом не следует забывать, что анализ тоже будет производиться по определенным ПРАВИЛАМ, возможно, по тем же самым правилам. Правила состоят из слов, слова правильны и это второй круг авто-референциальности языка, его рефлексия, которая производится без участия философских приемов и методов в собственном смысле слова. 15. 5 Отсюда известный парадокс: правила «больше», чем сам язык. (Это не вопрос размера). Правила более значимы (для человека), чем весь язык, который сам вынужден им подчиняться. Правила – это МЕТАЯЗЫК, они находятся как бы «над» языком, это принципиально другой уровень. Применимо ли к языку понятие размера? Когда мы спрашиваем о том, «какой» язык, странно звучит ответ «язык большой». К языку применимы качественные характеристики, но не количественные. Дело не в неизмеримости языка, а в его несоизмеримости, ведь он равен только самому себе и ничему больше. 22. Тогда «истинность» правила или его ложность – это еще более высокий уровень абстракции языка. Это, можно сказать, «мета-уровень», но остается один «приземляющий» вопрос: ДЛЯ КОГО совершается поиск истины, для кого (или зачем) определяется истинность правила? Можно так ответить на этот вопрос: ДЛЯ ТОГО, кто этим правилом пользуется, для познающего человека (субъекта) в его повседневном существовании. 23. Причем не следует забывать, что определяется (устанавливается) не истинность правила как такового, а истинность его ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (или употребления). Это разные вещи. Разность между ними подобна разности между «истиной» и «правдой» в русском менталитете. Правда всегда живее, ближе к существу дела и, по сути, человечна (можно сказать, гуманна), а истина абстрактна, универсальна и, в сущности, избыточна по отношению к человеческому бытию. Само по себе правило может быть правильным (истинным), но это не будет выражать его сущности. Совсем другое дело употребление правила, оно правдоподобно (буквально подобно правде) и потому ПОЛЕЗНО для человека в его повседневности. 24. Вот почему для Витгенштейна так важно решить вопрос об «истинности» (по сути дела вопрос о «правдивости» как сущностном состоянии языка). И на уровне высказываний, и на уровне положения вещей и на уровне очевидностей или элементарных фактов. 25. Остается вопрос: является ли то, что важно для мысли Витгенштейна важным и для нас, спустя 55 лет после означенного текста? И если ответ положительный, то определяется ли данная важность сущностью до сих пор непроясненного положения вещей или чем-то иным? 26. Следует со всей очевидностью признать, что с ЯЗЫКОМ мы никогда не имеем дела непосредственно (без посредников в виде «правил»), язык вне нашей эмпирической досягаемости. Несмотря на то очевидное обстоятельство, что мы им все время пользуемся, используем для своих нужд (как научных, так и повседневных). Парадокс? Отнюдь, с учетом того обстоятельства, что сформировался целый мир (со своим особым языком) тех «вещей», которые ОПОСРЕДУЮТ наши отношения с языком. В том числе это все те же правила употребления языка, правила его использования, установление их истинности и так далее. 21. 6 Возможно, это тайный «умысел» языка – создать столь много своих посредников (реферативных структур), сколько возможно. Язык как хороший менеджер (управляющий в собственном смысле слова) никогда сам не делает свою работу, но он всегда может найти тех, кто эту работу с удовольствием сделает (разумеется, за хорошее вознаграждение). Язык предпочитает «оставаться в тени», в этом его тайный умысел и фантастическая, безудержная производительность. 28. Интересно, откуда возникают исключения из правил? Означает ли это, что правила исключительно произвольны (и потому производительны?) или наоборот, это подтверждает их необходимость и не случайность? Какова ЯЗЫКОВАЯ ФУНКЦИЯ этих исключений? Неужели только в том, чтобы «подтверждать правило», как говорится в известной фразе? 29. Возможно все дело в том, что правила всегда УСЛОВНЫ, то есть описывают ограниченный класс объектов, разнородность которых и вынуждает «делать исключения». Здесь существует другой, более фундаментальный вопрос: существует ли правило для исключений из правила? Существует ли такая практика (быть может, языковая игра), которая демонстрировала бы нам возможность упорядочения «исключений из правил» (понимаемых как особый класс объектов мышления)? 30. Однако вернемся еще раз к нашему первому предложению. Имеет ли смысл, целесообразность и вероятие такое правило, которое состоит из одних только собственных исключений? Насколько такая ситуация реальна (то, что она возможна как мыслительная модель не вызывает сомнений)? И КАК в таком случае следует учиться ТАКОМУ правилу? Учить его как не-употребление? Но ведь это невозможно, в смысле противоречит здравому смыслу и сложившемуся на сегодняшний день положению дел в языке. И все же, если рассматривать такое «не-употребление» как рабочую модель, можно ли лучше понять обычный язык и правила его употребления? 31. Вопрос, который непосредственно связан с предыдущим: можно ли разучиться пользоваться языком? Не забыть его, как происходит с теми, кто долгое время изолирован от человеческого общества, а именно РАЗУЧИТЬСЯ пользоваться. Можно предположить, что если мы научиться «разучиваться» языку, то лучше поймем, как можно ему научить и научиться. 32. Если «у каждого правила должно быть исключение», то и у каждого исключения (неправильного употребления, ошибки) должно быть свое правило. Можно заключить, что ОШИБКИ ПРАВИЛЬНЫ, в том смысле, что имеют свое правило. Процесс формирования правила неотделим от процесса формирования исключения из правила, это один и тот же языковой процесс. Следует предположить, что правило – это преодоление исключений (из себя же самого или из другого правила). То есть, изначально существует некий «хаос исключений» (неправильных способов употребления языка), который впоследствии оформляется (упорядочивается) в некие правила, каждое из 27. 7 которых присваивает себе некоторую часть этих исключений (делая их СВОИМИ исключениями, исключениями из себя). 33. Глубже продумывая данную ситуацию, следует предположить также, что этот отбор исключений производится тоже по некоторым правилам, упорядочивающая энергия которых никогда не становилась предметом философского или лингвистического анализа. Правила организуют изначальный «хаос языка» (ведь хаос первичнее любого порядка, об этом говорили еще древние греки), придают ему порядок и делают пригодным для употребления, правила дают возможность (правильного) использования языка. 34. Но ведь можно пользоваться языком НЕПРАВИЛЬНО, то есть, не обращая внимания на правила, попросту не зная их или сознательно нарушая. Кроме того, что это может быть частью «языковой игры» в культуре (как у ОБЭРИУтов или Стефана Малларме), в повседневной жизни обычно мы рискуем быть непонятыми со стороны других. Значит ли это, что правило – это ДОГОВОР (конвенция, соглашение) людей между собой о возможностях понимания. Но это странный договор, условия которого никому полностью не известны, но к которому все БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ присоединяются. 35. (Те немногие, которые не смогли присоединиться к системе правил под названием «правильный язык» никому неизвестны, потому что они никак не выражены в языке, они не просто не поняты, они вообще не озвучены на уровне языка, и это не их судьба, а судьба языка как такового, не сумевшего включить в свою систему правил эти «исключения»). Этому «присоединению» учат с самого детства – УЧАТ ЯЗЫКУ, по сути дела учат быть понятым и понимать, учат правильно пользоваться языком. 36. Действительно ли когда мы пользуемся языком неправильно, мы делаем это сознательно, намекая на некую «языковую игру»? Ведь нельзя ИЗНАЧАЛЬНО неправильно пользоваться языком, им можно либо вообще НИКАК не пользоваться, либо пользоваться, нарушая правила, которые знаешь или знаешь недостаточно хорошо. Впрочем «никак» не пользоваться языком, это то же самое, что пользоваться языком «кое-как» (в смысле бездумно, нерефлексивно или как это делают дети – по наитию, интуитивно или чисто ситуационно). Возможно, именно такое «кое-как» и обогащает язык, вскрывая его доселе дремавшие выразительные потенции. 37. Предварительный вывод: язык строится на правилах, причем таким образом, что сначала мы осваиваем правила, а уже потом сам язык (если словосочетание «осваивать язык» вообще имеет смысл). Однако правила должны быть однозначно и непротиворечиво сформулированы и здесь появляется некий «доязык», «пра-язык» как знаковая (сигнальная) система донесения до ребенка смысла произносимых слов и, одновременно, правил их употребления, что тоже важно. Здесь язык реализуется во всей своей выразительности и, в сущности, этот сигнальный «пра-язык» много точнее нашего обычного вербального (излишне описательного, рефлексивного) языка, поскольку он предельно 8 функционален, он целиком направлен на коммуникацию (обмен информацией) и потому успешен (в прагматичном смысле этого слова). 38. Но для нас этот «пра-язык» не дан в качестве самостоятельной системы, он вторичен, поскольку реконструируется нами в ходе возвращения к обычному (повседневному) языку. У этого языка даже «правила употребления» совсем другие, они не избыточны и не дублируют систему языка, но носят сугубо грамматический, можно даже сказать пунктуационный характер. Это язык как пробел, пауза, задержка в восприятии и понимании. Когда мы в повседневной речи помогаем себе мимикой и жестами, чтобы ТОЧНЕЕ донести до собеседника произносимое, мы возвращаемся к этому сигнальному «пра-языку». Язык как уточнение, как тонкая настройка восприятия, как довербальный (интуитивный?) уровень понимания, или даже «предпонимания» во всей его феноменальности. 39. Однако откуда мы знаем этот «пра-язык»? Трудно допустить, что это врожденное свойство человека, его биологическая особенность, передающаяся вместе с генетическим кодом. Впрочем, в качестве допущения это вполне сгодится, иначе придется признать телепатию между людьми или еще чтонибудь в том же роде. Однако остается другой большой вопрос: является ли этот «пра-язык» языком в собственном смысле слова (наподобие вопроса о том, является ли яйцо курицей в собственном смысле слова). 40. Еще один важный момент: вместе с языком и правилами его употребления нас с раннего детства УЧАТ УЧИТЬСЯ, без этого вся «система» (языка, образования, культуры, общества) «развалилась» бы на незначительные составляющие. Но эта система «учить учиться» не рефлексивна по определению и потому не может являться частью педагогики в высшем смысле этого слова. Поэтому «учить учиться» не более чем требование, предъявляемое к изучению языка со стороны «системы». ВТОРОЙ КРУГ ЧТЕНИЯ 41. «Отношение истины» - это отношение формы (высказывания) или (его) содержания? Где находится истинность: внутри предложения или это отношение между предложениями, то есть отношение СООТВЕТСТВИЯ данного предложения некоторому «положению вещей» (причем неважно, как данное положение вещей проявляется: в самих словах или в вещах). 42. Вопрос заключается в следующем: является ли «истина» СВОЙСТВОМ предложения или высказывания? Если является, то, какого рода свойством – приобретенным (как привычки и склонности у человека) или врожденным, изначальным (как конечности человека, хотя и здесь бывают исключения из правила в виде мутаций)? Или следует подойти более эклектично и предположить существование 2 видов истины: внутренней и внешней (по отношению к чему?). Наподобие отношений между текстом, контекстом и подтекстом (каждый из которых имеет свою «истину», то есть свой план выражения и план содержания). 9 Можно ли проверить истинность высказывания, если оно никак не соотносится с другими высказываниями, является своеобразной «вещью-всебе», замкнутой как монада? И возможно ли такое «замыкание» в рамках языковых отношений, пронизывающих любую реальность и даже заново ее создающих? Думается, многое будет зависеть от того, что мы намереваемся делать с этой ИСТИННОСТЬЮ, как мы ее хотим использовать (к вопросу об «инструментальном» характере истины). Скорее всего, истина – это не отношение, а способ действия, отсюда и ее инструментальность, пригодность и удобность для использования. В противном случае мы будем вынуждены признать самодостаточность истины и ее безотносительность к совокупности высказываний образующих язык. 44. Если предложение или фраза будут замкнуты ТОЛЬКО на себе (при предположении, что такое возможно), то их никто не сможет понять, они потеряют всякий СМЫСЛ. (Смысл в данном случае – это не внутреннее содержание, целостность или значимость, а отношение с другими высказываниями, то есть СМЫСЛ КАК ИСТИННОСТЬ или контекст существования фразы). Следовательно, будут бессмысленны и даже нелепы разговоры об истинности или ложности данной фразы или предложения. Это еще раз подтверждает то, что «истинность» - это, прежде всего отношение, более того – СВОЙСТВО относиться, взаимодействовать с чем-либо. «Сами-по-себе» предложения ни истинны, ни ложны, они попросту нейтральны (не об этом ли говорил Жиль Делез, описывая смысл как «нейтральное событие» на поверхности языкового выражения?). 45. «Отношение смысла» (быть понятым и быть понятным, то есть адекватным некой языковой или социальной среде) и «отношение истины» (как взаимодействие высказываний в рамках текста) неразрывно связаны между собой. Связь эта подобна связи между правилом и его исключением, она казалось бы, неустойчива, но одно здесь подтверждает другое, причем единственно возможным способом. Если предложение имеет смысл (вступает в «отношения смысла»), то его можно проверить на истинность. Если предложение вступает в «отношения истины», то оно не бессмысленно. Однако природа самого СМЫСЛА, равно как и самой ИСТИНЫ, здесь не может быть раскрыта, даже в рамках конкретного предложения, высказывания или фразы. 46. Это подобно тому, как невозможно говорить об истинности или ложности отдельно взятого СЛОВА. Только та структура, в которой есть отношение между элементами (например, предложение) может вступать в отношения смысла или отношения истины. Сами по себе слова нейтральны, в том смысле, что бессмысленны. Возможность «проверки на истинность» (по сути, возможность выражения в «отношениях истины») делает слова осмысленными (наделенными смыслами). Но ведь смысл нужно еще «открыть» в них, обнаружить его присутствие в высказывании. Конечно, вовсе не обязательно, что истинное предложение имеет ЗНАЧЕНИЕ (понимаемое как его значимость), но совершенно 43. 10 обязательно оно имеет СМЫСЛ (как устойчивое отношение между элементами языка). Значение здесь представляется слишком субъективной категорией для того, чтобы использовать его для описания отношений внутри предложения или между ними. «Значение» имеет смысл только для носителя языка, субъекта. 47. Следует более внимательно относиться к употреблению таких слов как «смысл», «значение», «существенность», «истинность», «важность» и другие при определении «отношения предложения» (выражающихся внутри или вовне определенного контекста). Почему? Потому что не всегда видно, когда они «несут смысл», а когда являются фигурой речи, риторической и потому отвлекающей по своей сути. Кстати, запутанность речи следствие злоупотребления риторикой, ведь язык ИЗНАЧАЛЬНО достаточно прост. Тот язык, которому нас учат с самого детства, однако потом он «обрастает» риторикой и это прямое следствие образования. Вот в чем порочность «системы», впрочем, это же ее неотъемлемое свойство. 48. Итак, в чем же изначальная ПРОСТОТА ЯЗЫКА? В его доступности: он принципиально открыт для всех, это предельно «открытая система». Но обратной стороной (своеобразным «защитным механизмом») языка является его «правильность», он сопротивляется искажениям и очень медленно меняется. Он предельно традиционен, но традиция только так и может передаваться, через «застывшие формы» и многочисленные ПРАВИЛА, законы, запреты и табу. Правило должно звучать ПРОСТО И ПОНЯТНО, чтобы не было соблазна его интерпретировать (по сути своей – искажать). Правило должно быть однозначным, то есть без множества переменных или регистров (значения). «Соблазн интерпретации» (сомнение ученика в словах учителя) это и есть ПОРОЧНОСТЬ как свойство любой системы (особенно системы образования). 49. Как происходит приближение к знанию (собственно процесс познания)? Через получение уверенности в некотором положении вещей. Можно ли в таком случае считать такие модусы «мнений» как «догадываться», «предполагать», «вычислить» и прочие – способом (или этапами) приближения к знанию? Это наподобие такой ситуации, когда мы знаем какую-то вещь наполовину или на четверть. Есть ли исчислимая МЕРА знания (в количественном отношении)? Как измерить его глубину (понимаемую как качественную характеристику) и, конечно, искомую достоверность (отношение истины)? 50. Если противопоставляют веру и знание, то почему мы продолжаем использовать пространственные метафоры (например, приближения, удаления, проникновения и прочее) при описании «состояния знания» или «состояния веры»? В случае с верой имеют место такие метафоры как доверие, преддверие, сверять, проверять и так далее. По сути, вера и знание в своих топологических, пространственных «состояниях» ничем друг от друга не отличаются. Это лишь разные способы «маркировать» пространство мысли и языка. 51. Различие между верой и знанием является, по большому счету, чисто РИТОРИЧЕСКИМ. Часто возникает ситуация, когда мы пытаемся ОПИСАТЬ эти 11 состояния или, что еще сложнее, описать свое отношение к ним, часто даже свое ПОЛОЖЕНИЕ (и здесь опять пространственная «ловушка» метафор), понимаемое как «положение вещей» и наталкиваемся на «нерасчерченное» (немаркированное, неозначенное) пространство мысли и языка. Тогда и говорящий (познающий) субъект становится не более чем «вещью среди других вещей», условия его бытия остаются под вопросом. 52. Обычно мы описываем «опыт веры», акцентируя внимание только на содержание данного процесса, говорить же о ФОРМЕ веры очень трудно в силу отсутствия такой речевой практики. В случае же знания (здесь «гносеология» обеспечивает нам такую практику) мы легко можем говорить о форме, в какой мы то или иное знание получаем, имеем, храним и передаем. Содержание же знания если и имеет значение, то не в вопросе об истинности или достоверности последнего. 53. Еще раз повторимся: «вопрос об истине» – это вопрос формы, а не содержания. Именно поэтому невозможно говорить об истинности или ложности ВЕРЫ, «опыта веры» или «состояния веры». В случае с верой мы можем говорить лишь о ее отношении и соотношении с КАНОНОМ. Канон в данном случае выступает тем ПРАВИЛОМ, следование которому делает нас понятным для другого, но вполне допускает и многочисленные исключения (ересь), придающие «твердость» этому канону. (Интересным представляется изучение процессов «канонизации», как они происходят в пространстве веры и в пространстве знания). 54. Впрочем, в вопросе об истине речь идет не столько о форме (в традиционном смысле слова), сколько об отношении. Какая разница, в какой форме представлен канон, важно отношение к нему («реальное» и то, которое он требует, то есть деонтологическое). 55. Канонический «зазор» получается как раз между тем, что есть реально (например, некое отношение, еретичность или ортодоксальность которого еще нужно ДОКАЗАТЬ) и тем, что должно быть (собственно «требование канона»). Но между этими двумя отношениями располагается большая область виртуального – того, что может быть (а может и не быть, при определенных обстоятельствах). Таким образом, налицо следующая схема: реальное – воображаемое – идеальное – виртуальное (пространство?). Можно ли считать данное пространство пространством мысли или пространством смысла, его своеобразной «картой»? Реальное Воображаемое Виртуальное Идеальное 12 Реальное не может непосредственно взаимодействовать с идеальным (со «сферой должного», наполненного идеями, идеалами, ценностями и законами, которые и составляют канон). Оно соприкасается либо через сферу воображаемого (когда человек «идеализирует» некое реальное положение вещей, или наоборот, пытается «исполнить» идеальное, воплотить его в реальности: соблюсти канон), либо через область виртуального, понимаемого как сфера возможного и многовариантного развития ситуации. 57. ОТНОШЕНИЕ между сферами реальное – воображаемое – идеальное – виртуальное можно представить также в следующей схеме: 56. Конкретное Частное (уникальное) Общее (универсальное) Абстрактное При всей условности данного схематизма важно учитывать его рабочий характер. Данная схема возникла при рассмотрении вопроса о вере и знании, однако она найдет применение в вопросах об отношениях между истиной и смыслом, а также формой и содержанием того или иного языкового выражения. 58. Можно ли считать «пространство мысли» ВНУТРЕННИМ пространством? Тогда внутренним по отношению к чему оно будет? Что является ВНЕШНИМ для мысли – мир, другой, некая объектность (вещественность) и объективность (достоверность)? Тогда мы спускаемся до традиционных субъект-объектных отношений, характерных для классической метафизической двойственности, которые не описывают существо дела, ведь все гораздо тоньше и сложнее, чем кажется. 59. В чем сложность работы с мыслью? В том, что она является чем-то сугубо ВНУТРЕННИМ? Но ведь это только очередная пространственная метафора, необходимая только лишь для очередной «языковой игры». Совершенно неважно НАСКОЛЬКО мысль является внутренней или внешней по отношению к чему бы то ни было (например, своему языковому выражению), гораздо важнее установить ее ХАРАКТЕР, ее функциональность и ее операциональную составляющую. 60. Будем различать «работу мысли» и работу с мыслью, в качестве философской аналитики и рефлексии. Избегая различных парадоксов «сознания» и «самосознания», отстраняясь от многочисленных метафор и псевдоописаний, мы вынуждены констатировать ситуацию принципиальной НЕВЫРАЗИМОСТИ в случае «работы мысли». Имеется в виду языковая невыразимость, сущностное сопротивление языка. Любая речь о мысли с неизбежностью может быть помыслена заново, и здесь мы в очередной раз 13 сталкиваемся с неким подобием «герменевтического круга», разорвать который мы не имеем возможности (собственно не имеем языковых ресурсов для такого «жеста»). 61. Однако вполне очевидно, что должен быть выход из этой ситуации языковой невыразимости мысли, ее невидимой, но очевидной работы. Одним из возможных «рецептов» является попытка помыслить (и выразить в языке) НЕМЫСЛИМОЕ (невыразимое, абсурдное, парадоксальное) как таковое. В этом случае мы увидим как бы обратную сторону мысли, то есть то, чем она НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Это путь отрицательного (апофатического) описания мысли. 62. Преодолевая парадоксальность данной ситуации (попытка выразить невыразимое, помыслить немыслимое) мы, одновременно, преодолеваем и тот «языковой барьер», который отделяет нас от реальности вещей, от истинного «положения вещей». Языковой барьер метафор и риторических фигур речи, превращающих мысль в подобие объекта и тем самым «подменяющих понятия». Но и этого бывает не всегда достаточно, точнее совсем недостаточно для ПОНИМАНИЯ работы мысли, для точного и адекватного описания процесса мышления. ТРЕТИЙ КРУГ ЧТЕНИЯ 63. Есть особый и очень важный тип языковой игры в пространстве научного и философского мышления, он называется «я знаю это». «Человек часто бывает околдован словом. Например, словом «знать»» (435). Работа Л. Витгенштейна «О достоверности» посвящена, по большому счету, именно этому вопросу, поскольку для любого исследования жизненно важно установить собственные основания. ««Я знаю это» часто означает: у меня есть бесспорные основания для моего высказывания. Так что если другому человеку известна эта языковая игра, то он признает, что я это знаю» (18). Уверенность в чем-либо, равно как и сомнение (в качестве источника научного познания со времен Рене Декарта) являются границами продуктивного пространства размышлений о научном познании как таковом. 64. Проговаривая («промысливая», «вопрошая», как сказал бы Хайдеггер) пространство данных размышлений мы не занимаемся наукой в собственном смысле слова, но делаем гораздо более важную работу – обговариваем «правила игры» для любого возможного научного процесса, могущего быть помысленным в качестве такового. «Правила игры» также означают, что нужно описать все возможные «исключения из правила», особенно если они подтверждают истинность самого правила. 65. «…сомнение в существовании имеет смысл лишь в той или иной языковой игре» (24), данное положение имеет решающее значение в вопросе об ИСТОКАХ научного мышления. Со всей очевидностью представляется, что наука в основных формах своей деятельности является семейством языковых игр, каждая из которых обладает своими особыми правилами (предположительно 14 общими с другими представителями семейства, но и определенным образом отличающимися). Прежде чем начнется «большая игра» (научное исследование как таковое), необходимо обратиться к истокам научного мышления и задаться фундаментальным вопросом: будет ли то, чем я собираюсь заняться называться наукой? (Как вариант: быть может оно будет только НАЗЫВАТЬСЯ наукой, не будучи ею по существу). Если нет, то чем же я собираюсь заняться на самом деле? 66. Возможно, выходом из данной ситуации (неясности истоков научного мышления) является простой процесс тренировки или «упражнения в науке». «Упражнение в использовании правила показывает также, в чем состоит та или иная ошибка в его применении» (29). То есть, мы будем знать, занимаемся ли мы наукой или нет только после того, как позанимаемся ею достаточно долго. Когда будет накоплен эмпирический материал наших «ошибок в действии» или когда мы в достаточной мере натренируемся (поупражняемся) в данном виде деятельности. Пределом таких тренировок и упражнений будет УВЕРЕННОСТЬ в том, что мы занимаемся наукой, а не ее подобием или симуляцией. Однако не следует забывать, что такая уверенность дается далеко не сразу. 67. Что такое (научное) исследование в своей сущности? Это «подрыв основания», понимаемого как нечто неизменное и постоянное. Исследование – это движение по территории (буквально: изучение следов), это процесс детерриториализации (терминология Ж. Делеза и Ф. Гваттари), то есть превращение пространственных метафор в метафоры языка и мышления. Исследование – это всегда «работа с пространством», особая практика освоения некоторой местности и выявление ее «уязвимых точек» (37). Для чего это делается? Для того чтобы поистине «владеть» данной территорией. 68. Освоение территории науки (не случайно ведь говорят также о «философской земле») – это поиск не только «уязвимых точек», точек сомнения, ошибок и недостоверности (для захвата данной территории), но и «точек достоверности», помогающих ПОНЯТЬ суть происходящих процессов мышления. «…достоверность есть просто некая сконструированная точка, к которой прочие более или менее приближаются» (56), Витгенштейн сомневается в данном положении вещей, однако оно достаточно продуктивно для нашего вопроса. Это очень важная и интересная языковая игра – приближение к «точке достоверности», поиск преимущественных пространственных позиций, дающих уверенность в собственном положении. Что есть научная деятельность, как не поиск точек достоверности и укрепление собственного «научного статуса», понимаемого как незыблемость позиции и признаваемый авторитет? 69. Для научного исследования решающее значение имеет ВОПРОС О ЯЗЫКЕ, то есть статус используемых научных понятий. Поскольку «…значение слова есть способ его употребления» (61), то научная деятельность есть по существу деятельность языковая, деятельность по «упражнению в языке». Часто 15 результатом такого упражнения является то или иное научное исследование, понимаемое как более или менее распространенная в определенных кругах «языковая игра». 70. «Когда изменяются языковые игры, изменяются и понятия, а вместе с ними и значения слов» (65). Можно сказать, что научная деятельность направлена на изменение наших представлений об окружающем мире, но данное изменение происходит не непосредственно, а опосредовано. Посредником в данном процессе является (научный) ЯЗЫК, понимаемый как совокупность языковых игр, а также как совокупность понятий, каждое из которых имеет свое значение. Меняя значение понятий, ученые меняют и смысл языковых игр, тем самым опосредовано преобразуя окружающую действительность. В этом вопросе ученые (независимо от специальности или сферы научных интересов) ничем не отличаются от философов. Разница между первыми и вторыми в использовании специфических «языковых игр» и не более того. 71. Ученые делают утверждения о действительности, но с разной СТЕПЕНЬЮ УВЕРЕННОСТИ. «Как проявляется степень уверенности? Каковы ее последствия?» (66). Эти вопросы имеют не эпистемологический или логический характер, но исключительно онтологический. Степень уверенности в (научных) высказываниях о действительности соразмерна степени онтологической уверенности ученого в самом себе. Витгенштейн часто используем в этом вопросе известную фразу «Я уверен в этом так же, как в том, что я Людвиг Витгенштейн». Но достаточная ли это СТЕПЕНЬ уверенности? Можно ли предложить в этом вопросе какую-либо разумную и очевидную градацию степеней уверенности ученных в правоте собственных убеждений? 72. Можно ли в данном случае говорить о различных степенях «приближения к истине» (коль скоро целью научного познания является достижение истины)? Или уместным будет вспомнить мысль Фридриха Ницше, согласно которой «…истины – это неопровержимые заблуждения человечества»? Так или иначе, здесь большая онтологическая проблема уверенности в собственной правоте, которая возможна только тогда, когда человек (в данном случае ученый) «твердо стоит на ногах». За метафоричностью данного утверждения в действительности стоит онтологическая проблема «укорененности» нашего знания (независимо от степени его научности) в реальной действительности. Если такой укорененности нет, то о какой достоверности вообще может идти речь? 73. Можно ли утверждение «я знаю» (ведь именно это утверждение Дж. Э. Мура не дает покоя Витгенштейну) заменить на утверждение «я непоколебимо убежден» (86)? Такая замена возможна только в контексте определенных языковых игр, для которых характерна личная убежденность (онтологическая уверенность) исследователя в правильности производимого им исследования. Такая убежденность, быть может, приемлема для некоторого вида социальногуманитарных исследований, но вряд ли применима для большинства 16 исследований в области естественных или технических наук. Проблема здесь в языковой (смысловой) близости выражения «я знаю» повседневному языковому употреблению, но устранить такого рода «близость» имеющимися у нас в распоряжении средствами не представляется возможным. 74. Пограничным состоянием «непоколебимой убежденности» является множественность «состояний сомнения», которые сопровождают любое серьезное научное исследование. Сомнение с неизбежностью присутствует в любом исследовании в качестве своеобразного «верстового столба», отсчитывающего и маркирующего пространство научного поиска. Витгенштейн постоянно пытается найти отчетливые ориентиры научного исследования, продуктивно использующие сомнение и в то же время достоверные по своей сути, насколько это возможно. «Нельзя ли утвердительное предложение, способное функционировать в качестве гипотезы, использовать и как принцип исследования и действия? То есть нельзя ли просто отвести от него сомнение, не прибегая к какому-то явно сформулированному правилу? Принять его как нечто само собой разумеющееся, что никогда не ставилось под сомнение, возможно, даже никогда явно и не выражалось» (87). «Можно, например, сориентировать все наши изыскания так, чтобы с помощью определенных явно сформулированных предложений устранять всякие сомнения. Они бы оказались на обочине пути, по которому движется исследование» (88). 75. Вопрос, который рискует остаться «на полях» (ad marginem) нашего исследования: можно ли считать «состояние сомнения» признаком маргинальности проводимого исследования? «Я философствую здесь, как старая дама, которая то и дело что-то теряет и вынуждена искать: то очки, то связку ключей» (532). Насколько «маргинален» в этом вопросе сам Витгенштейн, который постоянно как бы ходит «вокруг да около», кружится на месте и с настойчивостью одержимца возвращается к одним и тем же сюжетам? Помогает ли ему сомнение в продвижении вперед? Или даже «…русло, по которому текут мысли, может смещаться» (97)? 76. Сомнение имеет свои разумные пределы и это прекрасно понимали все философы, от Пиррона до Декарта. «Вопрос о сомнении», возможно, ключевой вопрос европейского рационализма и он до сих пор остается открытым. Современная лингвистическая философия (и Витгенштейн со своей концепцией «языковых игр» здесь более чем уместен) преобразовала этот вопрос в «игру в сомнение». «Попытавшийся усомниться во всем не дошел бы до сомнения в чем-то. Игра в сомнение уже предполагает уверенность» (115). Уверенность не исключает сомнение, наоборот, дает возможность ему состояться как таковому, игра должна продолжаться, науку не остановить, возможности разума безграничны. 77. Какова же продуктивная функция сомнения в процессе познания? Сомнение необходимо для того, чтобы «расчертить» территорию мысли, обозначив пригодные для науки участки земли и маркируя остальные как «сомнительные» 17 или непригодные (болотистые). Однако для такого продуктивного сомнения необходимо «нечто несомненное», для сомнения необходимо достаточное основание, опираясь на которое оно поистине «приобретет силу». Можно еще сказать, что сомнение – это процесс «разрыхления земли», его нужно регулярно совершать для того, чтобы «дерево знания» лучше росло. 78. Что же может являться основанием (твердой почвой) для сомнения? Наука скажет нам, что таким основанием (хочется думать не единственным) является опыт или эмпирически достоверный факт. Однако так ли это на самом деле? «Если опыт и есть основание (а не только причина) того, что мы судим вот так, то все же у нас нет основания считать его основанием» (130). Эмпиричность, быть может, оправдывает некоторые из суждений естественнонаучного толка, но она их никоим образом не объясняет и потому не делает наше знание достоверным. Дело даже не в недостатке убежденности, скорее речь идет о том, что наша «игра в суждения» подчас выходит за пределы научного знания и значит, требует себе иной аргументации. Возможно также, что это аргументация за пределами логики, как бы парадоксально это не звучало. 79. «Нет, опыт не есть основание для нашей игры в суждения. Не является он и ее выдающимся результатом» (131). Опыт не основание и даже не результат «игры в суждения», почему же он приобрел в науке такое большое значение? Возможно, ответом на этот вопрос будет наше радикальное сомнение в ценности научного знания как такового, но не в антисциентистском контексте, а в смысле философском и лингвистическом. 80. Повторяясь (ценность повторов здесь все более возрастает) можно сказать, что ценность научного знания определяется не опытными данными, полученными эмпирическим путем, а корректностью и адекватностью использования научной терминологии и языка в целом. Не только философские, но и многие научные проблемы являются таковыми только потому, что ученые не могут договориться о правильном (однозначном и непротиворечивом) использовании распространенных понятий. Часто это невозможно по объективным причинам, но подчас это связано все с той же онтологической недостаточностью (безосновательностью) конкретного ученого, его непродуктивным сомнением в истоках собственного бытия. И в этом смысле тезис неопозитивизма о том, что нужно заниматься проблемами научного (в том числе философского) ЯЗЫКА по преимуществу, не только имеет глубокий смысл, но и актуален как никогда. 81. Можно ли представить себе научное исследование в качестве своеобразной «игры в суждения», понимаемой как разновидность языковой игры? Если это так, то ценность суждения будет определяться в этой игре либо внутренней убежденностью говорящего (онтологическая устойчивость говорящего), либо согласованностью (когерентностью) суждений в некоторой «системе знаний». Вопрос о достоверности суждений отходит здесь на второй план, поскольку применим только к некоторому количеству суждений, наша же задача найти 18 устойчивые основания если не для всех суждений, то хотя бы для их статистического большинства (допуская при этом, что может быть какое угодно большое число исключений из этого «правильного» большинства). 82. «Мои суждения уже сами обрисовывают способ, каким я составляю суждение, изображают характер суждения» (149). Суждения нужно воспринимать как элемент научного знания, ценность которого определяется его «включенностью» в общую систему понятий. Но не это самое важное в «игре суждений», гораздо важнее то обстоятельство, что суждения «личностно ориентированы», то есть включают самого исследователя в широкий научный контекст с одной стороны и придают ему онтологическую достоверность с другой. Можно сказать, что «игра в суждения» - это поиск доверия, описание особого пространства знания, которое еще не стало таковым («уровень дознания»). Однако Витгенштейн настаивает на том, что любое доверие должно начинаться с самого доверяющего и это обратная сторона сомнения и неотъемлемая черта суждения как такового. «Если я здесь не доверяю себе самому, то почему я должен доверять суждению кого-то другого? К месту ли здесь всякие «почему»? Разве где-то в начале не должно сработать доверие? То есть где-то в начале должно состояться мое «не сомневаюсь», и это не опрометчивость, которую можно себе позволить, а неотъемлемая черта суждения» (150). 83. Что же является источником так понимаемого доверия? Витгенштейн считает, что источником доверия является ВЕРА, вера как сущностная черта мыслящих людей, обретающих достоверность собственного онтологического статуса. Даже процесс научного познания (правильно было бы сказать, ОСОБЕННО процесс научного познания) опирается на веру как необходимое условие уверенности человека в правдивости (достоверности) получаемого знания. «Я верю в то, что люди определенным образом мне передают. Так, я верю в географические, химические, исторические факты и т. д. Таким образом Я ИЗУЧАЮ науки. Ведь изучать в основе своей означает верить» (170). 84. Ценность так понимаемой веры состоит в том, что «за ней» ничего нет, поэтому бессмысленно искать источники или основания для доверия вере. Когда кто-то искренне убежден в своей правоте, то он не просто нечто ЗНАЕТ, он ВЕРИТ в то, что так оно и есть. Такого рода вера, согласно Витгенштейну, и есть источник всякого достоверного научного исследования. Но такая вера есть одновременно и нечто противоположное науке как таковой. Отсюда известный вопрос об иррационализме научного познания и религиозных корнях научной картины мира. 85. «Словом «достоверный» мы выражаем полную убежденность, отсутствие всяких сомнений и тем самым стремимся убедить других. Это СУБЪЕКТИВНАЯ достоверность. А когда можно говорить об объективной достоверности? – Когда ошибка невозможна. Но что это за невозможность? Не должна ли ошибка быть ЛОГИЧЕСКИ исключена?» (194). И возможно ли такую ошибку исключить 19 логически, то есть буквально «запретить ей» появляться в пространстве нашего мышления? Думается, что это невозможно, как невозможно «запретить себе» сомневаться в чем-либо. «Запрет сомнения» как определенная языковая игра характерен для догматического религиозного мышления, но он неприемлем в случае научного исследования. 86. Сомнение, будучи краеугольным камнем научного исследования, имеет свои границы или «пределы распространения». «Сомнение имеет определенные характерные проявления, но они присущи ему только при соответствующих обстоятельствах» (255). Это означает, что мы должны постоянно задаваться вопросом о пределах сомнения, по сути это вопрос также о несомненном, в чем мы абсолютно уверены. 87. Вопрос о границах сомнения – это также вопрос о том, как долго может длиться научная языковая игра, насколько быстро меняются или остаются неизменными ее правила. Вполне очевидным представляется тот факт, что «…языковая игра изменяется со временем» (256). Каковы причины этого изменения? 88. Граница между доверием и сомнением (безотносительно к характеру языковой игры) подобна границе между «я знаю» и «я верю». В повседневном употреблении этих выражений граница почти неощутима, подвижна и даже размыта. Парадоксально, что в научных языковых играх также наблюдается подобная подвижность и размытость, между тем наука должна четко проводить границу между ними, ведь вопрос о статусе научного знания. Если ученому достаточно ВЕРИТЬ в собственные высказывания, быть убежденным в собственной правоте, то можно ли это называть НАУКОЙ в собственном смысле слова? 89. Есть еще один парадоксальный момент, возникающий в ситуации, когда ктото верит в то, что он знает (289). Является ли в данном случае источником его веры личная убежденность или он вступает в определенные языковые игры, где ТАК ПРИНЯТО говорить? Как иначе можно ДОКАЗАТЬ факт своей убежденности, основание собственной веры? Возможно, только через более широкий контекст собственного высказывания. Собственно говоря, любая языковая игра и есть попытка создать более широкий контекст (вывести высказывание в трансдискурсивное пространство). Сомнение становится сомнением только тогда, когда есть множество высказываний, которые являются несомненными. В противном случае «игра не стоит свеч», то есть у нас не будет разумных критериев разграничения достоверного и сомнительного. 90. Трансдискурсивное пространство мышления возникает по той простой причине, что мы объединены в сообщество и разделяем общую культуру и язык. «Если мы вполне уверены в чем-то, это означает не только то, что в этом уверен каждый порознь, но и то, что мы принадлежим к сообществу, объединенному наукой и воспитанием» (298). Данное обстоятельство, впрочем, накладывает и определенные обязательства на того, кто совершает «ответственные 20 высказывания» (это прерогатива ученого), он с неизбежностью включен в языковые игры, которые осуществляются по строгим правилам. 91. Уверенность, с которой человек говорит «я знаю» (особенно, если этот человек ученый или философ) на самом деле означает его «готовность верить в определенные вещи» (330). Этим словосочетанием он как бы ограничивает пространство «ответственных высказываний», которые вынужден совершать в силу определенных языковых игр, в которые профессионально вовлечен. 92. Витгенштейн приводит удачную метафору того, как происходит совмещение (совместное использование) высказываний, в которых мы полностью уверены и тех, в которых сомневаемся. Это метафора дверных петель. «…Есть ВОПРОСЫ, которые мы ставим, и наши сомнения зиждутся на том, что для определенных предложений сомнение исключено, что они словно петли, на которых держится движение остальных предложений» (341). 93. Важно, что это именно ВОПРОСЫ. В пространстве научных исследований существует масса языковых средств, чтобы выразить сомнение, одни из них более распространены, другие менее употребительны. Наиболее универсальным средством является вопрос, форма вопроса. Это особая форма существования и производства научного знания, берущая свои истоки еще в майевтике Сократа. 94. Подытоживая свои вопросы о природе сомнения, Витгенштейн признается, что его задача в этом вопросе заключалась не только в том, чтобы обозначить границы сомнения, определить его пределы, но также дать характеристику его возможности в качестве методологического принципа научного исследования. «Что мне нужно показать, так это то, что сомнение не является необходимым, даже если оно возможно. Что возможность языковой игры не зависит от того, подвергается ли сомнению все, в чем только можно сомневаться» (392). 95. Философское сомнение и сомнение в повседневном словоупотреблении не только выполняют различную функцию, но также являются вещами разной природы. Сомнение в повседневности как бы случайно, оно возможно, но не обязательно (не производится с необходимостью). Сомнение же, имеющее философскую природу, фундаментально и онтологически «ставит под вопрос» существо сомневающегося человека. Это сомнение «по большому счету», имеющее вполне определенную научную и мировоззренческую ценность. Сомнение же в повседневности не более чем языковая игра, которая также важна, но не имеет особой культурной ценности. 96. ««Я не могу в этом ошибаться» - обычное предложение, которое служит тому, чтобы придать некоторому высказыванию характер достоверного. И оно оправданно лишь в своем повседневном употреблении» (638). Сомнение, равно как и достоверность в пространстве повседневного мышления постоянно вводит в заблуждение именно «мягкостью», размытостью своих границ. Когда же мы переносим эту терминологию в пространство философии и науки, то испытываем большие затруднения, преодолеть которые не представляется 21 возможным. Именно в силу ЛИЧНОЙ уверенности ученого или философа в правоте собственных слов. 97. Другая важная задача, которую ставил перед собой Витгенштейн в работе «О достоверности», заключалась в том, чтобы понять, как «сомнение вводится в языковую игру» (458). Ведь сомневаясь, исходят из определенных оснований. Любое знание нуждается в основании, но основание не всегда очевидно, поэтому его нужно как бы «нащупывать», искать на ощупь, медленно, неторопливо и основательно. Часто такой поиск напоминает «хождение по кругу», когда мы вынуждены заново обращаться к одним и тем же вещам, сюжетам, языковым выражениям и заново их проговаривать до полной очевидности или абсурдности. 98. Когда найдено основание (в чем бы оно не состояло), то можно сказать, что языковая игра имеет смысл. Задача Витгенштейна заключалась также в том, чтобы описать правила «игры в сомнение», в качестве ключевой игры для научного исследования. Поскольку сомнение (как тип языковой игры) используется не только в науке, но также в философии и, особенно, в повседневном словоупотреблении, то задача заметно осложняется. Впрочем, это неизбежные сложности, избавиться от которых не представляется возможным. На что можно рассчитывать и к чему стремиться, так это на корректное и адекватное использование языка. Попросту говоря, чтобы данная языковая игра велась «по правилам». Думается, что эта задача была выполнена Витгенштейном если не безупречно, то с приемлемым уровнем адекватности. 99. Хочется также надеяться, что наше небольшое исследование («вступание в след» Витгенштейна) было также достаточно корректным и не разрушило общего «узора следов». ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ КРУГ ЧТЕНИЯ Работа Людвига Витгенштейна «О достоверности» без преувеличения является его «духовным завещанием». По-видимому, это последний текст, над которым трудился философ накануне своей смерти. Дата смерти Витгенштейна 28 апреля 1951 года, последняя же запись в работе «О достоверности» датируется 27.04.51. Этот небольшой текст является также своеобразным итогом размышлений автора «Логико-философского трактата» над проблемами, которые волновали его всю жизнь. Прежде всего, это проблема познаваемости окружающего мира, особенно в языковом контексте, ведь «границы моего языка – это границы моего мира». Достоверность нашего познания, считает Витгенштейн, непосредственно связана с корректностью и правильностью употребления нами терминов и понятий научного языка. Если в повседневном разговоре мы можем пользоваться языком случайным образом, ошибаться или «дурачиться», тем самым, упражняясь в «языковых играх» определенного рода, то в пространстве научного исследования такие игры неминуемо приведут к путанице и неразберихе. Весь пафос исследований Витгенштейна (можно 22 сказать его личных «языковых игр») направлен на устранение «неправильных» языковых выражений, которые превалируют в научном и философском дискурсе и заметно осложняют процесс познания. Девиз философии Витгенштейна заключается в известном высказывании: «Все, что может быть выражено, должно быть выражено ясно, о чем же невозможно говорить, о том следует молчать». Насколько он оказался успешным в данном вопросе решать будущим лингвистическим философам, для которых творчество Витгенштейна может послужить «путеводной нитью» в собственных исследованиях. Хочется надеяться, что и мы своим небольшим исследованием внесли посильную лепту в данный непростой процесс «приближения к истине». ПРИМЕЧАНИЕ. Цитаты из работы Л. Витгенштейна «О достоверности» даются по следующему изданию: Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. Составление, вступительная статья, примечания М. С. Козловой. Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. – М.: Издательство «Гнозис», 1994. – С.321-406. 23