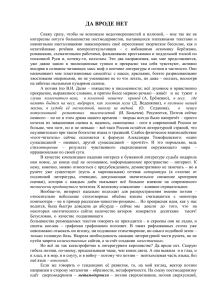А.В.Домащенко
advertisement
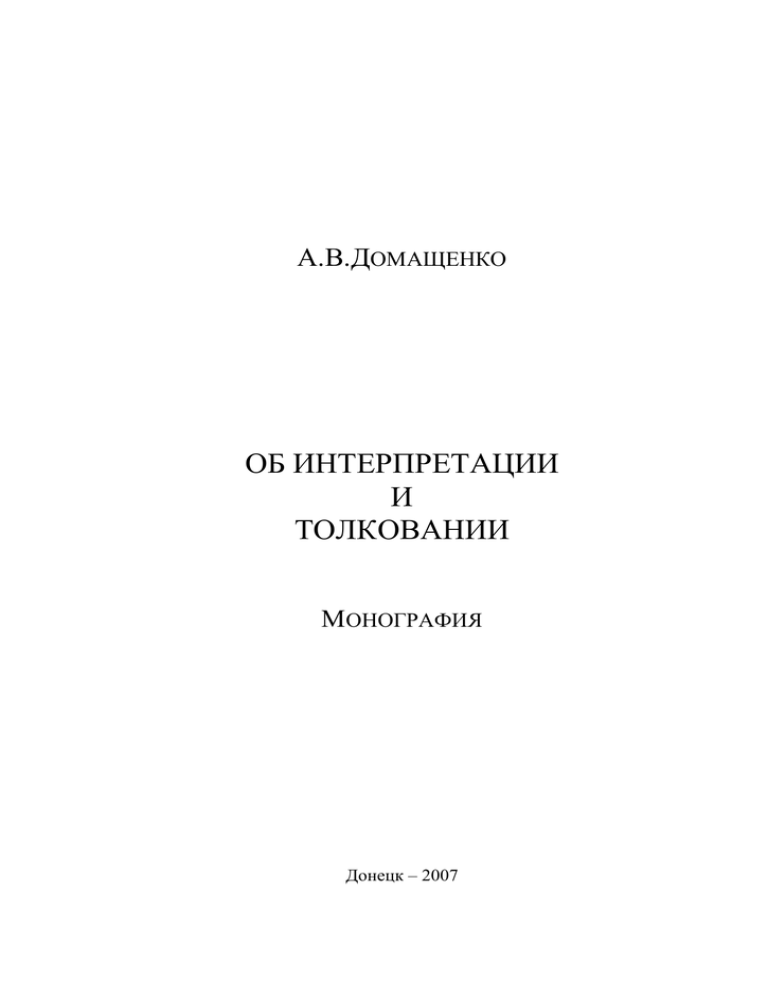
А.В.ДОМАЩЕНКО
ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
И
ТОЛКОВАНИИ
МОНОГРАФИЯ
Донецк – 2007
ББК Ш40*000.91
Д66
Домащенко А.В.
Об интерпретации и толковании: Монография. – Донецк: ДонНУ,
2006. – 277 с.
Монография посвящена разграничению интерпретации и толкования
как двух способов понимания поэтического произведения.
Монография печатается по решению Ученого совета Донецкого
национального университета от 25.02.2006 (протокол №2).
Рецензенты:
Николаев П.А., доктор филол. наук, профессор,
член-корреспондент РАН;
Гей Н.К., доктор филол. наук, профессор;
Федоров В.В., доктор филол. наук, профессор.
ISBN 966-639-281-X
© Домащенко А.В., 2007
2
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ АВТОРА............................................................................................................. 5
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6
РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И
ТОЛКОВАНИЯ
ГЛАВА I. ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРИИ
«ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ» ............................................................................. 9
1.1.1. О трех направлениях современной академической теории
литературы ......................................................................................... 10
1.1.2. О «филологической» теории ............................................................ 25
1.1.3. Об истоках современной академической теории литературы
и теории «филологической» ............................................................ 38
ГЛАВА II. ОРУДИЙНОСТЬ ЯЗЫКА И ПОЭЗИЯ ........................................................ 48
ГЛАВА III. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ТОЛКОВАНИЕ ...................................................... 60
РАЗДЕЛ II. В ГРАНИЦАХ «ЭЙДОСНОЙ» ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ:
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА .................. 77
2.1.1. Живописная образность в поэзии .................................................... 77
2.1.2. «Конфликт интерпретаций» ............................................................. 87
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО
ЦЕЛОГО ................................................................................................ 91
2.2.1. Об эстетическом завершении ........................................................... 91
2.2.2. О принципах эстетического завершения ...................................... 104
2.2.3. Орудийность языка и проблема
эстетического завершения .............................................................. 123
2.2.4. Предыстория предложенной типологии в русской
эстетике словесного творчества XIX – начала ХХ вв. ................ 140
ГЛАВА III. ДВОЕЦЕНТРИЕ КАК СПОСОБ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
В РУССКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА .................................. 144
2.3.1. «Две области: сияния и тьмы…» ................................................... 144
2.3.2. «…На пороге как бы двойного бытия» ......................................... 152
РАЗДЕЛ III. В ГРАНИЦАХ «ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ» ТЕОРИИ:
ТОЛКОВАНИЕ
ГЛАВА I. О СУЩНОСТИ ЯЗЫКА И ПРИРОДЕ ЛИРИЧЕСКОГО СЛОВА .................... 168
3.1.1. Порождающее лоно поэзии ............................................................ 168
3.1.2. К вопросу о «казовой» орудийности языка и истоке
герменевтики .................................................................................... 183
3.1.3. О «чистой» лирике и сущности языка ........................................... 185
3.1.4. Стихотворение Ф.И.Тютчева «Silentium!» .................................... 196
3
ГЛАВА II. О ПОЭТИЧЕСКИХ РОДАХ: ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ ........................... 202
3.2.1. Мимесис. Загадка Аристотеля ........................................................ 203
3.2.2. Маническая поэзия и миметическое искусство ............................ 208
ГЛАВА III. О СУЩНОСТИ ТРАГИЧЕСКОГО .......................................................... 214
3.3.1. Трагедия: на границе интерпретации и
толкования ........................................................................................ 214
3.3.2. Мышление, управляемое инстинктами, и трагедия ..................... 224
3.3.3. Герменейя и сущность трагического ............................................. 230
ГЛАВА IV. О МАНИЧЕСКОМ И ТРАГИЧЕСКОМ В ЛИРИКЕ Ф.И.ТЮТЧЕВА .......... 241
3.4.1. К проблеме толкования поэзии Ф.И.Тютчева............................... 241
3.4.2. Исток поэзии и лирика Ф.И.Тютчева ............................................. 255
ПРИЛОЖЕНИЕ I. О природе клятвенного слова ............................................. 265
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Стихотворение Ф.Гёльдерлина «Hälfte des Lebens»:
перевод как опыт толкования ............................................ 270
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН .............................................................................................. 273
4
ОТ АВТОРА
Потребность подвести итог двадцатилетней работы – главная и
вполне основательная причина издать эту книгу.
В ней дан очерк современного состояния теории литературы. В ней
же раскрываются важнейшие особенности той филологии, которая,
согласно авторитетному мнению Ф.Ницше, «еще не начиналась» в XIX
веке и которая едва-едва начинается в наше время.
Насыщенный эстетической проблематикой теоретико-литературный
дискурс XIX века остается близким автору книги.
Попытка говорить о поэзии на языке XIX века и, с другой стороны,
принять участие в разработке языка новой филологии – это не
эклектическое смешение несовместимого, но ясное осознание границ, в
пределах которых возможно осмысление той или иной проблемы.
Эстетика словесного творчества и фундаментальная онтология в ее
стихослагающем проявлении – два содержательно-смысловых полюса
этой книги. Интерпретация и толкования – два ключевых слова, благодаря
которым проясняется разноприродный характер двух названных полюсов.
Мы можем осуществлять процесс мышления с позиции
«вненаходимости», мы можем мыслить «внутримирно». Мыслить
«внутримирно» – значит, обрести способность вопрошания. Обретение
такой способности – решающее условие, предопределившее рождение той
филологии, которая «еще не начиналась».
В настоящую книгу почти полностью – с неизбежными
исправлениями – вошла монография, вышедшая в 2000 году.
18.03.2006.
Донецк
5
ВВЕДЕНИЕ
Филология загадочна.
Загадочно уже само это слово – филология, φιλολογία. Традиционное
школьное объяснение, что это любовь к слову, мало что дает, поскольку
тут же возникает вопрос: какая это любовь и какое слово?
Ф.И.Тютчев осенью 1838 года пишет из Турина В.А.Жуковскому:
«Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая… и вдруг
поймем… и в одном слове, как в провале, как в пропасти, все обрушится».
Но мы знаем, что есть также слова-понятия, слова-этикетки, наглухо
припечатанные к одному-единственному значению. Должна ли наша
любовь распределяться поровну между этими разными словами –
настолько разными, что ничего общего почти уже не остается? Вопрос
риторический: если в первом случае бездонная глубина слова может
открыться лишь тому, кто движим любовью, то слово-понятие ни в какой
нашей любви не нуждается – смешно о ней даже упоминать. При этом
будем помнить, что, говоря о любви, мы должны иметь в виду не
скоропреходящий аффект, который – кому это не известно? – «живет едва
ли три недели», но исходный экзистенциал любого осмысленного
существования.
Загадочность филологии объясняется тем, что загадочны и φιλέω, и
λόγος. В логосе ведь заключено противоположное: это, с одной стороны, счет,
количество, то есть знание чего-либо, доступного исчислению, с другой –
понимание, обращенное к смыслу. Неизбежно противоположными по своей
сути оказываются поэтому и дисциплины, обращенные к логосу. В первом
случае логос становится предметом понятийно-исчисляющего изучения. Во
втором логос предстает в качестве онтологической путеводной нити,
влекущей наше мышление к непостижимым глубинам смысла и
открывающей их ему. Понимаем то, к чему приобщены. Приобщены к тому,
что любим. Так λόγος встречается с φιλέω.
Мы видим, что только вторая дисциплина может быть по праву
определена как φιλολογία, тогда как первая – это, скорее, φρονολογία от
φρόνησις – рассудительность. «Умом, – говорит в диалоге “Простец об
уме” Николай Кузанский, – является то, от чего возникает граница и
мера…» Мы смогли бы сразу продвинуться далеко вперед, если бы
научились разные области нашей умственной деятельности называть
соответствующими их сущности именами. Это самый надежный способ
преодолеть сумятицу в умах. Это единственное ручательство, что
рассудительность и чувство меры нам никогда не изменят.
Там, где границы нашего понимания заранее определены
возможностями нашего инструментария, там филологии делать нечего –
она удаляется, чтобы и тень ее тени не смущала того, кому и без нее
6
хорошо. Однако при первом же нашем сомнении в возможностях
подручного инструмента она вновь появляется, готовая приобщить к
своим таинственным глубинам того, кто способен откликнуться на ее
призыв. И здесь уже начинается дело мысли, а не рассудительности, –
мысли, проникнутой доверием к тому, что нас ведет.
Загадочность филологии объясняется загадочностью языка – на
самом деле, самой главной для человеческого мышления загадкой.
Только та филология, которая открывается нам своей загадочной
стороной, учит мыслить.
Исток мышления таится в глубинах логоса, там, где слово и
понимание пребывают в еще не распавшемся единстве.
Логос, в котором слово и понимание пребывают в еще не
распавшемся единстве, – это герменейя.
*
*
*
Методологическая разноголосица в современной теории литературы,
будучи сама по себе фактом позитивным, нуждается в осмыслении. Как
соотносятся между собой эти разные традиции: идущая от теории
художественного образа XIX века, от теоретической установки
основоположников ОПОЯЗа, от теоретико-литературной концепции
М.М.Бахтина, от герменевтики XIX-ХХ веков? Являются ли критерии
научности, актуальные в пределах одного направления, в такой же степени
значимыми для всех других? Можем ли мы, следовательно, говорить о
научности или ненаучности того или другого направления, исходя из этих
единых критериев абстрактно понятой научности? Должна ли теория
литературы сплошь стать «точной», «объективной», а ее выводы
обязательно математически верифицируемыми? Должны ли испытывать
комплекс неполноценности те направления, которые не соответствуют
этим требованиям? Эти вопросы достались нам в наследство от
предшествующего столетия и по-прежнему нуждаются в прояснении.
В настоящей книге сущность различных направлений современной
академической теории литературы раскрывается с точки зрения лежащей в
их основе способности мышления (представляющее мышление), тогда как
в основе постулируемой автором «филологической» теории (понимаемой
как одно из направлений герменевтики) – мышление вопрошающее. На
основе этого разграничения в свою очередь возможным оказалось
осуществить разграничение двух способов понимания поэтического
произведения – интерпретации, актуальной для всех направлений
современной академической теории литературы (сфера представляющего
мышления), и толкования, актуального в пределах «филологической»
теории (сфера мышления вопрошающего).
7
Поскольку конститутивным моментом интерпретации является
представляющее мышление, постольку именно наглядное (согласно
Гегелю, поэтическое, эстетическое) представление оказывается той
сферой, в которой наиболее полно и глубоко раскрывается ее сущность.
Поэтому в аспекте интерпретации русская лирическая поэзия рассмотрена
с точки зрения актуальных для нее принципов эстетического завершения
поэтического целого. В аспекте толкования, осуществляемого не с
помощью языка, а в ситуации «при языке» (М.Хайдеггер), предложено
новое прочтение лирики Ф.И.Тютчева. Это новое прочтение оказалось
возможным благодаря ее сопоставлению с древнегреческой поэзией.
8
РАЗДЕЛ I
ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ТОЛКОВАНИЯ
…Умом (mens) является то, от чего
возникает граница и мера (mensura)
всех вещей.
Николай Кузанский
Ты перемешал слова из разных
языков и составляешь рассказ,
который и сам не понимаешь.
Св. Николай Сербский
ГЛАВА І
ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
И ТЕОРИИ «ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ»
Вопрос о разграничении интерпретации и толкования должен быть
рассмотрен в контексте более общих вопросов об орудийности1 языка и о
сущности «филологической» теории в ее отличии от всех существующих в
наше время направлений академической теории литературы. Ни один из
этих вопросов не только не осмыслен, но даже не поставлен понастоящему в современном литературоведении. В этом отношении ничего
не изменилось с середины 70-х годов ХІХ века, когда Ф.Ницше написал в
книге «Мы филологи»: «Думают, что подходит конец филологии – а я
думаю, что она еще не начиналась»2. Будучи сам одним из выдающихся
филологов, Ф.Ницше не мог не знать о вполне проявившихся к тому
времени достижениях классической филологии, об интенсивном развитии
От греч. όργανον – орудие (см.: Лебедев А.В. «Органон» // Философский
энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – С.449-450). Когда
говорят об орудийности языка, имеют в виду характер его действенности (подробнее
см. в следующей главе настоящего раздела).
2
Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху // Ницше Ф. Избр. произведения: В 3 т. –
Т.3. – М.: REFL-book, 1994. – С.275.
1
9
академической теории литературы, об успехах исторического изучения
литературы, однако все эти успехи и достижения он отказывается
признать подлинно филологическими. Все эти дисциплины, по мысли
Ф.Ницше, по самой своей сути не филологичны, а не потому, что пока еще
не достигли какого-то определенного порога в своем развитии, за которым
начинается истинная филология. В это слово, следовательно, Ф.Ницше
вкладывает какой-то особый смысл. Какой? Постараемся ответить на этот
вопрос, имея в виду и то, что было сделано в этой области после Ф.Ницше.
Основы филологической теории были заложены трудами
М.Хайдеггера и Г.-Г.Гадамера. У нас ее развитие возобновилось после того,
как, благодаря переводческой деятельности В.В.Бибихина, А.В.Михайлова
и ряда других ученых, стали широко доступны основные труды немецких
мыслителей. Однако развитие «филологической» теории именно
возобновилось, а не началось несколько лет назад в нашей стране, поскольку
предпосылки ее зарождения и первые ее проявления мы можем обнаружить
еще в ХІХ веке в отдельных высказываниях и суждениях А.С.Пушкина,
Н.В.Гоголя, В.С.Соловьева, позднее – в статьях В.И.Иванова (см. первую
главу третьего раздела книги). Воздействие трудов М.Хайдеггера и
Г.-Г.Гадамера на отечественную филологию, которое, очевидно, с каждым
годом будет возрастать, объясняется, стало быть, тем, что в данном случае
мы имеем дело с соприродными друг другу явлениями, как это уже
случилось в первой половине ХІХ века с восприятием идей Шеллинга на
русской почве. Наша главная задача, следовательно, заключается в том,
чтобы
обрели,
наконец,
адекватную
артикуляцию
подспудно
присутствующие с давних пор в отечественной филологии смыслы, которые
принципиально не могут быть артикулированы с помощью традиционного
языка академической теории литературы во всех его разновидностях. Но
прежде
чем
характеризовать
пока
еще
только
возможную
«филологическую» теорию, необходимо остановиться на современном
состоянии академической теории литературы.
1.1.1. О ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время в академической теории литературы можно
выделить три основных направления: «эйдосную» (от греч. εἶδος – вид,
наружность,
красота)
теорию
литературы,
«литературоведческую
грамматику» и «персоналистскую» теорию литературы. Конститутивным
моментом первой является учение Гегеля о поэтическом представлении, ее
основной категорией является художественный образ. «Эйдосная» теория
литературы доминировала в ХІХ веке (см., например, работы А.А.Потебни по
10
теории образа). В ХХ веке ее крупнейшим представителем был А.Ф.Лосев3.
Основополагающей особенностью второй является лингвоцентризм, главным
предметом изучения для нее является словесно-речевой строй произведения.
«Литературоведческая грамматика»4 утвердилась в отечественной науке в
качестве одного из ведущих направлений в 20-е годы минувшего столетия.
Наконец, в пределах третьей подлинное понимание всегда сопряжено с
персонификацией: здесь на первый план выходит не наглядное
представление, не лингвистическая данность текста, а голоса – носители
смыслов. Произведение в этом случае предстает как диалог личностей.
Основы «персоналистской» теории литературы заложил М.М.Бахтин5.
Правомерен ли вопрос о большей или меньшей степени научности
того или иного направления теории литературы или даже о научности или
ненаучности его? Напомню, что этот вопрос возник сразу же, как только
молодая формальная школа заявила о себе. Именно в принадлежности к
подлинной науке отказал ей известный теоретик, ученик и последователь
А.А.Потебни А.Г.Горнфельд, когда заявил, что ее сторонники «свой
Ср. употребление понятия «эйдетическая поэтика» по отношению к периоду
рефлективного традиционализма в кн.: Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – М.:
РГГУ, 2001. Исследование С.Н.Бройтмана порождает вопросы, на которые еще
предстоит найти ответы. Если «эйдетическая поэтика» характеризуются
«нерасчлененностью идеи и образа» (там же, с.242), тогда нужно объяснить, чем она
отличается от символологии, как ее характеризует С.С.Аверинцев (см.: Аверинцев С.С.
Символ художественный // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – Т.6. – М.: Сов.
энциклопедия, 1971. Ст.827). Если же в данной поэтике на первый план выдвигается
«порождающий принцип предметов», обусловленный приобщенностью автора к
«абсолютной точке зрения» (Бройтман С.Н. Указ. соч. С.139, 165), тогда не лучше ли
прибегнуть к термину ἰδέα, в котором как раз и сочетаются оба смысла – и вид,
наружность, и первообраз? Не забудем, что именно с основным словом Платона ἰδέα
Гегель связывает и формирование первоначального понятийного представления, и
рождение философии как науки (см. об этом: Хайдеггер М. Время и бытие. – М.:
Республика, 1993. – С.386; Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.2. – СПб.:
Наука, 1994. – С.140). Ср. понятие «идеациональная система культуры» в кн.: Сорокин
П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – С.430. В этом случае
нужно признать, что границы «идеациональной» художественной культуры в работе
С.Н.Бройтмана очерчены более точно, поскольку присутствие ее в русской поэзии
можно обнаружить не только в XVIII веке, но и в XIX-ХХ вв.
4
См. определение Г.Г.Шпета: «Поэтика в широком смысле есть грамматика
поэтического языка и поэтической мысли» (Шпет Г.Г. Сочинения. – М.: Правда, 1989. –
С.408), а также общеизвестный знаковый оборот Р.Якобсона: «Поэзия грамматики и
грамматика поэзии».
5
Как всякая схема, имеющая право на существование, данная типология не должна
отображать все многообразие живой жизни, но только основные тенденции развития
теории литературы XIX-XX веков. Рассмотрение всех существовавших в этот период
теоретико-литературных школ и отнесение их к тому или другому направлению не
является в этой книге моей задачей.
3
11
кружковой жаргон… представили как научную терминологию»6. В то же
время сами формалисты свою борьбу против, по их выражению,
«методологической ветоши» осознавали, прежде всего, как борьбу против
«повторного превращения науки о литературе и языке из науки системной
в жанры эпизодические и анекдотические»7. Очевидно, спор
стимулировался убежденностью, что существует единое общеобязательное
понимание научности, которому все направления литературоведения
непременно должны соответствовать. Однако такая убежденность – не
более чем недоразумение. С сожалением приходится констатировать, что в
начале ХХI века в теории литературы необходимо доказывать то, что, к
примеру, в геометрии осознали еще в ХIХ веке и что в 1902 году
афористично сформулировал А.Пуанкаре: «Никакая геометрия не является
более истинной, чем другая»8. Это значит, что каждое направление
академической теории литературы «более истинно» в пределах своей
проблематики. Такая позиция не становится «релятивизмом», поскольку о
значимости той или другой «истинности» можно спорить, не забывая при
этом, что теория литературы все же – не геометрия.
Уже после работ «великого немецкого мыслителя В.Дильтея»9
необходимо было уяснить, что принципы верификации, используемые в
естественнонаучной сфере, далеко не охватывают всей сферы «наук о
духе» хотя бы в силу их историчности10. Благодаря В.Дильтею, а также
последующему
развитию
герменевтики
и
теоретического
литературоведения, прояснился особый характер научности гуманитарной
сферы (в том числе и теории литературы): в пределах любого ее
направления научно то, что соответствует избранному методу. А «метод
есть не что иное, как способ постановки вопроса»11. Из этого следует, что
мы способны понять в произведении лишь то, о чем способны его
спросить. Ясно, что вопросы, формулируемые в границах теории образа
А.А.Потебни, будут принципиально иными, нежели актуальные и
уместные для «литературоведческой грамматики». Соответственно в
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С.571. Ср.
мнение П.М.Бицилли: там же, с.572.
7
Там же. – С.282.
8
Цит. по: Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах
мыслителей Запада. – М.: Логос, 1996. – С.19. О «методологическом монизме» как
«догме» позитивизма см.: Вригт Г.Х. фон. Логико-философские исследования. М.:
Прогресс, 1986. – С.43. Опровержение этой «догмы» стало общим местом в
современной философии науки; многочисленные примеры см. в книге: Современная
философия науки. – М., 1996.
9
Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.228.
10
См.: Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы
XIX-ХХ вв. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С.108-135; Дильтей В. Собр. сочинений:
В 6 т. – Т.4. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – С.467-471 и др.
11
Бультман Р. Указ. кн. – С.230. Пер. О.В.Боровой.
6
12
пределах двух названных направлений мы получим ответы на разные
вопросы, причем «научно» любое направление современной теории
литературы может ответить только на «свои» вопросы. Ясно также, что
только с позиций «литературоведческой грамматики» теория
художественного образа оказывается «ветошью» и только, в свою очередь,
с позиций этой теории язык молодых зачинателей нового направления мог
показаться жаргоном, не имеющим никакого отношения к настоящему
литературоведению.
Два названных направления теории литературы, таким образом, не
различаются как научное и ненаучное, они научны по-разному, поскольку
опираются на разные методы. Поэтому совершенно недопустимо
отвергать одно из направлений на основе критериев научности другого
(что и в наше время – не такая уж редкость). В этой связи уместно
напомнить достаточно известное и очень важное в методологическом
отношении суждение С.С.Аверинцева, на которое сочувственно
откликнулся М.М.Бахтин: «Однако даже если принять точность
математических наук за образец научной точности, то надо будет признать
символологию (а это один из разделов – причем важнейших – общей
теории художественного образа. – А.Д.) не «ненаучной», но инонаучной
формой знания. Ненаучным, более того антинаучным является только
безответственное
смешение
различных
аспектов
текста
и
12
соответствующих этим аспектам видов аналитической работы…» Эти
слова были восприняты многими сторонниками математической точности в
теории литературы как признание символологией своей второсортности, а
сама «инонаучность» многими до сих пор воспринимается как едва ли не
полуругательное слово. Между тем мало кто обратил внимание на первые
слова высказывания С.С.Аверинцева: «однако даже если принять». Ничто
не принуждает нас это сделать, поскольку не существует единых критериев
научности, одинаково актуальных в пределах «литературоведческой
грамматики» и «эйдосной» теории литературы.
Поскольку «точность» является знаменем «литературоведческой
грамматики» и главным ручательством ее превосходства над другими
направлениями теории литературы, приведу рассуждение Э.Гуссерля,
высказанное по аналогичному поводу: «Все настоятельнее становится
потребность в преобразовании всей психологии Нового времени, но еще
не понято, что препятствием является ее объективизм, что она вообще не
подступалась к собственной сущности духа, что изоляция объективно
мыслимой души и психофизическая трактовка бытия-в-сообществе – суть
извращения. Конечно, она работала не напрасно и нашла много также и
практически значимых эмпирических правил. Но она представляет собой
действительную психологию в столь же малой степени, в какой моральная
12
Аверинцев С.С. Указ. соч. – Ст.828.
13
статистика с ее не менее ценными результатами представляет собой науку
о морали»13. Согласимся, что у статистики «литературоведческой
грамматики», по крайней мере, не больше прав представлять собой теорию
литературы, нежели у психологической и моральной – свои науки.
Замечанием Э.Гуссерля раз и навсегда установлено место означенной
«точности» в пространстве теоретико-литературного знания и понимания.
Оно же (это замечание) позволяет уяснить, что методология формальной
школы, будучи новым словом в пределах теории литературы, в общем
контексте «наук о духе» уже в момент своего возникновения была
анахронизмом.
Не будем, однако, уподобляться сторонникам «литературоведческой
грамматики» и, по принципу «сам такой», отказывать ей в подлинной
научности, которая никогда ведь не ограничивается набором эмпирически
установленных выводов и правил. Скажем мягче: она инонаучна по
отношению к «эйдосной» теории литературы в такой же степени, как эта
последняя – по отношению к ней. Причем именно «литературоведческой
грамматике» пришлось преодолевать свою маргинальность и в борьбе с
теорией А.А.Потебни доказывать свое право на научный статус, на свою
принадлежность к академическому литературоведению. Но, утвердившись
в нем, «литературоведческая грамматика» по-своему обогатила науку о
литературе, хотя тем самым и не сделала теорию художественного образа
– главный объект своих полемических выступлений – «преданьем старины
глубокой». Не следует при этом забывать, что генетически
«литературоведческая грамматика» связана именно с теорией
А.А.Потебни, о чем красноречиво свидетельствует статья В.Шкловского
«Воскрешение слова»14. Этим лишний раз подтверждается справедливость
вывода Ю.Б.Борева, что «началом начал современной теории литературы,
ее ядром стала категория “художественный образ”»15.
М.М.Бахтин говорит, что «наиболее напряженная и продуктивная
жизнь культуры проходит на границах отдельных областей ее, а не там и не
тогда, когда эти области замыкаются в своей специфике»16. Можно ли
утверждать,
что
своеобразие
«литературоведческой
грамматики»
преимущественно определяется ее «спецификаторской» установкой?
Памятуя о небывалом ее расцвете в ХХ веке, когда даже мировая известность
М.М.Бахтина была в значительной степени обусловлена тем, что его идеи
были у-своены (следовательно, трансформированы) «литературоведческой
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск: Агентство САГУНА,
1994. – С.124.
14
Шкловский В.Б. Гамбургский счет. – М.: Сов. писатель, 1990. – С.36-42.
15
Борев Ю.Б. Введение в теорию литературы // Теория литературы. – Т.1. Литература. –
М.: ИМЛИ РАН, 2005. – С.22.
16
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.330.
13
14
грамматикой»17, мы откажемся от подобного мнения как ошибочного.
Своеобразие «литературоведческой грамматики» и «эйдосной» теории
литературы определяется тем, что они конституируются на разных границах:
первая – на границе с лингвистикой (и тем в большей степени достигает
своей цели, чем более последовательно соблюдает эту фундаментальную
установку), вторая – на границе с эстетикой. Конституированием на границе с
лингвистикой объясняется преимущественно гносеологический характер
«литературоведческой грамматики». Она в наибольшей степени
соответствует идеалу абстрактно понятой научности не в последнюю очередь
потому, что ее язык, как и язык любой естественной науки, –
инструментальный.
В этом отношении весьма показательно характерное «или-или» в
афористичном высказывании В.Б.Шкловского: «Нужно или писать роман,
или оставлять следы инструмента»18. Здесь, собственно, речь идет о
самодовлеющем методологизме, который оказывается первичным по
отношению к поэтическому творчеству. В результате исследование
остается на доэстетической стадии, а поэзия низводится до «приема». Этот
термин, в том числе в силу своего удобства для аналитической работы,
стал знаковым для ОПОЯЗа, при этом не принималось в расчет, что он не
только не раскрывает сущность поэзии (это еще полбеды), но искажает ее.
Когда смысл поэтического произведения непосредственно соотносится не
с внутренней формой, как это было у А.А.Потебни, а со стихом19, сама
поэзия
в
значительной
степени
оказывается
разновидностью
интеллектуальной игры. Инструментальный язык, как хирургический нож,
прошел по поэзии, и отсек все, что не укладывалось в его границы. Такая
операция была необходима для формирующегося нового представления о
научности литературоведения. Она привела, однако, к неизбежному
«позитивистскому ограничению идеи науки»20, в чем, согласно
Э.Гуссерлю, как раз и проявился со всей очевидностью кризис
европейских наук.
Разумеется, работы М.М.Бахтина при этом мощно воздействовали на саму
«литературоведческую грамматику», ускорив, в частности, кризис структурализма (см.:
Михаил Бахтин: pro et contra. – Т.1. – СПб.: РХГИ, 2001. – С.312). Ср. в этой связи отнесение
к одному «литературоведению», с одной стороны, «А.Потебни», «формалистов»,
«Ю.М.Лотмана», с другой – к другому – «М.Бахтина» и Ж.Деррида («М.Бахтин идет в
русле дерридианской грамматологии»; почему не кристевской интертекстуальности? В
отношении нелепости мой вопрос ничем не отличается от предшествующего ему
утверждения) в статье: Баршт К. Три литературоведения // Звезда. – 2000. – №3. – С.192,
196).
18
Шкловский В.Б. Указ. соч. – С.26.
19
См.: Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. – Л.: Academia, 1924. – С.61 и
далее.
20
Гуссерль Э. Указ. книга. – С.54.
17
15
Точное определение «всех бытующих терминов» является для
«литературоведческой грамматики» непременным условием возведения их
«в ранг научных определений»21. При этом в отличие от многих
современных эпигонов ОПОЯЗа, Ю.Н.Тынянов с иронией относился к
возможностям в области литературоведения такого «научного» языка,
который был бы ориентирован на формулировку «единого статического
определения» того или иного понятия22. Однако нет сомнения, что
точность и даже однозначность терминов представляет собой тот предел, к
которому стремится «литературоведческая грамматика». Означенной
установкой объясняется та «переоценка ценностей» терминологического
языка, которую осуществили формалисты. Эта переоценка была
закономерной, ибо способствовала в пределах актуального для них
теоретико-литературного языка более отчетливому уяснению предмета
исследований и его границ, причем пересмотр касался ключевых понятий
«эйдосной» теории литературы, таких как «поэзия», «слово», «образ»,
которые заменяются понятиями «стих», «стиховое слово», «конструкция»,
имеющих, в отличие от первых, согласно Ю.Н.Тынянову, «реальный
объем и содержание»23. Как уже было сказано, одним из основных
понятий формирующегося направления становится прием именно по той
причине, что «он один и тот же, где бы ни встретился»24. Здесь, конечно,
присутствует опасность превращения термина в тот самый «лежачий
камень», который не столько помогает пониманию того или иного
уникального поэтического высказывания, сколько мешает ему – соблазном
поверхностных обобщений. Этой опасности можно избежать лишь в
одном случае: если «литературоведческая грамматика» будет оставаться в
границах своего предмета – лингвистической данности текста и
внутритекстовых отношений, не претендуя на далеко идущие выводы
эстетического или онтологического характера.
Таким образом, в «литературоведческой грамматике» в соотношении
«научный метод – поэтическое творчество» определяющим является
первый компонент. Такое соотношение оказывается возможным
вследствие более элементарного, нежели в случае Р.Бультмана, понимания
метода: метод здесь – это система принципов, определяющих предмет в
его специфике, а также содержание и задачи исследования.
Иной характер соотношения наблюдаем в «эйдосной» теории
литературы. Для нее первична эстетическая природа поэтического
представления: этим фактом в значительной степени обусловлено
своеобразие ее научного языка. Об этих особенностях на примере
символологии говорит С.С.Аверинцев: «Смысл символа объективно
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – С.255.
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – С.255.
23
Там же. – С.254.
24
Шкловский В.Б. Указ. соч. – С.307.
21
22
16
осуществляет себя не как наличность, но как динамическая тенденция: он
не дан, а задан. Этот смысл… нельзя разъяснить, сведя к однозначной
логической формуле, а можно лишь пояснить, соотнеся его с
дальнейшими символическими сцеплениями, которые подведут к большей
рациональной ясности, но не достигнут чистых понятий… Самый точный
интерпретирующий текст (в границах «эйдосного» теоретиколитературного дискурса. – А.Д.) сам все же есть новая символическая
форма, в свою очередь, требующая интерпретации, а не голый смысл,
извлеченный за пределы интерпретируемой формы»25. Как только
предметом осмысления становится наполненная символическим смыслом
эстетическая (внутренняя) форма произведения, язык литературоведения
неизбежно сам становится в той или иной мере символическим. И если
справедливо, что главный критерий в теории литературы «не точность
познания, а глубина проникновения»26, то именно такой язык, адекватный
предмету как эстетическому феномену, способен обеспечить эту искомую
большую глубину интерпретации, то есть является в пределах символологии
истинно научным. А если кто-то и здесь продолжает требовать «самой
грубой, самой примитивной определенности», то можно напомнить, что в
данном случае «она заведомо не может быть истинной»27. Последнее
утверждение ставит нас перед необходимостью обратиться к урокам
М.М.Бахтина, которые в полной мере литературоведением все еще не
усвоены. Когда ему случилось выйти на территорию «эйдосной» теории
литературы и сказать несколько слов о символологии, он ограничился
конспективным изложением основных положений статьи С.С.Аверинцева о
символе28. В этом как раз и проявился, помимо прочего, научный такт
выдающегося ученого. Когда же на чужую территорию приходят со своим
уставом и начинают отвергать, порицать и т.д., обнаруживается отсутствие
именно этого – такта, следовательно, и подлинного профессионализма,
сколько бы его именем ни клялись. Таким образом, в границах «эйдосной»
теории литературы иным становится понимание нами сущности метода:
метод здесь – это соответствие языка описания предмету исследования.
Границами этого соответствия определяются границы научной
интерпретации29, значит, и характер ее научности в данном случае будет
другим.
Аверинцев С.С. Указ. соч. – Ст.827.
Бахтин М.М. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.5. – М.: Русские словари, 1997. – С.7.
27
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Худож. лит., 1972. – С.464.
28
См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.361-362.
29
См., напр., у Прокла: «…Каждый знаток и человек, искушенный в своем искусстве,
должен производить рациональные построения, соответствующие тому предмету,
которым он занят» (Прокл. Комментарий к Первой книге «Начал» Евклида. Введение. –
М.: Греко-латинский кабинет, 1994. – С.103. Пер. Ю.А.Шичалина). При таком подходе
«следы инструмента» всегда будут свидетельствовать о неумелом использовании метода.
25
26
17
«Литературоведческая грамматика» превосходит все другие
направления глубиной интерпретации внутритекстовых отношений. Для нее
интерпретация литературного произведения – это, прежде всего, выявление
отношений «конструктивного фактора» и «материала», которые постоянны
«для определенных конструкций», и «конструктивного принципа», который
все время меняется, эволюционирует. Отсюда вывод: «Вся суть «новой
формы» в новом принципе конструкции…»30. Адекватно (научно)
интерпретировать здесь – значит, выявить характер нового принципа
конструкции. Весь вопрос, однако, заключается в том, захватывает ли
предмет «литературоведческой грамматики» всю поэзию? Разумеется, нет:
«Текст – печатный, написанный или устный = записанный – не равняется
всему произведению в его целом…»31. Об этом же говорит П.В.Палиевский:
«…Видеть в поэзии и литературе прежде всего эту сторону (“особо
организованный язык”. – А.Д.), в сущности, то же самое, что рассматривать
всю записанную человеческую мысль как “особым образом организованный
алфавит”»32.
Подчеркну еще раз, что «литературоведческая грамматика», как и
любая другая наука, способна «видеть» (следовательно, понимать) лишь
то, что входит в ее предмет и может быть артикулировано на ее языке. Как
только она выходит за границы своего предмета, обращаясь, к примеру, к
интерпретации образа, ее утверждения сразу же теряют и глубину, и
научный характер: «…Образы почти неподвижны; от столетия к столетию,
из края в край, от поэта к поэту текут они, не изменяясь. <…> Образы
даны, и в поэзии гораздо больше воспоминания образов, чем мышления
ими»33. Нет нужды напоминать, что все это пишет известный ученый, чью
квалификацию никто не ставит под сомнение; уж он-то «образ» точно
«проходил». Сравните также чрезвычайно поверхностную критику теории
образа А.А.Потебни в работах Ю.Н.Тынянова34; критика Ю.Н.Тынянова не
могла быть иной по определению: точно такой же была бы критика
стиховедческих штудий с позиций «эйдосной» теории литературы.
В отличие от «литературоведческой грамматики», для «эйдосной»
теории литературы именно эволюция форм творческого видения, соотнесенная
с эволюцией поэтического образа, становится главным предметом изучения,
следовательно, интерпретации. В этой области научный характер означенной
теории литературы раскрывается вполне. При этом интерпретация приобретает
не конструктивно-технический, а эстетический характер.
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – С.262.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.369.
32
Палиевский П.В. Пути реализма: Литература и теория. – М.: Современник, 1974. – С.41.
33
Шкловский В.Б. Указ. соч. С.60.
34
Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. – С.6, 117-119; Тынянов Ю.Н.
Поэтика. История литературы. Кино. – С.253.
30
31
18
Мы видим, насколько различны эти два теоретико-литературных
направления. Действительно, их механическое смешение, здесь мы
согласимся с С.С.Аверинцевым, не просто «ненаучно», но «антинаучно»,
поскольку порождает эклектику, сквозь которую живая мысль уже не
пробьется. Но как только утверждается «персоналистская» теория
литературы,
все
отмеченные
фундаментальные
отличия
«литературоведческой грамматики» и «эйдосной» теории литературы
отступают на второй план, при этом обнаруживается их общее
противостояние формирующемуся новому направлению. Это новое
направление в свою очередь пережило свой период маргинального
существования за пределами академической науки.
«Персоналистская» теория литературы конституируется на границе с
онтологией, поскольку ее предмет – «выразительное и говорящее
бытие»35, как оно воплощается в литературном произведении. В свою
очередь «выразительное и говорящее бытие» раскрывается в разных типах
«диалогических отношений между личностями», которые «составляют, по
М.М.Бахтину, конечную цель гуманитарного познания»36. С этой точки
зрения, различия между «литературоведческой грамматикой» и
«эйдосной» теорией литературы в определенной мере теряют актуальность
ввиду их общей принадлежности монологической форме знания.
Соответственно предмету формируется язык «персоналистской»
теории литературы, который опирается «не только и даже не столько на
лингвистику, сколько на металингвистику, изучающую слово не в системе
языка и не в изъятом из диалогического общения «тексте», а именно в
самой сфере подлинной жизни слова. Слово не вещь, а вечно подвижная,
вечно изменчивая среда диалогического общения»37. Отсюда та
общеизвестная пластика бахтинской терминологии, его «любовь к
вариациям и к многообразию терминов к одному явлению»38, которая
характеризует одну из важнейших особенностей научности его работ и
которая только с точки зрения «литературоведческой грамматики» может
выглядеть как вопиющий недостаток39. Для М.М.Бахтина как ученого
первична не терминология, а любая ситуация общения, всегда чреватая
рождением нового смысла, и этот смысл ведет за собой понятие, в
наибольшей степени захватывающее его глубину. Позиция ученого здесь –
открытость смыслу, а не следование принятой системе: «Определенность
термина (и его устойчивость и однозначность) может быть только
Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т.5. – С.8.
Гоготишвили Л.А. Комментарий к рукописи «К философским основам гуманитарных
наук» // Там же. – С.394.
37
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С.345-346.
38
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.360.
39
См.: Гаспаров М.Л. М.М.Бахтин в русской культуре ХХ века // Вторичные
моделирующие системы. – Тарту, 1979.
35
36
19
функциональной и только в системе. Где такой системы нет (в
литературоведении) определенность и однозначность изолированного,
отдельного термина превращает его в тот лежачий камень, под который
вода не течет, живая вода мысли. Это касается всех гуманитарных
дисциплин, кроме лингвистики структурного типа»40. В наше время не
нужно, кажется, никому доказывать, что «персоналистская» теория
литературы, не упразднив «монологические» направления, в свою очередь
значительно обогатила литературоведение, особенно в области изучения
эпических жанров. Таким образом, метод «персоналистской» теории
литературы, как и в случае «эйдосной» теории литературы, - не что иное,
как соответствие языка описания исследуемому предмету. Степенью
соответствия и здесь определяется научность и глубина интерпретации. Но
поскольку предмет изучения в данном случае иной, постольку и
соотнесенность имеет другой характер. Предмет здесь – не эстетически
завершенный художественный мир, явленный в представлении, а «голоса
и диалогические отношения между ними»41, их взаимодействие и
взаимоосвещение,
открывающее
безграничную
(незавершимую)
смысловую перспективу произведения.
Таким образом, разный характер интерпретаций в пределах разных
направлений в значительной степени обусловлен разными предметами
исследования. «Литературоведческая грамматика» опредмечивает внешнюю
форму произведения, «эйдосная» – внутреннюю, тогда как «персоналистская»
– ситуацию общения, воплощенную в произведении или им порождаемую.
«Литературоведческая грамматика» стремится работать в границах
инструментального языка, причем максимально возможная чистота этого
языка – ее сознательно формулируемая цель. Язык «эйдосной» теории
литературы находится под воздействием символической орудийности языка в
той мере, в какой символическим смыслом наполнен являющийся предметом
интерпретации поэтический образ. Язык «персоналистской» теории
литературы испытывает на себе воздействие металингвистических факторов,
связанных с актуальной для нее диалогической сущностью речевого общения.
Хотя язык «эйдосной» теории литературы, устремленной к изучению
эстетически явленного, в котором обнаруживается неисчерпаемая глубина
смысла, ближе М.М.Бахтину, для него в качестве монологических
неприемлемы оба вышеназванных направления академической теории
литературы. И все же главным объектом его полемических выступлений (в
значительной
своей
части
написанных
«в
стол»)
была
«литературоведческая грамматика», в первую очередь из-за того
огромного значения, которое она приобрела в ХХ веке. Но не только.
«Литературоведческая грамматика» и «персоналистская» теория
литературы действительно в пределах современного академического
40
41
Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т.5. – С.377.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.372.
20
литературоведения представляют собой две крайности, которые сам
М.М.Бахтин
определил
понятиями
«овеществление»
и
42
«персонификация» . Их противоположность объясняется их разной
ориентацией по отношению к двум полюсам – гносеологии и онтологии,
которыми обозначены границы академической теории литературы.
Взаимодействием этих двух полюсов объясняется своеобразие каждого из
названных направлений.
«Литературоведческая грамматика» стремится осознать предмет
своего изучения в его специфике43. Этот специфический предмет
осмыслялся ею в отталкивании от «наивного» онтологизма
предшествующего литературоведения44, что в свою очередь немало
способствовало прояснению этого вопроса «персоналистской» теорией
литературы45. В этой последней гносеологический момент, безусловно,
подчинен онтологическому, подтверждением чего является отмеченное
выше воздействие металингвистических факторов на сам научный язык.
В «эйдосной» теории литературы онтологическое и гносеологическое
начала гармонически уравновешены, причем характер ее онтологии иной.
Убежденность в насущной значимости поэтического искусства и даже в
его превосходстве над любыми способами аналитического познания мира
и человека коренится в признании, что именно в образном воплощении
существо истины раскрывается наиболее полно и глубоко. В наш век
тотального торжества аналитической мысли мы как-то стали забывать, что
в истории культуры – еще не так давно – были периоды, когда
превосходство эйдосного восприятия и понимания мира представлялось
очевидным фактом. С примером блистательной апологии именно такого
мировосприятия и миропонимания мы встречаемся в «Сказке бочки»
Дж.Свифта:
«…Мудрость,
вращающаяся
на
поверхности,
предпочтительнее мнимой философии, которая проникает в глубину
вещей и возвращается с важным открытием, что ничего путного там нет.
Два чувства, к которым прежде всего обращаются предметы, суть зрение и
слух. Чувства эти никогда не идут дальше цвета, формы, величины и
других качеств, помещенных природой или искусством на поверхности
тел; потом является разум – с инструментами для разрезывания, вскрытия,
прокалывания, раздробления – и услужливо предлагает доказать, что вещи
внутри совсем не такие, как снаружи. Все это я считаю последней
степенью извращения природы, один из вечных законов которой
предписывает носить наилучшие украшения сверху. Вот почему, чтобы
избавить на будущее время людей от всей этой разорительной анатомии,
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.370.
См.: Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. – С.13.
44
См., напр.: там же, с.123.
45
См.: Федоров В.В. О природе поэтической реальности. – М.: Сов. писатель, 1984. –
С.11-20.
42
43
21
считаю своим долгом уведомить читателя, что в подобных своих выводах
разум совершенно прав и что у большинства телесных сущностей,
попадавшихся мне под руку, наружность (здесь и далее выделено
автором. – А.Д.) несравненно привлекательнее того, что у них внутри.
<…> На прошло неделе я видел женщину с содранной кожей, и вы не
можете себе представить, до какой степени ее наружность от этого
проиграла46. <…> …Человек, способный вместе с Эпикуром
довольствоваться представлениями, основанными на отражениях и
образах, идущих от поверхности вещей к нашим чувствам, – такой человек
подобен истинному мудрецу, снимающему с природы сливки, представляя
философии и разуму лакать жидкое пойло»47.
Для «эйдосной» теории литературы онтологическое (сущее в
подлинном своем бытии) является предметом поэтического (наглядного)
представления, тогда как для «персоналистской» подлинным бытием
обладает лишь событие общения. В отмеченном противоречии выявляется
одно из важнейших отличий эстетически ориентированного XIX столетия от
столетия ХХ, подчинившего эстетическое либо гносеологическому, либо
онтологическому началу. Сущность этого противоречия, задолго до его
возникновения в теории литературы, выразил в 1836 году А.С.Пушкин.
Сказав в стихотворении «Из Пиндемонти» о «словах, словах, словах»,
которые уводят от подлинного существования к призрачному, А.С.Пушкин
далее пишет о том, что всему, в том числе и «словам», придает подлинный
смысл:
…для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права…48
Мы видим, что для А.С.Пушкина, как и для Гегеля в его «Лекциях по
эстетике» и – позднее – для А.А.Потебни, первично эстетически значимое
(соотнесенное с красотой) представление: именно оно является для него, как и
для всей «эйдосной» теории литературы, говоря языком ОПОЯЗа, важнейшим
«конструктивным фактором» поэзии. И здесь неожиданно обнаруживается
почва для сближения двух направлений теории литературы ХХ столетия. Для
них в равной мере образ как предмет наглядного представления оказывается
Пример несколько шокирующий, но ведь «литературоведческая грамматика»
занимается тем же самым по отношению к живой поэтической плоти.
47
Свифт Дж. Избранные произведения. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – С.133-134. Пер.
А.Ингера.
48
Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений: В 10 т. – Т.3. – М.: Изд-во АН СССР, 1949. –
С.372.
46
22
«вторичным» явлением в отношении его конструктивной значимости для
поэзии49. И «литературоведческая грамматика», и «персоналистская» теория
литературы одинаково ориентированы на «слова, слова, слова», опредмечивая
их, хотя понимают их в пределах опредмечивания противоположным образом.
В рукописи, получившей название «К философии поступка», М.М.Бахтин
пишет: «И эстетическая интуиция не уловляет единственной событийности,
ибо образы ее объективированы, т.е. в своем содержании изъяты из
действительного единственного становления…»50. С.С.Аверинцев, приведя
красноречивые примеры «аффективного протеста против результата
объективации» в русской литературе и, напротив, совсем другой оценки
эстетизма в литературе немецкой, приходит к выводу относительно
отмеченного им противоречия: «Искушение без оговорок истолковать его как
контраст между русским и немецким национальным – по-старомодному,
«духом», по-новомодному, «менталитетом», должно вызывать благоразумную
настороженность…»51. Благоразумная настороженность в данном случае,
разумеется, необходима, поскольку отмеченное противоречие является
внутренним противоречием как немецкой, так и русской художественной
культуры (о чем на примере «Богов Греции» Ф.Шиллера хорошо говорит далее
С.С.Аверинцев), а в терминах настоящего исследования оно может быть
помыслено как противоречие между «эйдосной» и «персоналистской»
теориями литературы. При этом остается под вопросом, насколько глубоко
укоренен бахтинский теоретико-литературный персонализм в традиции
именно русской культуры52.
Принадлежность
трех
означенных
теоретико-литературных
дискурсов к одному, хотя и сложно структурируемому, целому
проявляется, в частности, в том, что их соотношение постоянно меняется в
зависимости от аспекта рассмотрения. Так, с точки зрения значения и
смысла как областей интерпретации, вновь сближаются «эйдосная» теория
литературы и «персоналистская» в их общем противостоянии
«литературоведческой грамматике». Интерпретация последней движется в
границах внутритекстовых отношений: это область значений. М.М.Бахтин,
говоря о диалогическом характере взаимодействия текстов, решительно
противопоставляет его «механическому контакту “оппозиций”», который
возможен «только в пределах одного текста (но не текста и контекстов)
между абстрактными элементами (знаками внутри текста)» и необходим
См.: Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. – С.117-118; Бахтин М.М.
Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С.50.
50
Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т.1. – С.7.
51
Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т.1. – С.442.
52
Ср. с выводом П.М.Бицилли о романах Ф.М.Достоевского, творчество которого
оказало безусловное влияние на теоретико-литературную мысль М.М.Бахтина: «Как
изобразитель болезненных извращений персонализма Достоевский…, скорее, –
европейский писатель, пророк “заката Европы”, нежели русский» (Бицилли П.М.
Избранные труды по филологии. – М.: Наследие, 1996. – С.544).
49
23
«только на первом этапе понимания (понимания значения, а не смысла)»53.
На этом «первом этапе» направленная на текст интерпретация оказывается
в наибольшей степени проникнутой духом «генерализации и
формализации» (М.М.Бахтин), она доэстетична и безличностна, как всякая
позитивистски ориентированная мысль. Это не недостаток, а
фундаментальная
особенность
научности
«литературоведческой
грамматики».
В отличие от нее, интерпретации «эйдосной» теории литературы и
«персоналистской» направлены на выявление смысла. Причем в первом
случае, поскольку предметом интерпретации является образ, она
приобретает эстетический, по определению М.М.Бахтина, «философскохудожественный» характер, тогда как во втором, поскольку интерпретация
осуществляется в своем приближении к полюсу персонификации, она
философско-персоналистична (постэстетична54); при этом, чем ближе
интерпретирующая мысль «к личностному пределу, тем неприложимее
генерализирующие методы»55. Обнаруживаются, стало быть, три разных
философских
основы
теоретико-литературного
познания
и,
56
соответственно, три разных модуса научности , которые по-разному
направляют литературоведческую мысль. Трем охарактеризованным
модусам научности соответствуют три разных теоретико-литературных
дискурса. «Языки» разнообразных школ или теоретико-литературных
концепций, как правило, оказываются «диалектами», образованными в
результате
интерференции
означенных
дискурсов.
Так,
«интертекстуальность» Ю.Кристевой – результат интерференции языка
«литературоведческой грамматики» и бахтинского персонализма с
очевидным доминированием первого. Концепция «художественности» и
«метахудожественности» Н.К.Гея – результат интерференции языка
«эйдосной» теории литературы и языка русской религиозной философии
«серебряного века» с ее преимущественным вниманием к проблемам
«онтологии искусства, онтологического его понимания» 57. В свою очередь
относительно языка М.М.Бахтина можно говорить лишь о
персоналистской доминанте, которой обусловлена трансформация языков
неокантианства, феноменологии, герменевтики и т.д. в его теории. Эта
доминанта (в данном случае подспудно присутствующая) сразу же
проявляется, к примеру, в работе «Проблема содержания, материала и
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.364.
Что вовсе не означает, что она внеэстетична. Внеэстетична «литературоведческая
грамматика».
55
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.370.
56
Ср. рассуждение Э.Гуссерля о новом модусе научности в его работе «Кризис
европейского человечества и философия» (Гуссерль Э. Указ. книга. – С.126).
57
Гей Н.К. Категории художественности и метахудожественности в литературе //
Литературоведение как проблема. – М.: Наследие, 2001. – С.283.
53
54
24
формы в словесном художественном творчестве», как только М.М.Бахтин
начинает говорить о конститутивном моменте художественного
творчества: «Творцом переживает себя единичный человек-субъект только
в искусстве. Положительно-субъективная творческая личность есть
конститутивный момент художественной формы, здесь субъективность ее
находит своеобразную объективацию, становится культурно-значимой,
творческой субъективностью…»58. Или в другом месте: «Единство
эстетической формы есть… единство позиции действующей души и тела,
действующего цельного человека, опирающегося на себя самого…»59. Нет
нужды напоминать, что в границах символологии вопрос о
конститутивном моменте художественного творчества решался и решается
иначе.
В предсмертных заметках М.М.Бахтин пишет: «Подлинное понимание
в
литературе
и
литературоведении
всегда
исторично
и
60
персонифицированно» .
Этим
суждением
выдающийся
ученый
сформулировал константное для него на протяжении всего творческого пути
«внутреннее открытое ядро» (слова М.М.Бахтина) своей теоретиколитературной позиции61.
Оценивая «литературоведческую грамматику», «эйдосную» и
«персоналистскую» теории литературы, следует помнить, что две
последних в большей степени адекватны предмету исследования, тогда
как первая, согласно М.М.Бахтину, неизбежно приводит «к
чрезвычайному упрощению научной задачи»62. О том, что «текст»
является наименее адекватной формой объективации поэзии,
свидетельствует, в частности, тот факт, что само это слово – поэзия –
упраздняется как не имеющее «реального объема и содержания»,
заменяясь понятием «стих».
Исходя из сказанного, можно сделать вывод что, с точки зрения
особенностей метода, интерпретация «литературоведческой грамматики»
преимущественно гносеологична, «эйдосной» теории литературы –
преимущественно эстетична, «персоналистской» – преимущественно
онтологична. Все они в своей совокупности полностью охватывают
поэзию как предмет научного познания, поэтому все они хороши на своем
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.69.
Там же. – С.64.
60
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.365.
61
К другому выводу пришла Н.К.Бонецкая: «…Традиция Бахтина – традиция «наук о духе»,
герменевтика, ознаменованная в первую очередь именами Ф.Шлейермахера, В.Дильтея,
М.Хайдеггера, а также Х.-Г.Гадамера» (Бонецкая Н.К. М.Бахтин и идеи герменевтики //
Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. – СПб.: Алетейя, 1995. – С.32). Ср. с
признанием самого М.М.Бахтина: «Из учеников Гуссерля… мне ближе всего был Макс
Шелер и его персонализм. Хайдеггер же как-то почти вовсе оставался вне поля моих
философских симпатий» (Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т.2. – С.693).
62
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.10.
58
59
25
месте. Если же вновь, несмотря на очевидность сказанного, встанет
неизбежный вопрос, какое из названных направлений теории литературы
«лучше», можно с уверенностью ответить, что в любом случае
методологическая чистота лучше той академической эклектики, которая
господствует в наше время в университетских аудиториях.
1.1.2. О «ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ» ТЕОРИИ
Для уяснения не только возможности, но также и необходимости
разговора об этой новой теории, мы осуществим критику
«филологического» разума, ограниченную, естественно, конкретными
задачами, стоящими перед нами.
Современная теория литературы зиждется на трех большей частью не
рефлектируемых аксиомах:
а) все ее направления опираются на определенный метод, т.е. они
методологичны;
б) все они формируются в пределах субъект-объектной схемы;
в) все они опредмечивают поэзию и только такую – опредмеченную –
поэзию изучают.
Все эти аксиомы могут быть сведены к одной, поскольку они
взаимообусловлены.
Их
единство
определяется
их
общей
принадлежностью к сфере представляющего мышления. Подразумевается,
что только в сфере действия этих аксиом возможна филологическая наука.
Данные аксиомы выявляют общность всех направлений современной
академической
теории
литературы
перед
лицом
возможной
«филологической» теории. Вопрос, однако, заключается в том,
обеспечивают ли эти аксиомы постижение поэзии во всей ее полноте?
Ответы на этот вопрос будем давать в той же последовательности, в какой
формулировали аксиомы.
а). Центральной здесь оказывается проблема соотношения «истины и
метода» (Г.-Г.Гадамер). Этой проблемы не существует для
«литературоведческой грамматики», поскольку она преимущественно
реализуется в сфере, согласно лучшему из известных мне определений,
«малых крупиц» «надежного понимания»63. Один из примеров такой
«малой крупицы» – следующая фраза из анализа стихотворения
Ф.И.Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..»: «Любопытно, что в
клаузулах по сравнению со всем текстом – обратно-зеркальное
соотношение устойчивых «а» – «о» – «е» и неустойчивых «у» – «и»:
насколько устойчивые преобладают во всем стихотворении, настолько же
Бройтман С.Н. “О чем ты воешь, ветр ночной?…” // Анализ одного стихотворения:
“О чем ты воешь, ветр ночной?..” Ф.И.Тютчева. – Тверь: ТГУ, 2001. – С.6.
63
26
в клаузулах преобладают неустойчивые и наоборот»64. Это суждение
«правильно», и оно будет оставаться таким через какое угодно количество
лет, как никогда не изменится, к примеру, правильность химической
формулы
воды.
Оставаясь
в
пределах
«малых
крупиц»,
«литературоведческая грамматика» достигает своей главной цели –
полной объективности выводов. Но как только она переходит от малых
наблюдений к обобщениям, касающимся сущности поэтического
творчества, ее суждения неизбежно оказываются более произвольными,
нежели суждения, принадлежащие другим направлениям академической
теории литературы, которые к этой проблеме непосредственно обращены.
Преимущественная сфера «литературоведческой грамматики» – это сфера
правильности, а не истины. В этом ее специфика, здесь она превосходит
все другие направления теории литературы, но в этом же и ее
ограниченность. Тогда, может быть, «эйдосная» теория литературы и
«персоналистская» имеют дело непосредственно с истиной, хотя поразному ее понимают? Для первой путь к истине лежит через наглядное
представление: «Что же касается утверждения, что стихия искусства есть
вообще нечто недостойное, представляет собою видимость и обман, то
это возражение было бы несомненно правильно, если бы можно было
принимать, что видимость есть нечто не имеющее права на
существование. Но на самом деле сама видимость существенна для
сущности, истина не существовала бы, если бы она не становилась
видимой и не являлась бы нам…»65. В свою очередь «персоналистская»
теория литературы знает только «изреченную» истину: «Она выражается в
слове. Истина, правда присущи не самому бытию, а только бытию
познанному и изреченному»66. Общим в приведенных разных пониманиях
сущности истины является то, что оба они методологичны. Метод
(μέθ-οδος – букв.: путь вслед за чем) представляет собой путь к истине.
Характером пройденного пути определяется сущность обретенного.
Каждый из двух названных методов представляет собой одну из
возможностей артикулировать истину. Глубина интерпретации в пределах
того или иного метода напрямую зависит от возможностей его языка.
Известно, что наиболее пластичен язык «персоналистской» теории
литературы. Можно ли утверждать, что ее метод открывает возможность
для такой интерпретации, которая смогла бы захватить существо истины
Там же. – С.7. Перед нами характерный пример буквализма, который является,
согласно св. Николаю Сербскому, первым актом трагедии человеческого разума (см.:
Св. Николай Сербский. Избранное. – Полтава: Спасо-Преображенский Мгарский
монастырь, 2004. – С.339).
65
Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – Кн.1 // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.12. – С.8.
Пер. Б.Г.Столпнера.
66
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.342.
64
27
во всей возможной полноте, как она сказывается поэтическим
произведением?
«Познанное и изреченное» в высказывании М.М.Бахтина отсылают
нас к «мысли изреченной», которая, согласно Ф.И. Тютчеву, «есть ложь».
Случайно ли это противоречие? Нет, потому что и в первом, и во втором
случае мы имеем дело с ключевыми по значимости суждениями,
позволяющими приблизиться к пониманию самого существа научной
мысли М.М.Бахтина и поэтического творчества Ф.И.Тютчева. Поэтому
указанное противоречие может означать только одно: истина, как ее
понимает М.М.Бахтин, с какой-то иной точки зрения оказывается совсем
не истиной. В этом как раз и проявляется конфликт истины и метода как
такового (даже самого совершенного). О характере этого конфликта
говорит
Г.-Г.Гадамер: «…Науки о духе сближаются с такими способами
постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом философии, с
опытом искусства, с опытом самой истории. Все это такие способы
постижения, в которых возвещает о себе истина, не подлежащая
верификации методологическими средствами науки»67. На чем основана
наша уверенность, что устанавливаемое нами в результате проведенного
исследования – это и есть истина, а не что-то другое? Не должен ли вопрос
об истине (Истине) предшествовать любому нашему, в том числе и
научному, изысканию? «Истину пред-полагаем «мы», ибо «мы», сущее в
бытийном роде присутствия, «в истине» суть. Мы пред-полагаем ее не как
что-то «вне» и «выше» нас, к чему у нас рядом с другими «ценностями»
тоже имеется отношение. Не мы пред-полагаем «истину», но это она та,
которая делает онтологически вообще возможным, что мы способны быть
таким образом, что что-то «пред-полагаем». Истина впервые делает
возможным нечто подобное пред-полаганию»68.
Любой из названных методов заранее предписывает, чем отныне
надлежит быть поэзии: текстом, наглядным представлением или
разновидностью речевого общения. То, что почитается в данном случае
истиной, раскрывается лишь в горизонте актуальной для того или иного
метода фундаментальной установки, поэтому она неизбежно частична –
ограничена рамками правильности. Сказанное касается не только
«литературоведческой грамматики», но также других направлений
академической теории литературы. При этом существо истины таково, что
она ни в коем случае не собирается в целое путем сложения частичных
истин, полученных в пределах разных методов, т.е. разных точек зрения на
истину. Мы подошли, таким образом, ко второй аксиоме.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988. – С.39. Пер. А.А.Рыбакова.
Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 1997. – С.227-228. Пер.
В.В.Бибихина.
67
68
28
б).
Субъект-объектная
схема
и
неотделимое
от
нее
субъективированное
сознание
познающего
человека
являются
определяющей особенностью новоевропейской истории: «Если теперь
человек становится первым и исключительным субъектом, то это значит:
он делается тем сущим, на которое в роде своего бытия и в виде своей
истины опирается все сущее. Человек становится точкой отсчета для
сущего как такового»69.
Все вышеназванные направления академической теории литературы
осуществляются в пределах этой схемы, реализуя разные ее варианты. В
«литературоведческой грамматике» субъект и объект очевидным образом
противостоят друг другу70, при этом на первый план выходят «отношения
между объектами»71. Характер «эйдосной» теории литературы
определяется отношениями между субъектом и объектом, при этом в
наглядном
представлении
происходит
взаимное
сближение
представляющего и представляемого. В «персоналистской» проблематика
радикальным образом переносится в сферу межсубъектных отношений, ее
предмет
–
«отношения
между
субъектами
–
личностные,
персоналистические отношения: диалогические отношения между
высказываниями, этические отношения и др. Сюда относятся и всякие
персонифицированные смысловые связи. Отношения между сознаниями,
правдами, взаимовлияния, ученичество, любовь, ненависть, ложь, дружба,
уважение, благоговение, доверие, недоверие и т.п.»72. Такой перенос не
означает, разумеется, преодоления означенной схемы. Напротив, в нем как
раз и проявляется вполне та основная тенденция новоевропейской
истории,
которая
характеризуется
постепенным
утверждением
субъективированного сознания как конститутивного момента любого
постижения сущего: «Гуманизм в более узком историческом смысле
есть… не что иное, как этико-эстетическая антропология. Это слово…
обозначает то философское истолкование человека, когда сущее в целом
интерпретируется и оценивается от человека и по человеку»73.
Ограниченность любого метода, стало быть, связана с тем, что он
неизбежно подчиняет истину конститутивной для себя субъект-объектной
схеме.
Наиболее элементарным вариантом означенной схемы является
объективизм новоевропейского научного естествознания, который
остается образцом для «литературоведческой грамматики». Ее сторонники
Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.48. Пер. В.В.Бибихина.
«Элемент насилия в объектном познании» (Бахтин М.М. <Риторика, в меру своей
лживости…> // Бахтин М.М. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.5. – М.: Русские словари, 1997.
– С.65).
71
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.342.
72
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.342.
73
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.51.
69
70
29
убеждены, что границы объективизма и рационализма совпадают,
поэтому, помимо прочего, считают себя призванными защищать эту
цитадель от разрушительных тенденций «иррационализма». Однако это
подвиг такого рода, который превращается в свою противоположность,
если только не забывать, что никто иной, как, согласно определению
Л.Шестова, «безудержный рационалист» Э.Гуссерль дал самую
уничтожающую критику объективизма. В дополнение к сказанному об
этом в предыдущем параграфе приведу еще несколько его суждений из
работы «Кризис европейского человечества и философия»: «…Путь
философии лежит через наивность… В этой вначале неизбежной
наивности застряли все, и даже начавшие свое развитие еще в древности
науки. Выразимся яснее: самое общее имя этой наивности –
объективизм…<…> Улучшения не может наступить, пока не понята
наивность объективизма, порожденного естественной установкой на
окружающий мир, и пока не прорвется в умы понимание извращенного
характера дуалистического мировоззрения, где природа и дух должны
трактоваться как реальности сходного рода, хотя каузально закрепленные
одна на другой. Я совершенно серьезно полагаю: объективной науки о
духе, объективного учения о душе – объективного в том смысле, что оно
считает души и сообщества личностей существующими внутри
пространственно-временных форм, – никогда не было и никогда не будет.
<…> Дух по своей сути предназначен к самопознанию, и как научный дух
– к научному самопознанию, и далее вновь и вновь. Лишь в чистом
духовно-научном познании ученый не заслужит упрека в том, что от него
скрыт смысл его собственных усилий. Поэтому науки о духе извращаются
в борьбе за равноправие с естественными науками. Лишь только они
признают за последними их объективность как самостоятельность, так
сами впадают в объективизм. Но в том виде, в каком они существуют
сейчас со всеми своими многообразными дисциплинами, они лишены
последней, подлинной, добытой в духовном миросозерцании
рациональности»74. Поэтому прежде, чем утверждать научность
«литературоведческой грамматики» в качестве единственно значимой для
теории литературы, не худо было бы сначала опровергнуть приведенные
положения Э.Гуссерля. Можно сомневаться, что кому-либо это удастся
сделать.
Сказанное об объективизме в той же, если не в большей, степени
относится к понятию «субъект», критика которого, развернутая немецким
идеализмом, была не только продолжена, но и осуществлена на более
глубоком уровне в ХХ веке75.
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск: САГУНА, 1994. – С.120,
124-125.
75
См.: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С.16.
74
30
Осознание факта, что объективизм, равно как субъективизм, в
гуманитарной сфере непоправимо сужают горизонт возможного
понимания, произошло в философии очень рано, задолго до Э.Гуссерля.
Сам Э.Гуссерль «признает за своей феноменологией преемственность
трансцендентальной постановки вопроса у Канта и Фихте»76. Г.-Г.Гадамер,
введя в контекст разговора работы В.Дильтея и графа Йорка77, упоминает
также философию тождества и отдельно «Феноменологию духа» Гегеля 78.
Когда, к примеру, Ф.Шеллинг в «Системе трансцендентального
идеализма» соотносит объективизм с обыденным знанием, отказывая ему
в принадлежности к подлинной рациональности 79, он делает вывод,
аналогичный тому, к которому позднее пришел Э.Гуссерль. В пределах
указанной традиции утверждается иное, более глубокое понимание
сущности субъект-объектных отношений. В настоящей работе нет
возможности входить в детальное рассмотрение этой объемной проблемы,
поэтому ограничусь лишь некоторыми примерами.
С формулировки интересующего нас положения начинается упомянутая
работа Ф.Шеллинга: «Всякое знание основано на совпадении объективного и
субъективного. Ибо знают только истинное; истина же состоит в совпадении
представлений с соответствующими им предметами»80. О том же говорит
Э.Гуссерль в работе «Философия как строгая наука»: «…Если теория
познания хочет… исследовать проблемы отношения между сознанием и
бытием, то она может иметь при этом в виду только бытие как коррелят
сознания, как то, что нами «обмыслено» сообразно со свойствами сознания:
как воспринятое, воспомянутое, ожидавшееся, образно представленное,
сфантазированное, идентифицированное, различенное, взятое на веру,
предположенное, оцененное и т.д. <…> Всякий род предметов, которому
предстоит быть объектом разумной речи,… должен сам проявиться в
познании, т.е. в сознании, и, сообразно смыслу всякого познания, сделаться
данностью»81. Нетрудно заметить, что приведенное суждение соприкасается с
«эйдосной» теорией литературы («образно представленное»), но так же и – в
определенном смысле – с «персоналистской», подтверждением чего является
применение М.М.Бахтиным феноменологического метода в ряде работ82 при
всей противоречивости его отношения к феноменологии. Почему только
«соприкасается»? Потому что феноменология редуцирует эйдос, а
«эйдосная» теория литературы его тематизирует; потому что феноменология
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – С.294.
Г.-Г.Гадамер в данном случае движется вслед за М.Хайдеггером; см. сопоставление
идей В.Дильтея и графа Йорка в кн.: Хайдеггер М. Бытие и время. – С.397-404.
78
См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – С.303.
79
См.: Шеллинг Ф.В. Сочинения: В 2 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1987. – С.237.
80
Там же. – С.232. Пер. М.И.Левиной.
81
Гуссерль Э. Ук. книга. – С.139.
82
См.: Гоготишвили Л.А. Комментарий к рукописи М.М.Бахтина «К философским
основам гуманитарных наук» // Бахтин М.М. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.5. – С.399.
76
77
31
редуцирует «мирскую жизнь» и «мирские интересы», а «персоналистская»
теория литературы их тематизирует83. Именно потому, что феноменология
постэстетична, т.е. конституируется на основе редукции эстетического, она
не является методологической основой «эйдосной» теории литературы. В то
же время эта редукция является тем, что сближает феноменологию и
теоретико-литературный персонализм.
Нет сомнения, что в сфере наук о духе способность понимания, о
которой говорят Ф.Шеллинг и Э.Гуссерль, неизмеримо превосходит как
односторонний объективизм, так и – причем с еще большими основаниями –
односторонний субъективизм. И если бы наше понимание всегда
осуществлялось в пределах субъект-объектной схемы, можно было бы
утверждать, что данная способность открывает путь к наиболее глубокому
пониманию сущности поэзии. Все дело, однако, в том, что означенной
схемой не охватывается, воспользуюсь выражением Г.-Г.Гадамера, все
«целое самого осуществления понимания»84. Это целое может приоткрыться
лишь в горизонте фундаментальной онтологии, мыслящей бытие как
понимающее присутствие в мире: «Бытие-истинным (истинность)
высказывания должно быть понято как бытие-раскрывающим. Истинность
имеет таким образом никак не структуру согласованности между познанием
и предметом в смысле приравнивания одного сущего (субъекта) к другому
(объекту). Бытие-истинным как бытие-раскрывающим опять же
онтологически возможно только на основе бытия-в-мире. Этот феномен, в
котором мы опознали основоустройство присутствия, есть фундамент
исходного феномена истины»85.
Сразу же проясняется ограниченность той онтологической
проблематики,
обсуждение
которой
возможно
в
пределах
представляющего мышления («эйдосная» и «персоналистская» теории
литературы). Ограниченность, которая имеется здесь в виду, с
неизбежностью
обусловлена
онтологической
беспочвенностью
субъективированного сознания, которое утверждает себя в качестве
конститутивного момента познания. Понимание – это не просто одна из
способностей или функций нашего сознания, «не примиренческий идеал
человеческого жизненного опыта в старческую эпоху духа, как у Дильтея,
но также не последний методологический идеал философии в противовес
наивности безыскусной жизни, как у Гуссерля; это, напротив, изначальная
форма исполнения человеческого существования, которое представляет
собой в-мире-бытие. До всякой дифференциации понимания на различные
направления прагматического и теоретического интереса понимание
является способом бытия человека, поскольку оно есть способность бытия
См.: Гуссерль Э. Ук. книга. – С.69-71, 75-77.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – С.22.
85
Хайдеггер М. Бытие и время. – С.218-219.
83
84
32
и «возможность»86. В этом суждении раскрыта одна из основных
особенностей хайдеггеровской фундаментальной онтологии. В той мере, в
какой поэзия оказывается бытийной (а кто в наше время будет это
отрицать?), понимание как «изначальная форма исполнения человеческого
существования» не может не быть актуальным и в ее сфере. Таким
образом, в контексте фундаментальной онтологии (которая, приобщаясь к
поэзии, становится «филологической» теорией, поскольку осуществляется
в ситуации не просто «при языке», но при поэтическом языке)
вторичными оказываются не только субъект-объектная схема, не только
исходящая из нее любая методологическая установка, но также само
разграничение наук на естественные (науки о природе) и гуманитарные
(исторические, науки о духе).
в). Когда в предыдущем пункте мы говорили о соотнесенности
познающего сознания и познаваемого предмета как высшей форме субъектобъектных отношений, мы уже, собственно, перешли к рассмотрению
третьей аксиомы, подразумевающей, что поэзия – это всегда предмет
теоретико-литературного изучения. Может быть, наиболее удачно сущность
данной методологической установки выразил В. фон Гумбольдт: «Делая
сопричастной себе форму всего происходящего, дух должен лишь глубже
понять действительно доступный исследованию материал, научиться
познавать в нем больше, чем это доступно простой рассудочной операции.
Все сводится единственно к этой ассимиляции исследующей силы и
исследуемого предмета»87. Именно об этой ассимиляции на самом деле шла
речь, когда был затронут вопрос о взаимной обусловленности языка описания
и предмета осмысления, которая по-разному проявляется в «эйдосном» и
«персоналистском» направлениях современной теории литературы.
Методологически более совершенный подход делает возможным более
глубокое понимание сущности поэтического творчества в пределах двух
названных направлений. Открывается, следовательно, путь к достижению
такой научной строгости познания, которая оставляет далеко позади любую
объективистскую «точность». Однако отмеченное важное отличие
«эйдосного» и «персоналистского» направлений от «литературоведческой
грамматики» все же утверждается в пределах их общей принадлежности
сфере представляющего мышления. Для каждого из них в силе остается
понимание истины как «достоверности представления»88 при всех
существенных отличиях в характере самого представления – наглядного
(«эйдосная» теория литературы) или абстрактного («прозаического», по
определению Гегеля) в двух других направлениях. При этом и здесь
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – С.311. См. также: Хайдеггер М. Бытие и время. –
С.148-153.
87
Гумбольдт В. фон. О задаче историка // Гумбольдт В. фон. Язык и философия
культуры. – М.: Прогресс, 1985. – С.294. Пер. М.И.Левиной.
88
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.48.
86
33
устанавливаются противоположности: «прозаическое» представление
«литературоведческой
грамматики»
доэстетично,
тогда
как
«персоналистской» – постэстетично: оно направлено на онтологическое,
формирующееся на основе редукции эстетического.
Является ли опредмечивание поэзии единственно возможным путем
постижения ее сущности? Если нет, обеспечивает ли такой подход более
глубокое ее понимание, чем возможный какой-либо иной? На первый вопрос
ответил Г.-Г.Гадамер: «Рефлектирующий дух кажется сначала безгранично
свободным. В своем возвращении к себе он всецело у себя. В самом деле,
немецкий идеализм – в фихтевском понятии деятельности или в гегелевском
понятии абсолютного знания – мыслил это осуществление у-себя-бытия духа
как наивысший из всех возможных способов наличного бытия вообще,
присутствия вообще. Но как только понятие полагания было подвергнуто
феноменологической критике, обнаружилось, что главенство рефлексии
основательно подорвано. В ходе этой критики выяснилось, что не всякая
рефлексия выполняет объективирующую функцию или, иначе говоря, не
всякая рефлексия превращает в предмет то, на что она направлена. <…> Речь
идет не о том, что осуществлению понимания постоянно сопутствует сознание,
по своему содержанию не являющееся опредмечивающим, а о том, что
понимание вообще не может быть схвачено как сознание чего-то,
поддающегося исчислению, что целое самого осуществления понимания
вовлечено в событие, им овременено и им пронизано. Свобода рефлексии, это
мнимое у-себя-бытие, в понимании вообще не имеет места – настолько всякий
акт определен историчностью нашей экзистенции»89. Стремление к
тотальному опредмечиванию познаваемого и осмысляемого – следствие той
самой «наивности рефлексии»90, которая должна быть преодолена. Последняя
фраза является ответом на второй вопрос, сформулированный выше.
Таким образом, постулируемая «филологическая» теория начинается
там, где заканчивается сфера действия охарактеризованных направлений
современной академической теории литературы. Актуальное для нее
мыслительное пространство начинается за пределами методологизма,
субъект-объектной
установки,
опредмечивающего
подхода
к
поэтическому произведению. Это пространство оказывается достижимым
при одном самом главном условии: мы должны научиться воспринимать
язык не как предмет научного познания, но как онтологическую основу,
предопределившую саму возможность человеческого мышления,
следовательно, и самого научного познания. Речь, стало быть, идет не об
онтологии, которая конституируется в сфере представляющего мышления,
следовательно, предстает в своем метафизическом измерении («эйдосная»
теория литературы и «персоналистская»), но о фундаментальной
89
90
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – С.20, 22-23.
Там же. – С.16, 19.
34
онтологии, сущность которой может быть понята лишь в пространстве
вопрошающего мышления.
Сказанного, очевидно, недостаточно, чтобы прояснить, в чем
заключается
онтологическое
различие
теоретико-литературного
персонализма и «филологической» теории. Мы знаем, что и для
М.М.Бахтина, и для М.Хайдеггера бытие событийно, однако
артикулируется ими эта важнейшая для них особенность бытия
противоположным образом. Сущность позиции М.М.Бахтина адекватно
раскрывается в выражении событие бытия, тогда как у М.Хайдеггера
речь идет о бытии события. Это значит, что М.М.Бахтин мыслит событие
из бытия, тогда как М.Хайдеггер, напротив, бытие из события 91.
Понимание
бытия,
следовательно,
у
М.М.Бахтина
остается
метафизическим, а событие и бытие предстают как «понятие»,
«категория»92, т.е. осмысляются в границах представляющего мышления.
Понятием бытия не случайно у М.М.Бахтина обусловлено «надбытие», в
котором и для которого в свою очередь «все бытие» существует 93. У
М.Хайдеггера бытие в качестве события предстает как равноизначальное
истине и должно быть помыслено из присутствия в его соотнесенности с
существом языка, как оно проявляется в сказе и в речи, каковой может
стать сказ. Ни о каком «надбытии» здесь ничего нельзя сказать, пока оно
не выступит в присутствие, в «просвет бытия», пока оно не станет бытием.
Вопрошающее мышление не методологично, поскольку оно – не путь
к истине. Прежде, чем вступить на тот или иной путь, человек должен
отдать себе отчет в том, какую цель он преследует и на какие вопросы он
должен найти ответы на этом пути. Другими словами, человек
предварительно устанавливает закон или законы, которым он должен
подчиняться, чтобы не сбиться с пути. Поэтому изначально не путь ведет
нас, но мы устанавливаем, каким он должен быть, и только затем, когда
сделаны первые шаги, начинает действовать инерция пути, которая не
всегда приводит к тому, что мы надеялись обрести. Но даже если на всех
путях нас ожидало разочарование, все же нельзя сказать, что они были
бесполезны: лишь пройдя их и обретя таким образом опыт иного, человек
возвращается к своему началу, но возвращается другим. Теперь он
оказывается способным к сосредоточенному всматриванию и
вслушиванию в то, что когда-то без сожаления оставил, про-смотрел и что
на самом деле составляет основу его присутствия, пре-бывания в мире –
его бытия. И тогда другим смыслом наполнятся многие привычные и
потому ставшие закрытыми слова, например, слово «закон»: «Νόμος не
просто закон, но в более изначальной глубине предназначение, таящееся в
миссии бытия. Только это предназначение способно привязать человека к
См.: Хайдеггер М. Время и бытие. – С.426.
См.: Михаил Бахтин: pro et contra. – Т.I. – СПб.: РХГИ, 2001. – С.63, 65.
93
См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.341.
91
92
35
бытию. Только такая связь способна поддерживать и обязывать. Иначе
всякий закон остается просто поделкой человеческого разума.
Существеннее всякого установления правил, чтобы человек нашелся в
истине бытия как своем местопребывании. <…> Наш язык называет
надежное место пребывания «кровом». Бытие есть кров, который укрывает
человека, его экзистирующее существо, в своей истине, делая домом
экзистенции язык. Оттого язык есть вместе дом бытия и жилище
человеческого существа»94. Чтобы уяснить ближайшее («кров», «дом»,
«жилище»), не нужно никуда «идти», но для начала нужно осознать факт
своей принадлежности языку как «дому бытия», под кровом которого
возможно такое понимание, которое становится исполнением
изначального способа присутствия человека в мире – его предназначения.
При этом не нужно забывать, что если язык – «кров», «дом бытия», то
поэзия (ποίησις) – его сокровенная горница. Вопрошанием, стало быть,
правит не установка субъективированного сознания, но сам язык, в нашем
случае – поэтическая речь. Когда М.Хайдеггер одну из ключевых своих
филологических работ называет «Путь к языку»95, он имеет в виду, что
много нужно пройти, прежде чем путь станет пребыванием. Это
произойдет лишь тогда, когда уяснится, что язык, прежде всего, «хранитель присутствия»96. Такое пребывание никогда не бывает простым
продолжением пройденного: на «пути к языку», в случае, если сущность
языка нам приоткрылась, неизбежно изменяется «смысл формулы пути»97.
Путь принадлежит теперь не человеку, а «существу языка»98.
Отнюдь не праздный вопрос, в каком случае наше понимание более
подлинно – когда мы открыты смыслу, который сказывается поэтической
речью, или, напротив, когда мы ограничены рамками избранного метода,
причем таким образом, что никогда не проблематизируем его
основоположения? Ясно, что в том и другом случае речь идет о разном
понимании: «…Может иметься миропонимание, которое изначально
разворачивается из здесь-бытия, – тогда оно подлинно; или оно может
развиваться внутри заранее заданных рамок, не ставя их под вопрос, даже
их, собственно, не понимая, – тогда оно не подлинно»99. Оставляя в
стороне вопрос об иерархии, укажу только, что данным суждением уже
намечено предпринятое мною разграничение толкования и интерпретации.
В «филологической» теории, поскольку ее сущность определена
вопрошающим мышлением, открывается «перспектива для мысли,
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.218.
См.: там же, с.259-273.
96
Там же. – С.272.
97
Там же. – С.260.
98
Там же. – С.269.
99
Бимель М. Мартин Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе и своей жизни. –
Челябинск: Урал LTD, 1998. – С.95.
94
95
36
пытающейся отвечать существу языка»100. По той причине, что существо
языка наиболее полно выявляется именно в поэзии как изначальном
сказывании истины, «филологическая» теория обращена именно к ней.
Любое усилие мысли в данном случае одновременно оказывается усилием
поэзии помыслить и осмыслить себя: в этом заключена сама суть
вопрошающего мышления. Вот почему постулируемая «филологическая»
теория не является «философией языка», которая никакого другого языка,
кроме как опредмеченного, не знает. С указания на это разграничение
начинает предисловие к русскому изданию своей книги Фр.-В. фон
Херрманн: «Название моей публикуемой здесь в переводе работы
Фундаментальная онтология языка призвано указать, что вопрос о
сущности языка ставится не в привычных границах одной из философских
дисциплин, философии языка…». И далее: «…Включение в
фундаментально-онтологически
ограниченную
экзистенциальную
онтологию вот-бытия выявления экзистенциальной сущности языка
свидетельствует о том, что к сущности бытия, мира, пространства,
времени и истины принадлежит сущность языка, а именно таким образом,
что бытие, мир, пространство, время и истина обусловлены сущностью
языка»101. Поэтому вопрошание – это, прежде всего, вопрошание самого
языка. Толкование как способ понимания поэтической речи движется в
пространстве так понятого языка. Сказанное необходимо рассматривать
как одну из попыток выявить сущность «филологической» теории.
Философия языка, как и наука о языке, не только не раскрывает, но уводит
в сторону от понимания подлинной природы языка: «У нас есть наука о
языке, а бытие сущего, которое она имеет темой, туманно; даже горизонт
для исследующего вопроса о нем загорожен. <…> Философскому
исследованию придется отказаться от «философии языка», чтобы
спрашивать о «самих вещах», и оно должно привести себя в состояние
концептуально проясненной проблематики»102. Одна из основных задач
«филологической» теории как раз и заключается в прояснении
проблематики, связанной с онтологической природой поэтической речи.
Сложнее, нежели с вопросом о философии языка, обстоит дело с
вопросом о герменевтике. Это слово влечет за собой целый шлейф
разнообразных смыслов и значений, которые нуждаются в развернутом
рассмотрении. Кратко можно сказать, что «филологическая» теория, как ее
понимает автор книги, не связана непосредственно с герменевтикой ХІХ
века, которая целиком конституируется в границах представляющего
мышления. Что касается века ХХ, то как раз в период интенсивных
размышлений о сущности вопрошающего мышления, об онтологической
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.277.
Херрманн Фр.-В. фон. Фундаментальная онтология языка. – Мн.: ЕГУ, ЗАО
«Пропилеи», 2001. – С.6-7. Пер. И.Н.Инишева.
102
Хайдеггер М. Бытие и время. – С.166.
100
101
37
природе языка М.Хайдеггер от понятия «герменевтика» отказывается 103.
Впрочем, вполне корректно называть «филологическую» теорию
филологической герменевтикой при условии, что имеется в виду
герменевтика ХХ века, как ее определяет М.Хайдеггер: «Герменевтика в
«Бытии и времени» и не учение об искусстве истолкования, и не само
истолкование,
но
скорее
попытка
впервые
определить
из
герменевтического существо истолкования». Загадочность сказанного, не
забывает уточнить свою мысль М.Хайдеггер, не в последнюю очередь
объясняется тем, что «предмет загадочен и, возможно, дело идет даже
вовсе не о предмете»104. Приведенным суждением проясняется
одновременно вопрос о правомерности разграничения интерпретации и
толкования. До тех пор, пока мы остаемся в сфере действия
охарактеризованных выше аксиом, никакой необходимости в таком
разграничении нет и быть не может. В пределах «эйдосной» теории
литературы, «литературоведческой грамматики», «персоналистской»
теории литературы синонимичное использование этих слов вполне
корректно. Такое толкование, однако, которое не различается с
интерпретацией, имеет доонтологический характер, если онтологию
мыслить в пространстве вопрошающего мышления, оставляющего в
стороне метафизическую проблематику с конститутивной для нее субъектобъектной схемой. Когда же для нас актуальной становится граница,
разделившая современную академическую теорию литературы и теорию
«филологическую», разграничение интерпретации и толкования как двух
способов понимания, соотнесенных с двумя разными способностями
мышления – представляющим и вопрошающим, становится совершенно
необходимым.
Утверждаясь в своем собственном качестве, «филологическая» теория
не ставит своей целью упразднить предшествующие направления или
поставить под сомнение правомерность их существования. Она
утверждается в той сфере, где нет почвы для борьбы, где принцип «илиили» не действует. Ее рождение – «приращение нового измерения
исследования»105. Необходимость такого приращения понятна из
вышеизложенного. Выступать против этой необходимости – значит,
ставить под сомнение «ведущую функцию» и «бесконечную задачу» не
только философии, но и, по крайней мере, в не меньшей степени
филологии – «функцию свободной и универсальной теоретической
рефлексии»106. Только направление, в котором подспудно присутствует
чувство ущербности, может испытывать враждебность к этой функции и
задаче и выступать против нее.
См.: Хайдеггер М. Время и бытие. – С.278-279.
Там же. – С.279.
105
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – С.295.
106
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – С.118.
103
104
38
1.1.3. ОБ ИСТОКАХ СОВРЕМЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРИИ «ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ»
Поскольку из всех направлений современной теории литературы
именно «литературоведческая грамматика» наиболее полно воплотила
идеал абстрактно понятой научности, в данном параграфе я
преимущественно ее буду сравнивать с постулируемой мною
«филологической» теорией. Выше говорилось, что «литературоведческая
грамматика» ХХ века генетически связана с «эйдосной» теорией
литературы предшествующего периода. Здесь же на ее примере коснемся
вопроса об общей связи современного теоретического литературоведения
с греческой античностью.
«Литературоведческая грамматика» (как и любое другое направление
современной академической теории литературы) генетически связана с
той эллинистической грамматикой, которая, как свидетельствует Секст
Эмпирик, была «выработана Кратетом Маллотским, Аристофаном и
Аристархом»107 в III-II вв. до Р.Х. Она представляла собой, помимо
прочего, «искусство понимать поэтов», а, следовательно, призвана была
давать «оценку произведениям», что являлось, по утверждению Дионисия
Фракийца (II-I вв. до Р.Х.)., «самым прекрасным в этом искусстве»108.
Сама по себе эта грамматика – порождение довольно эклектического
времени, характер которого, может быть, наиболее ярко проявился в том,
как спуталось в конце концов в ней, утратив глубину и принципиальность,
понимание сущности языка. В Платоновом «Кратиле» столкновение двух
разных пониманий языка – присущи ли имена вещам от природы или,
напротив, они возникают по соглашению – достигает драматической
напряженности, и при этом ни Сократ, ни Кратил, ни Гермоген нисколько
не сомневаются, что эти понимания взаимно исключают друг друга, так
что любой мыслящий человек оказывается перед выбором:
- Ὅῳ ὶ ὶ διαφέρει, ὦ Σωκρατες, τὸ ὁμοιώματι δηλοῦν ὅ τι ἄν τις
δηλοῖ, ἀλλὰ μὴ τῷ ἐπιτυχόντι, – говорит Кратил, и Сократ соглашается:
- Καλῶς λέγεις109.
(– Совершенно разное, Сократ, с помощью подобия «казать» то, что
может становиться явным, или невпопад.
– Прекрасно говоришь).
Однако поздний наследник александрийской грамматики Аммоний
(около 500 г.) утверждает, что при соответствующем подходе оба
понимания языка оказываются тождественными: «ведь имена,
установленные творцом имен как имеющие соответствие с теми вещами,
Секст Эмпирик. Против грамматиков // Секст Эмпирик. Сочинения: В 2 т. – Т.2. –
М.: Мысль, 1976. – С.61. Пер. А.Ф.Лосева.
108
Античные теории языка и стиля. – СПб.: Алетейя, 1996. – С.112. Пер. А.И.Доватура.
109
Plato. Opera quae feruntur omnia. – Vol. 2. – Lipsiae, 1877. – S.78, 433e 29 – 434a 1.
107
39
которым они принадлежат, могут быть названы существующими от
природы, а как установленные кем-то – существующими по
установлению»110. Поэтому, по мнению Аммония, нет никакого
противоречия между Кратилом и Гермогеном, между Платоном и
Аристотелем, утверждавшим, в отличие от Платона, «что ни одно из имен
не существует от природы»111. Вряд ли такую позицию можно назвать
плодотворной.
Возникновение грамматики обусловлено тем переворотом в понимании
сущности языка, начало которому было положено еще в Греции
«классической» поры. В конечном счете, этот переворот может быть возведен
к столкновению устной (изначальной) и письменной культур.
Γραμματικὴ τέχνη буквально означает: грамматическое искусство, т.е.
искусство правильного чтения и письма. Прилагательное γραμματική
образовано от существительного γραμμή, что значит: черта, линия. Понятным
становится особое положение писцов в архаических обществах: «Так, в
Древнем царстве участие в исполнении культа рассматривалось как
дополнительная профессия, и жреческие функции по очереди принимали на
себя чиновники, в остальное время занимавшиеся совсем другими делами.
Единственным профессиональным жрецом был «жрец-чтец», по-египетски
называвшийся «носителем папирусного свитка», потому что он владел
магической силой божественного слова»112. Будучи выраженным с помощью
линий, язык как бы поступал в распоряжение писцов, которые, вследствие
этого, наделялись священными полномочиями, присущими ранее только
богам: записывая слова, они тем самым оказывались творцами (или сотворцами) нового состояния языка. Одновременно переход к письменной
речи стал решающим событием в процессе секуляризации языка.
Человеческое, вторгшись в сферу божественного, со временем осваивается в
новой для него сфере и перестает нуждаться в божественном вообще. Этот
момент уже свершившейся секуляризации языка отмечен Аристотелем, когда
он утверждает в трактате “О герменейе”, что “всякая речь что-то
обозначает… в силу соглашения”113. Речь, таким образом, становилась
принадлежностью человека, а заодно в его распоряжение поступало и
поэтическое слово, становясь предметом осмысления, то есть предметом
будущей поэтики.
Удивительно (или, может быть, закономерно), что следствием этого
события стало, говоря сегодняшним языком, существенное обесценивание
поэтического слова: оно, перестав быть средоточием священного, очень
Античные теории языка и стиля. – С.81. Пер. Я.М.Боровского.
Там же.
112
Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. – М.: Присцельс,
1999. – С.17. Пер. Т.Баскаковой.
113
Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т.2. – М.: Мысль,1978. – С.95, 17а. Пер.
Э.Л.Радлова.
110
111
40
скоро стало своей противоположностью, по определению Секста Эмпирика
(приблизительно II в. н. э.), – забавой «базарной черни»: «Ведь нетрудно
показать, что поэты поют не в один голос и воспевают то, что только ни
захотят…»114. Столь же нетрудно, впрочем, представить, что сказали бы
Сексту Эмпирику по поводу этого его утверждения, к примеру, Пиндар или
Платон, которые знали времена, когда считалось, что поэты воспевают не то,
что захотят, и что поют они в один голос, а голос этот – божественный:
«…Ради того бог и отнимает у них (у поэтов. – А.Д.) рассудок и делает их
своими слугами, божественными вещателями и пророками, чтобы мы,
слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь драгоценные
слова, а говорит сам бог и через них подает нам свой голос»115.
Но Секст Эмпирик живет в другое время, поэтому нисколько не
затрудняется высказать, например, такое суждение: «…Можно легко
доказать, что полезного для жизни больше открывают [прозаические]
писатели, чем поэты. Ведь первые стремятся к истине, в то время как вторые
изо всех сил стремятся привлечь души, а души привлекает больше ложь, чем
истина»116.
Это пренебрежительное отношение к поэзии вновь, как это ни странно,
возвращает нас к Аристотелю, о котором закрепилось мнение, что он,
возражая Платону, будто бы изгонявшему всех поэтов из идеального
государства, восстановил поэзию в правах. Все помнят слова Аристотеля из
«Поэтики»: «…Поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия
больше говорит об общем, история – о единичном»117. При этом, однако,
забывают его слова из «Метафизики» о том, что «науки об умозрительном
(θεωρητικαί) – выше искусств творения (ποιητικαί)»118. Науки об
умозрительном выше искусств творения, поскольку, в отличие от них,
являются собственно философскими: им присуща σοφία (мудрость) потому,
что они занимаются «первыми причинами и началами»119. Упомяну и другой,
еще более показательный пример. Чуть далее в той же «Метафизике»
Аристотель говорит: «…Обладание ею (имеется в виду философия. – А.Д.)
можно было бы по справедливости считать выше человеческих
возможностей, ибо во многих отношениях природа людей рабская, так что,
по словам Симонида, «бог один иметь лишь мог бы этот дар», человеку же не
подобает искать несоразмерного ему знания. Так вот, если поэты говорят
правду и если зависть – в природе божества, то естественнее всего ей
проявляться в этом случае, и несчастны должны быть все, кто неумерен. Но
Секст Эмпирик. Ук. книга. – С.112.
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1990. – С.377, 534с-d. Пер.
Я.М.Боровского.
116
Секст Эмпирик. Ук. книга. – С.116.
117
Аристотель. Сочинения. – Т.4. – С.655, 1451b. Пер. М.Л.Гаспарова.
118
Аристотель. Сочинения. – Т.1. – С.67, 982а. Пер. А.В.Кубицкого.
119
Там же. – С.67, 981а.
114
115
41
не может божество быть завистливым (впрочем, и по пословице «лгут много
песнопевцы»), и не следует какую-либо другую науку считать более ценимой,
чем эту. Ибо наиболее божественная наука также и наиболее ценима»120.
Перед нами не просто свидетельство соперничества поэзии и философии за
право на преимущественную принадлежность к истине. Всем известно, что
философия впервые утверждается в своем собственном качестве в
противостоянии так называемому «здравому смыслу». Та увековеченная
Платоном, а затем Диогеном Лаэртским по-своему неглупая то ли
«миловидная и бойкая фракиянка»121, то ли «старуха»122, которая смеялась
над упавшим в яму философом («Что же, Фалес? ты не видишь того, что под
ногами, а надеешься познать то, что в небесах?»), навсегда осталась
олицетворением чуждого философии обыденного рассудка.
Этому противостоянию, однако, предшествовало противостояние правды
поэтического слова, которое всегда есть «ἐνόρκιον λóγον ἀλαῖ νóῳ»123 (т.е.
«освященное клятвой слово», которое сказывается «пребывающим в истине
умом», соответственно и обращено к уму, «пребывающему в истине») и того,
что Пиндар обозначает как панглоссию (букв.: всеязычие в смысле
«болтовня»124). Так вот, в лице Аристотеля философия в своем противостоянии
поэзии явно берет сторону панглоссии, когда наделяет легитимностью
приходящее из той же области, из которой раздается насмешка «миловидной
фракиянки» (поверим Платону) над незадачливым философом. Сказанное
вовсе не означает, что философия сама конституируется в пространстве
панглоссии. Напротив, философия озабочена тем, чтобы установить новые
границы, которые защитили бы ее от насмешек. Но тем самым мы еще раз
убедились в первородстве поэзии, следовательно, филологии, осмысляющей
поэзию, по отношению к философии. В этом заключается еще одно
существенное отличие «филологической» теории от всех направлений
современной академической теории литературы, которые осознают себя в
качестве вторичных по отношению к философии и нуждаются в философском
обосновании своей методологии. Сказанным также еще раз выявлена
ошибочность возможного возражения, что постулируемая в книге
«филологическая» теория – это на самом деле «философия».
Ясно, что приведенные выше крайние выводы Секста Эмпирика
относительно поэзии – лишь следствие некоторых фундаментальных
положений аристотелевского учения, даже если прямая связь здесь
Там же. – С.69, 982b-983a.
Платон. Собр. сочинений. – Т.2. – С.230, 174а.
122
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.:
Мысль, 1979. – С.73, 34. См. также: Эзоп. Басни. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. – С.156.
123
Pindarus. Carmina cum fragmentis. – Pars 1. – Lipsiae: BSB B.G.Teubner
Verlagsgesellschaft, 1980. – Р.12, 92.
124
См.: ibid., р.12, 87; Гринбаум Н.С. Художественный мир античной поэзии:
Творческий поиск Пиндара. – М.: Наука, 1990. – С.88.
120
121
42
отсутствует. Переворот в понимании сущности языка и природы
поэтического слова, произошедший во времена Аристотеля, привел
впоследствии к такой дискредитации поэзии, о которой Платон, якобы ее
хулитель, никогда не помышлял. Нет сомнения, что исток
«литературоведческой грамматики» следует искать в учении Аристотеля, и
то, что именно он является автором первой «Поэтики», – совсем не случайно.
Исток же «филологической» теории – в том изначальном преклонении перед
речью (логосом), которое вполне еще ощутимо у Сократа, без колебаний
признавшего себя в разговоре с Федром филологом (ἀνδρὶ φιλολόγῳ; 236е).
За словом φιλολογία закрепился перевод «любовь к слову», причем
преимущественно к «написанному слову», поскольку сама филология, как
утверждает один из авторитетнейших современных ученых, «возникает на
сравнительно зрелой стадии письменных цивилизаций»125. Нетрудно
заметить, что С.С.Аверинцев рассматривает филологию в границах той
античной грамматики, о которой говорилось выше. Между тем уже опыт
Сократа, исключительно принадлежащего к стихии устной культуры и
одновременно числящего себя среди филологов, заставляет с осторожностью
подойти к такому ее пониманию.
Более точный перевод слова φιλολογία – любовь к беседам, причем не ко
всяким, но таким, которые выходят за пределы повседневных житейских
нужд. Еще Секст Эмпирик филологический (серьезный) разговор
противопоставляет «простонародному речению»126. Однако перевод носит
пока еще очень предварительный характер. Греческое слово имеет в виду
особую любовь и особую беседу: одного указания на ее «ученое» содержание
слишком мало. О какой любви говорит нам φιλέω и в чем заключается
отличие этого слова от других, «синонимичных»? Чувство любви погречески выражается с помощью разных слов. Ἀγαπάω значит: оказывать
дружеское расположение тому, кто в нем нуждается. Ἀγαπή, стало быть, – это
любовь, которую я испытываю и которой готов поделиться с теми, на кого
она распространяется.
Στέργω, напротив, имеет в виду любовь, в которой я нуждаюсь. Любовь
здесь выступает в качестве благосклонности, благорасположения, о которых
я прошу, в том числе и поклоняясь. О такой любви молит Аполлона и других
богов хор во втором стасиме «Эдипа в Колоне»:
Явитесь сюда, небожители!
Ныне подайте, молю (στέργω),
Свою двуединую помощь
Этому краю и всем
Его населяющим гражданам!127
Аверинцев С.С. Филология // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.:
Сов. энциклопедия, 1990. – С.544 – 545.
126
См.: Секст Эмпирик. Ук. книга. – С.101.
127
Софокл. Трагедии. – М.: Худож. лит., 1988. – С.146, 1094. Пер. С.В.Шервинского.
125
43
Φιλέω же – к примеру, по отношению к логосу – указывает на такую
любовь, в которой моя принадлежность, моя привязанность к логосу не
может быть поставлена под сомнение. ό- – это, прежде всего,
человек, который не только любит беседу, но умеет ее вести, поскольку
причастен смыслу логоса (беседы, речи), этому смыслу принадлежит.
Нам, таким образом, приоткрылось содержание и второй части слова
ί. Эту древнегреческую беседу мы ни в коем случае не должны
мыслить в категориях современных диалогистов. В диалоге, как его
объясняет М.Бубер, «два … человека, очевидно, должны быть обращены друг
к другу, должны быть – все равно с какой мерой активности – обращены друг
к другу»128. Каждый участник диалога является носителем самоценной
истины, в столкновении убеждений проявляется их взаимная ограниченность,
которая может быть преодолена лишь «на бессмертное мгновение» – в
царстве, где «закон убеждений не имеет силы»129. Но даже если в результате
подлинного диалога проявится не мгновенная, а более продолжительная
общность – экзистенциальная («общность ситуации, страха и ожидания»130),
она проявится не потому, что будет преодолено противостояние убеждений,
но вопреки этому противостоянию.
Там, где, согласно М.Буберу, диалог прерывается «бессмертным
мгновением», там беседа в том смысле, как ее понимали древние греки,
еще не начиналась. В беседе обращенность участвующих в ней людей
совсем иная. Природу этой иной обращенности (со-принадлежности) нам
объясняет Г.-Г.Гадамер: «Мы говорим, что мы «ведем беседу»; однако чем
подлиннее эта беседа, тем в меньшей степени «ведение» ее зависит от
воли того или иного из собеседников. Так, подлинный разговор всегда
оказывается не тем, что мы хотели «вести». В общем, правильнее будет
сказать, что мы втягиваемся или даже, что мы впутываемся в беседу. В
том, как за одним словом следует другое, в том, какие повороты, какое
развитие и заключение получает разговор, – во всем этом есть, конечно,
нечто вроде «ведения», однако в этом «ведении» собеседники являются в
гораздо большей мере ведомыми, чем ведущими. Что «выяснится» в
беседе, этого никто не знает заранее. Достижение взаимопонимания или
неудача на пути к нему подобны событию, случающемуся с нами. И лишь
когда разговор окончен, мы можем сказать, что он получился или же что
судьба ему не благоприятствовала. Все это означает, что у разговора своя
собственная воля и что язык, на котором мы говорим, несет в себе свою
собственную истину, то есть «раскрывает» и выводит на свет нечто такое,
что отныне становится реальностью»131.
Бубер М. Диалог // Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – С.99-100.
Пер. М.И.Левиной.
129
Там же. – С.98.
130
Там же. – С.99.
131
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988. – С.446. Пер. А.А.Рыбакова.
128
44
Беседа в том изначальном смысле, который заключен в слове
«филология», возможна лишь там, где отсутствует языковая онтологическая
граница, где беседующие в равной мере способны приобщиться к истине
своего родного языка, к той духовной традиции, которая слилась с ним
воедино и неотрывна от него. Там же, где языковая онтологическая граница
присутствует, там возможен лишь диалог, а «бессмертные мгновения» – это
озарения, когда граница как бы снимается, хотя реально никогда не перестает
существовать.
То, о чем говорит Г.-Г.Гадамер, давно уже было выражено в
поэтическом слове Ф.Гельдерлина:
Многое с утра, с тех пор как
Беседой стали мы и слушаем друг друга,
Постиг уж человек; но (мы) почти и песня.132
Если диалог прерывается «бессмертным мгновением», то беседа
переходит в песню, в которой созвучно дополняют друг друга голоса всех
стихослагающе-поющих в их общей принадлежности истине языка или, как
следовало бы сказать в соответствии с духом греческого мышления, – истине
речи. В этой со-принадлежности истине поэтической речи как раз и
заключается самая суть фило-логической теории, которая, если принять на
веру слова Ф.Ницше, еще не начиналась.
При переходе к «филологической» теории мы должны иначе помыслить
и слово ί. О разных значениях этого слова – изначальном и более
позднем – М.Хайдеггер говорит в работе «Наука и осмысление»(1953). Нам
остается только перевести сказанное им в плоскость нашего разговора.
Как уже было сказано, теоретическая установка «литературоведческой
грамматики» (прежде всего, но не только) зиждется на заранее уже
осуществленном о-предмечивании литературы, на ее (литературы)
«предметном противостоянии» рассматривающе-исчисляющему изучению.
М.Хайдеггер поясняет: «…Не надо понимать такое «исчисление» в узком
смысле цифровых операций. Исчислять – в широком сущностном смысле –
значит брать что-либо в расчет, принимать в рассмотрение, рассчитывать на
что-либо, т.е. ожидать от него определенного результата. В этом плане всякое
опредмечивание
действительного
есть
исчисление,
все
равно,
прослеживается ли тут путем каузальных объяснений вытекание результатов
из причин, составляется ли картина рассматриваемых предметов посредством
их морфологического описания или фиксируется в своих основаниях та или
иная системно-серийная взаимосвязь»133. При этом о-граниченность
«литературоведческой грамматики», как и любой другой науки (физики,
психологии,
истории)
«коренится…
в
том,
что
предметная
противопоставленность, в которой выступает соответственно природа,
человек, исторические события, язык, сама по себе остается в принципе
132
133
Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.272.
Там же. – С.246.
45
всегда только одним из способов их присутствия, причем то или иное
присутствующее, конечно, может, но никогда не обязано проявляться
непременно в нем»134.
Существо языка во всей его полноте – в качестве «не-обходимого» для
филологии – ускользает от опредмечивающего научного рассмотрения, это
«не-обходимое» для него «недоступно». Между тем именно оно (существо
языка) «правит» в теории литературы, постоянно проблематизируя все без
исключения ее постулаты. То, что «не-обходимое» (язык во всей его полноте)
ускользает от рассматривающе-исчисляющего подхода, – не просто некое
недоразумение, которое при желании можно легко исправить, но
принадлежит к самому существу современной академической теории
литературы: «Положение, царящее во всей области науки,… есть постоянная
обойденность недоступного не-обходимого»135.
В отличие от нее, «филологическая» ί оказывается возможной в
такой ситуации, когда «достойное вопрошания» (Хайдеггер; в нашем случае
– язык во всей его полноте как «не-обходимое» филологии) за-тронет нашу
мысль, открывая нам тем самым и наше подлинное призвание, и природу
мышления как такового. И тогда мы ничего не моделируем и не
типологизируем, ничего не у-станавливаем, но сами должны у-стоять, храня
при этом «оберегающее внимание к истине»136.
Ясно, что в пределах всех охарактеризованных выше направлений
современной академической теории литературы мы, как правило, будем
заниматься интерпретациями поэтических произведений, постоянно стремясь к
совершенствованию старых методик и к разработке новых. В
«филологической» же теории присутствует возможность такого
истолковывающего проникновения в существо поэтического слова, когда
достижимой оказывается открываемая истолкованием наша общая
принадлежность истине. Возникает вопрос: является ли анализ в обоих случаях
обязательным условием понимания?
Всем известно, что «анализ» – греческое слово. В современной
философии оно понимается как «процедура мысленного, а часто также и
реального расчленения предмета (явления, процесса), свойства предмета
(предметов) или отношения между предметами на части (признаки, свойства,
отношения)…»137 Обратной анализу процедурой является синтез. Таким
образом понятый «аналитический метод», считает В.Дильтей, «присущ
наукам о духе так же, как и наукам естественным»138.
Там же. – С.249.
Там же. – С.251.
136
Там же. – С.243.
137
Бирюков Б.В. Анализ // Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов.
энциклопедия, 1989. – С.25.
138
Дильтей В. Описательная психология. – СПб.: Алетейя, 1996. – С.62.
134
135
46
Анализ и синтез – именно то, чем традиционно занимается
теоретическое литературоведение. В чем же в таком случае заключается
проблема? Она заключается в том, что греческое слово ἀά на самом
деле никакого прямого отношения к «расчленению» не имеет. Аналюсис –
это разрешение, освобождение, соответственно глагол ἀ-ύ значит:
развязывать, освобождать, разрешать. «Древнейшее употребление слова
«анализ», – говорил М.Хайдеггер на одном из Цолликонеровских семинаров
(23 ноября 1965г.), – мы находим у Гомера, а именно, во второй книге
«Одиссеи». Там оно употреблено для обозначения того, что делает Пенелопа
ночью; собственно, для распускания ею полотна, сотканного днем. ἀύ
означает здесь распускание полотна на составляющие. По-гречески это
значит также и освобождение (разрешение), к примеру, закованного от цепей,
освобождение кого-либо из плена; ἀύ может также обозначать
разъятие взаимопринадлежащих образующих, к примеру, разбирание
палатки»139. «Развязывать» – вовсе не то же самое, что «расчленять».
«Развязывать» здесь – восходить к исходному состоянию, к первоначалу. И в
этом смысле аналитический подход, конечно, принадлежит к
«филологической» теории; при этом проясняется, каким именно образом речь
осуществляет в ней (в этой теории) свое руководство, направляя наше
мышление и определяя характер нашего вопрошания. Но всем понятно, что
это совсем другой подход, и здесь, очевидно, нужны новые уточнения.
Поскольку в «филологической» теории, анализируя, мы преследуем цель
восхождения к первоначалам, постольку здесь на первый план выходит не
прагматически-познавательная,
но
фундаментально-онтологическая
проблематика. Учитывая разъяснение М.Хайдеггера, что «Dasеin-анализ
онтичен, Dasеin-аналитика – онтологична»140, мы можем утверждать, что
анализ в пределах «филологической» теории (т.е. в пределах
истолковывающего подхода к поэтическому слову) не только не является
обязательным условием понимания, но вообще оказывается невозможным,
тогда как аналитика (развязывающее восхождение) не только возможна, но в
известном смысле представляет собой другое имя для толкования.
Отмеченным отличием объясняются все прочие. Так, по той причине, что
«филологическая» теория конституируется в границах фундаментальной
онтологии (вопрошающего мышления), ее проблемой, к примеру, является
вопрос о сущности трагического, тогда как тематическое развертывание
этого вопроса (сюжетосложение греческой трагедии, особенности
композиции и т.д.) не является ее делом. Почему? М.Хайдеггер поясняет, что
тематизация представляет собой целое научного наброска сущего, «к
которому принадлежит артикуляция бытийной понятности, ведомое ею
Хайдеггер М. Цолликонеровские семинары // Логос: Философско-литературный
журнал. – М.: Гнозис, 1992. – № 3 (1). – С.83. Пер. О.В.Никифорова.
140
Там же. – С.90.
139
47
очертание предметной области и разметка соразмерной сущему
концептуальности… Она имеет целью высвобождение внутримирно
встречного сущего таким образом, что оно может «преднестись» чистому
открытию, т.е. стать объектом. Тематизация объективирует. Она не впервые
«пролагает» сущее, но высвечивает его таким образом, что оно поддается
“объективному” допросу и определению»141. Мы видим, что тематизация,
поскольку ее сфера – представляющее мышление, неизбежно осуществляется
в границах одного из направлений современной академической теории
литературы. Разграничив таким образом вопрос о сущности трагического и
тематизацию этого вопроса, мы должны настаивать, что вопрос о сущности
трагического – это в первую очередь и главным образом филологический, а
не философский (эстетический) вопрос. И еще одно в этой связи: поскольку
анализ всех направлений современной академической теории литературы
занимается тематизацией определенных сущностных основоположений
поэзии, постольку он порождается аналитикой «филологической» теории, во
всяком случае – вторичен по отношению к ней. Наша академическая теория
литературы сделала бы большой шаг вперед, если бы оказалась способной
осознать этот факт.
В границах представляющего мышления «филология» как обращенная к
поэзии фундаментальная онтология невозможна: она предполагает такую
причастность к языку, которой в принципе исключается превращение его в
простой предмет для направленной на него рефлексии. Поэтому там, где
начинается более или менее изощренное рассудочное конструирование, там
заканчивается филология в ее изначальном смысле. Это значит, что у
филологии есть собственное пространство философствования, и в его пределах
сама философия, если она хочет сохранить глубину и действенность, должна
стать филологической. Вот почему филология вправе предъявлять свой счет
сугубо философскому решению вопросов, находящихся в ее ведении. Этот
«свой счет» в данном случае означает, что, к примеру, теория литературных
родов Гегеля, до сих пор оставаясь самой глубокой философской
(эстетической) теорией, с точки зрения филологии может оказаться не самой
глубокой или вовсе лишенной глубины. К числу таких лишенных глубины
высказываний принадлежит мнение (которое для самого Гегеля – в контексте
его эстетических идей – имеет принципиальное значение), что Пиндар
воспевал самого себя в своих стихах142. Не нужно поэтому объяснять, что,
выдвигая в теории литературных родов на первый план вопрос о языке, я не
ставлю целью опровергнуть теорию Гегеля (опровергнуть ее можно лишь на ее
собственной территории, в области спекулятивного мышления, и еще вопрос,
нужно ли это делать). Разговор необходимо перевести в другую плоскость.
Такой пере-вод представляется необходимым для того, чтобы обрести
Хайдеггер М. Бытие и время. – С.363.
См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – Кн.3 // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. –
С.306. См. также: § 3.1.1.
141
142
48
мыслительное пространство, более адекватное содержанию разговора. Я
полагаю, что это пространство может быть обретено, если мышление будет
реально исходить из факта своей принадлежности языку, а не
противоборствовать ему, жаловаться на его «бедность» и т.д. Такой подход,
следовательно, может быть определен как герменевтический в том смысле, в
каком герменевтика осознала себя в ХХ веке.
49
ГЛАВА II
ОРУДИЙНОСТЬ ЯЗЫКА И ПОЭЗИЯ
Тридцать с лишним лет назад в ответе на вопрос редакции «Нового
мира» М.М.Бахтин высказал мысль, которой наметил перспективу для
советского литературоведения на весь оставшийся период его
существования: «Литература – неотрывная часть культуры данной эпохи.
Ее недопустимо отрывать от остальной культуры и, как это часто делается,
непосредственно, так сказать, через голову культуры соотносить с
социально-экономическими факторами»143. В наше время высказывание
М.М.Бахтина становится актуальным в ином смысле: теперь никому не
нужно доказывать, что литература напрямую не связана с социальноэкономическими факторами, но остается не вполне проясненным, каким
образом она связана с «целостным контекстом всей культуры». С этой
проблемой связан вопрос о том, что делает «контекст всей культуры»
«целостным»?
В самом деле, вся сфера культуры состоит из таких разных областей,
как религия, поэзия, разнообразные искусства (τέχνη), наука, философия.
Что их объединяет? В предыдущей главе упоминалось, что М.М.Бахтин
говорит о продуктивности взаимодействия различных областей культуры
на их границах, которые не являются абсолютными 144, но, думается, никто
не станет возражать, что от такого взаимодействия до подлинной
целостности еще очень далеко. Что общего у религии и науки? Разве
преобладающий опыт развития новоевропейской науки не свидетельствует
о полном отрицании какой бы то ни было связи между ними? Разве Бог не
становится для науки всего лишь «ненужной гипотезой», и разве этот
столь же известный, сколь легкомысленный ответ Наполеону не
преподносился научным сообществом как верх остроумия? И, наконец, разве
почти еретические для большинства представителей научного сообщества
слова В.И.Вернадского, что наука не одолеет религию «в чуждой (здесь и
далее курсив мой. – А.Д.) ей области» не свидетельствует о том, что каждая
из этих областей духовной жизни имеет специфические «формы своего
ведения»145? При этом взаимосвязь и взаимовлияние разных областей
культуры, о чем подробно и глубоко говорит выдающийся ученый, не
приводят ли главным образом лишь к более глубокому уяснению своеобразия
каждой из этих областей? О каком же целостном контексте здесь может идти
речь?
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.329.
Там же. – С.329-330.
145
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1991. – С.211.
143
144
50
Возможность ответа таится в той же работе М.М.Бахтина, но говорит
он об этом вскользь. Намек на возможность ответа мы обнаруживаем в
следующем суждении М.М.Бахтина: «Смысловые сокровища, вложенные
Шекспиром в его произведения, создавались и собирались веками и даже
тысячелетиями: они таились в языке…»146. Нам необходимо лишь от
разговора о Шекспире перейти к разговору о культуре в целом. Для того,
чтобы выявить истинную природу ее целостности, мы должны
предварительно поставить вопрос о языке, еще раз доверившись при этом
словам М.Хайдеггера: «Все пути мысли более или менее ощутимым
образом загадочно ведут через язык»147. Однако мы приблизимся к
пониманию проблемы лишь в том случае, если не будем рассматривать
язык в качестве одной из форм культуры, сосуществующей с другими, как
это делал Э.Кассирер148, но, как учил М.Хайдеггер, в качестве той основы,
в которой «покоится сущность человека»149, следовательно, и сущность
всей человеческой культуры.
Если мы пойдем по пути, намеченному Э.Кассирером, мы должны будем
признать, что не существует никакого подлинно целостного контекста
культуры, а только совокупность самостоятельных, хотя и в разной степени
взаимосвязанных между собою ее областей («форм»). К тому же для
Э.Кассирера язык как форма культуры даже не изначален по отношению к
мифу: «Это (язык и миф. – А.Д.) два разных побега от одного общего
корня»150. Вряд ли такая исходная позиция может привести к чему-либо
плодотворному. Между тем сущность языка заключается не в том, что он
является одной из форм культуры, но в том, что он является носителем ее
целостности, тогда как поэзия – не что иное, как ее (целостности)
концентрированное выражение. Поэзия не творит целостность, но творится в
целостности, хранителем которой является язык. Именно поэтому у
Н.В.Гоголя были все основания сказать о русском языке, что он – «сам по
себе уже поэт»151.
Когда речь идет о подлинной целостности, имеется в виду священное,
гиератическое содержание, хранимое языком, – то высшее совершенство, о
котором вопрошает, именуя его при этом, Гёльдерлин: «wist ihr seinen Namen?
den Namen des, das eins ist und alles? Sein Name ist Schönheit»152.
«Знаете ли вы его Имя? Имя того, что есть Одно и Все? Его Имя –
Красота».
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.332.
Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.221.
148
См.: Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарика, 1998. – С.568-601.
149
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.259.
150
Кассирер Э. Ук. книга. – С.568. Пер. Ю.А.Муравьева.
151
Гоголь Н.В. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.6. – М.: Худож. лит., 1967. – С.411.
152
Hölderlin Fr. Sämtliche Werke und Briefe. – Bd.2. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag,
1970. – S.153.
146
147
51
В Священном как красоте сущность языка проявляется поэтически,
выявляя при этом природу подлинной целостности, которая никогда не
есть некая взаимосвязанная совокупность частей целого, но всегда –
тождество Одного и Всего. В свою очередь единство никогда не является
высшей (зрелой и т.д.) формой проявления Единого, но всегда только
вторичной квазицелостностью. Единое в самые поздние эпохи всеобщего
разделения остается значимым для нашего сознания (самосознания) и
актуальным для него Единым, а не просто баснословным преданием,
отмененным ("снятым") последующим развитием культуры, тогда как
единство (вторичное соединение разрозненных частей) всегда оказывается
только единством – и ничем больше. Единое нельзя «целостно
воспринимать» как некий объект, ему можно лишь принадлежать;
ближайшим образом – принадлежать языку, которым сказывается Единое.
Поэзия, стало быть, будучи концентрированным выражением сущности
языка, самым непосредственным образом определяется не неким
умозрительным контекстом культуры, как полагал М.М.Бахтин, а самим
языком, точнее – актуальной для того или иного исторического периода его
орудийностью, «казовой» изначально, символической – в христианской
культуре, но в обоих случаях сохраняющей связь со сферой Священного.
Сразу отмечу, что название для «казовой» орудийности подсказал перевод
В.В.Бибихиным доклада М.Хайдеггера «Путь к языку»: «Помня о
древнейшем употреблении этого слова, мы будем понимать сказ от
сказывания в смысле показывания и употребим для обозначения такого сказа,
насколько в нем покоится существо языка, старое, достаточно
засвидетельствованное, но умершее слово: каз»153. Словом «каз», таким
образом, обозначено изначальное существо языка.
Эта связь поэзии и языка утрачивается в инструментальной орудийности, в пределах которой язык начинают понимать как простое средство
для выражения мыслей. Такой язык сразу же обнаруживает свою антипоэтическую сущность – происходит ли это в поздней античности154 либо в
новоевропейское время. Как только утверждается инструментальный язык,
поэзия понемногу теряет свое значение, становится «забавой», «стишками», до которых серьезному человеку дела нет. Не случайно именно в
такие эпохи ведущим литературным жанром, в конечном счете,
оказывается роман с его познавательной составляющей. Роман – это
компромисс, который поэзия заключает с инструментальным языком;
роман остается поэтическим видом постольку, поскольку в нем
сохраняется, несмотря ни на что, присутствие символического языка. Этот
вид поэзии расцветает в периоды испытаний, которые переживает
человечество, отпущенное на волю и в своих блужданиях почти забывшее
о своем доме:
153
154
52
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.265.
См., напр.: Секст Эмпирик. Сочинения: В 2 т. – Т.2. – М.: Мысль, 1976. – С.112-116.
Ein Zeichen sind wir, deutungslos,
Schmerzlos sind wir und haben fast
Die Sprache in der Fremde verloren155.
155
Hölderlin Fr. Sämtliche Werke und Briefe. – Bd.1. – S.747.
53
Мы – знак, недоступный истолкованию,
Лишенные способности испытывать боль мы почти
Язык на чужбине утратили.
Но рано или поздно это время заканчивается, и мы вновь возвращаемся к
языку. И тогда для нас, в отличие от Вольтера, вновь глубоким смыслом
наполняется, к примеру, поэзия Пиндара156. Мы оказываемся способными
понять, что этот смысл вряд ли смогут вместить все романы.
Вопрос о романе может быть рассмотрен и с точки зрения
соотношения манической157 поэзии (генетически связанной с «казовой»
орудийностью языка) и миметического искусства, к которому роман
целиком принадлежит (это предваряющее обращение к проблеме;
подробно об этих двух родах поэтического творчества см. в третьем
разделе книги). Границы романа обусловлены границами миметического
искусства, за их пределами – маническая поэзия. Как только в романе
предпринимается попытка превозмочь эти границы – роман заканчивается
и начинается нечто другое. С такими ситуациями, разумеется, мы
встречаемся лишь в тех романах, в которых авторы стремятся работать на
границе возможностей романного слова, – сказанное относится только к
великим писателям. В качестве примера можно напомнить попытку
Л.Н.Толстого передать чувства, охватившие Левина во время родов Кити:
«Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно
тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на
одре смерти брата Николая. Но то было горе, – это была радость. Но и то
горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни,
были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые
показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало
совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего
поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала
прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею»158. Воссоздаваемое
событие ставит автора перед необходимостью превозмочь романное слово,
вместе с тем отмененными оказываются «все обычные условия жизни», к
которым лишь после благополучного исхода «почувствовал себя
перенесенным» Левин, и этот романный мир как бы вновь воплощается на
наших глазах.
Обратившись к эпиграфу, предшествующему сочинению Дионисия
Ареопагита «О божественных именах», постараемся разобраться, чем более
Вольтер, как известно, считал Пиндара мастером много говорить, ничего при этом
не сказав (см.: Гаспаров М.Л. Поэзия Пиндара // Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты. –
М.: Наука, 1980. – С.361-362; об отношении Вольтера к Пиндару см. также:
Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей. – СПб.: Алетейя, 1995. – С.56-58).
157
От греч. μανία – одержимость. Классический пример манической поэзии – хоровая
лирика Пиндара.
158
Толстой Л.Н. Собр. сочинений: В 20 т. Т.9. – М.: Гослитиздат, 1963. – С.325.
156
54
знакомая нам по опыту символическая орудийность языка отличается от
«казовой».
Эпиграф, согласно нашим обычным представлениям, необходим,
уместен лишь в том случае, когда он является ключом к последующему
тексту. Любое другое употребление эпиграфа оказывается более или менее
прихотливым, а значит необязательным. По отношению к сочинениям
Дионисия Ареопагита всякие соображения, связанные с прихотливостью и
орнаментальностью, мы, очевидно, должны отбросить с самого начала,
исходя из аксиомы глубокой смысловой содержательности строк,
предшествующих основному тексту. В чем же она – эта содержательность –
состоит?
В поисках ответа мы сталкиваемся с неожиданными трудностями.
Дело в том, что эпиграф, о котором мы будем говорить (как и эпиграфы,
предшествующие другим книгам корпуса) отличается от основного текста
явно выраженной тенденцией к архаизации, которая, по словам
Г.М.Прохорова, проявляется во всем: «в стихотворном размере»
(гекзаметр в VI-VII вв. – предположительное время создания эпиграфов –
«был
глубоко архаическим размером, вытесненным новыми,
создаваемыми по новому принципу, без различения звуков по долготе,
поэтическими формами»), «в лексике и форме слов»159.
Почему необходимой оказалась апелляция к столь давним временам для
автора эпиграфов, которые предпосланы сочинениям, трактующим, повидимому, о совершенно чуждых архаике вопросах? Очевидно, эта
апелляция оказалась необходимой не для того, чтобы, придав сочинениям
колорит древности, усилить тем самым авторитетность утверждаемых ими
истин. Истины, провозглашаемые сочинениями Дионисия Ареопагита, в
такого рода ухищрениях не нуждались. Мы можем предположить, что
обращение к истокам в интересующем нас и других эпиграфах
свидетельствует о фундаментальности тех изменений в духовной жизни,
которые сочинения Дионисия Ареопагита призваны были утвердить. Его
сочинения утверждали новое начало, по отношению к которому все прежнее,
соотнесенное с иными началами, оказывалось как бы не существующим,
«снятым». Дальнейший ход наших рассуждений призван подтвердить
правомерность этого предположения.
Рассматриваемый нами эпиграф, как и два других (гексаметрических),
принадлежит к жанру эпиграммы. В самом же эпиграфе речь идет о гимне.
Эпиграмма и гимн как жанры, таким образом, оказываются в центре
нашего внимания.
Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV веков. – Л.:
Наука, 1987. – С.38.
159
55
Возникновение жанра эпиграммы исследователи относят к VIII-VII вв. до
Р.Х. Первоначальным стихом эпиграммы был гекзаметр160. Изначально
эпиграммы представляли собой надпись (буквальный перевод слова ἐπίγραμμα)
на предметах. Анонимность эпиграммы в первые столетия ее существования
объясняется тем, что она считалась принадлежащей не столько стихотворцу,
сколько самому предмету. Написать эпиграмму означало «обнаружить и
раскрыть «голоса» вещей»161. «Голос» вещи, очевидно, мог быть обнаружен и
раскрыт в том случае, когда вещь обретала возможность «говорить» согласно
своей природе. Но слово, раскрывающее природу вещи, для греков – это имя
(̉όνομα) вещи. «Правильность имени…, – читаем у Платона, – состоит в том,
что оно указывает, какова вещь»162. Эпиграмма, стало быть, в ее
первоначальной сути, поскольку она тоже «указывала, какова вещь», не просто
говорила от имени вещи, но сама была перифразой ее имени. Возникновение
эпиграммы как жанра, следовательно, было бы невозможно, если бы не
существовала непререкаемая, не нуждающаяся в доказательствах
убежденность в природной правильности (т.е. в орудийности в греческом ее
понимании) имен. Разговор об эпиграмме, как видим, позволил нам
прикоснуться к традиции, предшествовавшей платоновскому «Кратилу», в
котором вопрос об орудийности имен (в прежнем понимании) был поставлен
под сомнение, хотя и не опровергнут.
Мы можем, таким образом, сделать предварительный вывод, что
рассматриваемая эпиграмма, с ее подчеркнуто архаическим стилем, призвана
была не только напомнить об этой давней убежденности греков в природной
правильности имен, но и заново ее утвердить. Значит ли это, что орудийность
имен утверждается здесь в некоем новом качестве? Для ответа на этот вопрос
нам необходимо обратиться к тексту самой эпиграммы.
Εἰς νóον αἰγληεντα εóγραφα χείλεα βάψας,
Κάλλεα ποικίλλεις ἰερώνυμα, καὶ μετὰ πóτμον
Ζωοσóφοις λογίοις κελαδῶν εοφάντορας ὕμνους.
Г.М.Прохоров предлагает следующий стихотворный перевод:
Губы в сверкающий ум погрузив, начертанные Богом,
Ты превозносишь священных имен красоту, и по смерти
Живопремудрою речью поя богогласные гимны.163
Ποικίλλεις, переведенное как «превозносишь», по-гречески обозначает
«делаешь пестрым», «разукрашиваешь», т.е. в рассматриваемой эпиграмме: в
См.: Чистякова Н.А. Греческая эпиграмма // Греческая эпиграмма. – СПб.: Наука,
1993. – С.326.
161
См.: Чистякова Н.А. Греческая эпиграмма // Греческая эпиграмма. – СПб.: Наука,
1993. – С.331.
162
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1990. – С.666, 428е. Пер.
Т.В.Васильевой.
163
Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV веков. – С.29.
160
56
пределах чувственного мира «расцвечиваешь» то, что в качестве красоты
самой по себе (в сверхчувственном мире) в цвете не нуждается.
Не менее важна для понимания смысла эпиграммы последняя строка.
В переводе читаем:
… и по смерти
Живопремудрою речью поя богогласные гимны.
57
В подлиннике на месте «речью» стоит «λογίοις». Петь можно гимны,
но λόγος – это не поющаяся, а произносимая речь. Речью, понимаемой как
логос, можно воспевать лишь в переносном смысле; κελαδέω,
переведенное здесь как «петь», значит еще: «шуметь». У Пиндара
(обращение к которому уместно и в связи с упоминанием гимна в самой
эпиграмме, и в связи с общим ее характером, ориентированным на эту
предшествующую эпоху) κέλαδος употребляется в значении «звук,
звучанье» (Пиф. 4,60)164. Логос, стало быть, озвучивает гимны. Гимны, в
свою очередь, приобретают не вполне понятный нам некий
сверхчувственный, трансцендентный онтологический статус, не нуждаясь,
как выясняется, для своего осуществления в обязательном воплощении в
звуке. Здесь присутствует очевидная аналогия с красотой священных
имен, которая не нуждается в цвете.
Соотношение между логосом и гимном, столь непривычное для нас, не
нуждалось в пояснениях (т.е. не порождало герменевтической ситуации) еще
в ХІХ веке. В.П.Боткин сказал однажды о Ф.И.Тютчеве: «…Никто из
окружающих его не чувствует и не понимает поэзии его стихов»165. Поэзия и
стихи у В.П.Боткина соотнесены примерно так же, как гимны и логос в
эпиграмме, и такая соотнесенность для нас (приученных новейшими
исследованиями к тому, что стихи – это и есть поэзия и что в зависимости от
качества стихов бывает «плохая» и «хорошая» поэзия) столь же непривычна.
Онтологизируя поэзию независимо от стихов, В.П.Боткин обнаруживает
свою несомненную принадлежность к той духовной парадигме, которая
утверждается сочинениями Дионисия Ареопагита, тогда как наша
причастность к той же традиции оказывается проблематичной.
Возвращаясь к эпиграфу, посмотрим теперь, как соотносится с
подчеркнуто архаической формой его содержание. Для начала приведу
подстрочный перевод:
В ум сияющий богоначертанные губы погрузив,
Ты расцвечиваешь красоту священных имен,
Даже после смерти озвучивая живопремудрыми речами
являющие (кажущие) Бога гимны.
Сосредоточимся на соотнесенности слов имя – речь – гимн. Прежде,
чем делать обобщения, рассмотрим, характерен ли отмеченный нами
смысл слова «гимн» для той эпохи, к которой обращен эпиграф своей
формой. У Пиндара, следовавшего, как и вся хоровая лирика, древнейшей
языковой традиции166, слово ὕμνος употребляется в значении «песнь в
См.: Гринбаум Н.С. Художественный мир античной поэзии: Творческий поиск
Пиндара. – М.: Наука, 1990. – С.86.
165
Лит. наследство. Т.97: В 2 кн. – Федор Иванович Тютчев. – Кн.2. – М.: Наука, 1989. –
С.173.
166
См.: Гринбаум Н.С. Язык древнегреческой хоровой лирики. – Тбилиси: Изд-во Тбил.
ун-та, 1986. – С.117.
164
58
честь богов» (Зевса – Нем. 4.11), но также: хвалебная песнь в честь
победителей игр, в честь самих игр, в честь царей. Кроме того, у Пиндара
гимном может быть названа погребальная, свадебная, любовная песнь, т.е.
он наделяется обобщенным значением песни вообще 167. Этой эпохе чуждо
и неведомо отмеченное выше соотношение гимна и логоса; гимн и логос
противостоят друг другу по принципу: пение – сказывание, вступая между
собой в иные, нежели в рассматриваемой эпиграмме, отношения.
В 11 Олимпийской песне Пиндара читаем:
εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι, μελιγάρυες ὕμνοι
ὑστέρων ἀρχὰ λόγων
τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖσ…168
«Если же кто изнурительным трудом достигает благополучия, для тех
сладкозвучные гимны становятся началом последующих похвал (речей –
λóγων) и верным (надежным) клятвенным ручательством великих доблестей».
Логос, следовательно, порождается гимном, а поскольку он – после,
он, соответственно, и похуже (оба эти значения присутствуют в слове
ὕστερος). Гимн и логос сосуществуют здесь, как сосуществуют в это время
(т.к. Дельфы еще не молчат) божественное и человеческое слово.
У Платона (и в этом, в частности, проявляется переходный характер его
философии) мы встречаем попытку разграничения гимна и хвалебной песни.
Для Платона гимн – это «вид песнопений», представляющих собой «молитвы к
богам»169. Но и здесь проблема гимна должна быть поставлена в контексте
изначального понимания орудийности языка. И у Пиндара, и у Платона гимн
не противопоставляется языку, не выводится за пределы языка в
трансцендентную по отношению к нему область. Так, у Пиндара
противопоставление гимна логосу осуществляется в пределах их общей
соотнесенности с языком, понятым как γλῶσσα. Продолжим цитату из его 11
Олимпийской песни:
ἀφóνητος δ’ αἶνος Ὀλυμπιονίκαις
οὗτος ἄγκειται. τὰ μὲν ἁμετέρα
γλῶσσα ποιμαίνειν ἐέλει,
ἐκ εοῦ δ’ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως.
«Лишенная зависти, эта похвальная речь (αι̃νος) посвящена
олимпийским победителям. Наш язык170 (γλῶσσα) хочет быть ее
пастухом, но лишь соразмерно дарованной Богом мере муж изобилует,
процветая мудростью».
См.: Гринбаум Н.С. Художественный мир античной поэзии. – С.85-86.
Pindarus. Carmina cum fragmentis. Pars 1. – Lipsiae: BSB B.G. Teubner
Verlagsgesellschaft, 1980. – P.47, 4-6.
169
Платон. Собр. сочинений. – Т.4. – С.152, 700b. Пер. А.Н.Егунова.
170
Но ни в коем случае не «мой язык», как переводит М.Л.Гаспаров (см.: Пиндар.
Вакхилид. Ук. книга. – С.49). Перевод М.Л.Гаспарова приводит к очевидной
модернизации Пиндара.
167
168
59
Логос, как мы видели, порождается гимном (поющейся речью),
который, в свою очередь, пребывает под попечительством языка.
Поющаяся речь (айнос, гимн) – это язык, в котором клятвенное (ὅρκιον)
присутствие
истины
утверждено
заранее
уже
проявившимся
божественным благоволением по отношению к тому, кто воспевается171.
Поющаяся речь, поскольку она клятвенная, оказывается формой присутствия
и проявления божественного содержания в человеческом слове.172
Близкий по смыслу отрывок находим в 4 Немейской песне:
οὐδὲ ερμὸν ὕδωρ τóσον γε μαλακὰ τεύχει
γυῖα, τóσσον εὐλογία φóρμιγγι συνάορος.
ῥῆμα δ’ ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει,
ὅ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ
γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαείας.
τó μοι έμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ
Τιμασάρχου τε πάλᾳ
ὕμνου προκώμιον ἐίη…173.
Теплая вода не так нежит члены,
как похвала (εὐλογία), сопутствуемая лирой.
Слово (ῥῆμα) живет дольше, чем дела,
если его, согласно жребию Харит,
язык (γλῶσσα) выводит из глубины груди (души).
Пусть же будет дано мне утвердить вступление к гимну,
посвященному и Зевсу Крониду, и Немее,
И борьбе Тимасарха…
В качестве поющей речи здесь выступает рема, которую язык (глосса)
выводит (т.к. является ее пастухом) из глубины души. Показательной
представляется все еще ожидающая своего осмысления связь стихотворения
Тютчева «Silentium!» с этой песней Пиндара. В стихотворении Тютчева в
«пении дум», звучащих «в душевной глубине», сказывается потаенное
(«таинственно-волшебных дум») существо речи. В какой степени русское
слово захватывает здесь то, что составляло когда-то жизнь слова греческого?
Итак, в пределах языка осуществляется у Пиндара и гимн, и логос, а
значит и человеческое существование в целом – вместе с истиной, которой
оно принадлежит. Истина выводится на свет – в область явленного – словом;
пределами речи очерчены возможности ее присутствия-пребывания. Язык
«кажет» истину, а не указывает на ее несказанность: «Язык говорит,
поскольку, достигая в качестве каза всех областей присутствия, он дает
явиться или скрыться в них всему присутствующему. Соответственно мы
См.: Гаспаров М.Л. Указ. соч. – С.362-363.
См. Приложение I.
173
Pindarus. Carmina cum fragmentis. – P.132, 4-11.
171
172
60
слушаем язык таким образом, что даем ему сказать нам свой сказ. Каким бы
образом мы ни слушали, где бы мы что-либо ни слышали, это наше
слышание есть прежде всего допущение самосказывания, уже содержащего в
себе всякое восприятие и представление. В речи как слушании языка мы
говорим вслед услышанному сказу»174. Перевод В.В.Бибихиным
хайдеггеровского истолкования сущности языка, может быть, станет яснее,
если мы вспомним, что украинское слово «казати» значит: говорить.
С этой изначальной орудийностью вступает в конфликт утверждаемая
рассматриваемым нами эпиграфом орудийность, которой, в свою очередь, еще
очень далеко до новоевропейской инструментальности, когда самоуверенный
человеческий разум счел самого себя полноправным господином языка.
Со словом γλῶσσα мы встречаемся в комментариях Максима
Исповедника к следующему фрагменту книги «О божественных именах»: «И
никакой мыслью превышающее мысль Единое непостижимо; и никаким
словом превышающее слово Добро невыразимо; Единица, делающая единой
всякую единицу…»175.
Максим Исповедник пишет: «Здесь, после выхода за пределы всего,
что из сущего может быть отнесено к Богу, следуя далее мере нашего
языка (γλώσσης), ибо превзойти ее для нас невозможно, он славит Бога
теми именами, от которых Его отделил…» (Гл.I, комм.13).
В комментарии Максима Исповедника с неведомым античности
драматизмом переживается и невозможность превзойти «меру нашего
языка», и необходимость это сделать, т.к. истина – за пределами этой
меры. Язык указывает здесь путь к сокрытой от него истине, но не
раскрывает всю полноту ее присутствия в несокрытости. Гимн, как мы
видели по эпиграфу, по-прежнему «кажет» Бога, но эта «казовая» его
способность имеет теперь сверхсловесный характер. А поскольку это так,
постольку и соотношение имени – логоса – гимна определяется не
языковыми, но превосходящими язык факторами.
Эпиграф говорит нам, что «живопремудрые речи», озвучивающие
гимны, принадлежат к чувственному миру, а не нуждающиеся в цвете имена
и в звуке гимны (в результате оказывающиеся синонимами «святого
молчания» – «διὰ σιγῆς ἁγίας»; гл.2, комм.50) – к сверхчувственному,
приобщение к которому, очевидно, происходит лишь благодаря
«живопремудрым речам» – слову живому. Значит ли это, что в эпиграфе,
таким образом, вопрос об орудийности языка уже поставлен во всей своей
широте? Не будем спешить с ответом: комм.2 к гл.1, содержащий полемику с
аподейктикой не названного Аристотеля – наиболее авторитетной в то время
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.266.
Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб.:
Глаголъ, 1994. – С.15. Пер. Г.М.Прохорова. Далее по этому изданию указываются
страницы (в тексте Дионисия Ареопагита), главы и комментарии (в тексте Максима
Исповедника).
174
175
61
античной теорией орудийности языка, вводит, по-видимому, новое, но по
существу подразумеваемое эпиграфом противопоставление слова живого той
реальности, в которой правят силлогизм и доказательство. Это
противопоставление развертывается в последующем тексте.
Дионисий Ареопагит пишет об Иерофее: «А когда ему надо было
общаться с толпой непосвященных и кого только возможно привести к нашему
священному знанию, насколько превосходил он многих священных учителей и
затрачиваемым временем, и чистотой ума, и точностью доказательств
(ἀποδείξεων), и прочим священнословием, так что мы никогда не решались
смотреть прямо на столь великое солнце» (с.85). С посвященными же – совсем
другое: «Заметь, что и бывшие тогда с Иерофеем апостолы пели подобающие
псалмы и песни, о чем свидетельствуют выражения «петь гимны» и «воспевать
в гимнах»; и что высокое и мистическое следует оберегать от толпы, не
высказывая; проповедовать же толпе, обучая ее, следует доступное и легко
объяснимое (εὐαπóδεικτα)» (гл.3, комм.18).
Мы
сказали:
значения
слов
определяются
факторами,
превышающими язык. Есть всецелая Божественность, о которой ничего
нельзя сказать. Любое имя Бога оказывается возможным вследствие
нисхождения вовне всецелой Божественности, является Его даром,
следовательно, Его даром является по-новому утверждаемая орудийность
языка (язык – символ превышающей его Божественности). Наиболее
глубоко эту символическую орудийность языка могут пережить те, кому
доступна область «святого молчания» – не только сверхчувственная, но и
сверхумственная. У Максима Исповедника: «Ведь и Божественное
существование воспевается нами хоть в какой-то мере доступным
образом, когда мы, совершенно оставив всяческую деятельность, в том
числе деятельнейшую, хотя и умственную, оказываемся охвачены святым
молчанием и обращаемся к исходящим оттуда дарованиям» (гл.2,
комм.50). Ниже – область расцвеченного имени и озвученного гимна – не
поющее безмолвие, но поющая речь, к которой нисходят от «молчания
немоты» (гл.2, комм.32). Об этом говорит эпиграф. Это все еще область
пения – для посвященных. За пределами пения – силлогизмы и
доказательства ( по определению Максима Исповедника – «методы
геометрии», гл.I, комм.2) – то, в чем усматривал орудийность языка
Аристотель; человеческая мудрость, которая, оставаясь в пределах
герменейи (способности речи), не может изъяснить то, что для человека
неизъяснимо – «ἀν-ερμήνευτος» (гл. I, комм.2).
«Казовая» и символическая орудийность языка – два разных по
своему характеру способа присутствия Единого в слове, – присутствия,
которое и в первом, и во втором случае определяет гиератический
характер поэтической речи. Если же кто-то поставит под сомнение
справедливость этого вывода относительно «казовой» орудийности языка
(дескать, она-то имеет дело не с Единым, а с множеством – с
62
«политеизмом»), нужно просто вспомнить слова Гераклита, как они
сохранились в изложении Ипполита: «Гераклит говорит, что все делимое
неделимо, рожденное нерожденно, смертное бессмертно, Слово – Эон,
Отец – Сын, Бог – справедливость: «Выслушав не мою, но эту вот Речь
(Логос), должно признать: мудрость в том, чтобы знать все как одно»176.
Итак, рассмотренный нами эпиграф – ключ к книге Дионисия
Ареопагита, поскольку он с самого начала выявляет принципиальный для
последующего текста конфликт между прежней и вновь утверждаемой (иной)
орудийностью языка. В этом противоречии проявляется конфликтное
состояние самого языка – не просто зарождение в нем новых смыслов, но
сущностное его преображение (об орудийности языка в связи с проблемой
эстетического завершения см. § 2.2.3).
Мы видим, что Максимом Исповедником герменейе – таинственной для
нас способности речи – отказано в обладании истиной. Для Пиндара же
клятвенное поручительство (ὅρκιον)177 является одним из имен герменейи как
такой способности речи, которая выводит в присутствие (кажет) всю полноту
истины. Толкование как способ понимания генетически связано с этой
изначальной герменейей, остается актуальным в пределах священносимволического языка (см. пример из романа «Братья Карамазовы» в
следующей главе), тогда как интерпретация все больше актуализируется по
мере утверждения автономного по отношению к священному эстетического в
новоевропейской художественной культуре. Из сказанного с неизбежностью
следует, что «эйдосная» теория литературы, будучи направленной на
священно-символический смысл, может осуществиться как толкование.
Такой переход от интерпретации к толкованию оказывается возможным
потому, что в сфере священно-символического смысла представляющее
мышление осознает свои границы: субъективированному сознанию
познающего
открывается
его
онтологическая
зависимость
от
трансцендентного начала, но открывается лишь «отчасти»: даже в лучшие
минуты то, что «никогда не перестает», мы «видим как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно» (1 Кор. 13: 8-10, 12). Правда, характер толкования здесь
другой – метафизический.
Все, что мы сказали об «эйдосной» теории литературы, касается также
«персоналистской, тогда как в «литературоведческой грамматике» переход от
интерпретации к толкованию в принципе невозможен. Это значит, что
«литературоведческая грамматика» – это интерпретация exclusivement, тогда
как «эйдосная» и «персоналистская» теории литературы – лишь par
excellence.
Фрагменты ранних греческих философов. – Ч.1. – М.: Наука, 1989. – С.199. Пер.
А.В.Лебедева.
177
Pindarus. Carmina cum fragmentis. – P.47, 6.
176
63
ГЛАВА ІІI
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Настоящее исследование выявляет реальное противоречие, которое я
не пытаюсь преодолеть, как, впрочем, и искусственно заострить. Любое
действительное противоречие благотворно само по себе, поскольку
стимулирует усилие мысли – реальность, с которой мы все-таки порой
имеем дело, тогда как наша способность все согласовывать и примирять –
это такая иллюзия, от которой мы давно излечились.
Для начала обратимся к мыслителю, авторитет которого в стане
интерпретирующих не подлежит сомнению. Между тем именно этот
мыслитель, по всей видимости неосознанно, указал на границы интерпретации.
Имеется в виду Ролан Барт. В работе «Критика и истина» он соглашается, что
существует дословный смысл текста произведения, и продолжает: «…Вопрос в
том, имеем ли мы право прочесть в этом дословно понятом тексте иные
смыслы, которые не противоречили бы его буквальному значению; ответ на
этот вопрос можно получить отнюдь не с помощью словаря, а лишь путем
выработки общей точки зрения относительно символической природы языка.
Сходным образом обстоит дело и с остальными «очевидными вещами»: все
они уже представляют собой интерпретации, основанные на предварительном
выборе определенной психологической или структурной модели; подобный
код – а это именно код – способен меняться; вот почему на самом деле
объективность критика будет связана не с самим фактом избрания того или
иного кода, а с той степенью строгости, с которой он применит избранную им
модель к произведению»178.
Несколько ниже в той же работе мы находим высказывание,
свидетельствующее о том, что Р.Барт был внимательным читателем
немецких мыслителей – М.Хайдеггера и Г.-Г.Гадамера: «Я защищаю здесь
право на язык, а вовсе не на индивидуальный «жаргон». Да и могу ли я
рассуждать о нем как о некоем объекте? Болезненное беспокойство
(связанное с ощущением личностной самотождественности) вызывает сама
мысль, что ты можешь владеть словом как вещью и что тебе необходимо
защищать эту вещь, словно какое-то добро, обладающее независимой от тебя
сущностью. Да неужели же я существую до своего языка? И что же в таком
случае представляет собой это я, якобы владеющее языком, между тем как на
самом деле именно язык вызывает я к бытию? Разве возможно для меня
ощутить свой язык как обыкновенный атрибут собственной личности?
Можно ли поверить, что я говорю потому, что я существую?»179.
Барт Р. Критика и истина // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. –
М.: Изд-во МГУ, 1987. – С.354. Пер. Г.К.Косикова.
179
Там же. – С.362.
178
64
Как согласуются (и согласуются ли вообще) эти два высказывания,
остается загадкой, которую Р.Барт не только не разрешает, но, повидимому, даже не замечает. Однако именно здесь и пролегает граница
между интерпретацией и толкованием.
В отечественном литературоведении, как и в отечественной
философии, интерпретация и толкование строго не разграничиваются 180.
Между тем уже непосредственное чувство языка подсказывает нам, что
значения этих слов – не тождественны. В составленном Алексеем
Федоровичем Карамазовым Житии старец Зосима говорит: «…У нас иереи
Божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое
свое содержание и на унижение свое и прямо заверяют, даже печатно –
читал сие сам,– что не могут они уже теперь будто бы толковать народу
Писание, ибо мало у них содержания, и если приходят уже лютеране и
еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало-де у
нас содержания»181. Попробуйте в этом высказывании глагол «толковать»
заменить латинским словом – и вас поразит эта замена своей
неуместностью. И дело здесь не только в стилистической несообразности.
Исчезает глубина смысла, всеобъединяющая теплота благодати, веющая от
слов Писания и раскрываемая в толковании. Столь остро ощущаемая
фальшь латинского слова объясняется тем, что оно ставит
«интерпретирующего» в ложное положение по отношению к Писанию – в
положение безблагодатного умствования.
Для того чтобы прояснилось различие русского и латинского слов,
необходимо вслушаться в их изначальный смысл. Оба эти слова соотносятся с
одним греческим – ἡ ἑρμηνί, к ним прибегают, когда необходимо это слово
перевести. Трактат под названием «Πρὶ ἑρμνίς» есть у Аристотеля. В
переводе названия этого трактата на латинский язык (De interpretatione)
существо греческого слова, непереводимая глубина его смысла теряются,
сводясь, главным образом, к способности объяснять, понимать, судить,
решать, переводить (interpretor). В этом переходе от герменейи к
интерпретации уже обозначен путь европейского мышления, который со
временем приведёт к «cogito sum» как основополагающему принципу182.
Актуальным для европейского мышления, таким образом, становится лишь то,
См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С.119, 220, 493.
Достоевский Ф.М. Собр. сочинений: В 10 т. – Т.9. М.: ГИХЛ, 1958. – С.366.
182
См.: Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.121-144. Ср. также в
«Истоке художественного творения»: «…Перевод греческих наименований на
латинский язык отнюдь не столь невинная процедура, как считают еще и поныне.
Напротив, за буквальным по видимости и, стало быть, охраняющим переводом с
одного языка на другой скрывается перевод греческого опыта в иную форму мышления.
Римское мышление перенимает греческие слова без соответствующего им
равноизначального опыта того, что они говорят, без самого греческого слова. С этого
перевода берет начало беспочвенность западного мышления» (Хайдеггер М. Работы и
размышления разных лет. – М.: Гнозис, 1993. – С.57. Пер А.В.Михайлова).
180
181
65
что было схвачено в греческом слове латинским. Все, что превышало
возможности латинского языка, оказалось под спудом, время от времени
просветляясь в поэтическом слове, как, например, в элегии Ф.Гельдерлина
«Хлеб и вино», но по-прежнему оставаясь не узнанным:
Где оно светит теперь, далекоразящее слово?
Дельфы дремлют, но где к нам возглаголет судьба?183
Или у Тютчева:
Но для кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен?..
Слова неясны роковые,
И смутен замогильный сон…184
В стихотворениях Гельдерлина и Тютчева присутствует то, что осталось
непонятым в греческом слове герменейя, имеющем в виду не всякое изъясняющее понимание, но такое, которое хранит память о своем происхождении от речи, которое осуществляется не с помощью речи, а в речи.
В этом отношении церковнославянское слово тлъковaниıє, можно
сказать, соприроднее греческому, нежели латинское. Тлъкъ (ἑρμνύς) –
это переводчик устной речи, который, переводя, изъясняет сказанное.
Тлъкъ, следовательно,– это тот, кто не просто «знает» другой язык, но
вжился в него, обретя, таким образом, способность толкования. Он делал
возможным живое общение и в этом общении – живое понимание.
Современное «толк», несмотря на изменившееся значение, связь с
церковнославянским словом не утратило. Мы скажем «потолковали» не о
всяком разговоре, но о таком, результатами которого удовлетворены. Это
значит, что мы смогли «взять в толк» то, что нам хотели объяснить,
одновременно претендуя на ответное понимание. Но сфера, в которой
обнаруживается актуальность «толка», гораздо шире. Мы говорим:
«делается с толком», когда делаемое «доступно членораздельному
выражению в понимающем раскрытии»185. Толк, таким образом, вводит
все делаемое нами в круг его общей причастности осмысленной и
осмысляющей артикуляции (речи). В таком понимании соприродность
толкования греческой герменейе проявляется еще отчетливее. Толкование,
следовательно, в такой степени оказывается соответствующим своему
предназначению, в какой речь осуществляет в нем свое направляющее, а
не служебное присутствие.
Нашему рассуждению, однако, очевидным образом противостоит
тютчевское употребление слова «толк» («толки»):
Гёльдерлин Ф. Сочинения. – М.: Худож. лит., 1969. – С. 137. Пер. С.С.Аверинцева.
У Гельдерлина «… die fernhintreffenden Sprüche» (вдаль-разящие изречения) (Hölderlin
Fr. Sämtliche Werke und Briefe. – Bd.1. – Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1970. –
S.413).
184
Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. – Л.: Сов. писатель, 1987. – С.189.
185
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – С.13.
183
66
Сын царский умирает в Ницце –
И из него нам строят ков…
«То Божья месть за поляков»,–
Вот что мы слышим здесь, в столице…
Из чьих понятий, диких, узких,
То слово вырваться могло б?..
Кто говорит так: польский поп
Или министр какой из русских?
О, эти толки роковые,
Преступный лепет и шальной
Всех выродков земли родной,
Да не услышит их Россия,–
И отповедью – да не грянет
Тот страшный клич, что в старину:
«Везде измена – царь в плену!» –
И Русь спасать его не встанет.186
Толки в этом стихотворении, поскольку они роковые, не подпадают под
рубрику пустых, праздных разговоров. «Роковое» значит «предопределенное
судьбой», такое, что вскрывает меру должного или недолжного состояния
присутствующего (т.е. текущей жизни во всей полноте ее проявлений –
вместе с преобладающими и определяющими ее характер тенденциями)187.
Толки, следовательно, соотнесены с присутствующим, которое именно в них
находит свое сущностное выявление. Это состояние присутствующего
изнутри самого себя осмысляется как результат действования Промысла
(«Божья месть за поляков»), а значит – как исцеление (возвращение к
должному), преодолевающее прежнее уклонение от нормы. Однако
претензия толков на выявление сущности происходящего и, стало быть, на
исцеление присутствующего – преждевременна, поскольку сами они,
порождаясь «дикими и узкими понятиями» и являясь синонимами
«преступного и шального лепета», оказываются уклонением от речи, от ее
подлинного существа (лепет – лопотать – лопотивъ = косноязычный).
Роковой характер толков, таким образом, существенно ограничивается, а
сами толки выявляют такое состояние наличного, которое предстает не как
Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. С.219.
Когда Иокаста говорит, обращаясь к Аполлону: «ἄγχστoς γ̀ρ ἶ» (ибо ближайший
ты есть; [Sophocles. Tragoediae. – Lipsiae, 1908. – Р.136, 919]), она выражает
всегдашнюю готовность присутствующего увидеть меру в слове Аполлона, обрести в
нем понимание должного, ведущего к исцелению. Апелляция к трагедии Софокла
оказывается необходимой при осмыслении стихотворения Тютчева.
186
187
67
исцеление, но, напротив, как коснеющее в своей оторванности от целого188.
Претендуя на то, чтобы истолковывать присутствующее, толки, поскольку
они косноязычны, на самом деле лжеистолковывают некое отпавшее от
целого наличное.
В свою очередь и страшный клич являет собой не меру должного, но
противоположное по своему характеру и столь же очевидное уклонение от
существа речи. Нормальное состояние мира возможно тогда, когда им
правит не косноязычие толков, не страшный клич, являющийся отповедью
на толки, не воля человека (не важно, добрая или злая) посредством речи,
а сама Речь. В этом случае все присутствующее оказывается лишенным
косности простором ее свободного, всепроникающего осуществления, как
в стихотворении, посвященном М.В.Ломоносову и написанном в те же дни
первой половины апреля 1865 г.:
Он, умирая, сомневался,
Зловещей думою томим…
Но Бог недаром в нем сказался –
Бог верен избранным своим…
Сто лет прошло в труде и горе –
И вот, мужая с каждым днем,
Родная Речь уж на просторе
Поминки празднует по нем…
Уж не опутанная боле,
От прежних уз отрешена,
На всей своей разумной воле
Его приветствует она…189
К существу речи принадлежит то, что в ней заранее, задолго до
всякого нашего изъясняющего толкования, уже сказалось должное.
Поэтому возвращение к нормальному состоянию присутствующего станет
возможно, очевидно, лишь тогда, когда страшный клич190 будет услышан и
тем самым будет преодолено косноязычие толков. Страшный клич – это не
просто некое историческое событие, имевшее когда-то место, но
определенное состояние языка, которое продлится до тех пор, пока
способность слышать и потрясаться услышанным не будет вновь обретена.
И белокрылые виденья
На тусклом озера стекле
В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой полумгле…(Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. – С.199).
«Онеменье» (наряду с косноязычием – одно из возможных уклонений от речи) и «коснеют»
взаимосвязаны у Тютчева, конечно, не случайно, хотя тональность поэтической речи здесь
совсем иная, нежели в стихотворении «Сын царский умирает в Ницце…»
189
Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. – С.218.
190
Если уж он прозвучал, хотя: «да не грянет…»
188
68
Подлинное толкование, таким образом, укоренено в Речи, в ней обретая
для себя руководящую нить: живая жизнь в живом слове. Любое другое
толкование (толки) оказывается беспочвенным, а значит произвольным – от
человека, коснеющего в выродившемся («всех выродков земли родной»)
наличном и руководимого пристрастиями. Если же толкование идет от
человека, преодолевшего пристрастия, нужно еще посмотреть, насколько
говоримое имеет отношение к живой жизни, которая одна только и достойна
толкования.
Мы можем теперь возвратиться к вопросу о разграничении
интерпретации и толкования.
В §8 «Бытия и времени» говорится: «Универсальности понятия бытия не
противоречит «специальность» разысканий – т.е. прорыв к нему путем
специальной интерпретации определенного сущего, присутствия, в котором
надлежит добыть горизонт для понимания и возможного толкования
бытия»191. В § 1.1.2 было сказано, что в пределах современной академической
теории литературы интерпретация и толкование не различаются и не должны
различаться. Суждение М.Хайдеггера свидетельствует о том, что в пределах
фундаментальной онтологии интерпретация и толкование также могут быть
помыслены как соприродные друг другу способы понимания, правда, совсем
по другой причине. В первом случае невозможность различения объясняется
тем, что интерпретация и толкование равно мыслятся в границах
представляющего понимания. Во втором – не только толкование, но также
интерпретация движется в пределах фундаментально-онтологической
проблематики, осмысляемой в границах вопрошающего мышления.
Разноприродный характер двух означенных способов понимания проясняется
лишь тогда, когда актуализируется граница, разделяющая два названных
пространства, в пределах которых понимание осуществляется. Лишь в этом
случае становится ясным, что интерпретация конституируется в границах
представляющего мышления, тогда как толкование – в границах
вопрошающего.
Сказанным объясняются особенности языка, характерного для
означенных разных способов понимания. Для интерпретации, охватывающей
все области современной академической теории литературы, характерен
инструментальный язык. Наиболее очевидно это проявляется в
«литературоведческой грамматике»: здесь мы имеем дело с инструментальным
языком в чистом виде. Но язык «эйдосной» теории литературы и
«персоналистской», несмотря на их глубокое отличие от «литературоведческой
грамматики», тоже остается инструментальным – в той мере, в какой сохраняет
понятийный характер192. Язык толкования, осуществляемого в границах
Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 1997. – С.39.
Инструментальный (понятийный) язык сопряжен с инструментальной же правдой, –
ее сферой ограничивать филологию было бы недопустимо. Филология изначально
обращена к тому, что конституирует человека, а не к тому, что конституируется им:
191
192
69
«филологической» теории, не является инструментальным, что значит: он не
понятиен.
Последнее утверждение звучит почти скандально. Говорить о
непонятийном характере мышления в наше время значит то же самое, что
говорить о совершенно произвольном, лишенном каких-либо надежных
оснований, понимании. Само собою подразумевается, что и о какой-либо
маломальской глубине речь идти в этом случае не может. Дело, однако,
обстоит совсем не так просто, и филологии давно уже пора этот факт
осознать, если истина по-прежнему является не только декларируемой ее
целью.
По тому же поводу на Цолликонеровском семинаре 23 ноября 1965 г.
М.Хайдеггер сказал: «Греки, которые, кажется, не были абсолютно бездарны в
деле мышления, еще не знали «понятия». Т.е. не такой уж это и позор оказаться
антипонятийным». М.Хайдеггер далее объясняет, в каких случаях оказывается
уместным это непонятийное мышление и как оно соотносится с понятийным:
«Может статься, что я мыслю сообразно обстоятельствам тогда, когда я
соучаствую в вещах (Sache), которые не приемлют понятийных определений;
когда я занимаюсь вещами, которые противятся всякому понятийному
постижению, схватыванию, всякому на них наступанию (Auf-sie-losgehen) и
желанию их усвоить (Umgreifen-wollen), вещи, на которые я могу лишь указать.
Такие «вещи» можно лишь, говоря в переносном смысле, «видеть» или «не
видеть». Мы можем лишь на них сослаться, показать в их сторону. Это «лишь»
не указывает на их изъян. Напротив, подобное усмотрение (Gewahrwerden)
обладает первенством и преимуществом пред всяким понятийным
творчеством, поскольку оно всегда, в конце концов, покоится на такого рода
усмотрении»193. Суждение М.Хайдеггера, помимо прочего, учит, что усмотреть
различие интерпретации и толкования может лишь тот, кто реально
приобщился к опыту вопрошающего мышления. Такое приобщение
способствует формированию в мышлении «органа», позволяющего «увидеть»
то, на что указывает наше разграничение. Иными словами: должна произойти
«транссубстанциация» мысли, как это имеет место в диалоге «Федр» при
переходе от первой речи Сократа ко второй194. Означенная
«транссубстанциация» является внутренним событием филологии.
Затронув вопрос о соотношении понятийного и непонятийного языка,
мы подошли к проблеме соотношения высказывания и речи в их
взаимосвязях с интерпретацией и толкованием как двумя разными
«Человек призван не к “инструментальной” только, или “служебной” правде, но и к
последней, к Солнцу Правды (выделено автором. А.Д.). Надо ослепнуть и сгореть на
этом солнце, чтобы стать человеком» (Архиепископ Иоанн (Шаховской). К истории
русской интеллигенции. (Революция Толстого). – М.: Лепта-Пресс, 2003. – С.493).
193
Хайдеггер М. Цолликонеровские семинары // Логос. Философско-литературный
журнал. – М., 1992. – №1 (3). – С.94, 96. Пер. О.В.Никифорова.
194
См.: Эрн В.Ф. Сочинения. – М.: Правда, 1991. – С.532.
70
способами
понимания.
Согласно
М.Хайдеггеру,
расположение
(Befindlichkeit), понимание и речь – равноисходные экзистенциалы бытиявот, присутствия195. Понимание в качестве одного из фундаментальных
экзистенциалов, конституирующих присутствие, раскрывается как
исконное «усматривающе понимающее толкование (ἑρμηνεία)».
Высказывание в свою очередь оказывается дериватом, причем крайним,
толкования; оно, т.е. высказывание, «не может отрицать своего
онтологического происхождения из понимающего толкования»196.
Высказывание (поэтическое высказывание) – это то, что опредмечивается
направленной на него рефлексией и, будучи таковым, интерпретируется.
При этом в «литературоведческой грамматике» сущность поэтического
высказывания выхолащивается, оно редуцируется до слова и
предложения, т.е. «значащих единиц языка» (Бахтин), но также и до
звуков,
в
которых
пытаются
усмотреть
непосредственную
смыслопорождающую функцию. Показательна в этом отношении
следующая констатация В.Вс.Иванова: «В последние годы интерес
специалистов по структурной поэтике, пришедшей на смену опытам
формального анализа, сосредоточен на изучении межуровневых
отношений:
поэтому,
например,
звукописью
занимаются
не
197
безотносительно к смыслу, а по отношению к нему…» . В «эйдосной»
теории литературы проблема поэтического языка как высказывания
остается не развернутой в силу эстетического характера этой теории, т.е.
ее обращенности к внутренней форме произведения, а также в силу ее
изначальной ориентации на принципиально монологические лирические
жанры. Закономерно поэтому, что именно «персоналистская» теория
литературы, почти исключительно обращенная к изучению эпических
жанров, предлагает наиболее глубокую интерпретацию языка
(поэтического языка) как высказывания: в ее пределах и само
произведение предстает как «целое высказывание»198, а любые, в том
числе и литературные, речевые жанры осмысляются «как типические
формы
высказывания»199.
Попутно
проясняется
отличие
«персоналистской» теории литературы от «литературоведческой
грамматики»: «В отличие от высказываний (и речевых жанров) значащие
единицы языка – слово и предложение – по самой своей природе лишены
обращенности, адресованности: они ничьи и ни к кому не обращены. <…>
Если отдельное слово или предложение обращено, адресовано, то перед
нами законченное высказывание, состоящее из одного слова или одного
См.: Хайдеггер М. Бытие и время. – С.130-166.
Там же. – С.158, 160.
197
М.М.Бахтин: pro et contra. – Т.1. СПб.: РХГИ, 2001. – С.269.
198
Бахтин М.М. Собр. сочинений. – Т.5. – М.: Русские словари, 1997. – С.206.
199
Там же. – С.191.
195
196
71
предложения, и обращенность принадлежит не им, как единицам языка, а
высказыванию»200.
Мы установили, таким образом, вторичность представляющей
интерпретации по отношению к толкованию, имеющему фундаментальноонтологический характер. Интерпретация, стало быть, имеет дело с
поэтическим высказыванием (в чистом виде либо редуцированным до
звука, слова и предложения) как предметом понятийного осмысления.
Толкование же коренится в поэтической речи как самораскрытии
присутствующего и само оказывается понимающим пребыванием в
«разомкнутости бытия-в-мире»201, каковая в наибольшей степени именно
поэтической речью осуществляется. Интерпретация, будучи понятийным
дериватом истолковывающего понимания, неизбежно осуществляется
“über die Sprache” (поверх языка), тогда как толкование – “von der Sprache”
(из языка)202.
Становится понятным, сколь поспешными и легкомысленными были
наши предположения о якобы произвольном, нестрогом характере
вопрошающего (непонятийного) мышления. Напротив, только теперь
мышление впервые имеет возможность стать по-настоящему строгим.
Спустя двадцать лет после «Бытия и времени» в «Письме о гуманизме»,
которое представляет собой одну из важнейших вех ХХ века, М.Хайдеггер
написал: «Фундаментальная онтология пытается вернуться к той
сущностной основе, из которой вырастает осмысление истины бытия. Уже
из-за иной постановки вопросов это осмысление выходит за рамки
«онтологии» метафизики (также и кантианской). Но «онтология», будь то
трансцендентальная или докритическая, подлежит критике не потому, что
продумывает бытие сущего и при этом вгоняет бытие в понятие, а потому,
что не продумывает истину бытия и тем самым упускает из виду, что есть
более строгое мышление, чем понятийное. <…> Такая мысль…
удовлетворяет своему существу постольку, поскольку она есть. Но она
есть постольку, поскольку говорит свое дело. Делу мысли отвечает
исторически каждый раз только один, соразмерный сути дела сказ.
Строгость, с какой он держится дела, намного более обязывающа, чем
требования научности, потому что эта строгость свободнее. Ибо она
допускает Бытию – быть»203. М.Хайдеггер имеет здесь в виду §32 «Бытия и
времени», в котором, в частности, говорится: «Поскольку понимание по
своему экзистенциальному смыслу есть бытийное умение самого
присутствия, онтологические предпосылки историографического (ergo
филологического. – А.Д.) познания принципиально превосходят идею
строгости самых точных наук. Математика не строже историографии, а
Там же. – С.205.
Хайдеггер М. Бытие и время. – С.160.
202
См.: Хайдеггер М. Время и бытие. – С.427.
203
Там же. – С.217.
200
201
72
просто более узка в отношении круга релевантных для нее
экзистенциальных
оснований»204.
Ограничение
филологии
онтологическими основаниями, релевантными для математики, неизбежно
приводит к искажению сущности филологии. Только печальным
положением дел в современном литературоведении можно объяснить тот
факт, что это искаженное понимание навязывается филологии в качестве
обязательного образца. В этой связи не могу не привести поучительный
вывод М.Шелера: «Любой вопрос, который нельзя решить посредством
возможного наблюдения и измерения в сочетании с математическим
выводом, – это не вопрос позитивной науки; для нее он не имеет никакого
“смысла”. Наоборот, вопрос, который можно решить таким образом, т.е.
вопрос, зависимый в своем решении от некоего количества индуктивного
опыта, никогда не есть вопрос о сущности…»205 Никто ведь не запрещает
заниматься подсчетами в области теории литературы; но точно так же
никто не должен ставить преграды на пути тех, кто хочет обратиться к
«первичному» (М.Шелер) вопросу, то есть к вопросу о сущности поэзии.
Математические выкладки к решению этого вопроса не ведут.
Скажем в продолжение темы: чем последовательнее теория литературы
стремится быть точной, тем меньше у нее остается шансов быть строгой.
Ю.Б.Орлицкий, исследуя взаимодействие стихотворных цитат и прозаического
текста, в котором они приводятся, подсчитал все возможные количественные
параметры в избранных им статьях и сформулировал вывод: «Таким образом,
можно считать предложенную нами гипотезу о непосредственном
ритмическом (проявляющемся в метризации) воздействии стихотворной
цитаты на прозаический текст, включающий ее, более или менее
убедительной»206. Это «более или менее», которому вроде бы не место в
точном литературоведении, – не оговорка, но неизбежное следствие точности.
В самом деле, для того чтобы утверждать определенно наличие такого
воздействия, необходимо исследовать не шесть прозаических статей, имеющих
стихотворные вкрапления, а все такие когда-либо написанные или могущие
быть написанными статьи, в том числе и безвозвратно утраченные, причем не
только на русском, но на всех существующих языках и тех, которые возникнут
в будущем. После этого необходимо то же проделать со статьями, в которых
авторы обошлись без стихотворных цитат, чтобы доказать отсутствие в них
такого рода «метризации». Ясно, что эта задача заведомо неосуществима,
сколько бы школ точного литературоведения мы ни организовали. Поэтому и
выводы всегда будут оставаться в пределах «более или менее», согласно
Хайдеггер М. Бытие и время. – С.153.
Шелер М. Формы знания и образования // Шелер М. Избранные произведения. – М.:
Гнозис, 1994. – С.45.
206
Орлицкий Ю.Б. Стихотворные цитаты в статьях о Тютчеве // Литературоведческий
сборник. Вып.15-16. – Донецк: ДонНУ, 2003. – С.188.
204
205
73
честной формулировке Ю.Б.Орлицкого. Поэтому и работу можно ограничить
шестью (какая разница?) исследованными статьями207.
Здесь напрашивается возражение: в третьем разделе книги важнейшими
являются слова «‛ερμηνεία», «маническая поэзия». Не являются ли они
понятиями? Тогда о какой непонятийной «филологической» теории идет речь?
Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо задуматься над тем, как
соотносятся имя и понятие (термин). Этой проблемы на примере немецкого и
французского языков коснулся М.М.Бахтин: «…Немцы вообще
терминологичны, им присуща тенденция каждое слово превращать в термин,
т.е. начисто обесстиливать его, французам напротив свойственна тенденция к
имени, даже в термине они пробуждают его метафоричность и его
стилистическую окраску»208. Термин и имя М.М.Бахтин мыслит в пределах
единого понимания языка, для которого характерны вот такие
противоположные свойства, более ярко проявляющиеся в немецком или
французском языках. В контексте же разграничения «филологической» теории
и современной академической теории литературы имя и понятие должны быть
помыслены как принадлежащие двум разным состояниям языка – речи как
фундаментальному экзистенциалу присутствия (имя) и высказыванию, которое
является и предметом и средством представляющей рефлексии (понятие). Имя
и речь – это, говоря точнее, два соприродных, но не тождественных друг другу
состояния означенного экзистенциала присутствия, причем вторая
порождается первым. Им предшествует молчание. Молчание – это та
изначальная полнота смысла, которая в силу своей доступности
непосредственному пониманию, не нуждается в озвучивании. Имя и речь – это
две исторически разновременные попытки удержать присутствие в границах
изначальной полноты смысла. Рождение поэтических жанров должно быть
осмыслено в их соотнесенности с этим процессом: имя как призывание бога,
когда его присутствие в качестве «ближайшего» (Софокл) оказывается под
вопросом – эпиграмма (надпись на имени бога как толкование смысла,
заключенного в имени) – гимн как развернутая в речи эпиграмма (см. §3.4.1).
Когда же приобщенность к изначальной полноте смысла становится сначала
преданием, а потом мифом, происходят все те изменения, которые до сих пор
определяют историческую судьбу европейского человечества. Речь становится
высказыванием, соответственно в поэзии утверждаются миметические жанры,
создаются условия для перехода к представляющей интерпретации, которая
всегда, в отличие от толкования, осуществляется с позиции «вненаходимости»
(М.М.Бахтин) как конститутивном моменте субъект-объектных отношений.
Этим же событием – осевым для филологии (а может быть, и для всей
Ср. сказанное с полемическим выводом одного из наиболее авторитетных
представителей «литературоведческой грамматики»: «Поистине бесполезно с важным
видом толковать о «нечто», когда речь идет просто о неизбежной приблизительности
любой науки» (Якобсон Р. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. – С.82).
208
Бахтин М.М. Собр. сочинений. – Т.5. – С.110.
207
74
человеческой культуры) – отмечены исторические границы бахтинского
теоретико-литературного персонализма.
На какой-то поздней стадии имя как изначальная полнота смысла
может, конечно, когда оно становится словом высказывания, скукожиться
до понятия, т.е. умереть для живой жизни языка, стать средством и даже
«грубой отмычкой», «открывающей все загадки мышления»209, но тогда
оно перестает быть собой. Подлинное имя – никогда не средство и не
«отмычка», поскольку хранит в себе ту глубину смысла, к которой еще
удастся ли нам когда-либо прикоснуться. Вот почему ни ἀλήθεια (как это
показал М.Хайдеггер), ни ἑρμηνεία, ни ποίησις, ни все те слова, которые
раскрывают изначальное существо ποίησις (см. §3.4.2), ни в коем случае не
являются понятиями. Понятийность – это вьюшка, которой неизбежно
перекрывается неисчерпаемая смысловая перспектива слова210.
Любая
интерпретация
(понимаемая
инструменталистски,
в
новоевропейском смысле) обусловлена определенной методологией и
методикой. Методологизм в своем крайнем проявлении означает
«механизированное» сознание. Талант необходим лишь для изобретения
машины (определенной методики), для пользования ею никакой талант не
нужен, необходим лишь навык. «Думает», стало быть, лишь изобретатель,
дальнейшая работа осуществляется по инерции, не потому что кто-то
«думает», а потому что заработал механизм. Мощью механизма определяется
степень значимости той или другой интерпретации: наиболее значимые
методики порождают «школу».
Поскольку методологизм является неотъемлемой принадлежностью
метафизического мышления (вспомним, что с «Рассуждений о методе…»
Р.Декарта начинается история новоевропейской метафизики), постольку
интерпретация осуществляется в его границах. Из этого следует, что
«субъект» и «объект» («эстетический объект») принадлежат к числу ее
основных понятий. Границы интерпретации, стало быть, обусловлены
о-граниченностью субъективированного сознания, являющегося ее
конститутивным моментом. Интерпретация концептуальна, ее цель –
построение смысла в виде определенных типологий, моделей и т.д., тогда
как в толковании главное – не догматическое завершение открывающегося
смысла, но попытка обретения языка, приобщения к нему путем
вслушивания в него. Это не изготовление концепций, не «моделирование»
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.388.
Ср. у Н.К.Гея: «В слове понятийном, в слове-термине рационализмом и
позитивизмом накоплен огромный разрушительный эрозионный осадок, наносы,
покрывающие конкретику и богатство бытия с головой. На алтарь общему и в жертву
эмпирической множественности принесены и неповторимость и индивидуальность»
(Гей Н.К. Категории художественности и метахудожественности в литературе //
Литературоведение как проблема. – М.: Наследие, 2001. – С.298-299).
209
210
75
смысла, но готовность дать слово смыслу, предшествующему
(предстоящему) нам.
Со «специфическим» интерпретации связано то, что в основе ее –
активность познающего субъекта. Интерпретация направлена на
определенный предмет (предмет представления), всегда являющийся
частностью жизни. Остается проблематичным, в какой мере представляющее
мышление способно через частное прийти к осмыслению целого, тем самым
преодолев и свою изначальную частичность. Интерпретация движется в
пределах «своего»: мною освоенного, мною присвоенного, выраженного с
помощью «моего» языка. В основе любой интерпретации лежит тот или иной
аспект, обусловленный позицией интерпретирующего и избранной
методикой. Таких аспектов может быть бесчисленное множество: ни один из
них не претендует на исчерпывающую полноту и не отменяет предыдущие.
Если источник интерпретации – волящая активность мнящего себя
самодостаточным субъекта, то источником толкования является
подспудно присутствующая память о том мышлении, которое
предшествовало новоевропейскому, а в самом начале исходило из
герменейи (дара истинных имен) как источника и основы подлинного
знания. Обращенность к «вдаль-разящим изречениям» у Гёльдерлина и к
«роковым словам» у Тютчева – весьма отдаленный по времени отголосок
того мышления, которое было ведомо грекам начальной поры.
Как уже говорилось, язык, который лежит в основе толкования,
никогда не бывает предметом осмысления. Столь же справедливо и то,
что он никогда в подлинном толковании – не орудие познания. В
толковании, когда оно действительно случается, не язык становится
орудием познающего, но скорее сам познающий – орудием того, что
На волю просится и рвется
И хочет высказаться вслух…211
Или как сказано в другом стихотворении Тютчева: «То глас ее: он нудит
нас и просит…»212. Толкование – это вопрошание языка, выявление смысла,
который «нудит», т.е. делает необходимым, наше высказывание. Выявление
необходимого в слове – ключ к разгадке того, что значит говорить поистине:
«Только тот, кто поистине говорит, тот полон вечной жизни…» (Новалис)213.
Интерпретировать – значит «влагать смысл» (Ф.Ницше) в то, что стало
предметом осмысления, тогда как в толковании сказывается толкуемое. Так, с
точки зрения интерпретации, корпус сочинений Аристотеля, известный под
названием ὀργανικὰ βιβλία, – начало логики. Новоевропейское мышление
задним числом привносит актуальное для него содержание в книги
Аристотеля, создавая впечатление, что именно этим содержанием был
озабочен греческий мыслитель. Толкование же откроет в этом корпусе
Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. – С.251.
Там же. – С.82.
213
Хайдеггер М. Время и бытие. – С.425.
211
212
76
сочинений Аристотеля совсем другое – самую важную после платоновского
«Кратила» попытку понять сущность речи (герменейи). Не случайно один из
трактатов, принадлежащих к этому корпусу, так и называется – «Πρὶ
ἑρμνίς». Между прочим, косвенным подтверждением того, что не о
проблемах «логики» думал Аристотель, когда создавал упомянутые трактаты,
является авторитетное утверждение Б.Рассела: «В наши дни любой человек,
который захотел бы изучать логику, потратил бы зря время, если бы стал
читать Аристотеля…»214. Возникает вопрос: почему эти трактаты, несмотря на
суровый и, видимо, справедливый приговор Б.Рассела, сохраняют
непреходящее значение?
Со «специфическим» интерпретации и с ее методологизмом связана та
или иная специфическая сфера, в которой она осуществляется.
Интерпретация, направленная на эстетический объект, будет принципиально
иной по своему характеру и содержанию, нежели интерпретация того или
иного стиха Евангелия от Матфея. В подлинном же толковании сказывается
существо языка, которое равно может выявиться и в стихотворении Тютчева,
и в послании Павла. В этом и проявляется универсальность толкования.
Слово, которое «кажет» истину, осуществляется помимо установленных нами
рубрик, однако наша способность услышать его остается под вопросом.
Наибольшая опасность, которая подстерегает интерпретирующего, –
это готовность к ответу, опережающему не только понимание вопроса, но
и саму возможность его постановки. Для толкующего, напротив, гораздо
важнее готовность к вопросу. Не случайно такое мышление названо вопрошающим. Подлинное толкование всегда стремится на «стихослагание»
(М.Хайдеггер) истины откликнуться ответным стихослаганием. Оно, в отличие от интерпретации, которая представляет собой «технику» (τέχνη)
объяснения, осознает техничность (т.е. иноприродность стихослагающей
явленности истины) как недостаток, который должен быть преодолен.
Другими словами, в толковании, в отличие от интерпретации, всегда отчетливо осознается и с большим или меньшим драматизмом переживается то,
что «художественное создание» (если речи идет о нем) «не уступает истину
понятию»215. Реализуемое в толковании стремление перейти к
стихослагающему постижению – это не «изящная болтовня» (Р.Якобсон), а
слишком ясное понимание весьма скромных возможностей «грамматики
поэзии» хоть каким-то краешком, хотя бы ненароком задеть след истины в
пределах той «правильности», которая никого не греет.
Нет никаких оснований утверждать, что таким образом понятая
интерпретация является шагом к толкованию. Скорее уж здесь нужно
говорить о двух разных состояниях сознания. Соответственно и
содержание осмысляемых проблем оказывается разным. Подтверждение
214
215
Рассел Б. История западной философии. – Т.1. – М.: МИФ, 1993. – С.223.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С.10.
77
тому – рассмотрение лирики Тютчева во втором и третьем разделах книги. О
других отличиях толкования от интерпретации, если они раскроются в ходе
дальнейшего разговора, пусть скажет само дело.
Интерпретация лирических произведений Боратынского и Тютчева дается в книге в аспекте изобразительных возможностей художественного слова. Побудительной причиной обращения к этой проблеме стало знакомство с
примерами экфрасиса в романе Гелиодора «Эфиопика» (с весьма содержательным предисловием А.Н.Егунова к этому роману216). Сразу же пришли на
память аналогичные или близкие по характеру примеры из поэзии Тютчева.
Это в свою очередь привело к размышлениям о правомерности отрицательного отношения современного литературоведения к старому и аксиоматическому на протяжении тысячелетий принципу «ut pictura poesis», который греки задолго до Горация выражали по-своему: «Живопись – немая поэзия, поэзия – говорящая живопись» (Симонид). Постепенно укреплялось убеждение,
что «единый ансамбль искусств» если и не существует в настоящее время в
прежнем виде, то уж, во всяком случае, не отошел целиком в область преданий. Это убеждение обосновано во втором разделе книги.
Следует отметить в заключение этой главы: поскольку интерпретация
осуществляется в границах представляющего мышления, постольку вопрос об
изобразительности поэтического слова не только может, но необходимо
должен быть поставлен интерпретирующим как один из самых главных
вопросов. Ведь главным моментом в поэтическом представлении (в отличие от
абстрактного) является именно изобразительность: и потому, что поэт мыслит
«пластически» (Ф.Ницше), и потому, что без «созерцательности и
индивидуализации» любое произведение впадает в абстракции, приобретая тем
самым «особый оттенок пустоты и скуки»217. В этом отношении слова
В.Г.Белинского о том, что если автор – «не живописец: явный знак, что он и не
поэт»218, полностью сохраняют актуальность и в наши дни.
Упомянув В.Г.Белинского, А.Шопенгауэра и Ф.Ницше, нельзя обойти
вниманием Г.В.Ф.Гегеля, чья трактовка поэтического представления 219
решающим образом определила характер всей эстетики словесного
творчества XIX века (см. § 2.1.1).
Забвение с 20-х гг. ХХ века этих простых истин свидетельствовало
лишь о том, что наше понимание природы поэтического творчества стало
более грубым: поэтическое произведение мы стали понимать прозаически,
как «голое средство, чтобы довести содержание до сознания»220. Между
См.: Егунов А.Н. «Эфиопика» Гелиодора // Гелиодор. Эфиопика. – М.: Худож. лит., 1965.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Т.2. – М.: Наука, 1993. – С.454. Пер.
М.И.Левиной.
218
Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Белинский В.Г. Собр.
сочинений: В 3 т. – Т.3. – М.: ГИХЛ, 1948. – С.803.
219
См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т.14. – М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1958. – С.194-199.
220
Там же. – С.197.
216
217
78
тем еще в середине 70-х годов позапрошлого века Ф.М.Достоевский
писал, как бы предупреждая нас: «Художественностью пренебрегают
лишь необразованные и туго развитые люди, художественность есть
главное дело, ибо помогает выражению мысли выпуклостию образа. Тогда
как без художественности, проводя лишь мысль, производим лишь скуку,
производим в читателе незаметливость и легкомыслие, а иногда и
недоверчивость к мыслям, неправильно выраженным, и людям из
бумажки»221.
Когда мы в наше смутное для теории литературы время высказываем
самые разнообразные мнения по поводу художественности, это значит только
то, что в поисках более понятной сложности, которую мы возлюбили в ХХ
веке, мы утратили понимание некоторых простых и ясных вещей. К числу
таковых как раз и принадлежит один из заветов великого Ф.М.Достоевского,
что изобразительность – это основополагающее свойство художественности.
При этом речь, разумеется, не идет об отождествлении изобразительности
(«картинности») и поэтичности. В.Г.Белинский приводит пример
стихотворения В.Бенедиктова («Видал ли очи львицы гладной…»), в котором
«великолепие и картинность выражений» доведены до совершенства и которое
он, тем не менее, отказывается признать принадлежащим к подлинной
поэзии222. В подлинно поэтическом изображении, считает В.Г.Белинский,
«мысль уничтожается в чувстве, а чувство уничтожается в мысли; из этого
взаимного уничтожения рождается высокая художественность»: «картина»,
для того чтобы стать художественной, должна быть «одушевлена» чувством и
мыслью поэта223. Своеобразие поэтического творчества и его художественные
достоинства в большей степени определяются наличием чувства в нем, нежели
мысли: «…Сочинение может быть с мыслию, но без чувства; и в таком случае,
есть ли в нем поэзия? И наоборот, очень понятно, что сочинение, в котором
есть чувство, не может быть без мысли»224. Поэтому и в нашем осмыслении
поэтического творчества отвлечение от чувственного (либо его «редукция»)
ведет к утрате способности различения поэзии и того, что к ней не
принадлежит: «Разве у нас нет людей, с умом, образованием, знакомых с
иностранными литературами, и которые, несмотря на все это… иногда
восхищаются восьмикопеечными стихотворениями и талантами гг. А. Б. С. и
т.д.? Отчего это? Оттого, что эти люди часто руководствуются в своих
суждениях одним умом, без всякого участия со стороны чувства…»225. Там, где
ум «освободился» от воздействия чувства, «эмансипировался» от него, там о
Достоевский Ф.М. Полн. собр. сочинений: В 30 т. – Т.24. Л.: Наука, 1982. – С.77.
Белинский В.Г. Стихотворения Владимира Бенедиктова // Белинский В.Г. Собр.
сочинений: В 3 т. Т.1. – М.: ГИХЛ, 1948. – С.165. См. также: Федоров В.В. О природе
поэтической реальности. – М.: Сов. писатель, 1984. – С.18-20.
223
Белинский В.Г. Ук. статья. – С.166, 169.
224
Там же. – С.166.
225
Там же. – С.158.
221
222
79
понимании поэзии, справедливо считает В.Г.Белинский, можно забыть: «Ум
очень самолюбив и упрямо доверчив к себе; он создал систему и лучше
решится уничтожить здравый смысл, нежели отказаться от нее; он гнет все под
свою систему, и что не подходит под нее, то ломает»226. Вот почему
«эйдосная» теория литературы не редуцирует чувственное, но его
тематизирует, делает главным предметом осмысления, поскольку именно в
чувственном раскрывается подлинная природа поэтического творчества как
искусства слова. Сказанное является объяснением того, почему интерпретация
во втором разделе книги осуществляется в границах «эйдосного» теоретиколитературного дискурса.
Ясно, однако, и то, что в толковании, которое исходит из ситуации «при
языке» (М.Хайдеггер), следовательно, осуществляется в границах не
представляющего, но вопрошающего мышления, вопрос об изобразительности
лирического слова, как он поставлен во втором разделе книги, теряет смысл.
Следует также сказать несколько слов в объяснение того, почему в
третьем разделе книги предложенные толкования ограничиваются только
лирикой Ф.И.Тютчева. Объяснение тому – уникальность его поэзии, которая
все еще не поддается разгадке. Эту тайну попробовал раскрыть
С.М.Волконский: «Тютчев был представитель истинной и изысканной
культуры: тип, в то время редкий по ценности своей, а в наши дни не
существующий… В нем, в его культурности, жила глубокая наследственность
– рядом с славянской – наследственность латинская, германская… Тютчев,
конечно, самый культурный из всех наших поэтов»227. «Культурность»,
которая здесь имеется в виду, – это следствие той особенности тютчевской
поэзии, на которую указывает слово «наследственность». Вот только линию
преемственности следовало бы, на мой взгляд, выстроить несколько иначе.
Уникальность поэзии Ф.И.Тютчева заключается в уникальной глубине
укорененности в языке, вследствие чего его поэзия делает нас современниками
тех, для кого уже Аристотель был потомком. Восходя к изначальным смыслам,
которые живут в лирике Ф.И.Тютчева, мы приближаемся к истоку поэзии. Во
всей мировой поэзии в этом отношении рядом с Ф.И.Тютчевым можно
поставить, может быть, только Ф.Гёльдерлина228. Но есть еще одно очень
важное обстоятельство. Каждое толкование – это конкретное усилие мысли,
направленное на постижение конкретного смысла. Оно представляет собой
опыт, который можно повторить, можно продолжить, но который невозможно
адекватно передать с помощью привычных для нас рассудочных обобщений:
природа вопрошающего мышления этого не допускает. Чистота
филологического проникновения в единственность и неповторимость смысла
поэтической речи неизбежно «замутняется», говоря словами М.М.Бахтина,
Там же.
Лит. наследство. Т.97: В 2 кн. Федор Иванович Тютчев. Кн.2. – М.: Наука, 1989. – С.165.
228
См.: Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. СПб.: Академический проект,
2003; Хайдеггер М. Положение об основании. – СПб.: Алетейя, 1999. – С.239-255.
226
227
80
«внесением теоретических обобщений и закономерностей»229. Такое
проникновение зачастую оказывается возможным благодаря приобщению к
смысловой глубине одной – двух фраз («мысль изреченная есть ложь» и
«пение… таинственно-волшебных дум» в стихотворении «Silentium!»),
раскрывающей смысл целого (круг понимания230).
Наше вопрошание, обращенное к поэзии, может достичь цели только
тогда, когда не теряет из виду уникальность именно этой поэтической
речи, к которой оно обращено и которой обусловлено. «Филологическая»
теория – это присутствие при поэтической речи; ее задача – хранить эту
возможность присутствия и понимающе его истолковывать. Обобщения
осуществляются с позиции «вненаходимости». Таким образом, мы имеем
дело здесь с разными способностями понимания, в основе которых
различные онтологические установки. Не абсурдно ли требовать их
соединения в угоду абстрактно понятой научности, право которой на
законодательство еще удастся ли доказать? «Суть “нашего времени” – что
оно все обращает в шаблон, схему и фразу»231. Но кто сказал, что этой
сутью должны ограничиваться наши попытки уловить сущность поэзии?
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.96.
См.: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – С.72-82.
231
Розанов В.В. Т.2. Уединенное. – М.: Правда, 1990. – С.322.
229
230
81
РАЗДЕЛ II
В ГРАНИЦАХ «ЭЙДОСНОЙ» ТЕОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Обнимать-охватывать (concipere) по способу представляющего
понятия заведомо считается
единственно возможным способом
схватывания бытия…
М.Хайдеггер
ГЛАВА I
ПРОБЛЕМА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ
ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА
2.I.І. ЖИВОПИСНАЯ ОБРАЗНОСТЬ1В ПОЭЗИИ
Утверждая,
что
все
дело
письма
«в
художественной
изобразительности», И.А.Ильин поясняет, какой смысл заключен в этих
словах: «Обязать свою душу к образной и словесной экономии; твердо
решиться на то, чтобы оставлять только необходимое, а критерий
«необходимости» переложить в глубину Предмета, сосредоточенно
запрашивая его священный мрак»2. Слова мыслителя вновь возвращают
нас к старой проблеме взаимосвязи слова и изображения как одной из
основных в теории художественного образа. Актуальность этой проблемы
Вопрос о живописной образности словесного искусства может быть поставлен лишь в
границах представляющего мышления. В этой связи можно напомнить, что, к примеру, для
Д.Юма представление тождественно пониманию (см.: Юм Д. Трактат о человеческой
природе. Кн.1. О познании. – М.: Канон, 1995. – С.388). Можно также вспомнить, что
убежденность в универсальности представляющего мышления Г.-Г.Гадамер – мыслитель,
причастный к совсем другой духовной ситуации, – определяет как «наивность рефлексии»
(Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С.20). Нужно признать,
что мы все еще не знаем, с какой стороны подойти к этим словам выдающегося мыслителя.
2
Ильин И.А. Одинокий художник. – М.: Искусство, 1993. – С.282.
1
82
для И.А.Ильина объясняется его глубокой укорененностью в традиции XIX
века, тогда как в наше время такое понимание значимости художественной
изобразительности – скорее исключение из правила, нежели правило.
Сказанное о XIX веке хорошо проясняет известный рассказ
П.А.Вяземского об одном весьма примечательном уроке, который
запомнился ему на всю жизнь: «Когда Карамзин писал свое последнее
стихотворение «Освобождение Европы», 1814 года, он прочел мне
следующие стихи:
Как трудно общество создать!
Оно устроилось веками;
Гораздо легче разрушать
Безумцу с дерзкими руками, –
и спросил меня, как, по-моему, лучше сказать: «Безумцу дерзкими
руками» или «с дерзкими руками»? Я указал на первый оборот. «Нет, отвечал он, – второе выражение живее и изобразительнее». Так оно и
есть»3.
Для
Н.М.Карамзина,
очевидно,
написать
«живее
и
изобразительнее» – значит написать художественнее, и П.А.Вяземский,
спустя много лет после упомянутого разговора, вполне соглашается с этим
мнением.
В свое время и для В.Г.Белинского не было сомнений, что
художественный образ рождается на основе зрительных представлений:
«Поэт-художник – более живописец, нежели думают. Чувство формы – в
этом вся натура его. Вечно соперничать с природою в способности творить –
его высочайшее наслаждение. Схватить данный предмет во всей его истине,
заставить его… дышать жизнию – вот в чем его сила, торжество,
удовлетворение, гордость.<…>… Какие бы ни были другие превосходные,
возбуждающие восторг и удивление качества его творений, – все-таки
главная сила его в поэтической живописи»4. Чуть выше критик категорично
утверждает, что если автор – «не живописец: явный знак, что он и не поэт,
что у него вовсе нет таланта». Хотелось бы особое внимание обратить на то,
что речь идет не о юношеских, высказанных в порыве увлечения (т.е.
случайных), но о выношенных, без преувеличения «итоговых» взглядах
В.Г.Белинского.
Близкое понимание изобразительности словесного искусства находим в
работах других русских критиков5. Ясно, что именно в таком, традиционном
для XIX века6, понимании художественного образа как раз с наибольшей
Вяземский П.А. Сочинения: В 2 т. – Т.2. – М.: Худож. лит., 1982. – С.200.
Белинский В.Г. Собр. сочинений: В 3 т. Т.3. – М.: ГИХЛ, 1948. – С.805.
5
См., напр.: Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Добролюбов Н.А. Собр.
сочинений. – Т.4. – М.: ГИХЛ, 1962. – С.300.
6
Эта традиция, разумеется, гораздо старше и обусловлена очень древней «концепцией о
главенстве зрения («видения») над остальными органами чувств» (Бычков В.В. Образ как
3
4
83
отчетливостью и раскрывается этимологическое родство слов «образ» и
«изображение». Известно, что русские критики в данном случае
ориентировались на Гегеля. Понимание ими природы художественного
образа, безусловно, соответствовало убеждению Гегеля в том, что «сама
видимость существенна для сущности…»7, о чем уже говорилось в § 1.1.2.
Чрезвычайно важным также является указание А.А.Потебни, что
именно внутренняя форма произведения, которая трактуется им как образ,
соответствующий представлению8, является порождающим началом
разнообразных пониманий (в терминах настоящей работы: интерпретаций):
«Сущность, сила… произведения не в том, что разумел под ним автор, а в
том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в
неисчерпаемом возможном его содержании. Это содержание, проецируемое
нами, то есть влагаемое в самое произведение, действительно условлено его
внутреннею формою, но могло вовсе не входить в расчеты художника,
который творит, удовлетворяя временным, нередко весьма узким
потребностям своей личной жизни. Заслуга художника не в том minimum’e
содержания, какое думалось ему при создании, а в известной гибкости
образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное
содержание»9. Эта мысль выдающегося нашего филолога может стать
главной методологической основой для теории интерпретации, а в нашем
конкретном случае авторитетно подтверждает правомерность выделения
изобразительного начала словесного искусства в качестве важнейшего в
теории интерпретации.
Утверждение,
касающееся
глубинной
связи
проблемы
изобразительности словесного искусства и теории интерпретации, было
бы с пониманием воспринято в XIX веке, тогда как в наши дни оно, к
сожалению, звучит едва ли не революционно. Причиной тому резкая
критика теории художественного образа в работах литературоведов 1920-х
годов, от которой литературоведение по-настоящему не отошло до сих
пор. Однако нужно признать, что ученые того времени были
последовательны в своем отношении к художественному образу. Значима
традиция XIX века в трудах О.Вальцеля, сближавшего образное и
наглядное. В одной из своих работ он пишет: «Художественный облик
поэтического произведения создается из слухового воздействия слов и
затем из всех чувственных представлений, вызываемых словом. Сюда,
между прочим, относится образное, наглядное»10 (курсив мой. – А.Д.).
категория византийской эстетики // Византийский временник. – Т.34. – М.: Наука, 1973. –
С.165).
7
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.12. – М.: Гос. соц.-эконом. изд-во, 1938. – С.8.
8
Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – С.165.
9
Там же. – С.167.
10
Вальцель О. Сущность поэтического произведения // Проблемы литературной
формы. – Л.: Academia, 1928. – С.3.
84
Актуализация зримости была характерна для всего западноевропейского
формализма11.
В России ученые того времени акцентировали внимание на другой
стороне проблемы, указывая на определенную неточность, неконкретность
зрительных
представлений,
порождаемых
произведениями
художественной литературы, причем это был один из немногих вопросов,
в решении которого сходились такие разные исследователи, как
опоязовцы, В.М.Жирмунский, М.М.Бахтин. Так, В.М.Жирмунский писал
по поводу стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»:
«…Образы, сопровождающие течение слов, в достаточной мере
субъективны и неопределенны и находятся в полной зависимости от
психологии воспринимающего, от его индивидуальности, от изменения
его настроения и пр. На этих образах построить искусство невозможно:
искусство требует законченности и точности…»12. В свою очередь
М.М.Бахтин, разрабатывая понятие эстетического объекта, пришел к
аналогичному выводу: из зрительных представлений, по мнению ученого,
«построить эстетический объект… совершенно невозможно»13. Эти
выводы,
касающиеся
значимости
художественного
образа,
противоположны тем, которые были сделаны мыслителями XIX века, но
логика рассуждений и В.М.Жирмунского, и М.М.Бахтина была бы вполне
понятна их предшественникам и обусловлена традиционным пониманием
природы художественного образа: нет точных, законченных зрительных
представлений, значит, «несмотря на весьма почтенную старую традицию
образа, поэтике нелишне с ним расстаться…»14, поскольку образное в
поэзии без зрительного не существует.
Тем не менее, при всей видимой основательности этой критики, ни
В.М.Жирмунский, ни М.М.Бахтин не открывали ничего нового, поскольку
они указывали на особенность художественного образа, хорошо известную
Гегелю. Не в последнюю очередь именно в силу своей относительной
зрительной неопределенности словесно-художественный образ не допускает
однозначности в его понимании, которую имеет в виду В.М.Жирмунский,
утверждая, что искусство якобы требует точности15. Между прочим, в таком
требовании Гегель усматривал проявление прозаического подхода к поэзии:
«…В общем, в качестве закона для прозаического представления мы, с одной
См.: Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – Л.: Прибой, 1928. – С.70.
Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977. – С.20.
13
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С.50-51.
14
Там же. – С.50.
15
Точности (однозначности) требует инструментальный язык, тогда как искусство требует
чего-то совсем другого. Недоразумение, вкравшееся в рассуждение В.М.Жирмунского,
объясняется тем, что он законы языка как средства для наших мыслительных операций
отождествляет с законами искусства. Но для искусства, вопреки мнению
В.М.Жирмунского, актуален язык в его «казовой» и символической, а не инструментальной
орудийности.
11
12
85
стороны, можем выставить верность, с другой стороны – отчетливую
определенность и ясное уразумение, между тем как метафорическое и
образное вообще до известной степени всегда неотчетливо и неверно. В
самом деле, в выражении в точном смысле этого слова, как оно дается
поэзией в ее образности, простой предмет из своего непосредственного
уразумения переводится в реальное явление, откуда он должен быть узнан, в
выражении же переносом используется для приведения в наглядный вид
явление, даже отдаленное от смысла и только ему родственное, в результате
прозаикам-комментаторам поэтов приходится прилагать много старания,
прежде чем им удается разъединить образ и смысл путем рассудочного
анализа, извлечь из живой формы абстрактное содержание и благодаря этому
быть в состоянии раскрыть для прозаического сознания понимание
поэтических способов представления. Между тем в поэзии существенным
законом является не только верность и соразмерность, непосредственно
совпадающая с простым содержанием. Наоборот, если прозе надлежит
держаться своих представлений в той же сфере своего содержания и в
абстрактной достоверности, то поэзия должна вести в другую стихию – в
явление самого содержания или в другие родственные явления. Ибо как раз
эта реальность должна выступить сама по себе и, с одной стороны,
изобразить содержание, но, с другой стороны, она должна освободиться от
голого содержания, причем внимание как раз привлекается к
проявляющемуся наличному бытию, и живой облик делается существенной
целью теоретического интереса»16. Такая большая выписка понадобилась для
того, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько неправомерной была
критика художественного образа, о которой упоминалось выше: от нее
фактически ничего не остается.
Наиболее дискуссионным является вопрос об изобразительности
лирического слова. Для того чтобы в этой проблеме разобраться, нужно
научиться отличать лирику «саму по себе», от конкретного ее воплощения
в определенном лирическом стихотворении. Вопрос о том, что такое
лирика, не тождественен вопросу о том, что такое лирическая поэзия.
«…Лирика, взятая сама по себе, … есть только эмоция, а не образность»17, –
пишет А.Ф.Лосев, уточняя некоторые положения Д.Овсянико-Куликовского.
Однако утверждать возможность существования стихотворений, в которых
есть только эмоция и ничего, кроме эмоций, – почти то же самое, что
признавать осуществимость стремления, о котором писал поэт:
О, если б без слова сказаться душой было можно.
Содержание музыки, говорит Г.В.Ф.Гегель, «есть само по себе
субъективное, и выражение его также не приводит к возникновению
пространственно пребывающей (выделено автором. – А.Д.) объективности, а
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1958. – С.197-198.
Лосев А.Ф. Проблема вариативного функционирования поэтического языка // Лосев
А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С.417.
16
17
86
показывает своим неудержимым свободным исчезновением, что оно не
заключает в себе самостоятельной стойкости, а сохраняется лишь внутренним
и субъективным миром и должно существовать только для субъективности
внутренней жизни»18.
Лирическая поэзия никогда этой сферой тотальной субъективности не
ограничивается. Попытки доказать противоположное неизбежно приводят к
ошибочным умозаключениям. Так, А.А.Кораблев утверждает, что
предметность лирики «не представима», но при этом, по его мнению, лирика
«не столько (курсив мой. – А.Д.) визуальна, сколько тональна»19. Как связать
эти два рядом стоящих вывода в непротиворечивое целое? Если
предметность лирики «не представима», значит она и «не визуальна», а если
она сколько-то визуальна, она, по крайней мере, столько же и представима.
Само выражение «не представимая предметность» – это contradictio in adjecto.
В границах представляющего мышления (а именно в этих границах
происходит разговор) все, что стало предметностью, одновременно стало и
представимым: первым предполагается второе и наоборот. Проблема, стало
быть, заключается не в наличии – отсутствии представлений в лирическом
произведении, а в том, какого рода представления характерны для него.
Согласно Г.В.Ф.Гегелю, представление может быть либо
прозаическим (абстрактным; видимо, это имел в виду А.А.Кораблев), либо
поэтическим. Поскольку лирика принадлежит к поэзии, постольку все, что
Гегель говорит о поэтическом представлении, касается и ее. Выводы
Гегеля относительно поэтического представления следующие:
– сущность поэтического языка заключается «в характере и свойстве
представления» («непредставимость» же для Гегеля – если взять понятие
«представление» в широком смысле – пребывает не просто за пределами
поэтического искусства, но за пределами мышления в целом, как и за
пределами какой бы то ни было осмысленной артикуляции)20;
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – С.97.
Кораблев А.А. Поэтика словесного творчества. – Донецк: ДонНУ, 2001. – С.92.
20
Представление и понятие – эти ключевые слова всего западного мышления – генетически
связаны с одним латинским – con-cipio, и обозначаются одним словом (conceptus), к
примеру, у Николая Кузанского, богословие которого, согласно убедительному мнению
современного исследователя, не просто послужило «фудаментом для философии Нового
времени», но осталось «для нее непревзойденной вершиной» (Сидаш Т.Г. Неоплатонизм и
христианство // Плотин. Шестая эннеада. Трактаты VI-IX. – СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2005. – С.383). Говорить о «непредставимой предметности», стало быть, все равно что
говорить о непонятийной понятийности. Последнее выражение, на первый взгляд, столь же
нелепо, сколь смешно. Не будем, однако, спешить с выводами. В нашей всегдашней
склонности судить поспешно заключается «тоже причина, почему тайное нельзя сообщать
всем людям, ибо когда оно открывается, то кажется нелепым» (Николай Кузанский.
Сочинения: В 2 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1979. Пер. З.А.Тажуризиной). Тайное всегда имеет
своим истоком священное. «Бог, – говорит Николай Кузанский, – выше всякого понятия», и
в то же время Он – «понятие понятий» (там же, с.289, 378), то есть, можно сказать, причем
без особого насилия над словом, именно непонятийная понятийность. Говорить о лирике
18
19
87
– поэтическое представление – «образное, поскольку оно ставит перед
нашим взором вместо абстрактной сущности конкретную ее реальность,
вместо случайного бытия – такое явление, в котором мы познаем
субстанциональное начало непосредственно через самое внешность и ее
индивидуальность в неразрывной с ней связи…». Поэзия «не удовлетворяется
абстрактным пониманием», но «доставляет нам понятие в его бытии, род – в
определенной индивидуальности»; она «устраняет чисто абстрактное
понимание, ставя на его место реальную определенность»; именно в
«характере и свойстве» поэтического представления главным образом
заключается «красота и совершенство» поэзии. Когда мы в своем
прозаическом осмыслении произведения выносим за скобки (редуцируем)
характер поэтического представления (форму видения), мы тем самым
разрушаем и поэтическую сущность самого произведения, хотя, как нам
представляется, именно ее и анализируем;
– поэтическое представление «становится объективным… в словах»,
при этом не имеет значения, в «объективном» ли эпосе оно реализуется
или в «субъективной» лирике21.
Поэтическое представление объективируется в словах (в любом роде
поэзии), поэтому оно может и должно быть предметом теоретиколитературного осмысления. Когда мы отрицаем за лирикой способность
образного (в гегелевском смысле этого слова) выявления идеи, мы тем
самым выводим ее за границы поэзии в область «других способов
выражения» – прозаических. Очевидная неприемлемость этого вывода
свидетельствует о том, что в посылке была допущена ошибка.
Любое поэтическое произведение (и лирическое в том числе)
представляет собой сопряжение явленного и того, что осталось сокрытым,
это, говоря словами М.Бланшо, «явленная потаенность»: «Глубина не
открывается, если смотреть в нее лицом к лицу, она открывается, только
если утаена в созданном»22. Конечно, наша главная цель – постижение
глубины, но приблизиться к адекватному ее постижению (в границах
представляющего мышления) мы можем только через явленное. Правда,
соотношение явленного и сокрытого при разной орудийности языка и при
разных принципах завершения поэтического целого будет различным.
Лирика как безобразная (аниконическая, по терминологии А.Ф.Лосева)
чистая эмоция намечает один из тех пределов, к которому стремится, но
таким образом, значит мыслить ее так, как Николай Кузанский мыслит Бога. Это было бы
уместно, если бы речь шла о гимнах сщмч. Дионисия Ареопагита. Уместно, поскольку в
этом случае мы остались бы в границах священного. «…Умом является то, от чего
возникает граница и мера всех вещей» (там же, с.388). Когда же мы преступаем эти
границы и уместное в рассуждениях о Боге распространяем на сугубо эстетическую область
(проблема изобразительности лирического слова), тогда высшая мудрость оказывается
своей противоположностью – в лучшем случае «клавиатурной акробатикой» (И.А.Ильин).
21
См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – С.193-197.
22
Бланшо М. Пространство литературы. – М.: Логос, 2002. – С.174-175. Пер. Б.В.Дубина.
88
которого не может достичь лирическое стихотворение23, поскольку иначе оно
стало бы музыкой. В стихотворении, осуществленном в слове и ставшем
искусством слова, всегда «шевелится» (А.Ф.Лосев) образность, как бы
неуловимы порой ни были заключенные в нем изобразительные элементы.
Не случайно А.Ф.Лосев говорит, например, о стихотворении Лермонтова
«И скучно, и грустно…» (на которое ссылается В.В.Кожинов как на
лишенное изобразительных элементов24), что оно «почти (курсив мой. –
А.Д.) насквозь аниконическое»25. Это уточнение необходимо всегда иметь
в виду, когда мы говорим о лирической поэзии. Вообще для того, чтобы
иметь суждение об этом актуальном или потенциальном продуцировании
поэтическим словом образности, об этой «настроенности» поэтического
слова на образность, необходимо обладать таким же воображением, каким
обладают поэты. «Когда Маяковского спрашивали, что он сам чувствует,
читая свои стихи, он отвечал: “А я все вижу”»26. Этих четырех слов
достаточно для доказательства легитимности «эйдосной» теории
литературы: одно свидетельство поэта перевесит все научные сочинения,
направленные против поэтической (в том числе лирической) образности.
Из разнообразных современных трактовок изобразительности
поэтического слова наиболее плодотворной, на мой взгляд, является позиция
А.Ф.Лосева, который стремится строго ограничить сферу изобразительности,
соотнося ее с результатами именно зрительных восприятий. Правомерность
такого подхода подтверждается работами по языкознанию и
психофизиологии. В частности, Н.И.Жинкину удалось экспериментально
установить существование универсального предметного кода (УПК) во
внутренней речи: «…Представления как изобразительные компоненты этого
кода схематичны. <…> Предметы, сведенные к такой схеме, составляют
Сопоставьте сказанное с суждением Жан-Поля о том, что лирика – это «безобразный
прометеев огонь, который оживляет все образы». Это суждение «знаменитого поэта–
мыслителя Германии» было сочувственно процитировано В.Г. Белинским в работе
«Разделение поэзии на роды и виды» (см.: Белинский В.Г. Собр. сочинений: В 3 т. –
Т.2. – С.11). Второй предел, к которому может стремиться лирическое стихотворение,
выражается старым сравнением «как живопись поэзия». Можно сказать, предельно
заостряя мысль, что то, что полностью аниконично, в то же время и антипоэтично:
«…Свободный язык поэзии… это язык интуиции, который передает ощущения
чувственно. Он всегда стремится захватить вас и заставить постоянно видеть реальные
предметы, не давая вам ускользнуть в мир абстракций» (Ричардс А. Философия
риторики // Теория метафоры: Сборник. – М.: Прогресс, 1990. – С.65. Пер.
Р.И.Розиной).
24
См.: Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX века. – М.: Современник,
1978. – С.6.
25
Лосев А.Ф. Ук. сочинение. – С.418.
26
Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака. – Л.: Сов. писатель, 1990. – С.355. Именно в
этом – «эйдосном» – контексте следует понимать парадоксальные, на первый взгляд, слова
Ф.В.Шеллинга о том, что филология «представляет собой искусство в такой же мере, как и
поэзия», и что «филологом необходимо родиться не менее, чем поэтом» (Шеллинг Ф.В.
Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – С.47. Пер. П.С.Попова).
23
89
единство, каждый элемент которого непроизносим, но по которому можно
восстановить произносимые слова любого языка… Такой предметный код
представляет собой универсальный язык, с которого возможны переводы на
все другие языки». Таким образом, выяснилось, что само «зарождение мысли
осуществляется в предметно-изобразительном коде». «У человека, – пишет
Н.И.Жинкин, – изображение входит в самый состав его мышления.
Бесконечность отражаемого мышлением мира обеспечивает безграничные
возможности постоянно возрождающегося во внутренней речи натурального
языка»27.
Столь же важным является и разработанное Б.Г.Ананьевым
положение о доминантности зрительной системы среди других форм
восприятия, «обладающей способностью превращать незримое в зримое,
визуализировать
любые
чувственные
сигналы…»28.
Сказанным
объясняется самая суть представляющего мышления. Эта же способность
зрительной системы «превращать незримое в зримое» должна быть учтена,
когда речь заходит о словесно-художественном образе и его природе:
держась этой путеводной нити, мы не упустим из виду эстетическое как
таковое в образе.
Что значит «эстетическое»? Н.Гартман утверждает: «Эстетическая
точка зрения вообще не является достоянием эстетика. Она есть и остается
точкой зрения любителя искусства и творца его…»29. Эстетическое – это
чувственное. Для того чтобы эстетическое оставалось значимым
предметом изучения, мы должны не редуцировать чувственное (чем
неизбежно должен заниматься, например, представитель теоретиколитературного персонализма, восходя от чувственного к смыслу, который
в нем заключен), но тематизировать его. Тематизация в данном случае
предстает как выявление способов и принципов чувственного
конструирования поэтического содержания. Эволюция этих способов и
принципов – предмет исторической эстетики словесного творчества. Весь
второй раздел настоящей книги целиком написан в духе означенной
эстетики.
Чувственное в разных видах искусства имеет разный характер:
воображаемо наглядный в поэзии, непосредственно наглядный в
живописи, лишенный наглядности в музыке, что обусловлено разной
структурой образов в каждом из них. Существенным для понимания
важнейшей особенности искусства слова является известное рассуждение
Л.Н.Толстого о «лабиринте сцеплений», основа которого составлена «не
мыслью…, а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления
Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – С.35-36. Само
собой разумеется, что в
исследовании Н.И.Жинкина говорится о механизме,
определяющем природу представляющего мышления.
28
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – С.126.
29
Гартман Н. Эстетика. – К.: Ника-Центр, 2004. – С.5.
27
90
непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно –
словами описывая образы, действия, положения»30. Вполне в духе своего
времени Л.Н.Толстой говорит о живописи словом как основе поэтического
творчества.
Все вышесказанное позволяет нам сформулировать вывод: с точки
зрения его структуры, словесно-художественный образ можно рассматривать
как сложное, диалектическое единство, необходимой формой существования
которого является слово, представляющее собой результат творческой
деятельности автора, который, будучи тождественным целому произведения,
с разной степенью опосредованности присутствует в разных субъектах
высказывания: повествователе, рассказчике, герое; для того чтобы слово
стало «живым», обрело полноту заключенной в нем жизни, необходим
читатель, который, приобщаясь к слову (словесно-речевому строю
произведения), переходит от восприятия его внешней формы (фонический и
стилистический ее уровни, действительность сюжета в эпическом
произведении) к восприятию его внутренней формы (пластическиживописный компонент образа: рисуемые словом картины – «действия,
положения»; действительность фабулы в эпическом произведении), вступая
одновременно в сложные диалогические отношения с повествователем
эпического произведения (либо отождествляясь с субъектом лирического
высказывания или совмещая первое и второе отношения при восприятии
драматического произведения); пластически-живописный (собственно
эстетический) потенциал художественного слова всегда реализуется во
взаимосвязи с внутренне ему присущим определенным эмоциональноволевым отношением к изображаемому: это отношение раскрывается в
интонации при исполнении произведения. Адекватное исполнение
произведения может, таким образом, непосредственно свидетельствовать о
глубине его понимания.
В то же время нужно помнить, что для «живописной образности в
поэзии» (А.Ф.Лосев), поскольку именно она находится в центре нашего
внимания, характерна «неполная наглядность», которая, не допуская
произвола читательского воображения, все же оставляет читателю
некоторую свободу сотворчества. «Картины» в произведениях
художественной литературы, в отличие от живописи, не являются жестко
фиксированными, они во время восприятия находятся в постоянном
процессе возникновения, прояснения и исчезновения, это, по меткому
замечанию Ф.Шлегеля, «живопись тающая». Указанное отличие
обусловлено тем, что в живописи (равно в скульптуре, кино и т.п.), при
аналогичной структуре художественного образа, иным оказывается
соотношение слова и изображения («картины»). «…В кино, – пишет
Л.К.Козлов, – соотношение между словом и изображением обратно тому,
30
Л.Н.Толстой о литературе. – М.: ГИХЛ, 1955. – С.155.
91
какое характерно для литературы. Можно сказать, что для литературы
специфично изображающее слово, а для кино – слово изображенное. Или
несколько иначе: отличительность литературы состоит в словесном
образе, отличительность кинематографа – в образе слова»31. В свою
очередь в музыкальном образе место слова занимает музыкальный звук,
место изображенного предмета – лишенная зрительной наглядности
психологическая конкретность, приводимая музыкой в движение
«сокровенная… глубина чувства», которая представляет собой «простой
концентрированный центр всего человека»32.
Таким образом, изобразительность, т.е. способность произведений
словесного искусства создавать поверхностно-плоскостные конструкции,
которые привлекают «наше внимание как вполне самостоятельная и
самодовлеющая данность» и которые всегда являются «внешне чувственным
выражением той или иной внутренне данной духовной жизни»33, оказывается
неотъемлемым, внутренне присущим художественной литературе свойством.
2.I.2. «КОНФЛИКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ»
Мы говорим о поэзии в таких
абстрактных выражениях именно
потому, что все мы обычно плохие поэты.
Ф.Ницше
Упомянутая выше работа А.Ф.Лосева «Проблема вариативного
функционирования поэтического языка», несмотря на ее признаваемый
самим автором сугубо предварительный характер, открывает путь к такому
пониманию изобразительности художественного слова, в котором была бы
восстановлена связь современной теории литературы с традицией XIX века.
Но поскольку подлинное восстановление этой связи – дело будущего,
понимание А.Ф.Лосевым живописной образности в поэзии как
поверхностно–плоскостных конструкций нуждается в прояснении. В самом
деле, как понимать эту поверхностно-плоскостную данность: как «слабые
образы… впечатлений в мышлении и рассуждении»34, как ментальный образ,
«который обеспечивает нам представление уже воспринятых вещей»35?
Козлов Л.К. Изображение и образ: Очерки по исторической поэтике кино. – М.:
Искусство, 1980. – С.111.
32
Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. – Т.3. – М.: Искусство, 1971. – С.291. Пер.
Ю.Н.Попова.
33
Лосев А.Ф. Ук. сочинение. – С.415.
34
Юм Д. Ук. книга. – С.57.
35
Рикёр П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория
метафоры: Сборник. – С.428. Пер. М.М.Бурас и М.А. Кронгауза.
31
92
После упомянутых работ А.Ф.Лосева и П.Рикёра такое понимание
поэтической изобразительности не нуждается в развернутой критике.
В качестве важнейших необходимо выделить два вывода А.Ф.Лосева.
Первый касается самостоятельного и самодовлеющего характера
поверхностно-плоскостных конструкций, создаваемых поэтическими
произведениями36. Ничто не мешает нам соотнести эту самостоятельную и
самодовлеющую данность с самостоятельной метафорической (поэтической)
референцией, которая возникает «на руинах референции прямой»37 (т.е.
обыденной). Такую порождающую способность поэтического языка П.Рикёр,
вслед за Р.Якобсоном, называет «расщепленной референцией»38. Работа
А.Ф.Лосева, таким образом, оказывается включенной в общеевропейский
контекст теории метафоры, которая интенсивно разрабатывалась на Западе в
XX веке.
Второй вывод А.Ф.Лосева указывает на вариативный характер
поэтической живописи, обусловленный тем, что изображение в
произведениях словесного искусства «всегда меняется, всегда плывет или
наплывает, всегда становится»39. Этим указанием лишний раз
подтверждается причастность выдающегося ученого к общеевропейской
эстетической традиции – причастность настолько очевидная, что второй
вывод А.Ф.Лосева может показаться тривиальностью, поскольку еще
Новалис в одном из фрагментов утверждал: «Вечно-устойчивое
изобразимо лишь в изменчивом»40. Романтизм с его столь интенсивным
переживанием
жизни
как
постоянного
становления,
с
его
отождествлением жизни и становления многое сделал и для прояснения
сущности поэтической живописи. Тем не менее, вывод А.Ф.Лосева, хотя
он и не нов, – вовсе не такая тривиальность, какой может показаться на
первый взгляд; об этом свидетельствуют факты, конкретные попытки
интерпретации
поэтической
изобразительности,
осуществляемые
современными литературоведами. В качестве примера приведу суждение
ученого, известного не менее чем А.Ф.Лосев.
Процитировав
заключительную
строфу
из
стихотворения
Ф.И.Тютчева «Два демона ему служили…»:
Он был земной, не Божий пламень,
Он гордо плыл – презритель волн, –
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн, –
См.: Лосев А.Ф. Ук. сочинение. – С.414-415.
Рикёр П. Ук. сочинение. – С.427.
38
См.: там же, с.426-428.
39
Лосев А.Ф. Ук. сочинение. – С.410.
40
Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. – СПб.: Евразия,
1995. – С.158. Пер. Г.Петникова.
36
37
93
Ю.М.Лотман пишет: «Очевидно, что если образы эти дешифровать
зрительно, то получится абсурдный эффект реализованной метафоры:
пламень, гордо плывущий по волнам… Это не зрительный образ, а знак
стиля»41. В приведенном высказывании Ю.М.Лотмана игнорируются оба
вывода А.Ф.Лосева, что и приводит в результате к ошибочным
умозаключениям.
Кажется, здесь достаточно указать на лежащую на поверхности ошибку
в рассуждении Ю.М.Лотмана – путаницу с денотатами и предикатами,
посетовав при этом на его невнимательность. Ю.М.Лотман уверен, что
значения субъектов первого и второго предложений («он») тождественны.
Между тем денотат первого личного местоимения (Наполеон)
конкретизируется как «земной пламень», тогда как тот же самый денотат
второго предстает как «презритель волн» («утлый челн»), который вполне
может «гордо плыть», – зрительная реализация метафоры ни к какому
абсурду не приводит. Однако ошибку ученого вряд ли можно объяснить
простой невнимательностью. Ю.М.Лотман не поспевает за текучестью
поэтической живописи, считая к тому же, что ее можно заменить
рассмотрением «знаков стиля», как будто это явления одного порядка. Но
методика, доведенная до совершенства в отношении статуарных знаков
стиля, тотчас обнаруживает свою ограниченность, как только выходит за их
пределы – в ту область, которую ни в какую знаковую систему,
расчлененную по рубрикам, уложить невозможно. «Символы Т-языка, –
пишет Ф.Уилрайт, – могут намекать на объекты такой природы, что при
использовании прямолинейных методов неизбежно игнорируются или
искажаются»42. Перенося значение первого личного местоимения на второе,
Ю.М. Лотман в интерпретации приведенной выше строфы из
стихотворения Тютчева не корректно соотносит, «семантическую оболочку
(vehicle)» означенных слов и их «подлинное содержание (tenor)»43. Это
произошло, потому что не была осуществлена адекватная зрительная
актуализация «семантической оболочки». Последствия игнорирования
изобразительного начала в художественном образе, следовательно, не так
уж безобидны, как нас многие уверяют.
Зрительную актуализацию слова мы можем назвать, вслед за
А.А.Потебней, «внутренней формой», которая не только «направляет
мысль»44, раскрывая тем самым содержание слова (художественного
произведения), но и является необходимым условием эстетического его
восприятия.
Согласно
А.А.Потебне,
«потерянная
эстетичность
Лотман Ю.М. Заметки по поэтике Тютчева // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Вып. 604.
– Тарту, 1982. – С.14.
42
Уилрайт Ф. Метафора и реальность // Теория метафоры: Сборник. – С.108. Т-язык –
«язык, создающий напряжение» (там же, с. 82).
43
Там же. – С.83-84.
44
Потебня А.А. Ук. книга. – С.160.
41
94
впечатления», может быть «восстановлена только сознанием внутренней
формы»45 слова и художественного произведения. «Дешифровка»
стихотворения, ориентированная лишь на «знаки стиля» (на
«семантическую оболочку», на «внешнюю форму»), не может, стало быть,
раскрыть ни содержательную глубину поэтического произведения, ни его
эстетическую природу. Дешифровка уместна в некоторых случаях как
предварительное условие понимания произведения, она всегда
осуществляется «извне». Полагать, что она способна на большее – значит
считать, что, находясь вне поэтического целого, можно что-либо в нем
понять, – вполне абсурдное допущение. Понимание поэтического целого
оказывается возможным не в результате сопротивления закону, его
созидающему, но в результате безусловного подчинения нашего
восприятия этому закону. Тогда в стихотворении Тютчева откроется, как
сквозь «земной пламень» просматривается «утлый челн», а над ними
мерцает тот духовный («Божий») свет (в содержательном отношении
тождественный «подводному камню веры»), который является подлинным
мерилом для всего земного. Это взаимодействие изобразительных планов
на словесно-речевом уровне проявляется во взаимодействии значений
личных местоимений первого и второго предложений. «Утлый челн»
недаром ведь отнесен в конец строфы: предикат первого местоимения
«он» («земной пламень») как бы накладывается на предикат второго:
перед нами характерный для поэзии Ф.И.Тютчева пример совмещения
изобразительных планов и просвечиваемости одного изобразительного
плана сквозь другой (см. об этом в третьей главе настоящего раздела).
Однако умозаключение Ю.М.Лотмана ошибочно еще и в другом,
более принципиальном, отношении. Когда ученый говорит о том, что
«пламень, гордо плывущий по волнам», абсурден, он наглядно
демонстрирует диктат обыденного сознания по отношению к сознанию,
воплощенному в поэтическом произведении46, а в данном случае еще и
диктат способности физического зрения по отношению к «области
внутреннего взора» (Лессинг). В результате право на зрительную
актуализацию получает лишь то, что не противоречит обыденным
представлениям. Ю.М.Лотман, скорее всего невольно, возвращает наше
восприятие и понимание поэтического искусства в ситуацию,
предшествовавшую Лессингову «Лаокоону…», в котором давно уже было
сказано, что «поэт может довести до такой же степени иллюзии (как в
живописи. – А.Д.) представления и о других предметах, кроме видимых.
Таким образом, область его искусства обогащается целым рядом картин,
от которых должна отказаться живопись»47. В нашем конкретном случае
это значит: взаимодействие изобразительных планов, усиленное, как уже
Там же. – С.162-163.
Что, согласно Ф.Шеллингу, является следствием объективизма; см. §1.1.2.
47
Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М.: ГИХЛ, 1957. – С.184.
45
46
95
говорилось, вследствие отнесения предиката второго личного
местоимения («утлый челн») в конец строфы, приводит к тому, что
«пламень, гордо плывущий по волнам», в определенный момент в самом
деле становится фактом восприятия нами стихотворения Тютчева,
опережая всякое наше рассуждение о том, абсурдно это или нет. И если
мы действительно находимся «внутри слова» (дочь Гадамера48), обретая
тем самым способность его понимать, а не строим рассудочные
конструкции за его пределами, то само появление мысли об абсурдности
представляемого окажется невозможным в силу действия поэтического
закона, которому безраздельно и безоговорочно подчиняется наше
внутреннее (поэтическое) видение.
В этом как раз и проявляется самостоятельность и самодостаточность
«поверхностно-плоскостных конструкций», создаваемых поэтическими
произведениями, или самостоятельность поэтической (метафорической)
референции. В свою очередь такое понимание поэтической референции
позволяет предложить новое осмысление проблемы завершения
поэтического целого.
Мы видим, что «литературоведческая грамматика» ХХ века утратила
способность различения «поэтического и прозаического способов
представления» (Гегель), в связи с чем для нее оказалась закрытой
возможность эстетически значимой интерпретации, направленной на
осмысление «внутренней формы» поэтического высказывания. Но именно
такая интерпретация, которая не игнорирует эстетическую природу
поэтического высказывания, но исходит из нее, открывает путь к более
глубокому постижению произведения словесного искусства. Напомню еще
раз, что изобразительность – это основа «художественности»
художественной литературы, а какая интерпретация может быть более
адекватной, нежели интерпретация художественности?
«Конфликт интерпретаций» в данном случае обусловлен, стало быть,
конфликтом двух разных теоретико-литературных дискурсов.
ГЛАВА II
ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
ПОЭТИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО
«Когда она училась грамоте, она спросила однажды за приготовлением уроков: “Как
пишется земляника?” Ей сказали, и она заметила раздумчиво: “Смешно, когда я вот так
это слышу, то я уже вообще не понимаю слово. Только когда я его опять забываю, то я
внутри слова”» (Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – С.36. Пер. В.В.Бибихина).
48
96
2.2.1. ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ЗАВЕРШЕНИИ
Они обращены скорее к разуму, чем
к зрительному восприятию, к этическому,
а не эстетическому началу.
В.В.Набоков
Полемизируя с основоположениями материальной эстетики,
реконструкцию которых он сам осуществляет, М.М.Бахтин пишет: «Форма
самодостаточности, самодовления, принадлежащая всему эстетически
завершенному, есть чисто архитектоническая форма, менее всего могущая
быть перенесенной на произведение, как организованный материал,
являющееся композиционным телеологическим целым, где каждый момент
и все целое целеустремлены, что-то осуществляют, чему-то служат.
Назвать, например, словесное целое произведения самодовлеющим можно,
только употребляя в высшей степени смелую, чисто романтическую
метафору»49.
Не будем сейчас касаться чрезвычайно важного указания
М.М.Бахтина на внутреннее сродство формалистов и романтиков: оно
заслуживает отдельного разговора. Остановимся на проблеме, вынесенной
в заголовок. В трактовке М.М.Бахтина архитектонические формы целиком
относятся к содержанию произведения. Только так может быть понято его
утверждение, что они «общи всем искусствам и всей области
эстетического, они конституируют единство этой области»50, поскольку
понятно, что на уровне «внутренней формы», как ее понимал А.А.Потебня,
между поэзией и, к примеру, музыкой очень мало общего.
Ответ М.М.Бахтина на поставленный вопрос, следовательно, таков:
завершенность в интересующем нас смысле является, во-первых,
категорией эстетической, во-вторых, она относится к содержанию
произведения, но ни в коем случае, в-третьих, не к словесно-речевой его
организации как уровню доэстетическому (уровню материальной
эстетики).
Чему учит нас ответ М.М.Бахтина? Он учит, что в пределах
«литературоведческой грамматики», ориентированной главным образом на
изучение словесно-речевого строя произведения, в принципе невозможна
постановка вопроса об эстетической завершенности как таковой, но можно
сколько угодно говорить о «сегментах»51 и т.д., подменяя эстетическое
рассудочным. Поэтому и принадлежащее формалистам «главное
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.19.
Там же. – С.21-22.
51
См.: Небольсин С.А. Пушкин и европейская традиция. – М.: Наследие, 1999. – С.253254.
49
50
97
эстетическое открытие» всей «христианской культурной эры» – «прием»
(Вл. Новиков) – не только к христианскому контексту никакого отношения
не имеет, о чем справедливо пишет С.Г.Бочаров52, но не имеет как вполне
технический момент никакого непосредственного отношения и к
эстетическому. Однако то же самое, вопреки мнению М.М.Бахтина, мы
должны сказать и о попытках понять эстетическую завершенность как
сугубо содержательную категорию. Это не так, во-первых, потому что в
самом по себе содержании художественного произведения нет ничего
специфически эстетического, во-вторых, потому что содержание не
завершается и не может быть завершено в произведении. О необходимости
разграничения смыслового и собственно эстетического составляющих в
пределах художественного целого говорит сам М.М.Бахтин в работе,
получившей название «Автор и герой в эстетической деятельности»:
«Предметный мир внутри художественного произведения осмысливается и
соотносится с героем как его окружение. Особенность окружения
выражается прежде всего во внешнем формальном сочетании пластическиживописного характера: в гармонии красок, линий, в симметрии и прочих
несмысловых,
чисто
эстетических
сочетаниях»53.
Приведенное
рассуждение вполне согласуется с убеждением Н.Гартмана, что именно
«проблема формы» (в случае поэзии – внутренней формы) является
«специфически эстетической»54.
Сказанным объясняется, почему в более поздних работах М.М.Бахтина
завершенность вовсе не является неизбежным следствием «вненаходимости»:
«Не слияние с другим, а сохранение своей позиции вненаходимости и
связанного с ней избытка видения и понимания. Но вопрос в том, как
Достоевский использует этот избыток. Не для овеществления и завершения»55.
Не для завершения именно потому, что внимание М.М.Бахтина сосредоточено
на «смысловых», а не «чисто эстетических сочетаниях».
Содержание произведения одновременно изолируется от самой
жизни и в то же время не может быть от нее изолировано. В самом деле,
что нового, такого, что мы без этой трагедии никогда не узнали бы, говорит
нам о любви и вражде «Ромео и Джульетта»? Хочется сказать: ничего, но
это будет поспешный и неправильный ответ. Новое в трагедии есть, и это в
первую очередь – сами Ромео и Джульетта и те «событья», которые
начинаются и заканчиваются: встречают нас в Вероне и завершаются
обещанием установки золотых изваяний на том месте, где кипели страсти
(не забудем, что изваяния будут возведены в честь тех, кто совершил
Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С.509.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.88.
54
Гартман Н. Эстетика. – К.: Ника-Центр, 2004. – С.20, 46 и др. Пер. под ред.
А.С.Васильева.
55
Бахтин М.М. 1961 год. Заметки // Бахтин М.М. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.5. – М.:
Русские словари, 1997. – С.358.
52
53
98
смертный грех – самоубийство; налицо конфликт традиционной
христианской и именно «новой» системы ценностей). То, что говорит образ
(внутренняя форма произведения), нельзя передать иными средствами.
Новизна содержания обусловлена исключительно новизной образов (на
уровне же «формулировок» оно будет всего лишь набором банальностей).
Содержание не завершается, а раскрывается в образах: чтобы его понять,
его нужно пережить – оно именно жизненное, тогда как завершенное
осуществляется в пространстве и времени и открывается наглядному
представлению. Но смысл, который мы постигаем в этих имеющих начало
и конец событиях, незавершим, т.е. неисчерпаем, как сама жизнь.
Странно было бы утверждать, что М.М.Бахтин этого не понимает. В
последней своей работе он именно об этом говорит: о «бесконечности и
бездонности смысла (всякого смысла)»56, значит, о его незавершимости. Но
последовательного прояснения проблемы эстетического завершения в
рассматриваемой работе мы не находим. Обращаясь к разграничению
искусства и жизни, М.М.Бахтин пишет: «…Действительность можно
противопоставить искусству только как нечто доброе или нечто истинное –
красоте»57. Вряд ли с этим суждением можно согласиться. Содержание
произведения искусства как раз и представляет собой «доброе» и «истинное»,
которое, в отличие от непосредственно жизненного содержания,
опосредовано красотой. К тому же М.М.Бахтин как бы не замечает, что этим
утверждением он отменяет то, что будет сказано им далее: «…Несмотря на
весьма почтенную старую традицию образа, поэтике нелишне с ним
расстаться…»58. Если поэтика расстанется с образом, что же в искусстве
останется от красоты и что в нем останется от самого искусства? И какое
отношение к красоте имеют в таком случае архитектонические формы, как их
понимает М.М.Бахтин, – общие «всей области эстетического»? «Прекрасное,
– писал в «Непостижимом» С.Л.Франк, не усомнившийся в значимости
«старой» традиции, – есть всегда «образ», «картина», не анализированное
целое – предмет чистого чувственного созерцания, а не анализирующей,
раздробляющей мысли»59.
Напомню, о какой «старой» традиции идет речь. Сщмч. Дионисий
Ареопагит пишет в сочинении «О небесной иерархии»: «τὰ μὲν φαινόμενα
κάλλη τη̃ς α̉φανου̃ς ευ̉πρεπείας α̉πεικονίσματα (от ει̉κών. – А.Д.)...»60
(поистине явленное очам прекрасное [есть] образ (подобие) невидимой
Красоты). Св. Григорий Богослов в «Определениях, слегка начертанных»:
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.364.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.27.
58
Там же. – С.50.
59
Франк С.Л. Сочинения. – М.: Правда, 1990. – С.424.
60
Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. –
Университетская книга, 1997. – С.6.
56
57
СПб.:
Глаголъ,
РХГИ,
99
«А красота вещества – вид вещества, облеченного в образ»61. Мы видим, с
какой традицией готов расстаться теоретико-литературный персонализм.
Через тридцать лет после М.М.Бахтина к той же проблеме обратился
М.Бланшо. Ответ французского мыслителя прямо противоположен
бахтинскому, но проблемы, с которыми он столкнулся, порождены теми же
причинами. М.Бланшо пишет: «…Писатель никогда не знает, завершено ли
творение. И то, что он завершил в одной книге, он вновь начинает или
уничтожает в другой. …То, что творчество бесконечно, означает…, что
художник, будучи не в состоянии прекратить его, способен, тем не менее,
сделать из него огороженное место бесконечного труда, чья
незавершаемость раскрывает господство духа, выражает это господство, и
выражает, развертывая его под видом силы. Но в определенный момент
обстоятельства, то есть история, под личиной издателя, нужды в деньгах,
либо общественных дел, принуждают художника провозгласить этот никак
не достижимый конец, и художник, оказавшись свободным от этого
чистого принуждения, продолжает незавершенное в следующем
произведении»62.
Согласно М.Бланшо, в сфере «господства духа», в которой
осуществляется творчество, завершение не является имманентным
творчеству фактором, но всегда определяется внешними по отношению к
творчеству, вполне случайными причинами. Позицию М.Бланшо мы можем
резюмировать следующим образом: если в сфере духа завершение
невозможно, значит оно невозможно вообще. Вопрос, таким образом,
снимается. Именно поэтому «творение (произведение искусства,
литературное сочинение)» для М.Бланшо «не является ни завершенным, ни
незавершенным: оно есть»63. Нетрудно заметить, что этот ответ ни в коем
случае не является решением проблемы, но, скорее, уходом от нее и тем
самым – ее актуализацией. Намек на ответ появляется у М.Бланшо лишь
тогда, когда он вспоминает об образе. Сразу же выясняется, что
завершенность
произведения
–
следствие
о-граниченности образа: «…Он стремится в сокровенность того, что еще
продолжает существовать в пустоте: здесь его истина. Но эта истина превышает
его; то, что делает образ возможным, – предел, где образ прекращается»64.
Еще через тридцать с лишним лет М.М.Гиршман констатировал, что
«отношения
между
внутренней
завершенностью
и
внешней
Григорий Богослов. Собрание творений: В 2 т. – Т.2. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000.
– С.372.
62
Бланшо М. Пространство литературы. – С.11-12. Пер. Ст. Офертаса.
63
Там же. – С.12. Ср. Эко У. Открытое произведение. – СПб.: Академический проект, 2004.
64
Бланшо М. Ук. книга. – С.258.
61
100
законченностью
произведения»
являются
«сложными
и
65
малоизученными» .
Наш черновой экскурс в недавнее прошлое, ни в коем случае не претендуя
на полноту, все же достаточно ясно обозначает проблему; в нем же
формулируются итоги ее осмысления в минувшем столетии. Эти итоги вряд ли
можно назвать сколько-нибудь утешительными. В чем же здесь дело? Почему
вопрос о завершении поэтического целого оказался слишком сложным для
теории литературы ХХ века? Может быть, все дело в самой этой теории?
Сложной проблема эстетического завершения оказалась для теории
литературы ХХ века потому, что она по большей части представляла собой
либо «литературоведческую грамматику» в чистом виде (в пределах
которой, как показал М.М.Бахтин, вопрос об эстетическом завершении не
может быть поставлен в принципе), либо эклектическое соединение
«литературоведческой
грамматики»
с
«эстетикой
словесного
художественного творчества». Между тем для «эйдосной» теории
литературы XIX века этот вопрос не был ни сложным, ни, тем более,
малоизученным. Для нее проблема заключалась не в самой по себе
завершенности, но в том, какими причинами определялись разнообразные
принципы эстетического завершения. Однако прежде, чем говорить об
этом, нам необходимо возвратиться к работе, с которой был начат
разговор.
М.М.Бахтин
утверждает,
что
«действительность
можно
противопоставить искусству только как нечто доброе или нечто истинное –
красоте». Красота целиком принадлежит к области эстетического. Не в
сфере добра или познания, но только в области красоты возможно
эстетическое завершение. Она, в отличие от добра и познания, открывается
лишь наглядному (поэтическому) представлению – это знала теория
литературы XIX века. Поэтому, говоря о красоте, нам волей-неволей
придется вспомнить об образе. В противном случае нам нужно забыть о
красоте, как, впрочем, и об эстетическом завершении. Об этой взаимосвязи
красоты и эстетического завершения пишет С.Л.Франк: «…Во всем
прекрасном, что творится человеком именно с замыслом произвести
впечатление прекрасного, - «прекрасное» как бы изъемлется из состава
предметного мира (в котором нет самодовлеющей части, нет ничего
законченного в себе, а все есть фрагмент, черпающий свою полноту из
своей связи со всем другим, из своей зависимости от другого) и становится
само в себе, независимо от всего остального, выразителем некого
последнего, глубочайшего, всепронизывающего исконного единства
бытия»66. Об этой завершающей способности образа М.М.Бахтин,
разумеется, знает. В упоминавшейся выше другой работе, также
Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа. – М.: Высш.
шк., 1991. – С.78.
66
Франк С. Ук. книга. – С.425.
65
101
относящейся к 1920-м годам, он пишет: «Я имею всю жизнь другого вне
себя, и здесь начинается эстетизация его личности: закрепление и
завершение ее в эстетически значимом образе»67. Но, с точки зрения
«персоналистской» теории, отмеченная особенность образа оказывается
все же несколько подозрительной, вызывает опасения: в трактовке
М.М.Бахтина она предстает как «умерщвляющая сила»; предмет в образе,
полагает ученый, «сказал уже свое последнее слово, в нем не оставлено
внутреннего открытого ядра, внутренней бесконечности» 68. Возникает,
правда, вопрос: как быть со смысловой неисчерпаемостью эстетически
завершенного предмета? Во всяком случае, ясно сформулированная
М.М.Бахтиным оценка художественного образа, без сомнения,
отражающая глубинные интенции его теоретико-литературной мысли,
лишний раз свидетельствует о коренном различии «персоналистской» и
«эйдосной» теорий; не замечать это различие и продолжать настаивать на
единстве можно только при очень поверхностном понимании проблемы.
Столь же дискуссионным в этом контексте оказывается и известный
призыв, касающийся поэтики, которая, по мнению М.М.Бахтина, «должна
быть эстетикой словесного художественного творчества»69. Без возвращения к
образу, очевидно, эта задача не осуществима. Эстетикой словесного
художественного творчества была «эйдосная» теория литературы ХIХ века,
исходящая из поэтического представления и ориентированная на осмысление
образа как центральной категории искусства. Поэтика, как ее понимали
формалисты, конституируется в своем противостоянии предшествующей
традиции и только в этом противостоянии она имеет смысл. Эта поэтика
может учитывать определенные эстетические основоположения, но она не
может и не должна сама становиться одновременно эстетикой. Скажем и о
правомерности самого этого названия «формалисты». Подлинными
формалистами были западноевропейские ученые (например, О.Вальцель),
занимавшиеся исследованием эстетически значимых форм как предмета
представления70. Ученые же, с которыми полемизирует М.М.Бахтин,
склонялись к тому, чтобы поэтическое произведение – в соответствии с
возможностями своего инструментария – упростить до изделия. Об этом
пишет М.М.Бахтин через пятьдесят лет, как бы продолжая дискуссию,
начатую в 1924 году: «…Не «делание», а творчество (из материала получается
только «изделие»)…»71.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.94.
Бахтин М.М. <Риторика, в меру своей лживости…> // Бахтин М.М. Собр. сочинений.
– Т.5. – С.65.
69
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.10.
70
См.: Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – С.70.
71
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.372. О неправомерности
понимания художественного творения как изделия см. также: Хайдеггер М. Работы и
размышления разных лет. – М.: Гнозис, 1993. – С.55-72.
67
68
102
Обе названные теории («эйдосная» и «грамматическая») осуществляются
в пределах представляющего мышления, но в этих пределах они имеют, как уже
говорилось, разноприродный характер: первая – эстетический, вторая – явно
технический. У каждой из них свои задачи, и смешение их может быть только
эклектическим, а это худшее из зол, которое подстерегает литературоведа. Чем
страшна эклектика? Тем, что приводит к «вторичному смесительному
упрощению» (К.Н.Леонтьев). У эклектической теории литературы нет своего
языка. Она разговаривает на эсперанто. Неизбежное следствие такого
положения вещей – отсутствие своих мыслей. Поэтому будет лучше, если
«литературоведческая грамматика» останется самой собой, при этом
критически оценивая свои достаточно скромные возможности. Наполнение
означенной «грамматики» эстетическим содержанием невозможно без
обращения к образу, который является слишком сложной категорией для ее
достаточно элементарных методик. Еще раз подчеркну: механическое
соединение двух поэтик неминуемо приводит к искажению сущности обеих. Об
этом свидетельствует поучительный опыт многих литературоведов ХХ века,
попытавшихся на деле осуществить призыв М.М.Бахтина, как они его
понимали.
В результате, к примеру, пришлось иметь дело с соблазном в
определенном соотношении и расположении звонких и глухих согласных в
том или другом стихотворении обнаруживать проявление тех или иных
закономерностей эстетического порядка. Ясно, что за такое механическое
соединение «литературоведческой грамматики» и «эйдосной» теории
литературы М.М.Бахтин ответственности не несет. Он, напротив, в
рассматриваемой работе категорически отвергает наличие у формы в ее
«лингвистической определенности» непосредственной эстетической
значимости: «Художественное произведение, понятое как организованный
материал, как вещь, может иметь значение только как физический
возбудитель физиологических и психических состояний или же должно
получить какое-либо утилитарное, практическое назначение»72. Мы можем,
конечно, от определенного набора звуков ожидать чувственного
удовольствия, но какое отношение к эстетике имеет этот грубо
«гедонистический»73 подход?
К той же области литературоведческой эклектики принадлежат такие
языковые кентавры, как «эстетика стиховой формы», «онтологическая
поэтика». Такого рода словесные гротески оказываются возможными
потому, что непродуманным остается смысл употребляемых слов. Так
бывает всегда, когда языком пользуются по инерции, когда единственно
значимым для литературоведов является понятийный язык (служебный,
инструментальный, который всегда «между»), когда понимание языка
72
73
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.14.
Там же.
103
определяется не вопросом «Что есть язык?», но вопросом «Как
договорились?».
Приведу еще один весьма показательный пример. М.Л.Гаспаров,
опираясь на концепцию Б.И.Ярхо, выделяет следующие уровни и подуровни
«текста»: «Первый, верхний, уровень – идейно-образный. В нем два
подуровня: во-первых, идеи и эмоции…; во-вторых, образы и мотивы…
Второй уровень, средний, – стилистический. В нем тоже два подуровня: вопервых, лексика…; во вторых, синтаксис… Третий уровень, нижний,
фонический, звуковой. Это, во-первых, явления стиха…; а во-вторых, явления
собственно фоники…»74. Названные уровни и подуровни увидены, конечно, с
помощью разных приспособлений. «Внешняя форма» произведения
(словесно-речевая его организация) рассмотрена в микроскоп. В ней
выделяются два уровня и четыре подуровня. Здесь «литературоведческая
грамматика» занимается своим делом и чувствует себя уверенно. Ситуация
становится противоположной, когда речь заходит о первом уровне. Он
рассмотрен едва ли не в телескоп. «Внутренняя форма» произведения здесь
фактически растворяется в содержании, о чем прямо и заявлено: «На уровне…
образов, мотивов, эмоций, идей – то есть всего того, что мы привыкли
называть «содержанием»…»75.
Смешение образов и идей неминуемо приводит к утрате конечных
параметров во всем, что превышает границы текста: об эстетическом
завершении в этом случае говорить уже не приходится. Смешивая
принципы творческого видения, которое всегда имеет дело с конечными
параметрами (этому учит нас Аристотель), и содержание творческого
видения, которое не может быть завершено, мы неминуемо осуществляем
прозаизацию поэтического целого76. М.Л.Гаспаров по праву принадлежит к
числу авторитетнейших и наиболее уважаемых отечественных
литературоведов. Тем отчетливее проявляется актуальность проблемы, к
которой он обращается.
Конечно,
основываясь
на
классификации
Б.И.Ярхо,
«литературоведческой грамматике» работать удобнее: с образами и идеями
она мало что может сделать. Красноречиво поэтому звучит признание
М.Л.Гаспарова по поводу «формулировок содержания»: «Я составил такие
формулировки к одной только книге стихов позднего Брюсова, и это была
каторжная работа»77. Каторжная, потому что предмет исследования был не
адекватен избранной методике: результат ни в коем случае не соответствовал
затраченным усилиям. «Не будем поддаваться обману иллюзии, – писал
А.Бергсон. – Бывают случаи, когда именно образный язык точно передает
существо дела, тогда как язык отвлеченных понятий остается прилепленным к
Гаспаров М.Л. О русской поэзии. – СПб.: Азбука, 2001. – С.14.
Там же. – С.16.
76
См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – С.197-198.
77
Гаспаров М.Л. Ук. книга. – С.18.
74
75
104
поверхностной видимости вещей»78. М.Л.Гаспаров любит обвинять своих
оппонентов в нежелании работать. Как видим, бывают случаи, когда простой
усидчивости оказывается явно недостаточно. Другое дело, когда речь идет о
метрике и ритмике: усилий затрачено намного больше, но получен результат,
значимость которого для науки о литературе не нуждается в разъяснениях.
Поэтому и работа, уверен, была не каторжная, но приносила глубокое
удовлетворение.
Несколько непоследовательно М.Л.Гаспаров именно первый уровень
(уровень образов и идей) называет областью «собственно поэтики»79. Это
действительно так, если говорить об «эйдосной» теории литературы XIX
века. Но эта теория литературы те же самые инструменты (микроскоп и
телескоп) использовала бы противоположным образом, более внимательно
рассмотрев «внутреннюю форму» и содержание как два разных, хотя,
разумеется, взаимосвязанных уровня произведения.
Вновь возвращаясь к М.М.Бахтину, отмечу, что он дает такую
интерпретацию архитектонических форм, с которой никак нельзя
согласиться: отталкиваясь от крайностей материальной эстетики, он
впадает в противоположную крайность, отождествляя эстетическое и
содержательное. В самом деле, можно ли принять утверждение, что
«основные архитектонические формы общи всем искусствам», даже если,
вслед за М.М.Бахтиным, понимать их как сугубо содержательные? Не
слишком ли обобщенно судит он здесь не только об искусстве в целом, но
даже о литературе? Мы помним слова А.Эйнштейна о романах
Ф.М.Достоевского: «Он дает мне больше, чем любой мыслитель, больше,
чем Гаусс»80. Относится ли познавательная составляющая к основным
архитектоническим формам романа в бахтинском их понимании?
Безусловно. Но можем ли мы то же самое сказать не только о музыке или о
живописи, лирике или драме, но о других эпических жанрах, не
прошедших через стадию романизации? Где же в таком случае общность
архитектонических форм?
Но дело в том, что и понимать их как сугубо содержательную
категорию, у нас нет никаких оснований. Поскольку они принадлежат к
тому, что М.М.Бахтин определяет как эстетически завершенное81,
постольку они осуществляются в пространстве и времени и являются
предметом поэтического представления. Архитектонические формы, стало
быть, определяются актуальным для того или иного автора, для того или
иного произведения творческим видением. И в этом смысле
архитектонические формы тоже принадлежат к композиции. Архитектоника,
как я ее понимаю, - это именно форма эстетического созерцания, тогда как
Цит. по: Франк С.Л. Ук. книга. – С.431.
Гаспаров М.Л. Ук. книга. – С.437.
80
Цит. по: Кузнецов Б.Г. Этюды об Эйнштейне. – М.: Наука, 1965. – С.119.
81
См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.19.
78
79
105
архитектонические формы, как их понимает М.М.Бахтин, – на самом деле
никакие не «формы», но именно «содержание эстетической деятельности
(созерцания)»82. Вот почему понятия «эстетический объект» и
«архитектонические формы» на самом деле тождественны – в строго
эстетическом, а не каком-то ином смысле.
В.В.Федоров, как известно, считает, что понятие «эстетический
объект», употребляемое М.М.Бахтиным, неудачно83. В этом он прав лишь
отчасти. Противоречие в работе М.М.Бахтина действительно есть и именно
то, на которое указал В.В.Федоров. Говоря об эстетическом объекте
(предмете творческого видения, представления), М.М.Бахтин на самом
деле говорит о поэтической реальности, как она переживается изнутри: «в
которой я чувствую себя как активного субъекта, в которую я вхожу как
необходимый конститутивный момент ее»84. Трудности, с которыми
столкнулся М.М.Бахтин, вызваны тем, что он некорректно осуществил
«эйдетическую редукцию»85: выйдя за пределы эстетического в область
онтологическую, он продолжает говорить об эстетическом завершении. В
этой связи характерным является следующее рассуждение В.В.Федорова о
соотнесенности поэтического бытия (а поэтическое для него – частный
момент эстетического) и литературоведческого анализа: «Поэтическое
бытие мира реально осуществляется для героев романа в событиях их
вполне прозаической жизни… Поэтичность – внутреннее качество этого
бытия, а не его внешний момент… Таким образом, только будучи
социологическим,
психологическим,
экономическим
и
проч.,
литературоведческий анализ будет поэтическим. «Непосредственно»
поэтическим он быть не может; опосредованное проявление поэтичности
мира необходимо приводит к опосредованным способам ее анализа» 86. Все
это справедливо в пределах «персоналистской» теории литературы, тогда
как за этими пределами наше понимание поэтического может быть совсем
иным. После смерти Е.А.Денисьевой Ф.И.Тютчев пишет о ней своему
другу А.И.Георгиевскому: «Вы знаете, она, при всей своей поэтической
натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и
моих – ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к
ней…87. Для Ф.И.Тютчева, как видим, существует нечто непосредственно
поэтическое, причем в большей степени безусловное, нежели все стихи. В
пределах художественной литературы наиболее полно это поэтическое
См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С.17.
Федоров В.В. О природе поэтической реальности. – М.: Сов. писатель, 1984. – С.118.
84
Бахтин М.М. Ук. книга. – С.71.
85
См.: Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Агентство САГУНА,
1994. – С.75; Прехтль П. Введение в феноменологию Гуссерля. – Томск: Водолей, 1999.
– С.43-44.
86
Федоров В.В. Ук. книга. – С.17.
87
Тютчев Ф.И. Полн. собр. сочинений и письма: В 6 т. – Т.6. – М.: ИЦ «Классика»,
2004. – С.88.
82
83
106
выявляется в лирике. Когда чуткость к непосредственно данному
поэтическому притупляется, в качестве ведущих в литературе
утверждаются жанры, в которых поэтическое выражается опосредовано
(через изображение психологии персонажей, общественных или
экономических отношений). Но Ф.И.Тютчев, в силу своей принадлежности
к иной художественной культуре, как раз в этом совмещении отказывался
признавать присутствие поэтического начала:
Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа.88
Опыт М.М.Бахтина – убедительное доказательство того, что в пределах
постэстетического (поскольку опосредованного наглядным представлением)
персонализма проблема эстетического завершения не может быть решена. Это
– проблема поэтического представления, которое не является для него скольконибудь значимым предметом изучения и осмысления. Поэтому трудно
согласиться с В.В.Федоровым, считающим, что от категории «эстетический
объект» следует отказаться в пользу категории «поэтический мир»89. Это
категории, принадлежащие к двум разным теоретико-литературным дискурсам:
первая – «эйдосному», вторая – «персоналистскому». Отмечу и тот
несомненный факт, что крупнейшим представителем второго ныне является
именно В.В.Федоров. В этом отношении показательна, в частности,
осуществленная им глубокая, персоналистская по своей сути, интерпретация
понятия «внутренняя форма»: «Схема образования внутренней формы слова
чрезвычайно проста. Заключается она в следующем: субъект слова, объект
слова (который может быть предельно широким – весь мир) и субъект
восприятия в акте высказывания «переходят» в слово, принимая его (то есть
слово) одновременно в себя. Внутренняя форма слова, иначе говоря,
осуществляет себя как внутренняя форма сознания говорящего и слушающего
субъектов, а также и объекта речи»90. Но В.В.Федоров ошибается, определяя
интерпретацию А.А.Потебни того же понятия как сугубо языковедческую91.
Когда А.А.Потебня мыслит внутреннюю форму слова как «ближайшее
этимологическое значение» его, он действительно понимает ее лингвистически.
Когда же он говорит, что «потерянная эстетичность впечатления» может быть
«восстановлена только сознанием внутренней формы» слова92, он мыслит ее в
границах «эйдосной» теории литературы.
В пределах «персоналистской» теории понятие «эстетический объект»
действительно оказывается излишним, так как оно в данном случае – не
Тютчев Ф.И. Полн. собр. сочинений и письма. – Т.2. – С.118.
См.: Федоров В.В. Ук. книга. – С.118.
90
Там же. – С.57.
91
См.: там же, с.47.
92
См.: Потебня А.А. Слово и миф. – С.160, 162-163.
88
89
107
рефлексируемая основа всех теоретических построений. Но именно
поэтому «персоналистская» теория не покидает границ представляющего
мышления (а поскольку это так, постольку она не становится той
филологией, которая «еще не начиналась»). В то же время в пределах
«эйдосной» теории понятие «эстетический объект» является правомерным
и адекватным для «внутренней формы» (А.А.Потебня) поэтического
произведения.
Положение М.М.Бахтина об авторской трансгредиентности каждому
отдельному моменту целого93 как необходимом условии завершения
произведения прозвучало свежо в ХХ веке именно потому, что в условиях
«задорного натиска» (Ф.И.Тютчев) на художественный образ была утрачена
живая связь с эстетической проблематикой предшествующего столетия.
Трансгредиентность (вненаходимость) – конститутивный момент любых, в
том числе эстетических, субъект-объектных отношений. Именно об этом
говорит Г.В.Ф.Гегель в «Лекциях по эстетике», но говорит об этом, как о чемто само собой разумеющемся: «…В созерцании и представлении, как при
самосознающем
мышлении,
обнаруживается
неизбежное
отличие
созерцающего, представляющего, мыслящего «я» и созерцаемого,
представляемого или мыслимого предмета…»94. Своеобразие позиции
М.М.Бахтина заключается в том, что он радикальным образом – в границах
представляющего мышления – переносит акцент на онтологическую
проблематику, как и должно быть в «персоналистской» теории. То понимание
внутренней формы, которое предлагает «эйдосная» теория литературы, более
адекватно при анализе лирических произведений, тогда как предлагаемое
второй – при анализе романа.
«Эйдосная» теория литературы созерцает: созерцает не бытие (его и
нельзя созерцать), но, по слову А.Ф.Лосева, «выразительные лики бытия»95.
«Персоналистская» теория не созерцает, но вслушивается: вслушивается в
голоса – носители смыслов96. Для нее «голос важнее, чем видеть»97. При этом
не будем забывать, что слышание для поэзии все же изначальнее. В «Илиаде»:
«А мы [певцы] ничего не знаем; мы только слышим»98.
Противоположный характер названных дискурсов отчетливее всего
проявляется в их отношении к «Эстетике» Гегеля. Для А.Ф.Лосева «Лекции
по эстетике» – одна из важнейших и даже самая важная работа, решающим
образом повлиявшая на формирование его эстетических идей, а сам Гегель
(наряду с Шеллингом) является «вершиной всемирно-человеческой
См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.14-22.
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – С.108.
95
Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. – М.: Сов. писатель, 1990. – С.48.
96
См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.364.
97
Ремизов А.М. Сны и предсонье. – СПб.: Азбука, 2000. – С.27.
98
См.: Надь Г. Греческая мифология и поэтика. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С.47.
93
94
108
философии»99. В свою очередь М.М.Бахтин отзывается о «монологической
диалектике Гегеля» как о внутренне чуждой ему философии, не способной
расслышать «глубинный (бесконечный) смысл». В пределах этого
монологизма, считает ученый, мы неизбежно «стукнемся о дно, поставим
мертвую точку»100. Через это противоположное отношение к Гегелю мы не
имеем права переступить, какими бы благородными целями сконструировать
еще одно единство при этом ни руководствовались. Переступить – это самое
легкое.
«Ликом» становится то, что оформлено эстетически, т.е. завершено.
Голоса бесконечны – нет первого (тогда это монологизм) и ни один не
претендует на то, чтобы быть последним: «Нет ни первого, ни последнего
слова и нет границ диалогическому контексту (он уходит в безграничное
прошлое и в безграничное будущее)»101.
«Эйдосная» теория литературы аристократична:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права…102
Поэтому она в загоне в наш либерально-демократический век.
«Персоналистская» – в высшей степени демократична. Поэтому она так
уютно чувствует себя с самым демократичным жанром – романом.
Об эстетическом завершении, стало быть, мы можем говорить лишь на
уровне образов; на уровне словесно-речевом – только о законченности, тогда
как на уровне идей – о принципиальной незавершимости поэтического
произведения. Любой теоретико-литературный дискурс (если это не сугубая
эклектика) неизбежно должен сделать выбор в пользу того или иного уровня
как соответствующего его природе предмета изучения. Выбор «эйдосной»
теории в полемически заостренном виде формулирует В.В.Набоков: «…Мы
должны обратить внимание не на идеи (здесь и далее курсив автора. – А.Д.).
В конце концов, необходимо иметь в виду, что идеи в литературе не так
важны, как образы и магия стиля. Нас интересует в данном случае не то, что
думал Левин или сам Лев Николаевич, а букашка, так изящно обозначившая
поворот, изгиб, движение мысли»103. В пределах же любой другой теории
литературы, утратившей вкус к эстетическому, вполне убедительно и даже
свежо может прозвучать мысль, что «букашка здесь ни при чем».
Не следует, однако, забывать и об ограниченности «эйдосной»
теории. Ее ограниченность обусловлена ограниченностью эстетики
Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. – С.49.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.364.
101
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.373.
102
Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений: В 10 т. – Т.3. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С.372.
103
Набоков В.В. Лекции по русской литературе. – М.: Независимая газета, 2001. – С.248.
99
100
109
(значит – представляющего мышления). Когда речь идет о «ликах бытия»,
она может много сказать глубокого и интересного, когда же к речи
приходит само бытие, она умолкает. Здесь приходит очередь филологии, в
которой правит вопрошающее мышление и которая «еще не начиналась».
В сочетании «лики бытия» наглядно-чувственное сопряжено с
истинным, как оно может открыться представляющему мышлению.
Эстетическое завершение – это наглядно-чувственное выявление
сущности, имплицитно присутствующей в истоке. Истина в ходе
развертывания поэтического целого приходит к полному выявлению,
поэтому может быть адекватно осмыслена лишь из завершенного.
Выше было сказано, что вопрос об эстетическом завершении относится к
композиции поэтического целого. В композиции вообще следует различать
уровень тектоники с ее единицами и уровень архитектоники с ее
компонентами. τεκτονικός означает «строительный», α̉ρχιτεκτονικός –
«зодческий». Тектоника, следовательно, – это определенным образом
организованный «строительный материал»; архитектоника – то, что
открывается поэтическому представлению, образ целого (ср. соотношение
понятий «архитектоника» – «тектоника», «атектоника» в работах
О.Вальцеля104. Так, в стихотворении «Silentium!» Ф.И.Тютчева тектонические
формы – это особенности ритмики и строфики, особенности синтаксиса
(риторические вопросы и восклицания) и т.д.; архитектонические – это
открывающееся поэтическому представлению тождество ночной души и
ночного космоса. Первыми занимается «литературоведческая грамматика»,
вторыми – «эйдосная» теория литературы. Об эстетической завершенности
мы можем говорить только во втором случае, на уровне архитектонических
форм или «внутренней формы» (А.А.Потебня) произведения. Представители
обеих теорий («грамматической» и «эйдосной») должны, разумеется,
учитывать результаты деятельности друг друга, но в то же время они должны
заниматься каждый своим делом.
Мы знаем, что сущность «эйдосной» теории наиболее глубоко
раскрыл Гегель в своем учении о поэтическом представлении. Но ее
основы впервые были заложены отнюдь не Гегелем: это сделал задолго до
него Аристотель, который на примере трагедии попытался решить также и
проблему завершения поэтического целого.
2.2.2. О ПРИНЦИПАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
Слова твои, если они неба не коснулись,
останутся без эха и будут подобны камнеподу.
См., напр.: Вальцель О. Ук. сочинение. Сжатое, но в высшей степени
содержательное изложение концепции О.Вальцеля см. в книге: Лосев А.Ф. Проблема
художественного стиля. – К.: Collegium, Киевская академия евробизнеса, 1994. – С.130139.
104
110
Св. Николай Сербский
Уж лучше вовсе не рассуждали бы о философии
те, которые при всей глубине своего чувства еще
находятся в такой мере в плену у односторонности
рассудка, что знают в этой проблеме лишь или-или…
Г.В.Ф.Гегель
В высшей степени отрадным является тот факт, что в последнее время
вновь возрос интерес к «Поэтике» Аристотеля. Однако в попытках ее нового
прочтения обнаруживаются проблемы, о которых нельзя не упомянуть. В
книге П.Рикёра «Время и рассказ» (1985 г.) читаем, что действие, которому
подражает трагедия, характеризуется «завершенностью, целостностью,
надлежащей протяженностью»105. К сожалению, мне недоступен подлинник,
поэтому я не могу сказать, в самом ли деле П.Рикёр переводит
аристотелевскую ‛όλης как intégrité. Но поскольку для отечественного
литературоведения более актуальным фактом является именно перевод, будем
вести разговор с имеющимся у нас в наличии текстом. Подмена целого
целостностью неминуемо приводит к разговору не об Аристотеле, а по поводу
Аристотеля: о «Поэтике» здесь можно забыть. Свидетельство тому –
развертывание мысли П.Рикёра, когда, как о само собой разумеющихся вещах,
говорится, что «поиску завершенности и целостности» свойственна «забота об
интеллегибельности»106. Поиску целостности как идее умопостигаемой (в
поэтологическом отношении – содержательной) действительно свойственна
«забота об интеллегибельности», но причем здесь и завершенность, и
Аристотель? Даже употребление «завершенности» и «целого» через «и»
неуместно, поскольку первое является одной из непременных характеристик
второго. Тем более неуместно такое употребление «завершенности» и
«целостности». Целостность – это то, что завершает, целое – то, что
завершается.
В таких случаях появляется повод лишний раз вспомнить мудрого
Р.Декарта, писавшего в «Правилах для руководства ума» (1628-1629 гг.):
«…Вопросы о названиях встречаются так часто, что если бы среди
философов навсегда установилось согласие относительно значения слов, то
почти все их споры были бы прекращены»107.
К той же проблеме обращается и А.Компаньон в недавно вышедшей во
Франции (1998 г.) и у нас книге «Демон теории». Эта книга оставляет
двойственное впечатление. В ней мы находим весьма содержательный очерк
того, что автор очень хорошо знает, – истории идей современной западной
Рикёр П. Время и рассказ. – Т.1. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С.50.
Пер. Т.В.Славко.
106
Там же. – С.56.
107
Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1989. – С.129. Пер. М.А.Гарнцева.
105
111
поэтики. Но как только он переходит к истокам современной поэтики – к тому
же Аристотелю, его суждения теряют и глубину, и содержательность.
Начну с того, что малоплодотворной, надуманной и попросту
неинтересной является дилемма, из которой исходит и которую всерьез
пытается опровергнуть А.Компаньон, обращаясь к проблеме мимесиса (о
чем говорит литература: о внешнем мире или о самой литературе)108.
Понимание мимесиса как способности литературы говорить о внешнем мире
или, тем более, как копирования внешнего мира не является предметом
сколько-нибудь серьезных теоретико-литературных дискуссий – об этом
знают, кажется, все, кроме представителей современной западной поэтики.
Гегель (который, разумеется, «устарел»), называя копирование «голым
подражанием», утверждал, что «искусство, если оно не идет дальше
формальной цели голого подражания, дает вместо подлинной жизни лишь
ее личину»109. Мы видим, что знание Гегеля и для современной поэтики
небесполезно: по крайней мере, оно позволяет сэкономить время для более
важных дел.
Мимесис – это отнюдь не способность поэзии говорить о внешнем
мире (мало ли кто и как о нем говорит), но (здесь мы отвлечемся от
Аристотеля) ее способность творить мир, восполняя прозаические законы
нашего повседневного существования законами поэтическими, которые в
то же время остаются законами жизненными110. Без такого восполнения
человеческое существование не может быть «полным», «целым». Поэзия
как раз реализует эту потребность: в пределах нашей частной жизни она
хранит память о нашей общей принадлежности целому. В этом смысле
задача поэзии та же, что религии и философии, только средства ее иные.
Главное из этих иных средств – эстетическое завершение как непременная
характеристика мимесиса. Без большого преувеличения можно сказать, что
граница, разделившая Платона и Аристотеля, – это на самом деле их
отношение к тому, что мы теперь называем эстетическим завершением.
Платон и Аристотель вовсе не нуждаются, вопреки мнению
А.Компаньона, в защите перед лицом современной поэтики. Скорее уж
современная поэтика должна «выстоять» при встрече с ними, обнаружив при
этом способность понять их так, «как они написаны», а не так, как требуют
обстоятельства текущего момента или кворум в кружке. Попытки
А.Компаньона предложить такое новое понимание мимесиса, которое
«оправдывало» бы его употребление в современной поэтике, порождены
ложными посылками: потребность в его реабилитации существует лишь в
пределах кружка, в котором кто-то о чем-то договорился. А.Компаньон
пишет: «Никто не отменяет осуществленного современной поэтикой
пересмотра визуально-живописной модели, утвердившейся еще до
См.: Компаньон А. Демон теории. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. – С.116.
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.12. – С.45.
110
См.: Федоров В.В. О природе поэтической реальности. – С.3-20.
108
109
112
Аристотеля, благодаря платоновскому словоупотреблению, и оставшейся
господствующей, несмотря на осуществленное Аристотелем включение
диегезиса в мимесис»111. Что здесь сказать? С таким же успехом поэтика
могла бы пересмотреть восход солнца с востока. Если она этого не сделала, то,
разумеется, не из-за недостатка смелости. О смелости нужно сказать и в
другом отношении. Каким образом могла появиться визуально-живописная
модель в доаристотелевский период, когда о самоконституции Ego как
обязательном основополагающем моменте любой, в том числе и эстетически
значимой модели не может быть и речи, – об этом также знает только
современная западная поэтика.
Целиком в духе «литературоведческой грамматики», которой он всей
душой принадлежит, хотя и пытается соблюдать нейтралитет, А.Компаньон
утверждает, что мимесис на самом деле – это «познание, а не…
подражание»112. Перед нами очевидная путаница одного из результатов
мимесиса и самого мимесиса. Когда знакомишься с подобными
интерпретациями Аристотеля, создается впечатление, что он родился вчера
вместе с современной поэтикой, что не было на самом деле ни подлинного
Аристотеля, ни даже Гегеля, без знания «Эстетики» которого любой наш
теоретико-литературный разговор о мимесисе теряет смысл.
Неудовлетворительной остается интерпретация А.Компаньоном
манического и миметического родов поэзии (о которых говорит Платон)
как трех модусов, а также его понимание диегезиса (см. вторую главу
третьего раздела книги).
Для Аристотеля завершенность – конститутивный момент творческого
подражания как изображения целого. В «Поэтике» Аристотель говорит:
«κεῖται δὴ ἡμῖν τὴν τραγῳδίαν τελείας καὶ ὅλης πράξεως εἶναι μίμησιν ἐχούσης τι
μέγεθος ( ἔστιν γὰρ ὅλον καὶ μηδὲν ἔχον μέγεθος). ὅλον δέ ἐστιν τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ
μέσον καὶ τελευτήν» (1450b 24-27). В общеизвестном переводе,
принадлежащем М.Л.Гаспарову, суждение Аристотеля звучит так: «Нами
принято, что трагедия есть подражание действию законченному и целому,
имеющему известный объем, ведь бывает целое и не имеющее объема. А
целое есть то, что имеет начало, середину и конец»113. В переводе невозможно
передать одну важную смысловую особенность подлинника – тавтологию в
определении действия, которому призвана подражать трагедия. Буквально у
Аристотеля сказано: «трагедия есть изображение действия целого (τελείας) и
целого (ὅλης)», но в первом случае целое предстает как завершенное, во
втором – как охватывающее все: и начало, и среднюю часть, и конец, что и
разъясняется в следующем предложении. Осмысляя сущность целого,
Аристотель, стало быть, дважды по-разному говорит о завершенности как его
важнейшей характеристике. Это целое изображается (воспроизводится) в
Компаньон А. Ук. книга. – С.148-149.
Компаньон А. Ук. книга. – С.149.
113
Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т.4. – М.: Мысль, 1983. – С.653, 1450b 24-27.
111
112
113
трагедии, то есть является предметом творческого созерцания и определяется
возможностями человеческого видения. Именно поэтому целое как
«завершенное» и «всё» ограничивается у Аристотеля рамками прекрасного:
прекрасное же «состоит в величине и порядке»; прекрасно то, что не
ускользает «τοῖς θεωροῦσι τὸ ἓν καὶ τὸ ὅλον ἐκ τῆς θεωρίας» («от рассмотрения
рассматривающих [как нечто] единое и целое») (1451а 1-2).
Кратко сущность взглядов Аристотеля на завершение поэтического
целого (конкретно речь идет о трагедии) и принципы, которыми
завершение определяется, можно сформулировать так:
1. Трагедия (как и любое другое поэтическое произведение)
представляет собой целое именно потому, что она завершена.
2. Проблема завершения поэтического целого у Аристотеля – это
проблема мимесиса (изображения): «ἐστι μιμητὴς ὁ ποιητὴς ὡσπερανεὶ
ζωγράφος ἤ τις ἄλλος εἰκονοποιός» («поэт есть подражатель совершенно
такой же, как живописец или какой-нибудь другой создатель образов
(изображений)») (1460b 6-7).
3. Целое трагедии характеризуется протяженностью (μέγεθος; в
переводе М.Л.Гаспарова – объем). В свою очередь протяженность
характеризуется двумя частями: связывающей (подчиняющей ходу
событий, δέσις) – до перелома, а после перелома - развязывающей
(освобождающей, λύσις) (1455b 24-25).
4. Протяженность трагедии определяется требованием ясности; с этим
требованием связано стремление поэта создать нечто прекрасное.
5. Возможность завершения трагедии обусловлена наличием
«образующих» ее частей: перелома, узнавания, пафоса.
Аристотель, безусловно, является ключевой фигурой в истории
осмысления проблемы эстетического завершения. Более полно его роль
откроется нам, если мы обратимся к вопросу об орудийности языка. С этим
вопросом самым непосредственным образом связана проблема
поэтического завершения.
Для поэзии актуальным является язык в его «казовой» или символической
орудийности. В «казовой» орудийности определяющим является священное
содержание (это «доэстетическое» состояние сознания), тогда как в символической орудийности эстетическое содержание может либо совмещаться со
священным (в средневековой культуре, например), либо довлеть себе.
Мы начнем разговор с символической орудийности языка в ее первоначальной явленности. В сочинении «О небесной иерархии» сщмч. Дионисий Ареопагит пишет: «…Обратимся, насколько возможно, ввысь к озарениям священнейших Речений, переданным нам отцами, и, по мере наших
сил, будем созерцать символически и мистически ими для нас открытые
иерархии небесных умов, и, восприняв невещественными и не дрожащими
очами разума начальное и преначальное светодаяние богоначального Отца,
114
которое в запечатленных символах открывает нам блаженнейшие иерархии
ангелов, от него вновь устремимся к простому его лучу»114.
Словам «в запечатленных символах» у Дионисия Ареопагита
соответствует «ἐν τυπωτικοῖς συμβόλοις»115, что буквально значит: «в
принявших форму символах». Символическая орудийность языка, стало
быть, с самого начала утверждается в границах представляющего
мышления, поскольку связана с восприятием формы, образа. В этом
отношении глубоко содержательным является следующий вывод
Ф.Шлегеля: «Первоначальный импульс к интеллектуальному движению
содержит идеализм, который самой своей односторонностью вызывает
свою противоположность и вновь ведет к старинной системе единства,
составляющей подлинную основу и естественную стихию продуктивного
воображения, этого истока и прародительницы всей символической
поэзии»116.
К словам «будем созерцать символически» прп. Максим Исповедник
дает следующее пояснение: «Ибо Писание говорит не с помощью слов,
воспринимаемых непосредственно (естественным образом), но через
символы и образы»117. φυσιο-λογία (речь, обладающая природной
правильностью) прп. Максима Исповедника возвращает нас к Платону и
Аристотелю и к той границе, которая их разделила. Имеются в виду диалог
Платона «Кратил» и трактат Аристотеля «О герменейе». В первом из этих
сочинений на вопрос собеседника о значении имён Кратил отвечает «Мне
кажется, Сократ, они учат. И это очень просто: кто знает имена, тот знает и
вещи»118. Через какое-то время Кратил объясняет, каким образом
появились правильные (первые) имена: «Я думаю, Сократ, что
справедливее всего говорят об этом те, кто утверждает, что какая-то сила,
высшая, чем человеческая, установила вещам первые имена, так что они
непременно должны быть правильными»119.
В трактате Аристотеля как не нуждающийся в аргументации факт
высказывается то, о чем в диалоге Платона Сократ говорит
предположительно: «Всякая речь что-то обозначает, но не как естественное
орудие, а, как было сказано, в силу соглашения»120.
Перед нами три разных понимания орудийности языка. Кратил раскрывает
сущность изначальной священной речи – герменейи. У Аристотеля уже
осуществился перелом, после которого необратимым стал процесс
Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – С.3-5. Пер. М.Г.Ермаковой.
Там же. – С.4.
116
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. – Т.1. – М.: Искусство, 1983. –
С.471-472. Пер. Ю.Н.Попова.
117
Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – С.5.
118
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1990. – С.675, 435d. Пер.
Т.В.Васильевой.
119
Там же. – С.678, 438 с.
120
Аристотель. Сочинения. – Т.2. – С.95, 17а 1-2.
114
115
115
секуляризации языка и формирования в пределах греческой культуры
инструментальной его орудийности. Этот процесс неминуемо должен был
привести к закату традиционной греческой духовности. В сочинении сщмч.
Дионисия Ареопагита мы видим возвращение священного содержания в язык.
Но теперь язык не вбирает в себя всю полноту истины, как это было прежде, но
указывает на ее сверхсловесную сущность. Такая орудийность языка, как уже
говорилось во второй главе первого раздела книги, называется символической.
Мы видим, что, согласно Кратилу, язык является онтологической
основой человеческого существования, поскольку в нем – истина, которой
человек принадлежит. Как только такое понимание языка утрачивается, на
смену слову приходит представление (что мы и видим у Аристотеля: именно
этим обусловлена осуществленная им переоценка трагедии). У Дионисия
Ареопагита язык вновь обретает онтологический статус, но этот язык, будучи
первичным по отношению к человеческому сознанию, оказывается
вторичным по отношению к изначальной сверхсловесной Божественности,
как он вторичен и по отношению к «принявшим форму символам», т.е. по
отношению к представлению. Поэтому «принявшие форму символы» – ни в
коем случае не творение человека. Сущность священного здесь не
внутриприродна (φυσιο-λογία), а сверхприродна, т.е. метафизична. В пределах
символической орудийности языка мы можем обнаружить разные принципы
завершения поэтического целого. Их формирование обусловлено процессом
секуляризации языка, который происходил в пределах данной орудийности
языка точно так же, как он происходил и в пределах языка в целом121.
Мы установили, что символическая орудийность языка с самого начала
соотнесена с представляющим мышлением. Способность завершения –
конститутивный момент представляющего мышления. В конечном счете
принципы завершения определяются здесь сложным взаимодействием
иконики и эйдетики. εἰκών – это образ, изображение, представление; отсюда
наше – образа, икона. Иконика, стало быть, – это образность, в которой
священное выступает в качестве онтологической основы красоты122. εἶδος –
См. суждение представителя другой традиции в христианской художественной
культуре: «Если в качестве примера литературы в целом привести роман, – ибо роман
является той формой, в какой литература оказывает воздействие на наибольшее число
людей, – то можно отметить эту постепенную секуляризацию литературы на
протяжении, по крайней мере, последних трех столетий. Беньян и, до некоторой
степени, Дефо, имели нравственные цели… Но, начиная с Дефо, секуляризация романа
была непрерывной. <…>
И я утверждаю, что, хотя отдельные современные
выдающиеся писатели и могут направлять нас в лучшую сторону, современная
литература в целом работает на ухудшение человеческой природы» (Элиот Т.С.
Избранное. Т.1-2. Религия, культура, литература. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.214, 218.
Пер. О.Я.Зоткиной).
122
См. в этой связи об «эйконоцентризме» русской православной культуры в работе:
Аверинцев С.С. Григорий Турский и «Повесть временных лет»… // Аверинцев С.С. Связь
времен. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – С.181-186. Предпринятая в этой статье попытка
121
116
это вид, наружность, красота; εἴδωλον – образ, изображение, привидение,
призрак; отсюда наше – идол. Эйдетика, следовательно, – это образность, в
которой эстетическое оказывается автономным по отношению к священному.
В сочинениях Дионисия Ареопагита (сам он называет их гимнами)
Красота – это явленность Священного, поэтому орудийность языка здесь
священно-символическая. Хотя символический язык имеет дело с уже
расколовшимся целым, которое должно быть восстановлено из частей, у
Дионисия Ареопагита к Целому принадлежит только то, что священно.
Поэтому вопрос о двоемирии не приобретает в его сочинениях той остроты
и напряженности, которая характерна, к примеру, для литературы первой
трети XIX столетия. Границами Священного в данном случае
определяются
возможности
поэтического
завершения:
«Ибо
многочисленны блаженные воинства надмирных умов, которые
превосходят слабую и ограниченную меру наших вещественных чисел, и
осознанно их число определяет лишь свойственное им надмирное небесное
разумение и знание, преблаженно им даруемое богоначальной и
всеведущей премудростью Творца – пресущественно сущей началом всего,
и причиной, все осуществляющей, и вседержащей силой, и
всеохватывающим завершением»123.
В результате в поэтическом целом воплощается та «чистота идеала», о
которой писал Гегель: «…Перед нами поставят богов, Христа, апостолов,
святых, кающихся и благочестивых в их блаженном спокойствии, в той
удовлетворенности, в которой их не касается ничто земное, никакие его
нужды, никакой напор его многообразно перепутанных событий, не
касается борьба и антагонизм»124. В русской литературе примеры такой
«чистоты идеала» можно обнаружить в поэзии не только XVIII (см. оду
«Бог» Г.Р.Державина), но также XIX («Невыразимое» В.А.Жуковского,
«Пророк», «Отцы пустынники и жены непорочны…» А.С.Пушкина и др.) и
ХХ – начала XXI («Молитва» и «Братья-дружинники…» С.С.Бехтеева,
«Икона Божией Матери» и «Серафим» Ю.П.Кузнецова, «Приходила
нечасто и, сев на сундук, молчала…» и «Я из темной провинции
странник…» О.Г.Чухонцева и др.) веков125.
сближения русской и еврейской культур представляется весьма и весьма искусственной,
поскольку в обоих примерах, иллюстрирующих особенности еврейской культуры,
предметом эстетического любования является человек – ситуация, вполне
противоположная эйконоцентризму. Искусственность такого сближения почувствовал,
впрочем и сам автор, добавив, словно извинившись, характерную оговорку: «во всяком
случае».
123
Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – С.131.
124
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т.12. – С.180.
125
«Ныне Россия переживает эпоху духовного очищения и обновления. Очищается в
страданиях ее духовное око; и скоро оно смоет с себя возложенное на него «брение»
греха и позора. <…> Отойдут в тень певцы соблазна и смуты, бескрылые дети земной
видимости. Опять отзовутся сердца на истинных поэтов и певцов; и священная русская
117
В то же время в XIX веке, когда в отечественной художественной
культуре сфера красоты не просто начинает претендовать на
самостоятельную онтологическую значимость, но утверждается в качестве
таковой, ее отношения со сферой священного усложняются. В пределах
символической орудийности языка XIX-XX веков можно выделить три
основных
принципа
эстетического
завершения:
символикоантиномический, символико-эмпирический и символико-синномический.
Греческое слово α̉ντι-νομία традиционно переводится как «противоречие в
законах», буквально же значит «вместо-законие». συν-νομία же, напротив, –
это «со-законие». Соотношение понятий «антиномия» и «синномия»
нуждается, очевидно, в более развернутом пояснении.
В «Проблемах поэтики Достоевского» М.М.Бахтин пишет: «Не понимая
новой формы видения, нельзя правильно понять и то, что впервые увидено и
открыто в жизни при помощи этой формы»126. Когда мы говорим о проблеме
изобразительности поэтического слова, мы, очевидно, должны
разграничивать форму видения (принципы изобразительности) и предмет
изображения (архитектонические формы произведения). В лирике, в силу
принципиального единства сознания, воплощенного в ней, второе самым
непосредственным образом определяется первым. Другими словами: в
лирике характер формы видения и предмета изображения не может не
совпадать. Так, утверждая, что двоецентрие (см. об этом ниже) является
определяющей художественной особенностью лирики Ф.И.Тютчева, мы
имеем в виду и форму видения, воплощенную в его поэзии, и особенности
архитектонических форм, присущих его стихотворениям. В романе же
разные формы видения могут объективироваться и становиться предметом
изображения.
Относительно произведений Ф.М.Достоевского со времен, пожалуй,
В.И.Иванова утвердилось убеждение, что определяющим творческим
принципом в них является антиномика. Именно на этой основе соотносил
В.И.Иванов трагедию с романами Ф.М.Достоевского, определяя тем
самым их жанровое своеобразие127. Сущность этого убеждения кратко
выразил Я.Э.Голосовкер, который полагал, что в антиномиях состоит
«секрет» не только романа «Братья Карамазовы», но «и секрет128 (курсив
традиция художественности, не прерывавшаяся от древних русских иконописцев до
Державина и от Пушкина до наших дней, вновь поведет за собою молодых русских
поэтов. И Господь им поможет» (Ильин И.А. Одинокий художник. – С.272).
126
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Худож. лит., 1972. – С.76.
127
Иванов В.И. Родное и вселенское. – М.: Республика, 1994. – С.282-311.
128
Весьма показательное слово: им можно было бы ограничиться в разговоре о тех
персонажах, кому путь к тайне заказан: к их числу, очевидно, Достоевский не
принадлежит. Перед нами красноречивый пример смешения формы творческого
видения и предмета изображения. «То, что для одних героев Достоевского тайна, то для
других – секрет» (Селезнев Ю.Н. В мире Достоевского. – М.: Современник, 1980. –
118
мой. – А.Д.) самого автора романа – Достоевского»129. Данное убеждение
является, на мой взгляд, не только ошибочным, но совершенно
искажающим творческий облик писателя. Здесь уместно будет напомнить,
что М.М.Бахтин решительно возражал против такого понимания
творчества Ф.М.Достоевского: «И диалектика, и антиномика
действительно наличествуют в мире Достоевского. Мысль его героев
действительно иногда диалектична или антиномична. Но все логические
(выделено автором. – А.Д.) связи остаются в пределах отдельных сознаний
и не управляют событийными взаимоотношениями между ними»130.
Причина отмеченного заблуждения – отсутствие ясности в
понимании самого термина. Любое противоречие, присутствующее в том
или ином произведении, мы с готовностью именуем антиномией, при этом
забывая, что антиномия действительно указывает на противоречие, но не
всякое противоречие – антиномия.
В романе «Братья Карамазовы» антиномичной является мысль
среднего из братьев – Ивана Федоровича. Именно об этом, в частности,
свидетельствуют слова, с которыми он обращается к Алеше: «Я не Бога не
принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не
принимаю и не могу согласиться принять»131. Тот, кто разделил, тот
неминуемо делает и следующий шаг: «И действительно человек выдумал
Бога», – говорит Иван Федорович132. Это значит, что, не принимая мира
божьего, человек тем самым уже не принял и Бога, хотя может при этом
утверждать
противоположное.
Понимание
Алешей
сущности
мировоззрения Ивана Федоровича: «Он совершенно знал, что брат его
атеист», – обретает, таким образом, весомость истины.
Соответственно в образах Алеши и старца Зосимы объективируется,
развертывается и проясняется синномическая по своему характеру
«нераздельность и неслиянность» горнего и дольнего, божественного и
человеческого, которую истолковали отцы церкви в 451 году в Халкидоне
на IV Вселенском Соборе в соборном оросе (ὅρος – граница, рубеж,
предел; в пер.- определение): «1) “Неслитно” (“ἀςυγχύτως”), ибо крайние
монофизиты вливали воду плоти в огонь божества, и она испарялась,
пропадала или же, как трава, сгорала, оставалась только огненная стихия
природы божественной, т.е. одна природа. 2) “Непревращенно”
(“ἀτρέπτως”), ибо для более лукавых, якобы умеренных монофизитов
человечество, превращая свое существо, теряло свою реальность,
становилось только кажущейся оболочкой. 3) “Неразделимо”
С.279). Скажем иначе: что для одних читателей Достоевского секрет, то для других –
тайна.
129
Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С.34.
130
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С.13.
131
Достоевский Ф.М. Собр. сочинений: В 10 т. – Т.9. – М.: ГИХЛ, 1958. – С.295.
132
Там же. – С.294.
119
(“ἀδιαιρέτως”), а у несториан две природы рядом подлеположены лишь в
илюзорном объединении (случай Ивана Федоровича. – А.Д.). 4)
“Неразлучимо” (“ἀχωρίστως”), а у маркелиан в день последнего суда
Богочеловек отлучит от Себя, отбросит в ничто отслужившую Ему
человеческую природу»133.
В приведенных вероопределениях мы обретаем то, что, согласно
Я.Э.Голосовкеру, представляет собой «секрет», а на самом деле тайну
творчества Ф.М.Достоевского (равно как и Ф.И.Тютчева). Она совпадает с
той тайной, о которой говорит старец Зосима в своей последней беседе с
посетившими его: «…Тут тайна, – что мимоидущий лик земной и вечная
истина соприкоснулись тут вместе»134. Дмитрий Федорович о том же
говорит иначе: «Красота – это страшная и ужасная вещь!… Тут берега
сходятся, тут все противоречия вместе живут… Что уму представляется
позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в
содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, - знал ты эту
тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и
таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца
людей»135. Отличие Дмитрия Федоровича от старца Зосимы заключается
не в сущности, а в глубине постижения тайны. Характерно, что
«необразованный» Дмитрий Федорович даже в своих, по-видимому,
кощунственных высказываниях о красоте гораздо ближе к старцу Зосиме,
нежели к своему «ученому» брату. Близость к старцу проявляется в том,
что в обоих приведенных суждениях ключевым оказывается слово
«вместе». Конечно, у Дмитрия Федоровича это слово шире по своему
смыслу и включает в себя то, что для старца Зосимы, безусловно,
находится за его пределами: борьбу дьявола с Богом. Но акцент на
«вместе» уже указывает, каким будет исход этой борьбы в сердце Дмитрия
Федоровича: даже низринувшись «вверх пятами» в бездну, он всегда будет
помнить, что «проклят Богом его смрадный грех»136, и от Бога никогда не
отречется.
Глубинная связь старца и Дмитрия Федоровича проявляется и в том,
что они «вместе», соприсутствуя, оказываются в сознании Алеши в главе
«Кана Галилейская»: «“Кто любит людей, тот и радость их любит…” Это
повторял покойник поминутно, это одна из главнейших мыслей его
была… Без радости жить нельзя, говорит Митя… Да, Митя… Все, что
истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения – это опять-таки он
говорил…»137. Голоса старца и Мити соединяются, так что в конце уже не
совсем понятно, кто это «он».
Карташев А.В. Вселенские соборы. – М.: Республика, 1994. – С.275.
Достоевский Ф.М. Ук. книга. – С.365.
135
Достоевский Ф.М. Ук. книга. – С.138-139.
136
Там же. – С.395.
137
Там же. – С.449.
133
134
120
Второе проявление слова «вместе» (соприсутствие в сознании Алеши
старца и Мити), нарастая, переходит в третье. Сразу же после видения
«Каны Галилейской» и после того, как Алеше был явлен «иконописный
пейзаж»138, его душа становится средоточием того самого «вместе», в
котором открывается, становясь реальностью, то, что дано человеку по
обетованию: «Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих
сошлись разом (курсив мой. – А.Д.) в душе его, и она вся трепетала,
«соприкасаясь мирам иным»139.
Во всех приведенных выше фрагментах из романа важнейшим
оказывается слово «вместе». Интерпретацию его как антиномии можно
объяснить лишь недоразумением.
Сущность антиномики наиболее точно выявляется в актуальной для
Ивана Карамазова формуле «или-или». Антиномика – это форма атеизма, о
чем свидетельствуют приведенные выше слова Алеши о брате Иване.
Вспомнив судьбу Ивана Федоровича, мы можем утверждать, что
антиномика – это форма без-умия, если ум понимать в контексте
халкидонского вероопределения. Безумие Ивана Федоровича, таким
образом, - вовсе не проблема психологии, но результат глубинного сдвига
некоторых фундаментальных основ человеческого существования, утраты
«онтологического понимания мира» (о. Павел Флоренский). «Без-умие»
среднего из братьев Карамазовых сродни «без-умию» «просветителей»,
упразднивших Бога и на Его место поставивших человеческий разум. Но
Иван Федорович идет дальше «просветителей», поскольку его «бунт»
«страшнее наивных шуточек атеистов XVIII века. Иван не безбожник, а
богоборец. Аргументация его кажется совершенно неопровержимой. Он
обращается к христианину Алеше и заставляет (выделено автором. –
А.Д.) его принять свой атеистический вывод»140, т.е. принуждает Алешу
воспринимать мир и судить о нем в соответствии с принципом «или-или».
Ясно, что таким образом понятая антиномика, объективированная в
образе Ивана Карамазова, – это предмет изображения, но ни в коем случае
См.: Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика,
1995. – С.122.
139
Достоевский Ф.М. Ук. книга. – С.452.
140
Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М.: Республика, 1995. – С.530.
Ср. высказанное несколько ранее (в 1931 г.) суждение прп. Иустина: «Мефистофель в
«Фаусте», как школьник, читает курс лекций по атеизму своему ученику Фаусту, однако
он (Мефистофель) без всякой обиды мог бы сам смиренно выслушать подобный курс
лекций из уст «желторотого» русского студента Ивана Карамазова. У него бы он смог
найти самое лучшее, совершенное оправдание своей демонологии. Вообще надо
сказать, что все старые и новые философии атеизма по сравнению с философией
атеизма Достоевского – не что иное, как Pleasant Sunday – afternoon literature»
(Преподобный Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. – М.; СПб.:
Сретенский монастырь, 2002. – С.19-20).
138
121
не творческий принцип, не актуальная для Ф.М.Достоевского «форма
видения», определяющая своеобразие его творчества141.
Для выявления этого своеобразия необходимо найти другое слово,
которое под рубрику антиномики не подпадает. Таковым как раз и является
понятие συν-νομία как наиболее точно выявляющее смысл ключевого для
творчества Ф.М.Достоевского слова «вместе». В подлинном свете этой
высшей правды со-присутствия божественного и человеческого Алеше, после
пережитого им «видения преображенного мира», открывается то, что
недоступно Ивану в его безысходно антиномическом мире: «Иван не
понимает, как может простить мать замучившего ребенка. Алеша понял: в
новом мире прощают «за всех, за все и за вся»142.
Предлагаемое мною осмысление сущности антиномии, очевидно,
должно быть соотнесено с предшествующей традицией ее понимания. О.
Павел Флоренский пишет в «Записке о христианстве и культуре» (1923 г.): «В
антиномии закона и свободы, образующей ткань Нового Завета, ни один из
терминов не должен быть ослабляем: суббота воистину свята, но Сын
Человеческий – господин и субботы. Легкомысленное отвержение субботы
столь же враждебно христианству, как и непризнание христианской свободы,
и лишь благодатное хождение по острию этой антиномии определяет
христианина. Напротив, утрата или ослабление благодатной жизни
неминуемо ведет к расщеплению этой антиномии»143. Внимательный
читатель заметит, что мое отличие от отца Павла – чисто терминологическое.
«Благодатное хождение по острию… антиномии» – это и есть
осуществленная συν-νομία. Другими словами: συν-νομία – это антиномия,
преображенная благодатью, тогда как «расщепление» этого благодатного
«вместе» – не что иное как действительная антиномия (в соответствии с
реальным смыслом самого слова). Необходимость терминологического
разграничения слов «вместе» и «вместо» представляется мне несомненной144.
Συν-νομία как творческому принципу, определяющему глубинную
сущность романного творчества Ф.М.Достоевского, соответствует
συμφωνία соборного сознания как высшая по сравнению с полифонией
(разноголосицей) форма общения, по отношению к которой в
Ю.И.Селезнев о Ф.М.Достоевском: «Творчество – исход из двойственности, а не
установка на нее» (Селезнев Ю.И. Ук. книга. – С.269). Одновременно это восхождение
от секрета к тайне, от рассудочного понимания мира к онтологическому его
постижению: «Две правды – секрет черта» (там же, с.320). Следовательно, и формула
«или-или» как универсальный способ понимания мира – его же секрет. Преодолена же
она (эта формула) может быть только в сфере нашей общей принадлежности Истине.
142
Мочульский К.В. Ук. книга. – С.538.
143
Флоренский П.А. Сочинения: В 4 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1995. – С.555-556.
144
Поскольку в контексте предпринятого разговора непременно должен быть упомянут
И.Кант, см. в высшей степени содержательный разбор его антиномий в более ранней
работе о. Павла – «Космологические антиномии Иммануила Канта» (там же, с. 3-33).
141
122
антиномическом противоборстве остается тот, кто не способен
«примкнуть к хору»145.
Таким образом, в случае символико-антиномического завершения
поэтического целого характер двоемирия определяется принципом «илиили» («вместо»); главная установка символико-эмпирического –
«изображение эмпирической действительности» (А.Белый); в случае
символико-синномического завершения характер двоемирия определяется
принципом «и-и» («вместе»).
На рубеже XVIII-XIX столетий осмысление различных принципов
эстетического завершения становится одной из ключевых проблем немецкой
эстетики. К этой проблеме, в частности, обращаются И.-В. Гете в статье
«Введение в “Пропилеи”»146, Жан-Поль в книге «Приготовительная школа
эстетики»147, Гегель в «Лекциях по эстетике». О Гете и Жан-Поле подробно
будет сказано в следующем параграфе, здесь же позволю себе остановиться
только на «Лекциях по эстетике». Как было отмечено выше, для священносимволического принципа завершения поэтического целого характерной
является довлеющая себе «чистота идеала» (Гегель). Секуляризация языка
(художественной культуры) приводит к тому, что «полный, целостный дух
выходит из своего состояния покоя и, вступая в область антагонизма, в
разорванное, перепутанное земное существование, противопоставляет себя
самому себе, и в этом расколе он уже больше не в силах избегнуть тех
несчастий и бедствий, которые неразрывно связаны со всем конечным»148.
Ключ к тому, какие возможности при этом открываются перед
автором-творцом, находим в следующем рассуждении Гегеля: «…Истинная
мера величия и силы познается лишь по величию и силе той
противоположности,
после
преодоления
которой
дух
снова
сосредоточивается в себе, снова становится внутренним единством;
интенсивность и глубина субъективности обнаруживаются тем больше, чем
бесконечнее и чудовищнее обстоятельства ее тянут в разные стороны, чем
более раздирающи те противоречия, под гнетом которых она, однако,
должна оставаться непоколебимой в самой себе. Лишь в этом
самораскрытии подтверждается сила идеи и идеального, ибо сила состоит
лишь в том, что обладающий ею сохраняет себя в своем отрицании»149.
Мы видим, что перед творческим духом открываются, собственно, три
возможности. Во-первых, он может отшатнуться от «разорванного земного
существования». Не исполняя должного, он изменяет своей собственной
сущности, теряет ее, вырождается: не воплотившись в земном, он перестает
быть и священным. Это и есть символико-антиномический принцип
Достоевский Ф.М. Собр. сочинений: В 10 т. – Т.10. – С.177.
См.: Гете И.В. Об искусстве. – М.: Искусство, 1975. – С.109-129.
147
См.: Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – М.: Искусство, 1981.
148
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.12. – С.181.
149
Там же. – С.182.
145
146
123
завершения поэтического целого. В свою очередь в пределах этого
принципа перед творческим духом открываются две возможности. Вопервых, он может в своей недовоплощенности обвинить несовершенство
мироустройства, свою слабость представить силой, себя самого – центром
мироздания, носителем такой высокой истины, которой мир (земной и
небесный) недостоин. Это мы находим у М.Ю.Лермонтова:
Будь, о будь моими небесами,
Будь товарищ грозных бурь моих;
Пусть тогда они гремят меж нами,
Я рожден, чтобы не жить без них.
Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей,
Но с тобой, мой луч путеводитель,
Что хвала иль гордый смех людей!
Души их певца не постигали,
Не могли души его любить,
Не могли понять его печали,
Не могли восторгов разделить.150
Это
субъективно-антиномическая
разновидность
символикоантиномического
принципа
завершения
поэтического
целого.
Классическую характеристику этой разновидности эстетического
завершения находим у А.С.Пушкина: «Байрон бросил односторонний
взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и
погрузился в самого себя. Он представил нам призрак самого себя. Он
создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то
гяуром, издыхающим под схимиею… В конце концов он постиг, создал и
описал единый характер (именно свой), все, кроме некоторых
сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему
мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному»151.
Справедливости ради следует сказать, что не все в творческом
наследии М.Ю.Лермонтова укладывается в предложенную схему (в
первую очередь вспоминаются его шедевры, написанные в последние
месяцы жизни – «Родина», «Листок», «Выхожу один я на дорогу…»).
Названные стихотворения свидетельствуют о том, что творческая
эволюция М.Ю.Лермонтова отнюдь не была завершена к июлю 1841 года,
причем в них обозначены основные тенденции этой эволюции, но ее
детальное рассмотрение не входит в нашу задачу.
Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. – Т.2. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С.38.
Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений: В 10 т. Т.7. – М.: Изд-во АН СССР, 1949. –
С.52-53.
150
151
124
Во-вторых, недовоплощенность творческого духа может быть осознана
в своем собственном качестве – как слабость, а мир предстает
максимально поляризованным, без какой бы то ни было надежды
преодолеть его расколотость. Это мы находим у Е.А.Боратынского:
Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных – скорби тесных!
В тучу прячусь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.
Мир я вижу, как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу… На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!152.
Это
объективно-антиномическая
разновидность
символикоантиномического принципа завершения поэтического целого. Важная ее
особенность – «господство внешней силы над личностью», которое
определяется как «безграничное»153.
Вторая возможность, которая открывается перед творческим духом,
заключается в том, что он, перейдя в свою противоположность и реально
осуществившись в ней, не сумел сохранить самого себя в своем отрицании
и вновь стать «внутренним единством». Тем не менее, земной мир
наполнился при этом превышающим его смыслом и всегда чреват
обнаружением священного. Это и есть символико-эмпирический принцип
завершения поэтического целого. В гениальном стихотворении
А.Т.Твардовского:
Что ж, мы – трава? Что ж, и они – трава?
Нет, не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.154
Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. – М.: Наука, 1983. – С.282.
Альми И.Л. О творческой позиции Е.А.Баратынского конца двадцатых – первой
половины тридцатых годов XIX века // К 200-летию Боратынского. – М.: ИМЛИ РАН,
2002. – С.108.
154
Твардовский А.Т. Собр. сочинений: В 6 т. – Т.3. – М.: Худож. лит., 1977. – С.27.
152
153
125
По-своему выражает сущность этого родства К.М.Симонов:
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.155
Понятно, что в стихотворениях А.Т.Твардовского и К.М.Симонова
священно-символическое начало не является определяющим принципом
для эстетического завершения, но оно присутствует в их лирике как
высший духовный ориентир, на основе которого строится шкала земных
ценностей. Никогда не прерывающаяся связь с изначальной по отношению
к эмпирической реальности священно-символической сущностью «родной
речи» может и прямо декларироваться, как, например, в стихотворении
А.Т.Твардовского «О родине»:
…В дальней дали зарубежной,
О многом забыв на войне,
С тоской и тревогою нежной
Я думал о той стороне:
Где счастью великой, единой,
Священной, как правды закон,
Где таинству речи родимой
На собственный лад приобщен.156
Святость и таинство – всегдашняя явная или подспудная основа
символического языка, – при том условии, что в нем присутствует явная
или подспудная связь с культом, в котором, как говорит о. Павел
Флоренский, присутствуют «все начала и концы, исчерпывающие
совокупность общечеловеческих тем в их чистоте и отчетливости»157.
Упомянутые стихотворения А.Т.Твардовского и К.М.Симонова –
достаточно
убедительное
подтверждение
справедливости
слов
В.И.Иванова, высказанных им в 1918 году, в самый момент погружения
России во тьму: «Нет, не может быть обмирщен в глубинах своих русский
язык! И довольно народу, немотствующему про свое и лопочущему только
что разобранное по складам чужое, довольно ему заговорить по-своему,
по-русски, чтобы вспомнить и Мать Сыру-Землю с ее глубинною правдой,
и Бога в вышних с Его законом»158. Процесс обмирщения имеет свои
пределы, обозначенные эволюцией самого европейского человека: человек
верующий – человек разумный – человек играющий – человек бунтующий
(время, когда были написаны В.И.Ивановым приведенные выше
Симонов К.М. Собр. сочинений: В 10 т. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1979. – С.88.
Твардовский А.Т. Ук. книга. – С.8.
157
О Блоке // Литературная учеба. – М.: Молодая гвардия, 1990. – Кн.6. – С.93.
158
Иванов В.И. Родное и вселенское. – С.400.
155
156
126
проникновенные слова) – человек заблудившийся159. Таящееся в глубине
Священное может указать путь к духовному возрождению, когда кажется,
что все пути уже утрачены.
Третья возможность – осуществление творческим духом
предназначенного ему не зависимо от того, осуществляется ли внутреннее
единство на миг (стихотворение Ф.И.Тютчева «Весна») или оно
становится непреложным фактом бытия, преодолевшим время (его же
стихотворение «Эти бедные селенья…» и др.). Это и есть символикосинномический принцип завершения поэтического целого: в нем связь со
священно-символическим языком проявляется наиболее отчетливо.
Именно поэтому в его пределах достижимым оказывается установление
синномии (со-закония) земного и небесного. Согласно убеждению
Ф.И.Тютчева, с огромной поэтической силой выраженному в его лирике,
«в душе есть силы, которые «не от нее самой исходят» и без которых
невозможно преодоление раздирающих ее антиномий «двойного бытия»,
просветление «темного корня» человеческого существования и
преображение истории. В его представлении история не является слепым
саморазвитием сталкивающихся автономных воль, а управляется
Божественным Промыслом»160. С возможностью синномического
преображения диалога мы встречаемся у Ф.М.Достоевского: «В плане
своего религиозно-утопического161 мировоззрения Достоевский переносит
диалог в вечность, мысля его как вечное со-радование, со-любование, согласие»162.
С вопросом об эстетическом завершении непосредственно связана
проблема моно – полифонии, ставшая актуальной после выхода упомянутой книги М.М.Бахтина. При всем том, что лирика всегда монологична,
«качество» лирического голоса может быть разным. Сущность символикоантиномического принципа завершения поэтического целого наиболее адекватно выявляется в ἀντι-φωνία (противо-звучии) – она обусловлена трагической расколотостью сознания. Крайнее проявление такой расколотости –
оксюморон «святая прелесть» в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Молитва» 1839 г. Сущность символико-эмпирического принципа завершения поэтического целого – в μονο-φωνία (единозвучии). В ней выражается так называемая «житейская мудрость», которая не может примириться с другим –
Ср.: Мартынов В.И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси.
– М.: Прогресс – Традиция, Русский путь, 2000. – С.11-21.
160
Тарасов Б.Н. Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете
христианской традиции). – СПб.: Алетейя, 2002. – С.123.
161
В этом определении – присутствие «безблагодатной почвы» и «несвободного неба»,
о которых говорил М.М.Бахтин С.Г.Бочарову (см.: Бочаров С.Г. Сюжеты русской
литературы. – С.474).
162
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С.434.
159
127
тоже житейским – пониманием целей человеческого существования, утверждая себя как единственно правильную:
В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт – ум глупцов!163
Однако и в этом случае убежденность в единственности утверждаемой
истины объясняется верой в то, что она соответствует высшему
проявлению человечности и справедливости. Сущность символикосинномического принципа завершения поэтического целого – в συμφωνία
(со-звучии). Ф.И.Тютчев о Гете в стихотворении «На древе человечества
высоком»:
С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал!
Пророчески беседовал с грозою
Иль весело с зефирами играл!164
Но, разумеется, эта проблема заслуживает отдельного разговора.
Нам осталось теперь сказать о целом, как оно проявляется при «казовой»
орудийности языка. Для того чтобы приблизиться к его пониманию, мы
должны отрешиться от всего грандиозного и метафизического и помыслить
его как присутствие, необходимым моментом которого является конечность
человека165. Целое в этом смысле не предшествует человеку, но, напротив, оно
потому и есть, что есть человек – такой, какой он есть. Но и человек как
таковой действительно есть только потому, что в целом может проявиться вся
полнота его человеческой природы, – в этом случае он воплощается вполне.
Этот миг полноты, если он осуществится, перевесит долгие годы призрачного
существования. В третьей Пифийской песне Пиндара читаем:
εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει
θνατῶν ἀλαθείας ὁδόν, χρὴ πρὸς μακάρων
τυγχάνοντ’ εὖ πασχέμεν. ἄλλοτε δ’ ἀλλοῖαι πνοαί
ὑψιπετᾶν ἀνέμων.
ὄλβος {δ’} οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται
σάος, πολὺς εὖτ’ ὰ
̉ ν ἐπιβρίσαις ἕπηται.166
В переводе это звучит так:
Если же умом кто-либо
из смертных придерживается истинного пути,
[тому] необходимо [радоваться]
от блаженных [богов] выпадающим благам. Один раз одно,
другой раз другое высоколетящих ветров дуновение.
Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. – Т.2. – Л.: Наука, 1981. – С.66.
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.1. – С.149.
165
См.: Хайдеггер М. Время и бытие. – С.333.
166
Pindarus. Carmina cum fragmentis. Pars I. Lipsiae: BSB B.G.Teubner Verlagsgesellschaft,
1980. – S.75, 103-106.
163
164
128
Ведь нетронутая целость счастья не надолго приходит
к человеку,
обремененному множеством забот.
Мы видим, что «нетронутая целость счастья» (целое в изначальном
понимании этого слова) – это именно полнота присутствия (Dasein) и
именно так целое в данном случае нужно понимать.
В этом отношении показательно отличие Ф.И.Тютчева от В.А.Жуковского.
В.А.Жуковский мыслит подлинное человеческое существование в пределах
священно-символической орудийности языка. Поэты для него в прямом смысле
– «друзья небесных муз», а цель поэзии – не изображение призрачной суеты
преходящей жизни, но достижение вечной славы в потомстве:
Потомство раздает венцы и посрамленье:
Дерзнем свой мавзолей в алтарь преобратить!
О слава, сердца восхищенье!
О жребий сладостный – в любви потомства жить!167
Об этой цели поэзии В.А.Жуковский напомнил А.С.Пушкину в письме
от 1 июня 1824 г.: «Крылья у души есть! Вершины она не побоится, там
настоящий ее элемент! дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя
вера. Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то
сердце разогреется надеждою за тебя»168.
Для Ф.И.Тютчева настоящее – не противостоящая вечности как
подлинному бытию «призрачная суета», но именно подлинное бытие, в
«нетронутой целости» которого еще должна утвердиться реальность самой
вечности. «Нетронутая целость» - это «время золотое», та полнота
существования, которая является источником вдохновения. Сама по себе
забота о посмертной славе в потомстве – нисколько не сладостной для
Ф.И.Тютчева – не извлекла бы из его лиры ни единого звука. После смерти
Е.А.Денисьевой Ф.И.Тютчев пишет А.И.Георгиевскому: «Пустота,
страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне
на земле нужна, а не там где-то…»169 В этой взаимообусловленности
вечности и земной жизни проявляется основополагающая особенность
символико-синномического мирочувствования170.
Жуковский В.А. Сочинения: В 3 т. Т.1. М.: Худож. лит., 1980. – С.253.
Там же. – Т.3. – С.447.
169
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.6. – С.74.
170
Ср. у Ф.Шеллинга вполне синномическое – в том же самом смысле – суждение:
«Если… каждое растение лишь на мгновение достигает в природе истинной,
совершенной красоты, то мы вправе утверждать, что оно обладает также лишь одним
мгновением полного бытия. В это мгновение оно есть то, что оно есть в вечности: вне
этого мгновения оно подвластно лишь становлению и гибели. Изображая существо в
это мгновение расцвета, искусство изымает его из времени, сохраняет его в его чистом
бытии, в вечности его жизни» (Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. – Т.2. – М.: Мысль,
1989. – С.62). Эстетическое завершение в данном случае – изображение такого
167
168
129
2.2.3. ОРУДИЙНОСТЬ ЯЗЫКА И ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ЗАВЕРШЕНИЯ
Человечество изо всех сил
стремится обрести свой центр.
Ф.Шлегель
Понятие «центр», являющееся ключевым, к примеру, в эстетике
Ф.Шлегеля, далеко не исчерпало свой смысловой потенциал в
современной теории литературы. Основополагающая роль «центра» как
важнейшей эстетической и теоретико-литературной категории может быть
раскрыта в разных аспектах. Так, согласно Ф.Шлегелю, нахождение
всеобъединяющего
центра
может
послужить
концептуальному
прояснению творческой индивидуальности писателя, например,
универсальной творческой индивидуальности Гете: «Мне самому
“Мейстер” представляется наиболее подходящим образцом, чтобы хоть
как-то охватить весь объем его многогранности, словно соединенной в
одном центре»171. Уяснение сущности организующего центра того или
иного произведения является необходимым условием приобщения к его
глубинному смыслу: «Вообще в драмах Шекспира связь настолько проста
и ясна, что раскрывается с очевидностью и сама собой для всякого
непредвзятого восприятия. Основа же связи сокрыта часто так глубоко,
невидимые нити, отношения столь тонки, что даже при остроумном
критическом анализе не избежать неудачи, если недостает такта и если
питать ложные ожидания или исходить из обманчивых принципов. В
«Гамлете» все отдельные части необходимо развиваются из общего центра
и в свою очередь воздействуют на него. В этом шедевре художественной
мудрости нет ничего чужеродного, излишнего или случайного.
Средоточие целого заключено в характере героя»172. В сороковые годы ХХ
столетия П.М.Бицилли обращает внимание на стилеобразующую функцию
«центра»: «Стиль… возникает именно из того, что все те средства
экспрессии, какими тот или иной художник пользуется, тяготеют к
некоторому общему центру, сочетаются в одно органическое целое,
individuum»173. О том же, но в контексте персоналистской проблематики
говорит М.М.Бахтин: «Основные для Достоевского стилистические связи
– это вовсе не связи между словами в плоскости одного монологического
высказывания, – основными являются динамические, напряженнейшие
мгновения. Поэтому и стихотворение Ф.И.Тютчева, изображая такое мгновение,
становится завершенным.
171
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика.: В 2 т. – Т.1. – С.407.
172
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика.: В 2 т. – Т.1. – С.112.
173
Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. – М.: Наследие, 1996. – С.516.
130
связи между высказываниями, между самостоятельными и полноправными речевыми и смысловыми центрами, не подчиненными словесносмысловой диктатуре монологического единого стиля и единого тона»174.
Мы можем сказать, что понять произведение, прояснить природу его
художественного своеобразия – значит, понять природу и характер того
организующего центра, которым определяется его сущность. В настоящем
параграфе (и в следующей главе книги) понятие «центр» будет
интерпретировано как в онтологическом, так и в эстетическом аспектах.
Попутно будет осуществлена конкретизация отдельных положений,
сформулированных в двух предыдущих параграфах.
Мы привыкли к тому, что характером творческого видения
определяются принципы завершения поэтического целого. Однако при
священно-символической орудийности языка невозможно говорить о какой
бы то ни было роли индивидуально-авторскоого миросозерцания. «…Всегда
наличный по отношению ко всякому другому человеку избыток моего
видения, знания, обладания», который «обусловлен единственностью и
незаместимостью моего места в мире»175, не был актуален для литературы
этого периода. Более того, сама проблема необходимости такой
индивидуально-личностной, автономно-персоналистской точки зрения на
мир не возникала, ибо, как писал Г.В.Лейбниц, «однообразие, которое…
наблюдается во всей природе, приводит к тому, что и везде в других местах, и
во все времена все так же идет, как здесь, приблизительно в тех же размерах и
с тем же совершенством, и что, таким образом, вещи, наиболее отдаленные и
скрытые, прекрасно объясняются по аналогии с тем, что видимо и близко от
нас»176.
Любая авторская точка зрения становилась значимой лишь в той
мере, в какой была опосредована и обусловлена зиждущим мир
божественным его восприятием. Соответствие этому находим в
средневековой живописи, в которой каждый предмет мог «требовать»
особой точки зрения для своего изображения177: все равно ни одна из них
не могла претендовать на роль завершающей художественное целое,
потому что мир был «подчинен в сознании средневекового человека
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С.349.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.23.
176
Лейбниц Г.В. Размышления о жизненных началах и о пластических натурах //
Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1982. – С.377. Пер. Н.Я.Грота.
177
О. Павел Флоренский в связи с этим в основополагающей работе «Обратная
перспектива» пишет о разноцентренности в иконных изображениях: «рисунок
строится так, как если бы на разные части его глаз смотрел, меняя свое место»
(Флоренский П.А. Сочинения: В 2 т. – Т.2. – М.: Правда, 1990. – С.46). При этом не
следует забывать о вторичности зрительной разноцентренности по отношению к
изначальной умозрительной единоцентренности.
174
175
131
единой пространственной схеме178, всеохватывающей, недробимой, в
которой нет индивидуальных точек зрения на тот или иной объект, а есть
как бы надмирное его осознание…»179 Отмеченным надмирным
восприятием сущего главным образом и определялись принципы
завершения поэтического целого в этот период.
Это надмирное восприятие настолько превышало возможности
человека, что даже воображение его, не говоря о физическом зрении,
охватить всю красоту и величие Божьего мира было не в состоянии:
Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать твоей…180.
На деле – в художественной практике – это признание слабости
своего воображения оборачивалось стремлением если не приблизиться к
надмирному восприятию, то хотя бы имитировать его, во-первых,
одновременным совмещением в авторской точке зрения всех возможных
ипостасей от самой низкой и презренной до самой высокой («Я царь – я
раб – я червь – я Бог!»), во-вторых, что взаимосвязано, максимальной ее
подвижностью, т.е., ни на секунду не забывая о целокупности, видеть в то
же время или хранить в воображении память о каждой мельчайшей детали
этой целокупности. Не случайно последняя строфа оды Державина «Бог»,
начало которой было приведено выше, заканчивается так:
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.
Мы видим, что эстетическое завершение целого здесь обусловлено
священным началом. Однако процесс секуляризация языка, особенно
интенсивно протекавший во второй половине XVIII века (во времена
трагической по своим последствиям войны «просветителей»,
направленной на дискредитацию церковно-христианской традиции),
привела к тому, что индивидуально-авторское видение постепенно
начинает играть решающую роль в завершении поэтического целого.
Одним из первых эту новую задачу осознал и сформулировал И.-В. Гёте:
«Эпоху, в которую мы жили, я бы назвал требовательной, ибо от себя и от
Вряд ли слово «схема» здесь уместно. Схематизм мышления и мировосприятия связан с
канто-эвклидовским представлением о пространстве и является достоянием Нового
времени, – об этом ярко пишет о. Павел Флоренский, как и об отличии в этом отношении
древнего и средневекового человека от человека новоевропейского (см.: там же, с. 58-60).
179
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М.: Наука, 1979. – С.340.
180
Державин Г.Р. Стихотворения. – Л.: Сов. писатель, 1957. – С.116.
178
132
других мы требовали того, чего еще никогда не совершал человек (курсив
мой. – А.Д.). Людям выдающимся, мыслящим и чувствующим в ту пору
открылось, что собственное непосредственное наблюдение природы и
основанные на этом действия – лучшее из всего, что может себе пожелать
человек…»181
В предыдущем параграфе на основе высказываний Гегеля были
рассмотрены три возможности завершения поэтического целого, которые
становятся актуальными на рубеже XVIII – XIX веков. По-своему о той же
проблеме в статье «Введение в «Пропилеи» (1798) говорит Гёте: «Юноша,
когда его влекут природа и искусство, верит, что живой порыв вскоре
позволит ему войти в святая святых; зрелый муж и после долгих странствий
видит, что все еще находится в преддверии. <…> Ступень, врата, вход,
преддверие, пространство между внутренним и внешним, между священным
и повседневным только и могут служить для нас местом, где мы будем
обычно пребывать с друзьями»182.
Гете различает здесь повседневное (эмпирическое) пространство,
преддверие (которое он понимает как специфическое пространство
творческой личности) и священное (сверхэмпирическое). С каждым из них
связан особый принцип завершения поэтического целого. Ясно, что
принцип эстетического завершения, который избирает автор, зависит от
степени его причастности к священно-символическому языку. Указанная
трехчастность, а в связи с нею – разная актуальность названных
пространств в качестве предмета изображения в творчестве различных
художников и соотнесенное с этим своеобразие формы видения
художника обусловливают разнообразие принципов завершения
поэтического целого в эту переходную эпоху. Драматическим
становлением нового, борьбой нового со старым в свою очередь
обусловлен сложный характер этой эпохи, о чем на примере немецкой
литературы говорит А.В.Михайлов: «На протяжении 18 века все
усиливается внутренняя многослойность немецкой литературы,
снимающая в себе «разновременность» сосуществующих пластов
традиции. Это нарастание и усиление многослойности, когда новое не
отменяет старого, но хранит внутри себя диалектическую глубину снятого,
- характерная … особенность развития немецкой литературы»183.
Гете И.В. Из моей жизни: Поэзия и правда // Гете И.В. Собр. сочинений: В 10 т. –
Т.3. – М.: Худож. лит., 1976. – С.556.
182
Гете И.В. Об искусстве. – С.109.
183
Михайлов А.В. «Приготовительная школа эстетики» Жан-Поля – теория и роман //
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – М.: Искусство, 1981. – С.8.
181
133
Для самого Гёте, как представителя классики184, подлинным предметом
изображения является лишь «преддверие», в котором священное соединяется
с эстетическим – при очевидном доминировании последнего. В этом
отношении весьма показательны слова Гёте, сказанные им о «Мироновой
корове с сосущим ее теленком»: «Вот, собственно, наивысший символ,
прекрасное воплощение начала, на котором зиждется мир, - принципа
питания, насквозь проникающего природу. Такие произведения искусства я
считаю истинным символом вездесущности Бога»185. Когда же Гёте
случалось говорить о непосредственном выражении священного содержания
в поэзии, он становился достаточно резок: «Я пластический художник. Я
пытался постичь мир и человека в мире. А теперь приходят эти парни,
напускают тумана и показывают мне явления то где-то в чуть различимой
дали, то совсем рядом, точно китайские тени… Пусть человек, верящий в
загробную жизнь, радуется втихомолку, но у него нет никаких оснований
воображать, как именно все это будет там… Возня с идеями бессмертия –
занятие для привилегированных сословий, особенно для женщин, которым
нечего делать»186.
Гёте убежден, что сверхэмпирическое (священное само по себе) не
может стать определяющим принципом для эстетического завершения по
той причине, что, с точки зрения чувственного созерцания, это Ничто, как
во второй части «Фауста»:
Но в той дали, пустующей века,
Ты ничего не сыщешь, ни единой
Опоры, чтоб на ней покоить взор,
Один сквозной беспочвенный простор.187
В ответ Фауст в третий раз повторяет дважды употребленное в
приведенной реплике Мефистофеля (имеется в виду не перевод
Б.Л.Пастернака, а текст оригинала) слово “Nichts”:
In deinem Nichts hoff’ ich das All zu finden.188
В твоем Ничто я надеюсь отыскать Все.
В настоящем исследовании вовсе не преследуется цель категорически
отрицать принадлежность А.С.Пушкина к «классике», однако и слишком
увлекаться этим клише, на мой взгляд, не следует. Ярлык всегда остается
только ярлыком, и плохо, если он начинает заслонять само поэтическое
Традиционно называют Пушкина, Гете, французских классицистов 17 столетия и др.
(см.: Подгаецкая И.Л. К понятию «классический стиль» // Типология стилевого
развития нового времени. – М.: Наука, 1976. – С.41).
185
Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. – Ереван: Айастан,
1988. – С.428. Пер. Н.Ман.
186
Людвиг Э. Гете. – М.: Молодая гвардия, 1965. – С.554-555. Пер. Е.Закс.
187
Гете И.В. Собр. сочинений: В 10 т. – Т.2. – С.235.
188
Goethe J. W. Ausgewählte Werke. – M.: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1949. – S.666.
184
134
явление в его своеобразии. Казалось бы, у А.С.Пушкина можно
обнаружить параллель к процитированному выше отрывку из «Фауста»:
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса…189
Однако параллель эта не вполне корректна, поскольку «пустые небеса» у
Пушкина – это свидетельство болезненного состояния сознания или даже
прямого безумия. Никто не будет отрицать, что стихотворение «Пророк» (8
сентября 1826 г.) – одно из высших проявлений творческого гения
А.С.Пушкина. Общеизвестно, как относился к этому стихотворению
Ф.М.Достоевский. Удивительно проникновенные слова находит о. Сергий
Булгаков, говоря об этом стихотворении: «Если бы мы не имели всех других
сочинений Пушкина, но перед нами сверкала бы вечными снегами лишь эта
одна вершина, мы совершенно ясно могли бы увидеть не только величие его
поэтического дара, но и всю высоту его призвания. Таких строк нельзя
сочинить… Тот, кому дано было сказать эти слова о Пророке, и сам ими
призван был к пророческому служению»190. Принцип завершения
поэтического целого в этом стихотворении явно священно-символический.
Поэтому вполне можно допустить, что именно об этом стихотворении Гёте
отозвался бы неодобрительно, как не одобрил он стихотворение
В.А.Жуковского, обращенное к нему, сказав, что оно «иератическое»191.
Точно так же и повседневное пространство не может быть для Гёте
непосредственным предметом изображения, а если оно увидено и
изображено, то уже самим этим фактом возвышается до уровня
пространства творческой личности. В пределах «преддверия» 192.
эмпирическое пространство одухотворяется, а сверхэмпирическое
становится чувственно воспринимаемым; происходит взаимное сближение
крайностей, их гармонизация. Этим обстоятельством обусловлены
важнейшие особенности завершения поэтического целого.
В первую очередь, разумеется, должен быть отмечен особый характер
изображаемого в произведениях представителей классики пространства,
его цельность и полнота, явленные созерцающему глазу изначально, до и
помимо всякого анализа и расчленения. В этом отношении А.С.Пушкин,
конечно, «классик». В.Г.Белинский имел в виду именно эту особенность
его творчества, когда писал: «Поэзия Пушкина… высказывается более как
Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений: В 10 т. – Т.3. – С.266.
Булгаков С.Н. Тихие думы. – М.: Республика, 1996. – С.263.
191
Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. – Л.: Наука, 1981. – С.81-82.
192
Отсюда ощущение срединности, которое в данном случае должно быть признано
одним из основных формообразующих факторов: «Свое уклонение от крайностей
современных им школ многие классические авторы называли срединностью… Гете
назвал себя так: «дитя мира, занимающее срединное положение» (Подгаецкая И.Л. Ук.
сочинение. – С.55).
189
190
135
чувство, как созерцание, нежели как мысль…» Лишь в послепушкинское
время, по мнению критика, «дух анализа, неукротимое стремление
исследования… сделались… жизнию всякой истинной поэзии»193. Посвоему о том же сказал А.С.Суворин: «Пушкин все знал и все понимал. В
уме его не было ничего дробного, частного и пристрастного. Полная
закругленность, полная всеобъемлемость»194. Но «классиком» в данном
случае он оказывается еще и потому, что отмеченная особенность
мировосприятия не противоречит созерцательной же священносимволической установке.
С этим же связано принципиальное единство мира, который не может
быть разделен на скорлупу и ядро, на внешнее и внутреннее. Единство мира
обусловлено тем, что и видение для Гете не может быть разделено на
внешнее и внутреннее. Видение для него едино, и такому зрению все
доступно: «решительно во все вносит свой свет глаз – внутрь сущности
вещей, внутрь души, внутрь сущности всего в целом бытия»195. Идея
двоемирия здесь столь же не актуальна, сколь не была она актуальна для
Дионисия Ареопагита. Но по той причине, что перед нами не
«идеациональная система культуры», основополагающим принципом
которой является «бесконечность, сверхчувственность, сверхразумность
Бога», а «чувственная»196, в классическом преддверии чувственная красота
земного мира становится высшей формой проявления священного. Отличие
Пушкина от Гёте (и лучших более поздних произведений русской литературы
от западноевропейских) объясняется тем, что в отечественной
художественной культуре идеациональное начало всегда сохраняло большую
актуальность. Томас Манн не случайно назвал русскую литературу «святой».
В этой особенности – ее сущность.
В сказанном можно найти ключ к разгадке одной существенной
особенности лирики Пушкина. Его пейзажи, как писал в свое время
В.Ф.Саводник, «нередко совмещают в себе целый ряд последовательных
моментов и потому представляются протяженными не только в пространстве,
но и во времени… Пушкин в своем изображении связывает в одно целое
отдельные типические черты русской осени, которые в действительности
являются разрозненными и разновременными»197. В этой особенности
эстетического завершения проявляется отнюдь не очевидная связь
пушкинской лирики со священно-символическим языком, определяющее
воздействие которого распространилось в христианском мире, начиная с
Белинский В.Г. Собр. сочинений: В 3 т. – Т.3. – С.410.
Розанов В.В. Из припоминаний и мыслей об А.С.Суворине. – М.: Патриот, 1992. – С.10.
195
Михайлов А.В. Глаз художника: Художественное видение Гете // Традиция в
истории культуры. – М.: Наука, 1978. – С.165.
196
См.: Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Сорокин П.А. Человек.
Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.
197
Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева. – М., 1911.
193
194
136
ранневизантийского периода, «практически на все виды искусства»198.
Именно в пределах этой священно-символической художественной
культуры, согласно Кириллу Александрийскому (IV-V вв.), к специфике
живописи относится «совмещение разновременных эпизодов в одном
изображении»199. Творческая установка Гёте, как мы помним, была
принципиально иной, если не прямо противоположной: для него подлинное
лирическое стихотворение – это всегда стихотворение «на случай»,
следовательно, поэтическое воссоздание мгновения во всей его полноте и
неповторимости200.
Во-вторых, должны быть отмечены особые отношения между субъектом
и объектом, в которых как раз и выявляется со всей определенностью
«классическая» мера. Позицию субъекта здесь нельзя свести ни к высокой, ни к
низкой точке зрения, а это именно синтез их, следовательно синтез
живописного и собственно поэтического начал, в результате которого «взгляд
живописца слился со взглядом поэта…»201. Предмет здесь, как очень точно
сказал Жан-Поль, «одинаково удален и достоверен»202, т.е. удален от
созерцающего глаза на такое максимальное расстояние, которое не позволяет
утратиться его достоверности. Каждый предмет, попадающий в поле зрения
автора, должен быть увиден здесь с этой эстетической дистанции. Дистанция
созерцания чрезвычайно важна для формирования художественного целого:
она способствует тому, что «растрепанная действительность» (Н.В.Гоголь)
приходит к гармонической завершенности в художественном произведении203.
В этом отношении «классика», безусловно, наследует традицию, идущую от
«Поэтики» Аристотеля: «…Прекрасное – и живое существо, и всякая вещь,
которая состоит из частей, – не только должно эти части иметь в порядке, но и
объем должно иметь не случайный (так как прекрасное состоит в величине и
порядке…)»204.
Другую возможность эстетического завершения отстаивает в
«Приготовительной школе эстетики» (1804 г.) Жан-Поль.
Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. – К.: Путь к истине, 1991. – С.140.
Там же. – С.148.
200
См.: Эккерман И.П. Разговоры с Гете… – С.68. См. также в этой связи сопоставление
лирики Тютчева и Гете: Тургенев И.С. Несколько слов о стихотворениях Ф.И.Тютчева //
Тургенев И.С. Собр. сочинений: В 12 т. – Т.12. – М.: Худож. лит., 1979. – С.175.
201
Гете И.В. Собр. сочинений: В 10 т. – Т.3. – С.456.
202
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – С.91.
203
Следует подчеркнуть, что принцип завершения поэтического целого, соотнесенный с
формой видения автора, не просто определяет характер отдельного произведения, но
решающим образом обусловливает единство всего творческого пути того или иного писателя.
204
Аристотель. Сочинения. – Т.4. – С.654, 1450b 34-38.
198
199
137
На рубеже XVIII-XIX веков Жан-Поль, по мнению А.В.Михайлова,
«словно утверждает в немецкой литературе стихию барокко»205. Однако
ясно,
что
барочные
традиции,
преломляясь,
соединяясь
с
нериторическими в пределах художественного целого, изменяют свои
функции. Определенную черту между барокко и эстетической позицией
Жан-Поля проводит, в частности, следующее его высказывание: «Есть
одна безошибочная примета гениального сердца – все прочие блестящие и
вспомогательные лишь служат ему – это новое созерцание жизни и мира.
Талант изображает части, гений – жизнь в целом…»206. Новизна позиции
Жан-Поля заключается в решительном требовании «нового видения» как
непременного и едва ли не главного условия гениальности. Понятно, что
это требование могло быть выдвинуто только во времена Гёте.
Как происходит, по Жан-Полю, завершение художественного целого?
Для этого необходима высокая точка зрения: «Карты земли могут быть
созданы лишь благодаря картам неба; только если смотреть сверху вниз (ибо
взгляд снизу непременно отделит небо от широко раскинувшейся земли),
перед нашим взором возникнет единая небесная сфера и сам земной шар,
каким бы малым он ни был, поплывет в ней, кружась и сверкая»207. Помимо
прочего, приведенное высказывание проясняет, чем обусловлена
разнородность антиномического и синномического способов завершения
поэтического целого. В первом случае преобладающим остается все же
«взгляд снизу», хотя и устремленный «вверх», тогда как во втором
преобладающая направленность двойственного видения противоположна.
Нетрудно также заметить, что в высказывании Жан-Поля отчетливо
вырисовывается некоторая его близость к позиции Лессинга. Он сходным с
Лессингом образом характеризует высокую точку зрения. Для него мир,
творимый ею, – это мир фантазии, которая «всякую часть превращает в
целое… все обращает в целокупность…»208. Но если для Лессинга этого
«духовного зрения», которому «проясняется внутренняя гармония
мироздания»209, было достаточно, и он, как известно, готов был отказаться от
«телесного зрения» в том случае, если бы оно стало претендовать на
доминирующее участие в творческом созерцании, то для Жан-Поля одного
внутреннего зрения мало. Для него человек – это вглядывающийся «в
противоположные миры» двуликий Янус, у которого «закрыта то одна, то
другая пара глаз»210, но обе они равно необходимы, потому что внутреннее
Михайлов А.В. Проблема стиля и этапы развития литературы нового времени //
Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. – М.: Наука, 1982. –
С.385.
206
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – С.93.
207
Там же. – С.95.
208
Там же. – С.79.
209
Гриб В.Р. Избранные работы. – М.: Гослитиздат, 1956. – С.103.
210
Жан-Поль. Ук. книга. – С.95.
205
138
видение призвано представить картину мира, тогда как лишь пластическое
способно запечатлеть «все новые черты подобия… передать другим детям
портрет матери своей Природы»211. В этом отношении, по мнению ЖанПоля, искусство живописи и рисования оказывается близким искусству поэта.
Миры, созидаемые с опорой на высокую и низкую точки зрения, и в чем-то
подобны, и в чем-то бесконечно противоположны друг другу. Чем же они
отличаются?
Внешний мир творится в процессе непосредственного созерцания, тогда
как для создания мира внутреннего, творимого фантазией, необходимо
время212. Это может быть «усиленное и более светлое воспоминание».
Однако было бы еще точнее уподобить процесс создания мира фантазии
сновидению, потому что для Жан-Поля истинный поэт «не в одном только
смысле – лунатик: в своем ясном сне он способен на большее, чем
бодрствующий ум, и в темноте взбирается на любую высоту
действительности, но отнимите у него мир сновидения, и он споткнется в
мире реальном»213. Таким образом, мир фантазии, сновидения оказывается
путеводительным для мира реального.
Вот почему было бы упрощением думать, что речь здесь идет о простом
механическом соединении двух различных форм видения в пределах одного
произведения. Два названных изобразительных плана суть не что иное, как
два зеркала, которые, взаимоотражаясь и дополняя друг друга, создают
двойственную, внутренне противоречивую картину мира. Поэтому здесь речь
должна идти не о соединении двух различных форм видения, а о сложном,
двойственно-противоречивом видении, в котором совмещение двух
изобразительных планов оказывается таким единством, когда каждый
элемент одного плана обусловлен другим изобразительным планом и
наоборот. Достигается это единство благодаря резкому усилению волевой
напряженности, определяющей своеобразие каждого из названных выше
изобразительных
планов
и
одновременно
преодолевающей
их
противоположность.
Не случайно Жан-Поль, противопоставляя «пластичные» пейзажи
древних «музыкальным» (т.е. экспрессивным) пейзажам новых писателей,
говорит, что лучшие пейзажи должны быть «и пластичны, и музыкальны
Там же. – С.65.
В этом отношении показательна история создания Ф.И.Тютчевым стихотворения
«Как неожиданно и ярко…» (1865): «Сначала, под живым впечатлением от радуги,
виденной проездом через город Рославль…, Тютчев написал восемь стихов,
посвященных непосредственному изображению поразившего его зрелища. <…> Через
какое-то время Тютчев вернулся к этому стихотворению. Вновь переписав его без
всяких изменений, он добавил к нему еще восемь стихов». В них были реализованы
философские раздумья поэта «над тем, что общего между этим «радужным виденьем» и
самым дорогим и заветным для человека» (Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева.
– М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.335-336).
213
Жан-Поль. Ук. книга. – С.78, 87.
211
212
139
сразу»214, т.е. должны быть экспрессивно-живописными. В трактате ЖанПоля содержится обоснование своеобразного двоецентрия как способа
завершения поэтического целого. Позиция Жан-Поля, как видим,
противоположна позиции Гёте. Классическое преддверия, которое является
основным предметом изображения для Гёте, у Жан-Поля оказывается
полностью редуцированным, тогда как крайности, от которых Гёте
отталкивался, будучи совмещенными, становятся главным предметом
изображения. Может быть, поэтому Жан-Поль так и остался навсегда для
Гёте «филистером»?215
Двоецентрие как способ восприятия и изображения мира характеризуется двойственной противоречивостью позиции автора и авторского видения, а также сосуществованием и совмещением в пределах одного произведения двух самодовлеющих и в то же время взаимосвязанных и обусловливающих друг друга изобразительных планов. С двоецентрием могут
быть связаны разные принципы эстетического завершения: как символико-антиномический в его объективно-антиномической разновидности
(Е.А.Боратынский), так и символико-синномический (Ф.И.Тютчев,
Ф.М.Достоевский). Близкое Ф.И.Тютчеву и Ф.М.Достоевскому самоопределение находим у крупнейшего современного поэта:
Недоверьем не обижу
жизни видимой, но вижу
ту, которая в тени
зримой, и чем старше зренье,
тем отчетливей виденья
жизни, сущей искони.216
И прямые поэтические проявления синномии:
Но тот, кому Слово дано,
себя совмещает со всеми…
В другом стихотворении:
А где язык запнется у поэта,
при свете дня или ночной звезды
пусть встанет как восьмое чудо света,
белеясь, колокольня из воды…217
Более подробно о двоецентрии и его особенностях будет сказано в
следующей главе настоящего раздела.
В творчестве других писателей обнаруживается стремление к овладению
единством мира через преимущественное изображение одного из
отмеченных
Гете
пространств,
что
обусловлено
ценностной
Там же. – С.286.
См.: Эккерман И.П. Разговоры с Гете… – С.421.
216
Чухонцев О.Г. Пробегающий пейзаж. Стихотворения и поэмы. СПб.: ИНАПРЕСС,
1997. – С.268.
217
Там же. – С.184, 188.
214
215
140
неравнозначностью данных пространств в восприятии того или иного
художника. Сама же ценностная неравнозначность, как уже неоднократно
говорилось, обусловлена разной степенью причастности того или иного поэта
или писателя к священно-символическому языку.
Для начала необходимо уяснить, что термины «двоецентрие» и
«двоемирие» – отнюдь не синонимы. Для Ф.Шлегеля, к примеру, актуально
только второе, именно поэтому двоемирие это – подчеркнуто иерархическое.
Поэзией, утверждает он, «изображается неопределенное, поэтому каждое
изображение есть нечто бесконечное…»218. Такой однонаправленности
творческого созерцания способствует эгоцентризм позиции: «Художник –
это тот, кто имеет свой центр в себе самом. <…> Ибо без живого центра
человек не может существовать, и если у него еще нет его внутри себя, то
он может искать его только в человеке, и только человек и его центр
может задеть и пробудить его»219. В результате поэт не останавливается
перед возможностью «уничтожить весь мир и всю вселенную, только
чтобы в небытии опорожнить пространство, освободив его для своих
игр»220. Отсюда «непременно вытекает презрительное отношение к
подражанию природе и ее изучению»221. При этом «взгляд снизу» остается
определяющим для творческого созерцания (именно потому, что выражает
субъективную позицию), поэтому небо в творчестве такого поэта никогда
не встречается с землей. Антиномизм, таким образом, проникает в самую
сердцевину творческого видения: предельно высокая точка зрения
(изображение бесконечного) одновременно становится предельно низкой,
выражающей изолированную субъективность.
Весьма показательным представляется сопоставление вышеприведенного
суждения Гете со следующим, несомненно, полемическим по отношению к
нему высказыванием А.Белого: «Теперь, оглядываясь назад, за собой мы видим
мертвую жизнь; все имена слетели с вещей; все виды творчеств распались в
прах, пока мы стояли у преддверия; стоя во храме, мы должны, как
первозданный Адам, дать имена вещам; музыкой слов, как Орфей, заставить
плясать камни. Стоя в магическом ореоле истинного и ценного, мы созерцаем
лишь смерть вокруг этого ореола; перед нами мертвые вещи. Давая имена
дорогим мертвецам, мы воскрешаем их к жизни; свет, брызнувший с верхнего
треугольника пирамиды, начинает пронизывать то, что внизу…»222.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – Т.2. – С.193.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – Т.1. – С.359.
220
Жан-Поль. Ук. книга. – С.64.
221
Там же.
222
Белый А. Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма // Белый А.
Символизм. Кн. статей. – М.: Мусагет, 1910. – С.112. Если судить по высказыванию
И.В.Гете, А.Белый предстает здесь в качестве вечного юноши, которому не суждено
стать «зрелым мужем».
218
219
141
Ценностное соотношение упомянутых пространств обусловлено
моноцентрической позицией автора высказывания. Разумеется, А.Белый в
меньшей степени, чем его предшественники начала XIX века, был склонен
«уничтожать вселенную» для романтических игр, а несомненную заслугу
символической школы видел в том, что в ней «бескровные тени
романтизма получили … и плоть, и кровь…»223. Это отличие существенно,
и о нем нельзя забывать, но все же мы имеем здесь дело с типологически
однородными явлениями. Мысль о возможной самостоятельной ценности
земной жизни, изображаемой в художественном произведении, чужда
А.Белому. Это, в частности, накладывает отпечаток на ту оценку, которую
он дает творчеству Ф.М.Достоевского: «Не было у него телесных знаков
своего духовного видения. Слишком отвлеченно принимал Достоевский
свои прозрения, и поэтому телесная действительность не была приведена в
соприкосновение у него с духом. <…> В самом деле, нужна решимость,
чтобы, вооружившись долгом, медленным восхождением подойти вплотную
к восхищающему видению. Легче пьяной ватагой повалить из кабачка на
спасение человечества. А герои Достоевского часто так именно и
поступали…»224.
Ни глубины, ни беспристрастности в приведенном суждении А.Белого
нет, и объясняется это тем, что он судит о чуждом ему принципе
эстетического завершения. Ясно, однако, и то, что ориентация на
«восхищающее видение» у А.Белого сугубо декларативна и уж, во всяком
случае, не свидетельствует о его – видении – безусловно священном
характере. Сущность эстетического завершения заключается здесь в том,
что дух, не преодолев, но «освободившись» от «гнетущих оков» «грубой
телесности»225 с ее «тесными границами» и возвратившись «в область света и
свободы», обретает самого себя в качестве предмета изображения226.
Эмпирическая реальность оказывается в результате несущественной или
малосущественной «частностью жизни» (В.Хлебников), «слишком
отвлеченной» (?), чтобы иметь хоть какое-то отношение к поискам истины.
Таким образом, если при символико-синномическом принципе
завершения поэтического целого экспрессия не доводится до предела,
когда происходит разрушение относительно самостоятельного в своей
зрительно-смысловой завершенности эмпирического мира, то здесь этот
рубеж оказывается преодоленным, причем в созидаемом новом единстве
«реальная связь» отдельных элементов оказывается «за пределами
видимости»227. Изобразительное начало при этом не исчезает, не
Там же. – С.143.
Белый А. Ибсен и Достоевский // Белый А. Арабески. Кн. статей. – М.: Мусагет,
1911. – С.95.
225
На самом деле – испугавшись этих «оков» и уклонившись от них.
226
См.: Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – Т.2. – С.184-185.
227
Белый А. Театр и современная драма // Белый А. Арабески. – С.31.
223
224
142
растворяется в выразительном, но изображение здесь ни в коем случае не
призвано дать завершенную в себе картину, но всегда оказывается
эскизом, контуром бесконечной реальности, превышающей любую
чувственную данность. Однако интерес к бесконечности здесь не
самоценен, поскольку любое зрительное представление (и даже сумма их),
порождаемое художественным произведением, оказывается попыткой
воссоздания в нем (в произведении) «объективируемой личности»
(А.Белый) субъекта высказывания, являющегося в данном случае главным
и, в известном смысле, единственным предметом изображения, поскольку
главная цель здесь – прийти к самому себе228. Перед нами, стало быть, тот
самый «абсолютизированный антропоцентризм», о котором, в связи с
художественной культурой Возрождения, говорит А.Ф.Лосев229.
Одновременно проясняется глубинное родство двух этих периодов в
истории европейской культуры, тогда как связь романтизма со
Средневековьем носит скорее внешний характер.
Для того чтобы это понять, достаточно уяснить, что в случае
романтизма мы имеем дело не с «онтологическим пониманием мира»
(о. П.Флоренский), свойственным Средневековью, но с субъективным
квазионтологизмом, сущность которого разъясняет А.Ф.Лосев: «…Когда и
вещи в себе оказались достоянием человеческого субъекта, получилось,
что сам человеческий субъект оказался не чем иным, как все тем же
универсальным объективным миром, но уже данным человеку в
максимально понятном и продуманном виде, данном как имманентное и
адекватное переживание»230. Поскольку субъективный мир становится
универсальным, он антиномически противопоставляется как истинный,
обладающий подлинной реальностью, тому «мнимо реальному» земному
миру, который остается за его пределами:
Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей…231
Мы видим, что «целый мир» в стихотворении М.Ю.Лермонтова
оказывается в сущностном отношении менее значимым, нежели
лирический герой с его «грозными бурями». Приведенное поэтическое
высказывание перекликаются с известным суждением из романа «Доктор
Живаго»: «Единственное живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно
время со мной и меня знали»232. И в первом, и во втором случае внешней
«…В средоточии духа, завершенного сознания сама собой отпадает иллюзия, будто
существует какая-либо реальность вне их» (Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика.
– Т.2. – С.215). Ср. ироническое суждение Гегеля, высказанное в связи с Ф.Шлегелем:
«…Объективные лики искусства должны изображать только принцип абсолютной для
себя субъективности…» (Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.12. – С.71).
229
Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. – С.64-65.
230
Там же. – С.21.
231
Лермонтов М.Ю. Сочинения. – Т.2. – С.38.
232
См. об этом: Горелов П.Г. Кремнистый путь. – М.: Молодая гвардия, 1989. – С.95-96.
228
143
жизни отказано в праве на самостоятельную ценность вне тех «борений с
самим собой» (Б.Л.Пастернак) «творческой личности», которыми
преимущественно определяются здесь особенности завершения
поэтического целого.
Как уже было сказано в предыдущем параграфе, мы можем определить
охарактеризованный вариант символико-антиномического принципа
эстетического завершения как субъективно-антиномический. Внутренний
драматизм и даже трагизм лирики объясняется в данном случае, кроме иных
причин, антиномическим совмещением в ней высокой и низкой точек зрения.
Другому способу завершения поэтического целого, характеризующегося
однонаправленностью позиции автора, свойственна низкая точка зрения,
обусловленная его ориентацией на изображение эмпирического
пространства, погружением в объект, тем духом анализа, который, вспомним
еще раз слова В.Г.Белинского, в XIX столетии сделался «жизнию всякой
истинной поэзии». В творчестве И.С.Тургенева и А.П.Чехова можно видеть
две различные возможности проявления данного варианта моноцентризма.
Приведя пример обычного тургеневского пейзажа, А.П.Чудаков
комментирует его следующим образом: «Совершенно очевидно, что дано
все это вне зависимости от наблюдателя. Рассказчик не мог обнять
взглядом столь пространственно обширную и разномасштабную картину
(былинки и синицы, заяц в зеленях, стадо на жнивье, сучья орешника). Это
именно обобщенный типичный для осени пейзаж; отобранные предметы
отражают важнейшие стороны и качества изображаемого»233.
Нечто противоположное наблюдаем в произведениях А.П.Чехова,
который, по словам Н.К.Михайловского, «гуляет мимо жизни и, гуляючи,
ухватит то одно, то другое»234.
Однако как в первом случае для изображаемой картины вовсе не
безразлична «оптическая позиция» (А.П. Чудаков) рассказчика (типичный
пейзаж Тургенева – эта «сумма» малых наблюдений), так и у Чехова – вовсе
не механическое нагромождение деталей: все детали в его произведениях «не
разбросаны беспорядочно, но особенным образом распределены»235. В то же
время для рассматриваемого принципа завершения поэтического целого
характерно стремление автора «самоустраниться», сведя свою роль якобы
только к зоркому всматриванию в жизнь и ее воспроизведению. Именно эту
основополагающую особенность отметил А.Белый, утверждая, что «метод
реалистической школы – изображение эмпирической действительности»236. В
противоположность преобладающей установки на исключительную
эмоциональную субъективность (субъективно-антиномическое завершение
Чудаков А.П. Поэтика Чехова. – М.: Наука, 1971. – С.164.
Михайловский Н.К. Литературно-критические статьи. – М.: Гослитиздат, 1957. – С.599.
235
Чудаков А.П. Ук. книга. – С.182.
236
Белый А. Смысл искусства // Белый А. Символизм. – С.225.
233
234
144
поэтического целого) здесь может возникнуть иллюзия отсутствия
выразительного начала, поглощения его изобразительным началом.
Таким образом, при символико-эмпирическом принципе завершения
поэтического целого доминирующей оказывается низкая точка зрения,
которой, однако, восприятие жизни не ограничивается. Оно оказывается
неотрывным от осмысления жизни, призванного в ней обнаружить те
всепроникающие связи, без выявления которых не может осуществиться
художественный мир, но которые низкой точке зрения принципиально
недоступны. Эти связи, в конечном счете, всегда оказывается выявленными
благодаря переходу от низкой точки зрения к высокой, от эмпирического
субъекта, изображающего жизнь, к сверхэмпирическому, ее осмысляющему.
По-своему такой переход осуществляется и в произведениях Чехова, у
которого обнаруживаются показательные соотношения между «высшей
точкой зрения» и ее реальными или потенциальными носителями. По поводу
этих соотношений в отечественном литературоведении утвердилось мнение,
которое нуждается в существенных уточнениях.
М. Горький в 1900 году высказал мысль о «неуловимости» «высшей
точки зрения» в рассказах А.П.Чехова. Эту мысль подхватил и развернул
М.М.Гиршман в статье о стиле А.П.Чехова, в которой анализируется рассказ
«Студент»237. В статье, в частности, неопределенность «высшей точки
зрения» у Чехова объясняется тем, что она «не обретает ни личностной, ни
событийной конкретности, а, наоборот, в организации повествования
обостряется противоречие между ней и любым ее потенциальным
носителем»238.
Между тем символический смысл, который раскрывается в рассказе и
который с самого начала обозначен повторением слова «протянуть»,
«протянуться»239, будет понят глубже, если мы уясним, что он вовсе не
формируется в рассказе, но представляет собой первичную реальность по
отношению к изображаемому. В поэтическом произведении первичная
реальность и ее смысл представляют собой ту «ценность», которая «всегда
При этом М.М.Гиршман приходит к несколько иным выводам. У М.Горького: «Все
чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их
неумение жить, все красивее светит в них сострадание к людям и – главное! – звучит что-то
простое, сильное, примиряющее всех и вся. Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика, и
грабителя-лавочника, всех, кого она коснется…» (Горький М. По поводу нового рассказа
А.П.Чехова «В овраге» // М.Горький о литературе. – М.: ГИХЛ, 1961. – С.18). Ср. у
М.М.Гиршмана: «Между раздробленным и измельченным миром и верховным авторским
началом обнаруживается зияние, которое должно быть осознано и ликвидировано
деятельной энергией читателя» (Гиршман М.М. Стилевой синтез – Дисгармония –
Гармония («Студент», «Черный монах» Чехова) // Гиршман М.М.Литературное
произведение: Теория художественной целостности. – М.: Языки славянской культуры,
2002. – С.379).
238
Там же. – С.378.
239
См.: там же, с.366-367.
237
145
дана, а не создана»240. Ее присутствие в рассказе вовсе не исключает
художественности, поскольку, восходя к ней, мы не только не оставляем
сферу красоты, но обретаем ее изначальную сущность. «Самоценное»
эстетическое всегда вторично по отношению к этой «несотворенной
красоте»: «Только образ, излучающий сияние святости,… – только он
проникает в предельные глубины сердца…», – говорит Б.П.Вышеславцев.
При этом мы помним, что хотя «этот образ есть прежде всего красота, но
он есть и нечто большее, чем красота»241. Поэтому и А.П.Чехов не создает
священно-символический смысл, он к нему апеллирует, и этот высший
смысл прямо выговаривается в финале рассказа, одновременно обретая
событийную конкретность: «А когда он (Иван Великопольский. – А.Д.)
переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел
на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась
холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота,
направляющие человеческую жизнь там, в саду и во дворе
первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня, и, по-видимому,
всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле…»242
Конечно, ни Иван Великопольский, в страстную пятницу
охотившийся на вальдшнепов, ни даже Петр в тех эпизодах, которые
упоминаются в рассказе, в силу своей человеческой слабости, не являются
адекватными носителями «высшей точки зрения». Но мы знаем, что такой
Носитель есть и именно о Нем, опять-таки, говорится в рассказе: «И после
этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса,
вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечери… Вспомнил, очнулся,
пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед
вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в
тишине едва слышатся глухие рыдания…»243. Иисус и есть Тот, Кто всегда
готов «протянуть» руку ослабевшему духом, чтобы помочь пройти по воде
или подняться «на гору» и, поднимаясь, понять, что такое «правда и
красота». И тогда «раздробленный и измельченный мир» перестает быть
таковым и становится единым и наполненным высоким смыслом.
В рассказе А.П.Чехова изображена сцена повседневной жизни, в
которой повествователь усматривает нечто общее с тем, что произошло
девятнадцать веков назад совсем в другом месте и с другими людьми. В
этой соотнесенности двух сцен, разделенных большой временной
дистанцией, повествователь усматривает глубокий символический смысл,
который и разъясняет в последнем абзаце рассказа. Таков путь
эстетического завершения при символико-эмпирическом мировосприятии.
В стихотворении Ф.И.Тютчева «Эти бедные селенья…» (символикоВышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. – М.: Республика, 1994. – С.57.
Там же. – С.67.
242
Чехов А.П. Собр. сочинений: В 8 т. – Т.5. – М.: Правда, 1970. – С.345
243
Там же. – С.344.
240
241
146
синномический принцип эстетического завершения) мы видим нечто иное.
В этом стихотворении знакомая всем по опыту повседневность
оказывается одновременно таинственно проникнутой живым присутствие
Христа. В этом как раз и проявляется со-законие (синномия)
повседневного и священного, причем не умозрительное, а явленное в
поэтическое картине. Священное в рассказе А.П.Чехова и в стихотворении
Ф.И.Тютчева, как видим, проявляется по-разному. Тем не менее, и
символический смысл рассказа А.П.Чехова обусловлен его подспудной
связью с изначальным священно-символическим языком и живет он, как
справедливо утверждает М.М.Гиршман (только живет не «лишь», а в том
числе), «в ритмически организованной системе движущегося
изображения»244. Сказанного, на мой взгляд, достаточно, чтобы понять,
почему данный принцип завершения поэтического целого был определен
как символико-эмпирический.
Подобный
чеховскому
пример
присутствия
священносимволического смысла в изображении хотя и не совсем обычной, но
вполне жизненной ситуации мы можем найти в рассказе «Живые мощи»,
по мнению В.Н.Крупина, высказанному во время одного из телевизионных
выступлений, - лучшем произведении И.С.Тургенева: «Несколько недель
спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней… и
«после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она все
слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять
верст с лишком и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что
звон шел не от церкви а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с
неба»245.
Таковы основные принципы эстетического завершения в русской
литературе XIX XX веков246. Разумеется, предложенная типология
выявляет лишь наиболее общие, но в то же время и наиболее характерные
тенденции поисков изобразительных возможностей художественного
слова. Обратившись к интерпретациям конкретных поэтических
произведений, мы сможем уточнить эти в общем виде сформулированные
положения.
Гиршман М.М. Ук. сочинение. – С.367.
Тургенев И.С.Собр. сочинений: В 12 т. – Т.1. – С.330.
246
Ср. типологии изобразительности лирической поэзии, разработанные
Г.Н.Поспеловым (Поспелов Г.Н. Лирика. – М.: МГУ, 1976) и Э.Уэлшем (Welsh A. Roots
of lyric: primitive poetry and modern poetics. – Princeton: Princeton University press, 1978).
К примеру, в типологии Г.Н.Поспелова совсем не проясненным остается вопрос о
своеобразии изобразительных систем отдельных художников, поскольку все
разновидности лирики, которые выделяются автором (медитативная, медитативноизобразительная, собственно-изобразительная) (см.: Поспелов Г.Н. Ук. книга. – С.64),
можно обнаружить у Пушкина и у других поэтов.
244
245
147
2.2.4. ПРЕДЫСТОРИЯ
ПРЕДЛОЖЕННОЙ
ТИПОЛОГИИ
В
РУССКОЙ
ЭСТЕТИКЕ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
В истории русской литературы были две переломных эпохи, которые
характеризуются особенно интенсивными поисками новых принципов
завершения поэтического целого. Во-первых, это 1810-1830-е, во-вторых –
1900-1920-е годы – два кризисных периода в истории отечественной
художественной
культуры,
время
интенсивной
секуляризации
символического языка и ответного стремления к сохранению его священной
сущности.
Особенно интересен и важен для нас первый период. Сложная,
запутанная картина литературной жизни, наполненная различными
тенденциями и взаимоисключающими результатами художественных
поисков, была в это время отражением столь же сложной общественной
жизни, о которой И.В.Киреевский писал следующее: «Вы встретите
отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько
разнородные между собою. Подле человека старого времени найдете вы
человека, образованного духом французской революции; там человека,
воспитанного
обстоятельствами
и
мнениями,
последовавшими
непосредственно за французскою революциею; с ним рядом человека,
проникнутого тем порядком вещей, который начался на твердой земле
Европы с падением Наполеона; наконец, между ними встретите вы человека
последнего времени, и каждый будет иметь свою особенную физиономию,
каждый будет отличаться от всех других во всех возможных обстоятельствах
жизни – одним словом, каждый явится перед вами отпечатком особого
века»247.
Как уже отмечалось, поиски принципиально иных изобразительных
возможностей художественного слова, иных способов завершения
поэтического целого стимулировались в этот переходный период
стремлением к обретению нового гармонического единства человека и мира.
Это поистине одна из важнейших проблем, вставших перед художественной
литературой в то время. Поэтому отнюдь не случайно интенсивные поиски
новых способов завершения поэтического целого сопровождались
одновременным глубоким их теоретическим осмыслением. Подобно тому,
как в литературе изменялась «точка зрения», организующая художественное
целое, изменялись соответствующим образом и критерии оценки
художественных произведений. В частности, краткую и точную
характеристику тому, что в настоящей книге названо двоецентрием, дает
Киреевский И.В. Девятнадцатый век // Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М.:
Искусство, 1979. – С.81. Ср. суждение А. Белого о современном ему искусстве:
«Новизна современного искусства лишь в подавляющем количестве всего прошлого,
разом всплывающего перед нами; мы переживаем ныне в искусстве все века и все
нации; прошлая жизнь проносится мимо нас» (Белый А. Символизм. – С.143).
247
148
И.В.Киреевский при рассмотрении поэмы «Наложница» Е.А.Боратынского:
«Эти возвышенные сердечные созерцания, слитые в одну картину с
ежедневными случайностями жизни, принимают от них ясную форму, живую
определенность, между тем как самые обыкновенные события жизни
получают от такого слияния глубокость и музыкальность поэтического
создания. Так, часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя
его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною
поэзиею, такою идеальною грустию, что, не отрываясь от гладкого, вощеного
паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно
просторную»248.
Нетрудно заметить, насколько близок в своих утверждениях
И.В.Киреевский Жан-Полю. Речь, разумеется, не обязательно должна идти
о прямом влиянии, хотя эстетические идеи Жан-Поля высоко ценились в
России в то время249, а его эстетический труд стал известен у нас еще в
1805 году250. С онтологическим обоснованием явления, названного мною
«двоецентрием», мы встречаемся в изложении И.В.Киреевским речи
Шеллинга, посвященной значению римского Януса: «… Человек
поставлен в центре вещей. Разумность его, кажется, основывается только
на том, что те же силы, которые в природе являются раздельно, в нем
опять собраны в единство…» И далее: «Но как скоро нарушено
Божественное единство сил, то он становится подчиненным всему тому,
чему подчинены другие вещи, между тем как не заглушаемое чувство ему
говорит, что он не то, что другие вещи, что он выше их. Уже оттуда
начинается это расстройство прозрения»251 (курсив мой. – А.Д.).
Любопытно
сопоставить
с
приведенными
суждениями
И.В.Киреевского осмысление Е.А.Боратынским того способа организации
поэтического целого, который особенно интенсивно разрабатывался им в
лирике 30-х – начала 40-х годов. Обсуждая с И.В.Киреевским проблему
романа, Боратынский указывает на неудовлетворительность прежних
романистов вследствие их односторонности, так как «одни выражают
только физические явления человеческой природы, другие видят только ее
духовность». Боратынский считает, что современный писатель должен эту
односторонность преодолеть, соединив «оба рода в одном»: «Сблизив
Киреевский И.В. Обозрение русской литературы за 1831 год // Киреевский И.В. Ук.
книга. – С.111.
249
К примеру, С.П.Шевырев, по словам А.Н.Веселовского, «в эстетике последователь
Жан-Поля» (Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе. – М.,
1916. – С.213), писал о «Приготовительной школе эстетики»: «Эта книга могла бы
развить много основательных идей о Поэзии в нашем юношестве…» (Шевырев С.П.
Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. – М., 1836. –
С.362).
250
См.: Рихтер М.Л. Жан Поль Рихтер в России // Западный сборник. Вып.1. – М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1937. – С.258.
251
Киреевский И.В. Речь Шеллинга // Киреевский И.В. Ук. книга. – С.246-247.
248
149
явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете»252 (курсив
мой. – А.Д.). Особенно показательно в приведенном высказывании слово
«сблизив»,
указывающее
на
равнодостойность
соприсутствия
«физического» и «духовного» планов в пределах художественного
произведения.
Подобно Боратынскому, о необходимости соединения идеального и
земного планов в поэтическом произведении говорит Ф.И.Тютчев в
письме к И.С.Гагарину, давая оценку стихотворениям В.Г.Бенедиктова: «В
них есть вдохновение и, что является хорошим предзнаменованием на
будущее, наряду с сильно развитым идеалистическим началом есть вкус к
жизненному, осязаемому, даже к чувственному… Беды в этом нет… Дабы
поэзия цвела, она должна быть укоренена в земле…»253 Обнаруженная
нами близость Е.А.Боратынского и Ф.И.Тютчева в понимании сущности
поэзии не должна заслонить существенного различия их поэтического
творчества.
Перекличку с Жан-Полем мы обнаруживаем и в эстетических
суждениях К.С.Аксакова, который «доказывал, что одна и та же идея
может быть воплощена рядом существ: “в царстве животных, в царстве
растений (даже в царстве ископаемых) есть, можно найти мой портрет…
Природа по всем своим царствам протянула цепь существ, созданных по
одной идее со мною…” Несколько похоже, хотя и в ином, трагическивозвышенном ключе, Константин выразил эту мысль в повести “Облако”:
облако обращается чудесной девушкой, а девушка – облаком»254. Нечто
подобное – уже в ХХ веке – мы наблюдаем в стихотворении
Н.А.Заболоцкого «Сентябрь»: луч света «сквозь отверстие облака»
прорывается в «царство тумана и морока», и эта игра света и тени
преображает предметы, в орешине проступают черты девушки и царевны,
а девушка и царевна в свою очередь не теряют сходства с деревцем.
Повышенная экспрессия изображения приводит к тому, что изображаемое
начинает двоиться благодаря просвечиваемости первого, эмпирического
плана.
Немецкая эстетика надолго на русской почве задала инерцию восприятия
художественного произведения и оценки его с точки зрения состоятельности
или несостоятельности лежащего в его основе и формирующего
художественное целое творческого видения автора. Это отчетливо заметно в
приведенных выше высказываниях И.В.Киреевского. С этой же точки зрения
Ф.И.Тютчев заявляет о несостоятельности художественных принципов
натуральной школы в письме к П.А.Вяземскому: «…Ваша книга («ФонВизин». – А.Д.) – в высокой степени русская. Взятая ею точка зрения есть та
колокольня, с которой открывается вид на город. Проходящий по улице не
Баратынский Е.А. Стихотворения. Проза. Письма. – М.: Правда, 1983. – С.222.
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма. – Т.4. – С.47.
254
Манн Ю.В. Семья Аксаковых. – М.: Дет. лит., 1992. – С.213.
252
253
150
видит его. Для него город как таковой не существует. Вот чего не хотят понять
эти господа, воображающие, что творят национальную литературу, утопая в
мелочах»255.
В 1916-17 годах М.О.Гершензон в исследовании «Мудрость Пушкина»
энергично подчеркивает основополагающую роль художественного видения в
творческом процессе: «Дело художника – выразить свое видение мира, и
другой цели искусство не имеет…»256 В свою очередь А.Белый, как уже
говорилось, в 1907 году отождествляет характер видения автора с творческим
методом, когда пишет, что «метод реалистической школы – изображение
эмпирической действительности»257. Не случайно поэтому он в 1910 году,
когда с новой силой обострился интерес к проблеме изобразительности
художественного слова258, попытался построить типологию художественного
творчества, исходя именно из лежащих в его основе форм видения: «…Начало
всякого созерцания есть, в сущности, «мне видится»; «мне видится» переходит
в решительное «я вижу»; «я вижу» далее становится «я хочу видеть так-то»; в
этот момент снимается противоречие между велением и созерцанием; воля к
жизни становится волей к созерцанию; воля к созерцанию есть источник
всякого творчества»259. Если не обращать внимания на телеологический
принцип, положенный А.Белым в основу данной классификации, то, в самом
деле, необходимо будет признать правомерность его точки зрения. Для
символико-синномического принципа завершения поэтического целого в
наибольшей степени характерна формула «мне видится»260, для символикоэмпирического – «я вижу», тогда как для символико-антиномического –
формула «я хочу видеть так-то».
ГЛАВА ІІІ
ДВОЕЦЕНТРИЕ В РУССКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА
2.3.1. «ДВЕ ОБЛАСТИ: СИЯНИЯ И ТЬМЫ…»
Тютчев Ф.И. Ук. книга. – С.444.
Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. – Томск: Водолей, 1997. – С.6.
257
Белый А. Символизм. – С.225.
258
Полярные тенденции, начавшие в это время определяться, были значимы и позднее.
С одной стороны, можно назвать А.Белого, который считал, что образы поэзию
«обременяют… видимостью» (Белый А. Принцип формы в эстетике // Белый А.
Символизм. – С.179), и Б.Л. Пастернака, утверждавшего, что он «ничего… не
изображал» (Пастернак Б.Л. Воздушные пути. – М.: Сов. писатель, 1982. – С.446). С
другой стороны, вспомним В.Хлебникова, призывавшего, чтобы «слово смело пошло за
живописью» (Хлебников В. Неизданные произведения. М.: Гослитиздат, 1940. – С.334),
а также В.В.Маяковского и Н.А.Заболоцкого, ориентация которых на живопись
общеизвестна.
259
Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Арабески. – С.166.
260
В первую очередь, конечно, для Ф.И.Тютчева, всегда ощущавшего себя зрителем
сценического представления истории (см. об этом: Касаткина В.Н. Поэзия
Ф.И.Тютчева. – М.: Просвещение, 1978. – С.9-12).
255
256
151
Интерпретация конституируется в сфере представляющего
мышления.
Ограничивая
интерпретацию
сферой
наглядного
представления, мы достигаем методологической чистоты эстетически
значимой интерпретации при условии, что эстетическое не редуцируется, а
тематизируется. Сказанное – ключ к предпринятой в настоящем
исследовании интерпретации лирической поэзии Е.А.Боратынского и
Ф.И.Тютчева.
С.Г.Бочаров обратил внимание, что рифма «скоротечность – вечность»
встречается в миниатюре К.Н.Батюшкова «Надпись для гробницы дочери
М<алышевой>», а затем повторяется в последней строфе «Недоноска»
Е.А.Боратынского. Но смысл этой пары рифм в более позднем стихотворении
становится другим: «Антиномическая рифма… у Батюшкова предстает
преобразованной в примиряющую гармонию. У Боратынского антиномия
составляющих рифму понятий резко подчеркнута вызывающим эпитетом к
слову “вечность”»261. С.Г.Бочаров произносит решающее слово для
понимания лирической поэзии Е.А.Боратынского. Это слово – антиномия.
В 1830 году Е.А.Боратынский писал П.А.Вяземскому о
наметившихся расхождениях между ним и Пушкиным в понимании того,
какой должна быть лирическая поэзия: «Мне кажется, что мы разно
думаем о лирической иронии. По мне лирическая поэзия исключает все
похожее на остроумие, потому что лукавство его совершенно
противусвойственно ее увлеченности. Сердитесь, но не шутите. Пусть
будет ирония горькая, но не затейливая»262. Наиболее важной
отличительной чертой позиции Боратынского является намеченный им
определенный уровень силы экспрессии («увлеченность»), необходимый
для поэзии. Несоблюдение этого требования (ослабление выразительного
начала в лирическом стихотворении) ведет, по его мнению, к
невосполнимым потерям. Разумеется, Боратынский указывает здесь лишь
на один момент тех расхождений, в результате которых его «новое
творчество… не было так близко Пушкину», как Боратынский «20-х
годов»263.
Понять сущность различий в позициях поэтов помогает следующее
высказывание И.В.Киреевского, в котором дается характеристика
особенностям изобразительности поэзии Е.А.Боратынского: «… Несмотря
на все достоинства «Наложницы», нельзя не признать, что в этом роде
поэм, как в картинах Миериса, есть что-то бесполезно стесняющее, что-то
условно-ненужное, что-то мелкое, не позволяющее художнику развить
Бочаров С.Г. «О бессмысленная вечность!» От «Недоноска» к «Идиоту» // К 200летию Боратынского. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – С.137.
262
Баратынский Е.А. Стихотворения. Проза. Письма. – М.: Правда, 1983. – С.207-208.
263
Бочаров С.Г. «Поэзия таинственных скорбей» // Баратынский Е.А. Ук. книга. – С.9.
261
152
вполне поэтическую мысль свою»264. Вот это сближение Боратынского с
Миерисом и подхватил Пушкин, найдя его «удивительно ярким и точным»,
подчеркнул «прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность
оттенков», ввиду чего и признал отсутствие у Боратынского «кисти резкой и
широкой»265. «Отчетливость в мелочах», «прелесть отделки» – это и было, по
Пушкину, погружение в «особенное», от которого недалеко уже, видимо, до
«близорукой мелочности», как сказано им по другому поводу, в рецензии на
повести Н.Ф.Павлова266.
Показательно, что Тютчев и Боратынский оценили повести Н.Ф.Павлова
иначе. В том, что для Пушкина предстает как очевидное отсутствие
художественного единства, Тютчев видит признак глубины: при чтении
повестей Павлова его «особенно поразила… развитость, возмужалость русской
мысли»267. Разные оценки связаны с разным пониманием сущности
поэтического творчества. А.С.Пушкин вряд ли согласился бы с тем
определением, которое дал поэзии Ф.И. Тютчев, видевший в ней нечто вроде
дерева, крона которого означала «идеалистическое начало» (а значит
определенную позицию субъекта и определенные особенности творческого
созерцания), а корни – связь с землей, с эмпирической реальностью (и
соответствующее изменение и позиции субъекта, и особенностей творческого
созерцания)268.
Е.А.Боратынскому же, очевидно, такое понимание поэзии близко.
Несмотря на разную природу «корней» и «кроны», они все же не могут
существовать друг без друга. В результате формируются два
изобразительных плана, обусловленных двоецентрием поэтического
целого. Однако двоецентрие как способ эстетического завершения
подразумевает их (изобразительных планов) обязательное взаимодействие
и их взаимообусловленность. В пределах же взаимодействия
обнаруживаются различные тенденции: во-первых, к максимально
возможной поляризации изобразительных планов (что свидетельствует об
антиномическом характере творческого видения), во-вторых, к их
предельному совмещению (в чем прямо или потенциально проявляется
синномия).
Преобладание первой тенденции мы обнаруживаем в лирике
Е.А.Боратынского, у которого поляризация изобразительных планов
подчеркнута разномасштабностью изображаемых пространств и
контрастной их окраской. На эту особенность лирики Е.А.Боратынского
Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М.: Искусство, 1979. – С.114.
Пушкин А.С. О литературе. – М.: Гослитиздат, 1962. – С.324.
266
См.: там же, с.373.
267
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.4. – М.: Классика, 2004. – С.53. О
замечательном таланте Н.Ф. Павлова пишет в письме к матери Е.А.Боратынский (см.:
Баратынский Е.А. Ук. книга. – С.195).
268
См.: Тютчев Ф.И. Ук. книга. – С.47.
264
265
153
уже обращали внимание исследователи, но интерпретируется она не
всегда адекватно ее художественному характеру и смыслу. Пример такого
подхода, когда, к примеру, стихотворение «Осень» практически
оказывается состоящим из двух односторонне противопоставленных
частей, находим в книге Б.Диса. В этом стихотворении, по мнению Б.Диса,
«спокойная, гармоничная картина» природы «внезапно сменяется
тревожной и взволнованной интонацией, почти психотической в её горечи
и иронии»269. О наличии спокойных, лишенных динамики и экспрессии
картин в первой части этого стихотворения говорит Г.Хетсо270. Следует
признать, что для таких выводов имеются некоторые основания,
поскольку два изобразительных плана в названном стихотворении
Боратынского в самом деле максимально противостоят друг другу.
Обратимся к началу этого стихотворения:
И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины…271.
С.И.Бонди не случайно в свое время обратил внимание на последний
272
стих : создаваемый этим стихом образ поражает яркостью и необычайной
художественной силой. Как видим, при изображении эмпирического
пространства доминирующей оказывается низкая точка зрения. В поле
зрения автора попадают тонко подмеченные детали эмпирической
реальности, а упомянутый образ («красен круглый лист осины») как раз и
намечает тот предел крупного плана, которого достигает в этом
стихотворении автор.
Картина резко изменяется во второй части стихотворения. Для нее
более характерны объемные символы, каждый их которых стремится вобрать
зрительно-смысловой потенциал, исчерпывающий либо эмпирическое
пространство, либо противостоящее ему сверхэмпирическое. Показательной
в этом отношении является противопоставленность объемных символов
«блистательные туманы» – «бесплодные дебри». С помощью последнего
изображается та реальность, в которой неминуемо оказывается человек,
преодолевший «страстное земное». Доминирование высокой точки зрения
Dees B. E.A.Baratynsky. New York: University of Miami, 1972. – P.117.
См.: Хетсо Г. Евгений Баратынский: Жизнь и творчество. Осло; Берген; Тромсё,
1973. – С.486.
271
Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. – М.: Наука, 1983. – С.295.
272
См.: Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. – М.: Худож.
лит., 1977. – С.386.
269
270
154
приводит к тому, что резко изменяются масштабы изображения: во второй
части стихотворения предметом изображения оказывается не максимально
ограниченное
эмпирическое,
а
беспредельное
сверхэмпирическое
пространство. Однако принципиально важным для двоецентрия как способа
творческого созерцания является то, что самоё беспредельность,
«бездонность» вселенной оказывается выраженной с помощью пластически
завершенных образов (таков, например, грандиозный образ «ухо мира»).
Вот чем в первую очередь характеризуется контрастность
изобразительных планов стихотворения. Но их ни в коем случае нельзя
противопоставлять по признаку наличия – отсутствия экспрессии
изображения. В самом деле, так ли уж спокойна и уравновешена картина
эмпирического пространства в первой половине стихотворения? Усомниться
в этом заставляет уже его начало. «Октябрь уж наступил…» – так эпически
размеренно и торжественно начинается пушкинская «Осень». В самом
стихотворении в результате дается изображение хода времени, в котором
каждый отдельный момент может быть более или менее «любезен» человеку,
но это не отменяет и не может отменить равноправия данного момента по
отношению к любому другому. «Осень» Боратынского начинается иначе: «И
вот сентябрь!…» Это тревожное восклицание задает тон всему
стихотворению и способствует в «дифференцирующем» (И.М.Семенко)
стиле Боратынского максимальному выделению именно изображаемого
времени как кульминационного и кризисного. Поэтому видимая прочность и
плотность реалий эмпирического пространства оказывается обманчивой:
эстетическому объекту, созидаемому в стихотворении, с самого начала
оказываются присущими напряженность и динамичность, а вся изображаемая
картина наполняется трепетом, какой-то особого рода подвижностью и
неустойчивостью:
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
«Золото», «зерцало», «воды» – все в этом мире в равной мере
становится «зыбким» и неустойчивым. Вспомним также, что в центре
изображаемого пространства оказывается «лист осины» – реалия, с
которой в первую очередь ассоциируется впечатление трепета и
неустойчивости. В.Ф.Саводник, сравнивая лирику Пушкина и
Боратынского, писал, что у Боратынского «изображение… даже проще и
точнее («и красен круглый лист осины»), но в самой простоте есть что-то
зловещее, какое-то предчувствие близкого конца…»273. И раскрывается в
полной мере это предчувствие лишь в соотнесенности обоих
изобразительных планов, когда проясненным становится характер их
взаимодействия. Эмпирическое пространство, по Боратынскому, – это такое
Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева. – М.,
1911. – С.158.
273
155
же видение, как и сверхэмпирическое, видение, которое, как облако, в любой
момент может исчезнуть:
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою –
Исчезнет…274
Более того, именно эмпирическое пространство и оказывается в
конечном счете реальностью гораздо менее устойчивой и прочной:
…Пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная275
Аналогичный пример в «Осени»:
Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной…
Таким
образом,
при
изображении
эмпирического
и
сверхэмпирического пространств речь должна идти о видении (вспомним в
этой связи разработанную А.Белым типологию художественного творчества,
о которой говорилось в предыдущем параграфе), но возникает оно в первом
случае при доминировании низкой, во втором – при доминировании высокой
точки зрения. Этой противоречивостью видения обусловлены принципы
художественного отбора. Два изобразительных плана здесь – это два
своеобразных «зеркала», которые по разному отражают одно и то же, но это
«одно и то же» в пределах разных «зеркал» обретает противоположный
смысл.
Обратимся к примерам. Как уже отмечалось, пластически
завершенное выражение эмпирического пространства в стихотворении
дано с помощью объемного символа «блистательные туманы».
Наглядность здесь актуализируется благодаря многократному повторению
подобных образов в первой части стихотворения:
Седая мгла виется вкруг холмов…
Пред ним помчится прах летучий…
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.
Овины весело дымятся…
С этими образами непосредственно связано представление обо всем
эмпирическом пространстве как о «зыбком», неустойчивым «облаке».
Однако
соотнесенность
антиномически
противопоставленных
изобразительных
планов
не
ограничивается
только
взаимной
обусловленностью отдельных образов. Так, лишь учитывая взаимодействие
изобразительных планов, можно в стихотворении Боратынского прояснить
внутреннее противоречие между относительной свободой отдельных
274
275
Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. – С.291.
Там же. – С.293.
156
зрительно-смысловых образований и жесткой детерминированностью
развертывания сюжета.
Справедливо наблюдение Л.Я.Гинзбург, что в «Осени»
Боратынского «образы не нанизываются; скорее они разветвляются или
пускают ростки»276. Если бы это стихотворение завершилось пятой
строфой, можно было бы утверждать, что от пушкинских оно отличается
лишь более крупным планом изображения и еще большей свободой в
развертывании художественного целого. В пределах же всего
стихотворения обнаруживается, что в двух его частях на разных уровнях и
в разных масштабах варьируется практически одна и та же сюжетная
линия.
Отмеченная контрастность эстетического объекта у Боратынского
обычно поддержана контрастным, максимально экспрессивным цветовым
оформлением противоположных пространств.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы277, –
писал Е.А.Боратынский в одном из стихотворений сборника «Сумерки».
«Область сияния» всегда соотнесена у него с эмпирическим
пространством: это «весь мир известного, обнаруженного, явленного,
«мир явлений» как таковой»278. «Область тьмы» в свою очередь
соотнесена с противостоящим ему сверхэмпирическим пространством. О
чем это свидетельствует? О том, что «взгляд снизу» (Жан-Поль) здесь все
же преобладает. Именно поэтому небо и земля при символикоантиномическом мировосприятии отделяются друг от друга. Субъект
лирики Е.А.Боратынского не сомневается, что небесная музыка
(«превыспренний строй арф») где-то в высших сферах звучит. Его
трагедия в том, что эта музыка осталась ему недоступной («не понята»
им). Показательно, что у Тютчева соотношение «областей сияния и тьмы»
оказывается противоположным.
Эмпирическое пространство в стихотворении «Осень» изображено с
помощью «средних»279 цветов. Оно ярко окрашено, хотя и не многокрасочно
(чаще других употребляются «золотой» и «красный» цвета). Этим цветам у
Боратынского максимально противопоставлены «крайние» – «черный» и
«белый», которые соотнесены со сверхэмпирическим пространством («мгла
Гинзбург Л.Я. О лирике. – Л.: Сов. писатель, 1974. – С.85.
Баратынский Е.А. Ук. книга. – С.301.
278
Бочаров С.Г. «Поэзия таинственных скорбей» // Баратынский Е.А. Стихотворения.
Проза. Письма. – С.5.
279
Использую терминологию Г.В.Лейбница: «Можно… с полным основанием делить
цвета на крайние (из которых один – белый – положителен, а другой – черный
отрицателен) и на средние, которые мы называем еще цветами в узком смысле и
которые возникают благодаря преломлению света» (Лейбниц Г.В. Новые опыты о
человеческом разумении… // Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. – Т.2. – М.: Мысль, 1983.
– С.301).
276
277
157
черная» и «снежная пелена» как извечные его цветовые характеристики). Но
эта противопоставленность «средних цветов» «крайним» отчетливо
обнаруживается и в пределах эмпирического пространства, где многократно
повторенному в различных сочетаниях «золотому», а также «красному» и
«желтому» цветам, которые используются автором для изображения осени,
противопоставлен «белый» цвет приближающейся зимы:
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры
……………………………….
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид…
Концентрация «крайних» цветов достигает максимальной силы в
строке «И, потемнев, запенится река».
Столкновение контрастных цветов приводит к тому, что резко
усиливается их экспрессия, следовательно – экспрессия изображения.
Поэтому об «Осени» Боратынского нельзя говорить, что ее первая часть –
размеренная, спокойная, а вторая – трагически напряженная. В данном
случае необходимо подчеркивать именно разную степень их
экспрессивной окрашенности. Эмпирический план (композиционно он
реализуется с помощью метафор, которые в силу повышенной
напряженности развертывания художественного целого наполняются
превышающим их символическим содержанием) может быть воспринят
лишь в его соотнесенности со сверхэмпирическим. Только в этом случае
проясненными оказываются в качестве его характеристик хрупкость и
непрочность этого мира, несмотря на его максимальную чувственную
наглядность. В свою очередь сверхэмпирический план реализуется с
помощью образов, обусловленных первой частью стихотворения. Этим
объясняется наглядность объемных символов, несмотря на иной масштаб
порождаемых ими зрительных представлений.
Вследствие двойственной противоречивости эстетического объекта
чрезвычайно значимым для двоецентрия оказывается понятие границы,
разделяющей два пространства. Именно нахождением на границе
объясняется своеобразие видения субъекта лирики Боратынского. С этим
непосредственно связан вопрос о лирическом герое. Существует мнение,
что «Сумерки» лишены «персонифицированного лирического героя» 280.
Думается, это не совсем верно: при двоецентрии как типе
изобразительности как раз и осознается в качестве насущной задачи
необходимость создания лирического героя, адекватно, во всей сложности
и глубине выражающего позицию лирического субъекта. Такую попытку
280
Гинзбург Л.Я. Ук. книга. – С.91.
158
предпринял Боратынский в стихотворении «Недоносок» 281. Близость к
позиции субъекта лирики проявляется здесь в том, что граница
оказывается и единственно возможной жизненной сферой лирического
героя:
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду слабея.282
Показательна поэтому и принципиальна глубокая противоречивость
лирического героя Боратынского. Исследователи справедливо отмечают
недовоплощенность, детскую инфантильность Недоноска283. Это всего
лишь «крылатый вздох», которому малейшее прикосновение причиняет
нестерпимые страдания:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьёт, крутит меня как пух…
………………………………
Бьёт меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
Но этот же «ничтожный дух» оказывается способным вместить
поистине титаническую по своим масштабам скорбь, вызванную
осознанием трагического несовершенства мироустройства:
Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных – скорби тесных!
В то же время недовоплощенность лирического героя свидетельствует
о том, что граница в случае двоецентрия как способа эстетического
завершения – это именно промежуток между двумя пространствами, но не
самостоятельное и довлеющее себе пространство. Это своеобразное,
редуцированное до степени границы «преддверие» классики. Но если
субъект пушкинской лирики обретал в нем полноту бытия и
гармоническую цельность, то для субъекта лирики Боратынского жажда
обретения цельности оборачивается максимальным выявлением в нем
противоположности,
но
и
нераздельности
эмпирической
и
сверхэмпирической его сущности, – раздвоением, в котором смысл
С.Г. Бочаров в одном случае называет Недоноска персонажем, в другом –
лирическим героем (см.: Бочаров С.Г. Ук. сочинение. – С.13). Думается, это и есть
своеобразный полуперсонаж, полулирический герой.
282
Баратынский Е.А. Ук. книга. – С.281.
283
См., напр.: Семенко И. Поэты пушкинской поры. – М.: Худож. лит., 1970. – С.257;
Бочаров С.Г. Ук. сочинение. – С.14.
281
159
трагедии. Это раздвоение – следствие объективного миропорядка,
которому не может не подчиняться человек:
На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!284
С.Г.Бочаров пишет: «Путь “Недоноска” вел “к миру Достоевского”. Из
мира русской лирики путь вел в мир русского романа, преодолевая границы
поэзии и прозы и тем созидая “поверх барьеров” некий общий одновременно
литературный и философский контекст»285. Присоединяясь к этому выводу, я
все же в случае Е.А.Боратынского ограничу этот путь пределами антиномики,
в которые творчество Ф.М.Достоевского отнюдь не укладывается.
Таким образом, поздняя лирика Е.А.Боратынского представляет
собой одну из первых в русской литературе попыток разработки
двоецентрия как способа завершения поэтического целого. Двоецентрие в
его лирике предстает как объективно-антиномическая разновидность
символико-антиномического принципа эстетического завершения.
Одновременно с Е.А.Боратынским по-своему решал ту же задачу
Ф.И.Тютчев.
2.3.2. «…НА ПОРОГЕ КАК БЫ ДВОЙНОГО БЫТИЯ»
Обратившись к изучению лирики Ф.И.Тютчева, Н.Я.Берковский
констатировал воплощение в ней двойственного авторского видения286.
Е.А.Маймин в стихотворении «В душном воздухе молчанье…» отметил
наличие параллельных образных рядов, «самостоятельных и в то же время
несамостоятельных», чем в свою очередь обусловлено, что «образы из
мира природы допускают двойное восприятие и толкование» 287. Выводы
эти, разумеется, опираются на предшествующую традицию изучения
поэзии Ф.И.Тютчева. Так, В.Я.Брюсов, имея в виду в первую очередь
названное выше стихотворение, утверждает, что совершенно
самостоятельная особенность «тютчевского творчества состоит в
проведении полной параллели между явлениями природы и состояниями
души»288. Еще раньше о «внутреннем, духовном раздвоении» как
характерной особенности лучших стихотворений Ф.И.Тютчева писал
Боратынский Е.А. Ук. книга. – С.288.
Бочаров С.Г. «О бессмысленная вечность!» От «Недоноска» к «Идиоту» // К 200летию Боратынского. – С.147.
286
См.: Берковский Н.Я. Ф.И.Тютчев // Тютчев Ф.И. Стихотворения. – М.; Л.: Сов.
писатель, 1969. – С.21.
287
Маймин Е.А. Русская философская поэзия. – М.: Наука, 1976. – С.163.
288
Брюсов В.Я. Ф.И.Тютчев // Тютчев Ф.И. Полн. собр. сочинений. – СПб.: Т-во
А.Ф.Маркса, 1913. – С.34.
284
285
160
И.С.Аксаков289. В настоящей книге эта особенность интерпретируется как
двоецентрие.
Яркий пример двоецентрия представлен в стихотворении «Фонтан».
Взаимодействие изобразительных планов проявляется в нем в аналогичной
структуре изображения: символический план и эмпирический взаимно
отражают друг друга, при этом сущность оказывается явленной, а
эмпирически явленное соотнесено с сущностным. Поэтому справедливым
является вывод исследователя, что «Тютчеву свойственно воспринимать
отдельное, порой мимолетное мгновение бытия в свете мирового целого, с
точки зрения всеобщих законов, по которым живет тютчевский космос,
тютчевское человечество, тютчевская душа»290. Но если изображение
«отдельного мгновения бытия» у Тютчева неотрывно от созерцания «целого,
то сам характер воплощения «целого» оказывается неотрывным от
«отдельного мгновения бытия» и им обусловлен. В этом проявляется
своеобразная
равнодостойность
двух
полюсов
тютчевского
художественного мира: «миг» и «вечность», взаимоотражаясь и сохраняя при
этом свою самостоятельность, одновременно качественно преображают друг
друга.
«Миг» в данном случае понимается мною как качественная
характеристика эмпирической реальности, зримо воплощенная в лирике
Тютчева. Ведь, с точки зрения вечности, в первую очередь проясненной
оказывается скоротечность, мгновенность всего земного. Отсюда
повышенная интенсивность, динамика, характеризующие изображение
природы у Тютчева291. Эмпирическая реальность в стихотворении Тютчева
– это область постоянного движения, рождения и гибели. Аналогичным
образом ориентировано видение лирического субъекта, поскольку «все,
что статично, неподвижно, остается вне поля зрения поэта»292.
Характерный пример такого изображения эмпирической реальности
находим в стихотворении «Яркий снег сиял в долине…»:
Яркий снег сиял в долине –
Снег растаял и ушел;
Вешний злак блестит в долине –
Злак увянет и уйдет.
См.: Аксаков И.С. Федор Иванович Тютчев // Аксаков К.С., Аксаков И.С.
Литературная критика. – М.: Современник, 1981. – С.351.
290
Грехнев В.А. Об истоках малых композиционных форм в лирике Тютчева // Русская
литература XIX в.: Вопросы сюжета и композиции. – Горький: ГГУ, 1975. – С.160.
291
«Что касается Тютчева, – писал В.Ф. Саводник, – то он чаще всего останавливается в
своем изображении природы на моментах наибольшего напряжения ее творческих
сил…» (Саводник В.Ф. Ук. книга. – С.177). Н.Я. Берковский приходит к выводу, что
Тютчев «всегда мыслит конфликтами», что «жизнь природы» всегда у него «драма,
столкновение действующих сил» (Берковский Н.Я. Ук. сочинение. – С.64). Вопрос о
сущности драматизма лирики Ф.И.Тютчева будет прояснен в третьем разделе книги.
289
161
Но который век белеет
Там, на высях снеговых?
А заря и ныне сеет
Розы свежие на них!..293
Своеобразие изобразительности тютчевского стихотворения особенно
очевидным становится при сравнении его с пушкинской лирикой.
В «Осени» Пушкина медлительный и величественный ход времени
проявляется в постепенной смене одного времени года другим. У Тютчева –
не поступательное движение времени, а какая-то судорожная смена кадров.
Но эмпирический план и в этом стихотворении обусловливает построение
символического: «снег» «долин» соотнесен со «снегом» «высей», а «злаки»
эмпирического пространства объясняют и оправдывают действие «зари»,
бессмысленное с точки зрения норм школы гармонической точности.
Как и у Боратынского, в упомянутых стихотворениях Тютчева
наблюдается поляризация изобразительных планов (что, как и в случае
стихотворения
«Фонтан»,
композиционно
подчеркнуто
их
соотнесенностью
с
различными
строфами).
Разный
характер
изобразительных планов проявляется, в частности, в том, что масштабы их
различны. Так, в стихотворении «Фонтан» в первой строфе изображена
реалия повседневного пространства, а во второй речь идет об извечном
стремлении человека преодолеть положенные ему границы. Получаемое в
результате зрительно-смысловое образование стремится дать пластически
завершенную картину одной из сущностных сторон человеческой жизни.
Точно так же и в приведенном выше стихотворении грандиозный образ
«зари», которая «сеет розы» «на высях снеговых», намного превосходит
«человеческие» масштабы картины, изображенной в первой строфе.
Гораздо чаще, однако, Тютчев более подробно разрабатывает один
из изобразительных планов. В тех случаях, когда таковым оказывается
эмпирический план, для Тютчева, как и для Боратынского, характерно
видение гораздо более «мелких» реалий, чем для Пушкина. У Тютчева
обнаруживается в этих случаях «стремление улавливать процесс
изменения в природе – новое и важное достижение русской лирики»,
которому у него «будут учиться и поэты, и прозаики»294. Такой характер
пейзажей у Тютчева обусловлен иной, чем у Пушкина, позицией
лирического субъекта. Если для лирики Пушкина характерен обобщенный
пейзаж, в котором могут совмещаться разновременные детали, то Тютчев
при изображении природы «обыкновенно сосредоточивает свое внимание
на одном избранном моменте», отсюда – «обилие метко схваченных
Маймин Е.А. Ук. книга. – С.150.
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма. – Т.1. – С.168. Далее том и страницы по
этому изданию указаны в тексте.
294
Бухштаб Б.Я. Русские поэты. – Л.: Худож. лит., 1970. – С.45.
292
293
162
деталей», которые придают его пейзажам «яркую наглядность»295.
Замечательный пейзаж такого рода находим в стихотворении «Как весел
грохот летних бурь…»:
Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь…
…………………………………..
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!..
……………………………………
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу…(Т.2, с.47).
Однако и в этом стихотворении эмпирический план не довлеет себе,
поскольку здесь с помощью объемного образа намечается
противостоящий ему символический:
Как под незримою пятой,
Лесные гнутся исполины…
Разумеется, сверхэмпирический план в стихотворении только намечен.
Но данный объемный образ позволяет закруглить, пластически завершить
изображение эмпирического пространства, нам словно зримо явлена его
граница. Таким образом, тесное взаимодействие низкой и высокой точек
зрения проявляется в стихотворении в том, что, с одной стороны, в нем дано
верное и точное изображение определенного момента в жизни природы, с
другой стороны, каждая деталь не самоценна. Появление разных деталей
обусловлено их общей соотнесенностью с тем, что в стихотворении
содержится изображение «бурной» природы как одного из состояний
эмпирического пространства в его зрительно-смысловой завершенности296.
Этим же взаимодействием низкой и высокой точек зрения объясняется то,
что в стихотворении совершается выход за пределы эмпирического
пространства. При этом следует подчеркнуть глубокую закономерность
появления объемного образа, с помощью которого дано изображение
сверхэмпирического пространства: характерные движения «лесных
исполинов» создают впечатление присутствия некой «незримой пяты», под
которой они «гнутся». Аналогичным образом строится Тютчевым
взаимодействие изобразительных планов в стихотворении «Хоть я и свил
гнездо в долине…», в конце которого появляется объемный образ, близкий
отмеченному выше:
Вдруг просветлеют огнецветно
Их (громад. – А.Д.) непорочные снега –
Саводник В.Ф. Ук. книга. – С.170.
О «блаженном», «мертвом» и «бурном» мирах как трех основных картинах
тютчевской поэзии см.: Бухштаб Б.Я. Ук. книга. – С.37-53.
295
296
163
По ним проходит незаметно
Небесных ангелов нога. (Т.2, с.103).
В тех же случаях, когда доминирующей оказывается высокая точка
зрения, раздвоение может осуществляться в ее пределах, тогда как
человеческий масштаб, будучи сугубо подчиненным, равнозначного
космическому самостоятельного полюса не образует: в этом, кстати,
проявляется актуальность раннеромантического контекста для лирики
Тютчева. Таковы, в частности, стихотворения, в основу которых положена
антиномия «день – ночь» («День и ночь», «Святая ночь на небосклон
взошла…»). Любая попытка усмотреть хотя бы намек на антропоцентризм, к
примеру, в первом из названных стихотворений неминуемо уводит в сторону
от его подлинного смысла. Два антиномически противопоставленных центра
этого стихотворения представлены миром благодатным (день, космос) и
миром роковым (ночь, бездна). На глазах потрясенного человека («мы»)
происходит то, что случается ежедневно и каждый раз не как бы, а именно
как впервые: рождение космоса из хаоса (день) и погружение космоса в хаос
(ночь). Проникновенному взору человека ежедневно открывается чудо
творения, а сам человек оказывается поочередно заброшенным то в день,
оживая под его благодатным покровом, то в ночь, оставаясь один на один с
развоплощенным миром, каковым и является – в соответствии с точным
смыслом этого слова – хаос-бездна297. Двум противоположным состояниям
мира – благодатному и роковому – соответствуют два разнонаправленных
действия: созидательное, собирающее разнородные стихии в единство
космоса, и, напротив, разъединяющее космос на составляющие его
первоначала. Субъектом первого действия являются боги: они творят космос,
их «высокой волею» наброшен «златотканый покров» над бездной. В богах
заключена полнота воплощенности, поэтому они и могут творить. Их
способность творения – производное означенной полноты. Субъектом
второго действия являются духи – олицетворение противоположного
состояния мира. Поскольку духи – не случайно названные в стихотворении
«Нет, моего к тебе пристрастья…» «бесплотными» – могут действовать
только в соответствии с их сущностью, развоплощение космоса является
неизбежным следствием любого их действия: приписывать им (равно бездне)
способность созидания «преград» и «покровов» можно только по
недоразумению298. На антиномию «мир благодатный – мир роковой», таким
образом, накладывается более изначальная антиномия «боги – духи».
Χάος – зияющая пропасть, тьма. Слова хаос, бездна, ночь, таким образом, в аспекте
аналитики оказываются тавтологией.
298
Ср.: Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной
целостности. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – С.143. М.М.Пришвин пишет:
«Творчество – это воля к ритмическому преображению Хаоса» (Пришвин М.М.
Дневники. – М.: Правда, 1990. – С.152). Но исток творчества – не в Хаосе.
297
164
Для изображения «дня» и «ночи» автор использует объемные образы,
широко распространенные в традиционной эмблематике: «Аллегорически
представляют день в образе приятного и веселого юноши, быстро летящего…
Одна его принадлежность состоит в большом светозарном покрывале,
которое он держит распущенно, и тем закрывает ночь и звезды»299.
Но характер эмблематических образов у Тютчева активно
переосмысляется: они лишаются наивной пластической завершенности,
умиротворенности и становятся максимально экспрессивными. Тютчев с
их помощью стремится запечатлеть не столько зрительно завершенное во
всех подробностях и деталях явление, сколько передать в большей или
меньшей степени проявляющуюся энергию грандиозного космического
действа, наглядность которого предельно усилена именно благодаря опоре
на традиционную эмблематику.
При рассмотрении лирики Е.А.Боратынского говорилось, что в ней
наблюдается определенная дематериализация эмпирического пространства:
оно становится зыбким и неустойчивым. Нечто подобное мы обнаружили у
Тютчева. При этом субъекты действия у него могут меняться местами: в
стихотворении «Декабрьское утро» уже «ночь» предстает в виде легкого и
летучего вещества (вспомним объемные образы Боратынского), а «день»
наделяется такой же колоссальной энергией, какой в рассмотренном выше
стихотворении обладала «ночь». Означенная энергия подчеркнута опять-таки
благодаря предельному обострению изобразительного момента в глаголе:
…Не пройдет двух-трех мгновений,
Ночь испарится над землей,
И в полном блеске проявлений
Вдруг нас охватит мир дневной…(Т.2, с.95).
В то же время значимым остается у Тютчева стремление к
сохранению симметрии в построении стихотворения, но реализуется
симметрия иначе, чем у Боратынского. Например, в стихотворениях, в
основу которых положена антиномия «юг – север», наблюдается
своеобразная четырехчастность: наличие обоих изобразительных планов в
обеих частях стихотворения при преимущественной разработке
эмпирического плана. Особенно характерным в этом отношении является
стихотворение «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный…». Изображенному
в нем прекрасному «Югу» соответствует объемный образ «бог
разоблаченный». С изображением сурового «Севера» соотнесен
Иконология, объясненная лицами, или Полное собрание аллегорий, эмблем и пр. –
Т.1. – М., 1803. – №39. О соотнесенности стихотворения «Фонтан» с традиционной
эмблематикой говорит Ю.М.Лотман (см.: Лотман Ю.М. Заметки по поэтике Тютчева //
Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Вып. 604. – Тарту, 1982. – С.12-13).
299
165
противоположный по своему характеру, но равнодостойный первому
объемный образ «чародей всесильный»300.
Большая роль традиции в лирике Ф.И.Тютчева проявляется, в
частности, в том, что при опоре на конвенциональные образы автором
разрабатываются отдельные сюжетные линии, восходящие к античному
диалогическому экфрасису. Таково начало упомянутого выше
стихотворения:
Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу –
И ты, как бог разоблаченный,
Доступен был мне, пришлецу?.. (Т.1, с.178).
Для того чтобы почувствовать, какая мощная традиция стоит за этими
строками, необходимо вспомнить, что диалогический экфрасис – это
разговор «перед изображением, связанным со святилищем или храмом;
изображение и зрители являются «чужаками» (курсив мой. – А.Д.): либо
путешественник встречает неведомое изображение, либо «заморская»
картина представлена для созерцания»301. Опора на античный экфрасис
очевидна и в стихотворении «Близнецы», в котором нашла отражение
традиция древних изображать Сон и Смерть похожими друг на друга детьми
Ночи:
Есть близнецы – для земнородных
Два божества, – то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных –
Она угрюмей, кротче он… (Т.2, с.13).
Но при этом не следует забывать, что у Тютчева упомянутые
объемные образы (например, близнецы Сон и Смерть, Самоубийство и
Любовь) соотнесены со сверхэмпирическим планом, т.е. поляризация
изобразительных планов является значимой и для этих стихотворений.
Воздействием античного экфрасиса на лирику Ф.И.Тютчева можно
объяснить, в частности, большую роль в ней зрительных императивов и их
лексических эквивалентов. Вообще показательной в его творчестве является
очевидная «активизация визуального момента»: «Зрительное восприятие
мира преобладает у Тютчева над другими формами восприятия, а орган
зрения… и его деятельное состояние (устремленность на что-либо – «взгляд»,
«взор») становятся едва ли не обязательным атрибутом стихотворений с
Отмеченному двойственно-противоречивому характеру эстетического объекта в
данных стихотворениях («Давно ль, давно ль, о Юг блаженный…», «Глядел я, стоя над
Невой»…) в аспекте «литературоведческой грамматики» соответствует аналогичная
ритмическая их организация, в частности, опора на разные типы 4-стопного ямба при
изображении «Юга» (одический тип) и «Севера» (элегический).
301
Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста: К проблеме структурной классификации //
Славянское и балканское языкознание. – М.: Наука, 1977. – С.281. См. также:
Брагинская Н.В. Генезис «Картин» Филострата Старшего // Поэтика древнегреческой
литературы. – М.: Наука, 1981. – С.231.
300
166
пространственными характеристиками…»302. Поэтому вполне можно
говорить об ориентации лирики Тютчева на визуальные виды искусства,
причем эта ориентация в некоторых случаях приводит к тому, что он
буквально имитирует экфрасис, как, например, в следующем четверостишии:
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила! (Т.1, с.60).
Все это четверостишие может быть воспринято как изображение
статуэтки, хранящейся в настоящее время в Мураново (или ей подобной):
«…Статуэтка изображает античную богиню юности Гебу, кормящую из
чаши Орла. Эта статуэтка невольно вызывает в памяти последние строки
тютчевской “Весенней грозы”…»303. Весьма показательно, что сам
Ф.И.Тютчев прибегал к помощи изобразительного искусства, когда перед
ним стояла задача объяснить смысл написанного им стихотворения. 27
сентября 1853 года он пишет Эрн. Ф.Тютчевой о стихотворении,
известном нам под названием «Неман» (первоначальное название –
«Проезд через Ковно»): «Это стихи, о которых я тебе говорил, навеянные
Неманом. Чтобы их уразуметь, следовало бы… вспомнить картинки, так
часто попадающиеся на постоялых дворах и изображающих это событие»
(Т.2, с.399). Нам в свою очередь стихотворение Ф.И.Тютчева дает
отчетливое представление о характере этих «картинок».
Своеобразной
разновидностью
поляризации
становится
в
стихотворении «Весенняя гроза» явление оборачиваемости предметов.
Весенняя гроза в приведенной выше последней строфе стихотворения
словно увидена со своей оборотной стороны, и в результате оказалось, что
это лишь пролитый на землю «громокипящий кубок». Нечто подобное
наблюдается и в стихотворении «Море и утес». В начале его Тютчев дает
чрезвычайно живописное изображение бурного моря:
И бунтует и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот… (Т.1, с.197).
Бушующее море – одна из самых грандиозных и потрясающих
картин, какие могут быть увидены в пределах эмпирического
пространства. Но вот изображение переводится в сверхэмпирический
план:
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Душечкина Е.В. «Строгая утеха созерцанья»: Зрение и пространство в поэзии
Тютчева // Пространство и время в литературе и искусстве. – Даугавпилс: Изд-во
Даугавпилсск. пед. ин-та, 1984. – С.19.
303
Пигарев К.В. Мураново. – М.: Моск. рабочий, 1970. – С.82.
302
167
Огнь геенский разложила…
Как видим, даже наиболее грандиозные реалии эмпирического
пространства
в
сверхэмпирическом
оказываются
чем-то
противоположным: предметами «космического быта» (что, разумеется, не
делает их менее величественными). Тем самым с предельной остротой
выявляется контрастность низкой и высокой точек зрения, благодаря
которым создаются две соотнесенные друг с другом и в то же время
противопоставленные картины. В поляризации изобразительных планов
проявляется актуальность антиномики для творческого видения
Ф.И.Тютчева, то есть определенная близость его лирики к лирике
Е.А.Боратынского.
Однако в большей степени творческое своеобразие Тютчева
раскрывается в совмещении изобразительных планов. Так, типичен для
тютчевской поэзии эффект двойного изображения, когда сквозь (одно из
любимых слов Тютчева – «сквозит») изображаемый пейзаж просматриваются
контуры иной реальности. В стихотворении «Под дыханьем непогоды…»
«сквозь» суровый глянец вод просвечивает «радужный луч» таинственного
Вечера. Он
Сыплет искры золотые,
Сеет розы огневые,
И уносит их поток.
Над волной темно-лазурной
Вечер пламенный и бурный
Обрывает свой венок… (Т.2, с.22).
Сверкающие в воде искры и огневые розы «венка» сливаются до
неразличимости. Для создания двойного изображения особое значение
приобретают максимально экспрессивные эпитеты «пламенный и
бурный», с одной стороны, соотнесенные с эмпирическим планом, с
другой – в своем психологическом значении – со сверхэмпирическим, а
также глагол «обрывает», с помощью которого передается характерный
жест. В результате созидается тот самый сразу и пластичный, и
музыкальный пейзаж, который, по слову Жан-Поля, является более
предпочтительным, нежели просто пластичный или просто музыкальный
(«через настроение души»). О таком пейзаже вполне можно сказать его
же словами: «…Двойная звезда и двойной хор» 304.
В стихотворении «Mal’aria» прекрасная южная природа оказывается
лишь «легкой тканью», сквозь которую прозревается «роковой посланник
судеб», вызывающий «сынов Земли из жизни». В стихотворении, которое
уже упоминалось в книге, в скудной природе и нищете русских селений
«сквозит» видение, в котором выявляется вся неисчерпаемая глубина
русской православной традиции:
304
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – М.: Искусство, 1981. – С.286.
168
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя. (Т.2, с.71).
Это стихотворение – наглядное свидетельство того, что при
совмещении изобразительных планов всегда возможным оказывается
выявление священно-символического смысла. С другой стороны, ночное
небо у Тютчева оказывается своеобразным покровом, сквозь который
могут быть увидены некие таинственные и «грозные» (аналогичный
двойной – природный и психологический – смысл слова) существа:
Словно тяжкие ресницы
Подымались над землею…
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загоралися порою… (Т.2, с.43).
Во всех приведенных примерах не происходит разрушения
эмпирического пространства, но любая его деталь одновременно
оказывается включенной в некое единство гораздо более высокого
порядка. В свою очередь это новое грандиозное единство также стремится
быть выраженным с помощью пластически завершенного образа. В
стихотворении «Песок сыпучий по колени…» с наступлением сумерек
тени сосен сливаются в одну тень, наступившая темнота вместе со
звездами порождает представление о внушающем тревогу «стооком»
существе:
Черней и чаще бор глубокий –
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста… (Т.1, с.125).
Характерный образец данного принципа завершения поэтического
целого представлен в стихотворении «Еще шумел веселый день…». В нем
предельно
ограниченное
эмпирическое
пространство
(комната)
одновременно оказывается «царством теней» (это один из самых
распространенных у Тютчева образов, созданных на основе
конвенциональных305):
Затих повсюду шум и гам
И воцарилося молчанье –
Ходили тени по стенам
И полусонное мерцанье…
…………………………….
169
И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлек, незримый, в царство теней. (Т.1, с. 216).
Здесь имеет место не столько оборачиваемость, сколько именно
просвечиваемость эмпирического пространства.
Относительно колористических характеристик эстетического объекта,
созидаемого в стихотворениях Ф.И.Тютчева, отмечу, что краски здесь
практически те же, что и у Боратынского (голубой, золотой, красный –
самые распространенные306). Но, несмотря на то, что у Тютчева природа
красок так же, как и у Боратынского, должна быть определена как
экспрессивно-живописная, все же наблюдается ряд существенных
отличий. У Тютчева нет строгой прикрепленности определенных красок к
определенному пространству. В ряде стихотворений ярко окрашенным
оказывается сверхэмпирическое пространство:
И в нашей жизни повседневной
Бывают радужные сны…
………………………………….
Мы видим: с голубого своду
Нездешним светом веет нам… (Т.2, с.96).
«Тютчев часто употреблял в своей поэзии слово «тени» – оно у него обычно
напоминает о потустороннем мире» (Ларцев В. Поэтика «денисьевского цикла»
Ф.И.Тютчева // Труды Самаркандск. ун-та. Вып. 361. – Т.4. – Самарканд, 1978. – С.20).
306
Я называю инвариантные значения. Подсчет всех эпитетов, определяющих цвет
предмета в поэзии Тютчева, произведен в работе: Абакумов С.И. Зрительный эпитет у
Тютчева // Новое дело: Научно-педагогич. вестник Рабочего фак-та Казанского ун-та. –
Т.2. – Казань, 1922. – С.41-43.
305
170
И вот, каким-то обаяньем,
Туман, свернувшись, улетел,
Небесный свод поголубел
И вновь подернулся сияньем… (Т.2, с.125).
Из сверхэмпирического пространства в эмпирическое проникают
определенные цвета (стихотворения «Яркий снег сиял в долине…», «Под
дыханьем непогоды…», «Хоть я и свил гнездо в долине…»). Поэтому более
насыщенное светом и яркими красками эмпирическое пространство
оказывается ближе по своему характеру сверхэмпирическому. В этом
отношении особенно показательно противопоставление юга и севера в
упоминавшихся выше стихотворениях: не случайно «золотой» и «светлый
Юг» называется автором «блаженным» («Давно ль, давно ль, о Юг
блаженный…»), сравнивается с раем («Вновь твои я вижу очи…»). А в
стихотворении «В небе тают облака…» не случайно наполненный светом
эмпирический день совмещается с тем «вечным днем» (Боратынский), в
котором не будет времени:
Чудный день! Пройдут века –
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное. (Т.2, с.190).
Характерное для Тютчева совмещение низкой и высокой точек
зрения, когда пейзаж увиден и изнутри, и в своей зрительно-смысловой
завершенности, осуществленной с точки зрения вечности, приводит к
просвечиваемости эмпирического пространства: оно словно тает на наших
глазах, становится неуловимо-прозрачным. Другими словами, у Тютчева,
при всей безусловной важности запечатления именно того момента, когда
«свет отделяется от тьмы» («Ю.Ф. Абазе»), противоположной тому, что
наблюдается в лирике Боратынского, оказывается соотнесенность
областей «сияния и тьмы» с определенными изобразительными планами.
Однако обратная картина наблюдается, например, в стихотворении «Еще
шумел веселый день…»: в нем ярко окрашенному эмпирическому
пространству
(«пышно-золотой»
день)
противопоставлено
«рембрандтовское» освещение пространства, в котором совмещается
эмпирический и символический изобразительные планы:
Украдкою в мое окно
Глядело бледное светило…
Такое освещение, как уже отмечалось, порождает тревожную игру
света и тени, создает ощущение причастности к сверхреальному.
С не меньшей настойчивостью, чем у Боратынского, у Тютчева
подчеркивается двумерность субъекта его лирики, находящегося на
границе двух пространств, не просто помнящего о них, но постоянно
созерцающего их соотнесенность. Только такое видение, по Тютчеву,
является «всезрящим» («Лебедь»), позволяет овладеть предельно
171
доступной человеку полнотой истины. Наиболее очевидным образом
отмеченная «пограничность» субъекта лирики Тютчева выявляется в
совмещении низкой и высокой точек зрения, в постоянно
обнаруживающейся тенденции к восприятию пейзажа, определенной
ситуации и т.д. и изнутри, и извне. Именно переход к высокой точке
зрения позволяет человеку стать «зрителем» высоких зрелищ, увидеть
определенный период истории во всем его «величьи», в абсолютной
исчерпанности всех его тенденций и проявлений, и в этом отношении
человек оказывается равным «небожителям» («Цицерон»). Рассмотренные
выше стихотворения («Фонтан», «День и ночь» и др.) свидетельствуют о
том, что у Тютчева, как и у Боратынского, переход к высокой точке зрения
сопровождается усилением экспрессии изображения. У Тютчева также
наиболее масштабные объемные образы оказываются и наиболее
экспрессивными. В свою очередь двумерность субъекта лирики
обусловливает своеобразие лирического героя в тютчевской поэзии.
Лирический герой Ф.И.Тютчева поражает еще большей
обреченностью на бездействие, чем то было свойственно лирическому
герою Боратынского. В сущности, в любой ситуации он лишен
возможности действовать и всегда остается лишь созерцателем:
Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени… (Т.2, с.89).
Даже такое «страдательное» действие, как способность «пасть на
колени», ему недоступно. В другом стихотворении лирический герой
оказывается способным лишь на горестную рефлексию, направленную на
самого себя:
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою –
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром. (Т.2, с.42).
Однако характер созерцания – это как раз то, чем он превосходит
любого из персонажей. Он постоянно ощущает себя находящимся на
границе двух миров, например, на границе мира «волшебного» и
«безжизненного» («О, не тревожь меня укорой справедливой…»). Поэтому
он всегда может видеть (а значит знать) больше, чем «она». Но
двойственно-противоречивое единство эстетического объекта в лирике
Тютчева созидается не на основе множественности относительно
самостоятельных зрительно-смысловых образований, а на основе
подчинения наиболее экспрессивному, а значит центральному, образу всех
других. «…У Тютчева, – пишет Л.Я.Гинзбург, – охватывающий образ
перестраивает всю символику стихотворения. Он группирует по-новому
признаки слов, и даже традиционные слова звучат первозданно – как бы
172
только что сотворенные именно для этой мысли»307. Столь же
первозданной оказывается и воплощенная в этих словах картина. Так, в
стихотворении «Осенний вечер» центральным является следующий образ:
… и на всем
Та кроткая улыбка увяданья… (Т.1, с.126).
Эта грустная и горестная улыбка грандиозного страдающего
существа определяет тональность всего пейзажа, изображенного в
стихотворении. В другом стихотворении («Я лютеран люблю
богослуженье…») образ веры, выходящей из пустой храмины
(символический план созидается по аналогии с обычной бытовой
ситуацией, когда хозяин покидает пустой дом) становится адекватным
зрительным выражением «истощения» (Ф.И.Тютчев) лютеранской церкви
и обусловливает трагическую напряженность изображенной здесь
сцены308.
Двойственный характер эстетического объекта у Тютчева
взаимосвязан с двойственностью центрального образа стихотворения,
соотнесенного и с эмпирическим, и со сверхэмпирическим
пространствами (вспомним, например, образ «теней» в стихотворении
«Еще шумел веселый день…»). В других случаях в стихотворении
оказывается два обусловливающих друг друга центральных образа,
соотнесенных с двумя различными изобразительными планами, как,
например, в уже упомянутом стихотворении «Она сидела на полу…»:
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела –
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело…
Чем в сугубо эстетическом отношении отличается лирика
Ф.И.Тютчева от лирики А.С.Пушкина? Ключ к эстетическому
своеобразию пушкинской лирики следует искать в живописи эпохи
Возрождения. Если ограничиться констатацией общности в самом
широком плане, то в качестве общих черт необходимо признать
следующее: переработку случайностей «реальной действительности… в
духе универсальности и художественно усиленного воздействия»;
«стремление к гармонии между духовным и физическим моментами», а
также
сочетание
субъективной
и
объективной
ориентации
«художественного замысла… в том гармоническом равновесии», которое
никогда ни у кого, кроме названных художников, «не становилось
Гинзбург Л.Я. Ук. книга. – С.99-100.
Источник поэтической строки Ф.И.Тютчева – евангельский: «Се, оставляется вам
дом ваш пуст» (Мф. 23: 38). Вам – книжникам и фарисеям. И так будет до покаяния
книжников и фарисеев. Лютеране, как видим, оказываются в одном ряду с ними.
307
308
173
достоянием искусства в такой степени»309. Вполне уместной
представляется такая аналогия: живопись XVI века примерно так
соотносится с более ранней живописью, как зрелая лирика А.С. Пушкина с
предшествующей ему отечественной поэтической традицией XVIII века.
В средневековой живописи и даже в живописи XV века не было еще
выработано представление о композиционном единстве целого310, вернее,
в ней было воплощено свое представление о единстве, которое, с точки
зрения более поздней живописи, должно быть понято как его отсутствие.
Отличительная особенность живописи XVI века, утверждает Г.Вёльфлин,
заключается в том, что в ней, несмотря на включенность каждой детали «в
целостную форму», все же каждая деталь важна и значительна сама по
себе и могла сама по себе стать объектом эстетического созерцания. В
живописи XVI века «единство достигается гармонией свободных
частей»311.
Выделение в эстетическом объекте главного элемента, подчиняющего
себе остальные, – одна из важнейших черт, отличающих лирическую поэзию
Тютчева от лирики Пушкина и Боратынского. Этой особенностью
тютчевской поэзии объясняется, в частности, необходимость соотнесения ее с
живописью не XVI, а XVII столетия. Чем оправдано такое сближение? Вопервых, в живописи XVII века единство эстетического объекта также
«достигается… соотнесением элементов к о д н о м у (разрядка автора. –
А.Д.) мотиву или подчинением второстепенных элементов элементу
безусловно руководящему»312. Вторым важным моментом является то, что
живопись в XVII веке перестает быть линейной: самым существенным в
форме становится не линия, «не схема, но дыхание, расплавляющее
окаменелость и сообщающее всей картине движение». Если «классический
стиль создает ценности бытия», то живопись XVII века – «ценности
изменения»313. Подобно этому и у Тютчева, как пишет Н.Я.Берковский,
«мир… никогда и ни в чем не имеет окончательных очертаний». Все
предметы, все законченные образы «ежедневно рождаются заново… В
существе своем они всегда текучи»314. Ориентацией на динамику постоянно
изменяющегося мира в свою очередь обусловлено то обстоятельство, что и
живописцы XVII века315, и Тютчев в своей лирике ограничиваются
изображением мгновения.
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т.2. XVI
столетие. – М.: Искусство, 1978. – С.48, 49, 61. Пер. И.Е.Бабанова.
310
См.: Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в
новом искусстве. – М.; Л.: Academia, 1930. – С.183.
311
Там же. – С.18.
312
Там же.
313
Там же. – С.158.
314
Берковский Н.Я. Ук. сочинение. – С.27.
315
См.: Вёльфлин Г. Ук. книга. – С.196.
309
174
Однако среди многих художников XVII века в качестве наиболее
близких Тютчеву необходимо выделить тех, в живописи которых,
благодаря повышенной экспрессии изображения, достигается фактическое
совмещение изобразительных планов. В первую очередь это Эль Греко,
Рембрандт, позднее – Гойя. К примеру, на картине Эль Греко «Вид города
Толедо» (1610-1614) перед нами одновременно и реальный город, и какоето полуфантастическое видение, тревожное и трагическое. Эту
двойственность изображения хорошо почувствовала А.Валлантен: «Город
возносится на гребне волны. Холмы напоминают буруны с углубленными
тенями и прозрачными световыми пятнами на гребнях. Стены построек
кажутся пеной, зеленеющей в тени и покрытой светящейся каймой. Земля
и дома обладают тяжестью и текучестью пенистой воды, что придает
совершенно реальному городу, лежащему на холмах, вид морского
пейзажа»316. Близкого эффекта и также с помощью светотени достигает в
своих работах Рембрандт: «Жизнь меняет облик. Границы предметов
смягчаются или стираются, их цвета улетучиваются. Рельеф, не скованный
строгим контуром, становится более неопределенным в своих очертаниях,
поверхность его – трепетной, а переданный искусной и вдохновенной
рукой, он приобретает большую, чем где-либо, жизненность и реальность,
поскольку тысяча хитроумных приемов дает ему двойную жизнь: ту,
которую он черпает в природе, и ту, которую ему приносит вдохновение
художника»317. Трудно было бы подобрать другие слова, чтобы так же
глубоко передать самоё сущность поэтического двоецентрия.
Следует, однако, иметь в виду, что светотень для Рембрандта – не
просто один из способов воплощения сюжета, а, как и совмещение
изобразительных планов у Тютчева, «без сомнения,… обязательная форма
выражения его впечатлений и идей», это его способность видеть, которая
принуждала его самому земному и реальному факту придавать
«возвышенный характер видения», сделала главной его целью «трактовать
природу почти так же, как и свои вымыслы, совместить идеал с жизненной
правдой»318.
В заключение необходимо сказать несколько резюмирующих слов о
соотношении антиномики и синномии в лирике Ф.И.Тютчева. Очевидно, в
тех случаях, когда доминирующей оказывается тенденция к поляризации
изобразительных планов, в стихотворении в качестве принципа
Валлантен А. Эль Греко. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – С.148-149. Пер. Т.С.Голенко.
Фромантен Э. Старые мастера. – М.: Сов. художник, 1966. – С.222. Пер.Г.Кепинова.
Ср. с суждением М.Алпатова о работе Ф.Гойи «Маркиза де ля Солана»: «Портрет Гойи
– это прекрасное и жуткое видение, прорыв сквозь пошлые будни в таинственный мир,
откуда являются призраки. И вместе с тем в этой стройной женщине есть огромная
сила, какой давно уже не хватает портрету Запада» (Алпатов М. Эпоха развития
портрета // Проблемы портрета: Материалы научной конференции: 1972. – М.: Сов.
художник, 1974. – С.11).
318
Фромантен Э. Ук. книга. – С.219, 225, 241.
316
317
175
эстетического завершения преобладает антиномика в ее объективноантиномической разновидности. В этом случае обнаруживается близость
лирики Ф.И.Тютчева к поздней лирике Е.А.Боратынского. В свою очередь
совмещение изобразительных планов свидетельствует о том, что в
стихотворении проявляется тенденция к синномии как принципу
эстетического завершения. Но эта тенденция становится действительной
синномией лишь тогда, когда символический язык в стихотворениях
Ф.И.Тютчева наполняется священным смыслом. В этом раздвоении
«вещей души» – «жилицы двух миров», в этом противостоянии
антиномики и синномии («на пороге… двойного бытия») – сущность
поэзии Ф.И.Тютчева. Но сам поэт сказал нам, каким будет исход этой
борьбы:
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые –
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.
176
РАЗДЕЛ III
В ГРАНИЦАХ «ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ»
ТЕОРИИ: ТОЛКОВАНИЕ
Сущее лишается бытия, как
только становится предметом
пред-ставления.
М.Хайдеггер
ГЛАВА I
О СУЩНОСТИ ЯЗЫКА И ПРИРОДЕ
ЛИРИЧЕСКОГО СЛОВА
3.1.1. ПОРОЖДАЮЩЕЕ ЛОНО ПОЭЗИИ
Но слово – свет… его сияние хранит русская речь.
А.М.Ремизов
Так будь же зеркалом у Бога
И, очищаясь, отражай.
Иначе красоты не трогай,
Не создавай, не искажай.
Иеромонах Роман
Мы все еще находимся под гипнозом понятия автор-творец, который
в свою очередь объясняется гипнозом эстетики или, вернее, того, что в
наше время от нее осталось. Эстетика закрывает перспективу. Почему?
Потому что она может мыслить только «по принципу представляющего
понятия» (М.Хайдеггер). В наше время высшей точкой такого мышления
является понятие трансцендентальный субъект. Автор-творец – это
трансцендентальный субъект в эстетическом преломлении. То, что
177
оказывается за пределами вышеназванного принципа, эстетике
недоступно.
Наибольшую ответственность за такое положение вещей несет,
разумеется, крупнейший представитель эстетики Г.В.Ф.Гегель1. В его
панэстетическом осмыслении поэзии подспудное присутствие авторатворца обнаруживается даже в хоровых песнях Пиндара: «Когда,
например, приглашали Пиндара, чтобы он воспел победителя в играх по
соревнованию или когда он это делал по собственному влечению, он до
такой степени овладевал своим предметом, что его произведение
оказывалось не стихами на (здесь и далее курсив автора. – А.Д.)
победителя, а излиянием, которому он отдавался от себя»2. И в другом
месте: «…От героев Пиндара нам остались лишь пустые имена, а сам он,
воспевший себя и приобщивший свою славу, остается незабываемым как
поэт…»3. Если Пиндар воспевает самого себя, значит, в нем самом
заключен исток его поэзии. Так ли это? Что в песнях Пиндара сказано об
этом?
В 150 фрагменте говорится:
Μαντεύεο, Μοῦσα, προφατεύσω δ’ ἐγώ.
Предлагаются такие варианты перевода этого стиха:
Прорицай, Муза, я же буду толкователем.4
Муза, вещай: я – пророк твой…5
Каждый из этих переводов обладает своими преимуществами,
недостаток же у них общий: они в равной степени не улавливают и не
передают нередкую у греков тавтологию – в данном случае в обозначении
действия Музы и действия поэта (второй глагол в обоих переводах
попросту исчезает; между тем все дело именно в глаголах и ни в коем
случае не в выпячивании “я”, как это имеет место во втором примере).
Буквально в песне, сохранившийся стих из которой мы пытаемся
истолковать, сказано:
Пророчествуй, Муза, я же буду пророчествовать.
Тавтология указывает, что Муза и поэт делают одно и то же, но само
синтаксическое строение фразы (противопоставление «я же»)
свидетельствует, что это одно и то же – отнюдь не простое тождество. Мы
можем предположить, что действие поэта, будучи обусловленным
действием Музы, одновременно является его неким продолжением. Нам,
стало быть, для начала надлежит понять, каким образом προφητεία (дар
По примеру римских императоров Гегель с наибольшим правом мог бы сказать :
«Эстетика – это я».
2
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1958. – С.296.
3
Там же. – С.306.
4
Миллер Т.А. Аристотель и античная литературная теория // Аристотель и античная
литература. – М.: Наука, 1978. – С.28.
5
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – М.: Наука, 1980. – С.217.
1
178
пророчества) поэта укоренена в μαντεία (способности пророчества) Музы.
Для этого необходимо попытаться сохранить в переводе хотя бы оттенок
тавтологии, при этом избежав простого повторения разных
грамматических форм одного и того же глагола. Перевод в результате
принимает следующий вид:
Пред-сказывай, Муза, я же буду сказывать.
Поэтическое сказывание коренится в пред-сказанном. Поэтическое
слово не является простым повторением пред-сказанного, но еще менее
оно – средство воспевания поэтом самого себя6. Оно есть развертывание
имплицитного смысла, заключенного в пред-сказанном, и остается
истинно поэтическим до тех пор, пока держится этой путеводной нити.
Оставаясь истинно поэтическим, оно остается пророческим.
Пред-сказание Музы – истинная речь, священная речь, герменейя.
Творцом герменейи (герменевтом) является Муза. Поэт не может быть
герменевтом (творцом священной речи), но будучи причастным к герменейе
(священной речи), он становится гиерофантом, т.е. являющим священное –
исполнителем того, что приходит к явленности в слове герменевта.
Сказанное
бросает
свет
на
концепцию
автора-творца.
«Онтологическая беспочвенность трансцендентальной субъективности, в
которой Хайдеггер упрекал гуссерлевскую феноменологию, была как раз
тем, что, по его представлению, можно преодолеть путем возрождения
вопроса о бытии»7. Учение об авторе-творце как конститутивном моменте
Гораздо более глубокое, нежели Гегель, поскольку более изначальное понимание автора
предлагает Шеллинг: «Это вечное понятие человека в Боге как непосредственная причина
его [человеческого] продуцирования есть то, что называют гением (курсив и выделение
автора. – А.Д.), как бы genius, обитающее в человеке божественное. Это, если можно так
выразиться, образчик (ein Stück) абсолютности Бога. Поэтому каждый художник и может
продуцировать не более того, что связано с вечным понятием его собственного существа в
Боге» (Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – С.162. Пер. П.С.Попова).
Подход Гегеля к песням Пиндара остается сугубо эстетическим, тогда как Шеллинг
восходит в сверхэстетическую область священно-символической онтологии. Ср.: «Уставы
Твои были песнями моими на месте странствований моих» (Псал. 118: 54). О глубине –
эпизод из того времени, когда М.Хайдеггер «принимался за написание “Бытия и времени”»:
«Однажды на семинаре по Шеллингу он зачитал такое предложение: «Страх самой жизни
гонит человека из центра» – и сказал: «Назовите мне хоть одно предложение Гегеля,
которое по глубине могло бы сравниться с этим!» (Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера:
исследования позднего творчества. – Мн.: Пропилеи, 2005. – С.133. Пер. А.В.Лаврухина).
Понятно, что речь у М.Хайдеггера идет об онтологической глубине.
7
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988. – С.308. Пер. С.Н.Земляного. Ср.
в более поздней его работе, написанной в год смерти М.Хайдеггера: «…То, что
Хайдеггер предпринял в “Бытии и времени”, было не просто углублением фундамента
трансцендентальной феноменологии – в нем одновременно подготавливался
радикальный поворот, который должен был полностью разрушить концепцию
конституции всех значимостей, мыслимых в трансцендентальном Ego, и, прежде всего,
концепцию самоконституции Ego» (Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера… С.99). Конечный
пункт автора-творца как эстетической реализации «самоконституции Ego» – центра, не
6
179
поэтического творчества не может избежать того же упрека. Это относится
не только к Гегелю, но и к И.Г.Фихте с его продуктивным “я”8, и к
герменевтике Ф.Шлейермахера9 и В.Дильтея10, и к бахтинскому учению об
авторе11. Попытки преодолеть онтологическую беспочвенность с
помощью характерной для теоретико-литературного персонализма
аналогии между Творцом и автором-творцом представляют собой
несомненное искажение подлинной онтологической перспективы:
«Божественность художника – в его приобщенности вненаходимости
высшей»12. Каким образом художник в своей сфере (наглядное
представление, субъект-объектные отношения, «вненаходимость» как их
конститутивный момент) может одновременно стать божественным – на
этот вопрос, поскольку он риторический, отвечать не нужно. Если бы это
действительно случилось, это свидетельствовало бы о том, что
«исполнилось… обещание древнего змея»13. Такая «божественность» на
самом деле является ее полным и безоговорочным отрицанием14: зачем
тогда тридцать степеней духовного совершенства, восхождения к Богу, о
которых пишет прп. Иоанн Лествичник15, если одной вненахдимости
нуждающегося в ином центре, – самолюбование, а не страх. Убежденность, что
сущность поэтического искусства заключается в самовыражении, – достаточно
убедительное свидетельство того, что конечный пункт уже достигнут.
8
См.: Дильтей В. Герменевтика и теория литературы // Дильтей В.Собр.сочинений. –
Т.4. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – С.90-101.
9
«…Суть интерпретации – воссоздающая конструкция произведения как жизненного
поступка автора; соответственно задача теории интерпретации – научное обоснование
этой воссоздающей конструкции исходя из природы продуцирующего акта в его
отношении к языку и художественной форме и для себя. Когда во многих аспектах
обозначилось полемическое и реформирующее противостояние этого принципа
прежней системе, возникла Шлейермахерова система герменевтики» (там же, с.123.
Пер. В.В.Бибихина, А.В.Михайлова). См. также у самого Ф.Шлейермахера: «Одно дело
понять целиком основную идею произведения, другое дело уразуметь отдельные части
оного в связи с жизнью автора. Первое есть то, из чего все развивается, а второе то, что
в произведении наиболее случайно. Но и то и другое понимается из личной
самобытности автора» (Шлейермахер Ф. Герменевтика. – М.: Европейский дом, 2004. –
С.176. Пер. А.Л.Вольского).
10
См.: Дильтей В. Ук. сочинение. – С.273.
11
См.: Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Бахтин М.М.
Собр. сочинений: В 7 т. – Т.1. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры,
2003. Поэтому, если говорить о герменевтическом характере бахтинского теоретиколитературного персонализма, эта герменевтичность в аспекте проблемы автора не
выходит за пределы проблематики XIX века.
12
Бахтин М.М. Ук. сочинение. – С.248.
13
Мориак Ф. Романист и его персонажи // Писатели Франции о литературе. Сб. статей.
– М.: Прогресс, 1978. – С.157. Пер. М.Злобиной.
14
Объявлять автора-творца божественным – все равно что из автопортрета пытаться
сделать икону. Автопортрет онтологичен? В каком-то смысле – да.
15
См.: Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002.
180
достаточно, чтобы сразу стать божественным? Здесь автор-творец
обнаруживает претензию быть не просто трансцендентальным, но
трансцендентным субъектом, что как раз является завершением того пути,
на который увлек прародительницу Еву «древний змей».
В эстетике и в теории литературы идея «божественности»
художника отнюдь не нова: с нею мы встречаемся, к примеру, у
Г.Флобера: «Автор в своем произведении должен быть подобен Богу во
Вселенной – вездесущ и невидим. Искусство – вторая природа, и
создателю этой природы надо действовать подобными же приемами» 16.
Еще одно, не менее красноречивое высказывание, свидетельствующее о
том, что, согласно Г.Флоберу, романное творчество способно обеспечить
осуществление высшей, «божественной» правды: «Когда же будут писать
историю так, как надо писать роман, – без любви или ненависти к кому бы
то ни было из персонажей? Когда будут описывать события с точки зрения
высшей иронии (курсив автора. – А.Д.), сиречь так, как видит их Господь
Бог?»17.
Это сближение раздумий романиста о своем ремесле и теоретиколитературного персонализма отнюдь не случайно: роман является главным
предметом изучения в границах персоналистского дискурса. Здесь,
однако, закрадывается некоторое сомнение относительно автора-творца:
«Уж не пародия ли он?» И право: «Смирение не назовешь главной
добродетелью писателей. Они не стесняются притязать на звание творцов.
Творцы! Соперники Господа Бога! На самом деле – всего лишь
обезьяны»18. Учитывая, что речь идет о миметическом жанре, каковым
является роман, Ф.Мориаку трудно что-либо возразить; в равной степени
нелепо заподозрить его в том, что он в принципе отказывает роману как
жанру в возможном художественном совершенстве.
В высказываниях Г.Флобера и Ф.Мориака сопряжены начала и концы
определенной рефлексии. Не случайно понимание Г.Флобером данной
проблемы очевидным образом коррелирует с одной из определяющих
установок эстетики Возрождения: «У теоретиков возрожденческой эстетики
встречается такое, например, сравнение: художник должен творить так, как
Бог творил мир, и даже совершеннее того. Здесь средневековая маска вдруг
спадает и перед нами оголяется творческий индивидуум Нового времен,
который творит по своим собственным законам (здесь и далее курсив
автора. – А.Д.). Такое индивидуальное творчество в эпоху Возрождения часто
понимали тоже как религиозное, но ясно, что это была уже не средневековая
религиозность. Это был индивидуалистический протестантизм…»19 Вот
Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма. Статьи: В 2 т. – Т.1.
– М.: Худож. лит., 1984. – С.235. Пер. под ред. А.Андрес.
17
Там же. – С.213.
18
Мориак Ф. Ук. сочинение. – С.151.
19
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1998. – С.53-54.
16
181
почему отец Павел Флоренский утверждает, что событие европейской
истории, называемое Возрождением (с неизбежными, заключенными в самом
названии ценностными моментами и по отношению к самому этому явлению,
и по отношению к предшествовавшему ему Средневековью), на самом деле
представляет собой «разложение онтологического миропонимания»20.
«Индивидуалистический протестантизм» – наиболее точное определение той
традиции, с которой генетически связан теоретико-литературный
персонализм. Ясно также и то, что глубинный импульс бахтинского
персонализма был в значительной степени обусловлен трагическими
обстоятельствами его времени, усугублен социально-политическими
причинами. Отсюда его сомнения в благодатности всего, что было суждено
ему совершить: «Все, что было создано за эти полвека на этой
безблагодатной почве под этим несвободным небом, все в той или иной
степени порочно». И на вопрос С.Г.Бочарова, в чем заключается порочность
его книги о Достоевском, М.М.Бахтин ответил: «Ну что вы, разве так бы я
мог ее написать? Я ведь там оторвал форму от главного. Прямо не мог
говорить о главных вопросах. <…> Философских, о том, чем мучился
Достоевский всю жизнь, – существованием Божиим. Мне ведь там
приходилось все время вилять – туда и обратно. Приходилось за руку себя
держать. Только мысль пошла – и надо ее останавливать. <…> Даже Церковь
оговаривал»21.
Фундаментальная
особенность
теоретико-литературного
персонализма должна быть помыслена в контексте того самого «принципа
личности», который, согласно Ф.И.Тютчеву, в XIX веке был доведен «до
какого-то болезненного неистовства»22. Подлинное онтологическое
понимание мира с таким гипертрофированным принципом личности (а это
и есть, называя вещи своими именами, принцип индивидуализма),
разумеется, не совместимо: «Нищета духовная состоит в том, чтобы
почитать себя как бы не существующим и Единого Бога сущим, почитать
словеса Его выше всего на свете и не щадить для исполнения их ничего,
самой жизни своей; Волю Божию считать всем для себя и для других,
свою отвергнуть вовсе… Все да будет Твое, не мое…»23
Все, что принадлежит к сфере Божественного (Göttlichgeborne),
говорит Ф.Гёльдерлин, в самом начале XIX века, несомненно,
предчувствуя его основную коллизию, «становится сном для того, кто
хочет к нему подкрасться, и карает того, кто насильно хочет стать равным
Флоренский П.А. Записка о старообрядчестве // Флоренский П.А. Сочинения: В 4 т. –
Т.2. – М.: Мысль, 1996. – С.561.
21
Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Бочаров С.Г. Сюжеты русской
литературы. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С.475.
22
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. Т.6. М.: Классика, 2004. С.399.
23
Св. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. – Т.1. Полтава: СпасоПреображенский Мгарский монастырь, 1998. – С.151.
20
182
ему, но часто, открываясь, захватывает врасплох (überraschet) того, кто
едва ли о нем думал»24. Установка автора-творца, как свидетельствует
рассуждение Г.Флобера («действовать подобными же приемами»25), не из
тех, когда возможным оказывается благодатное самораскрытие
Божественного в поэтическом слове. В 1882 году – тридцать лет спустя
после упомянутого письма Г.Флобера – Ф.Ницше впервые произнесет
слова «Бог мёртв»26, ставшие наиболее адекватным выражением
преобладающего духа надвигающейся эпохи. Связь между суждением
Г.Флобера и словами Ф.Ницше вполне очевидна: «Всякое общение
инобытия в самой субстанциальной природе сущности есть попытка стать
на место, взамен, самой сущности… Общение инобытия и сущности
возможно только в сфере смысла, идеи, энергии, т.е. прежде всего имени»27
(курсив автора. – А.Д.).
Там, где мы приближаемся к уяснению подлинной онтологии
поэтического творчества, - там автора уже нет. Поэтому и проблема
автора-творца не может быть главной проблемой – тем более предметом –
филологии. Напомню, что Г.-Г.Гадамер, проясняя некоторые идеи
М.Хайдеггера, убежденность в универсальности представляющего
мышления определяет как «наивность рефлексии», утверждая при этом,
что «не всякая рефлексия выполняет объективирующую функцию или,
иначе говоря, не всякая рефлексия превращает в предмет то, на что она
направлена»28. Современная «филологическая» теория – в ее
противостоянии всем существующим в настоящее время направлениям
теории
литературы
–
конституируется
за
пределами
этой
опредмечивающей установки. Характерно, что представители теоретиколитературного персонализма сталкиваются здесь с неразрешимыми
противоречиями. Так, В.В.Федоров в первой лекции книги об авторе –
вполне в духе современной филологии – критически оценивает претензии
субъект-объектной установки на универсальность в сфере познания, а в
последующих de facto радикальным образом утверждает ее универсальный
характер, что, впрочем, неизбежно, если речь идет об авторе-творце, а
24
Hölderlin Fr. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 1. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1970.
S.456. См. также: Хайдеггер М. Положение об основании. – СПб.: Алетейя, 1999. –
С.143-144.
25
Подразумевается, что здесь-то уж никакого секрета нет: приемы нам точно известны.
А что бы Г.Флоберу взять да вчитаться в Шарля Бодлера: «Человек захотел стать
Богом, и вот, в силу неуловимого нравственного закона, он пал ниже своей
действительной природы» (Бодлер Ш. Проза. – Харьков: Фолио, 2001. – С.70-71)? Этот
закон ведь со времен Адама и Евы действует.
26
См.: Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – М.: Гнозис, 1993. – С.172.
27
Лосев А.Ф. Миф – развернутое магическое имя // Лосев А.Ф. Самое само. – М.:
ЭКСМО-Пресс, 1999. – С.418.
28
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С.20.
183
соотношение
эстетического
и
онтологического
остается
не
29
продуманным .
М.М.Бахтин говорит о большом времени, в котором живут
подлинные произведения литературы30. Мы поговорим о тех пределах,
внутри которых движется большое историческое время. Оно начинается с
первой попытки человека превозмочь самого себя и манически
отождествиться с божеством, не вытесняя и не пытаясь заменить его (в
языческой культуре), либо приблизиться к Богу (в культуре христианской).
В этом случае мы можем говорить о личности, которая возможна лишь
тогда, когда существует в Истине. Другой предел обозначен индивидом.
Когда свобода слова и права человека объявляются абсолютными
ценностями, они тем самым ставятся на место Истины, индивид
становится на место Бога, - история заканчивается31. Пределы
исторического времени, таким образом, обозначены Истиной и
индивидом.
В первом случае бытийно то, что осуществляется в Истине. Поскольку
наше существование бытийно, постольку усилие нашей мысли оказывается
способом самораскрытия Истины. Поскольку Истина, самораскрываясь,
приходит к слову, постольку язык оказывается онтологической основой,
порождающим лоном человеческого мышления, поэтического творчества32 и
т.д. Поскольку Истина имеет священный характер, постольку поэзия
открывает возможность приобщения к божественному началу, будь то μανία в
случае «казовой» орудийности языка или обожение в священносимволической культуре. Поскольку ποίησις является изначальным способом
самораскрытия Истины, постольку поэзия с самого начала становится делом
прежде всего, самым главным делом человеческой жизни.
Во втором случае истина оказывается атрибутом бытия, а само
бытие – предметом представления познающего субъекта. Поскольку истина
устанавливается индивидом, постольку изначально бытиен именно
См.: Федоров В.В. Три лекции об авторе. – Донецк: Юго-Восток, 2002. – С.20-21, 40,
44 и др.
30
См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.331-334.
31
Принцип индивидуализма антиномически противостоит истории: «Это
индивидуализм, отрицающий историю» (Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма. – Т.3.
– С.196).
32
Ср. с суждением В.Дильтея об И.Г.Гердере: «…Он с единственной в своем роде
деликатностью чувства воссоздал то, как рождается поэзия нации, словно побег,
вырастая изнутри языка народа. <…> …Гердер же сказал: “Гений языка – это и гений
словесности всякой нации”. Уже и прежде наблюдали, что поэзия выходит из языка как
самое раннее выражение живой души» (Дильтей В. Ук. сочинение. – С.287-288).
Близкие по смыслу суждения о творческой природе языка можно найти у Н.В.Гоголя и
А.Шопенгауэра (см. § 3.1.3). См. также у А.В.Михайлова: «Постоянной особенностью
европейской литературы на всем протяжении ее существования было и остается то, что
в ее глуби хранится изначальное творческое слово» (Михайлов А.В. Методы и стили
литературы // Теория литературы. Т.1. Литература. – М.: ИМЛИ РАН, 2005. – С.227).
29
184
индивид, а не то, что обусловлено его способностью представления. О такой
«онтологии» мы можем говорить только в кавычках. С очевидной
неизбежностью язык здесь оказывается исключительно и только средством
(общения, познания, поэтической образности и т.д.). Поскольку все здесь
становится
предметом,
опредмечивается,
постольку
предметом
изображения оказывается и священное, причем характер изображения
зависит от индивидуально-авторской установки и может меняться, как,
например, у Л.Н.Толстого (изображение православного быта в романеэпопее «Война и мир» и в романе «Воскресение»). Священное, как
следствие, уходит в глубину поэтического слова и может выявиться в
произведении вопреки или независимо от авторской установки.
Когда на первый план выходит индивид, поэзия как к своему пределу
движется к индивидуальному самовыражению, поэтому, с точки зрения
житейского опыта, рано или поздно становится полной противоположностью
дела и дельности. О том, что движение в этом направлении неизбежно
приведет к вырождению поэзии, задолго до вполне проявившихся результатов
сказал, несомненно, обладавший даром предвидения М.Ю.Лермонтов:
Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.
А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным…33
Инструментальный язык, будучи антипоэтическим по своей
сущности, неразрывно связан с прозой (в гегелевском смысле) и
«положительными знаниями». Когда он утверждается в качестве
единственного, о поэзии, как о сколько-нибудь серьезном деле, никто уже
не помышляет. Язык, который является порождающим лоном поэзии,
пребывает в забвении, становится бессмыслицей (как Пиндар для
Вольтера), заумью. «Verzeihen Sie, liebste Mutter! wenn ich mich Ihnen nicht
für Sie sollte ganz verständlich machen können»34,– пишет Гёльдерлин, когда
Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. – Т.2. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С.123.
«Не верь себе» – преувеличение? Нет, но крайнее выявление того предела, к которому
стремится поэзия, утратившая какие бы то ни было «признаки небес». «Отравленный
напиток» вместо «громокипящего кубка», дарующего бессмертие.
34
«Простите, дражайшая матушка, если мне не суждено [в этом письме] быть вполне
понятным Вам» (Hölderlin Fr. Sämtliche Werke und Briefe. – Bd.4. – S.512). Мудрость матери
33
185
«глубочайшая пропасть» уже «пролегла между ним и остальным
человечеством»35. Весь бесконечный и неисчерпаемый смысл языка, в
котором исток поэзии, концентрируется в конце концов в одном слове,
которое не поддается разгадке, но неотступно преследует, как память об
утраченной родине:
Что он хотел сказать,
думаю я, просыпаясь, и на рассвете
через полвека, путая сон и явь,
всматриваюсь и вижу стоящего человека
в мутной воде и вопрошающего опять:
что? кого? – но нет у пустоты ответа,
нет и всё! Ах ты катанье наше, мытье,
никуда от вас – Иордан, Флегетон и Лета
или Вохна у ног… не знаю… Кыё. Кыё.36
То единственное слово, которое остается от поэзии, которое и есть
поэзия, когда поэзия невозможна, оно – двулико: в нем и то, что утрачено,
и то, с чем остается человек, когда утрата становится непоправимой. И
опять же о Гёльдерлине: «На каком языке он поет, разобрать невозможно,
сколько ни слушай. Меланхолия и печаль – вот самая сущность этого
пения»37. Язык, на котором пел безумный Гёльдерлин, так же таинственен,
как таинственен язык ночного ветра у Тютчева: в нем непосредственным
образом сказывается не претворенная искусством стихослагающая
Гёльдерлина, в отличие от Вольтера, заключается в том, что она не делала то, что
говорил сын, предметом насмешек. Мудрость, стало быть, в любви, а не в
зубоскальстве, хотя смех представляет собой одно из самых ярких проявлений
сущности эстетического. Эстетика становится мудрой, когда приобщается к
священному как своей онтологической основе, но при первой возможности эту
мудрость она предпочтет резвой игре на зеленой лужайке. Эстетика по своей сути –
избалованное дитя; она сопротивляется, если ее слишком напрягают. Возьмите «Жизнь
есть сон» П.Кальдерона и «Собаку на сене» Лопе де Вега. В какой из этих пьес
устремленность к постижению истины становится определяющей движущей силой? И
какая из них, несмотря на весь свой тотальный имморализм, не просто художественно
совершеннее, но являет собой недостижимую вершину эстетического совершенства,
так что персонажи первой представляются какими-то хтоническими существами по
сравнению с олимпийским блеском второй? В которой из них эстетика – вполне у себя
дома? И что от этого эстетического совершенства осталось бы, если бы какой-нибудь
педант от искусства попытался улучшить эту пьесу, дополняя ее – в духе XIX века –
социальным и психологическим анализом? И после этого давайте дальше рассуждать о
расцвете эстетики в XIX-ХХ веках. Что касается олимпийского блеска комедии Лопе де
Вега, ср. рассуждение Ф.Шеллинга о гомеровских богах, которые «изъяты из
альтернативы» нравственного – безнравственного (Шеллинг Ф.В. Ук. книга. – С.95-97).
35
Вольф Г. Бедный Гёльдерлин // Встреча. Повести и эссе. Сб. – М.: Радуга, 1983. –
С.226. Пер. Н.Литвинец.
36
Чухонцев О.Г. Фифиа. Книга новых стихотворений. – СПб.: Пушкинский фонд, 2003.
– С.35.
37
Вольф Г. Ук. сочинение. – С.227.
186
первооснова жизни: «…Первооснова, которую оно (искусство. – А.Д.)
преобразует и обрабатывает, дана изначально и не есть собственное его
творенье; искусство способно лишь пробудить творческие силы, но силы
эти сами по себе извечны, они дарованы человеку свыше»38.
И для немецкого, и для русского поэта первооснова
непосредственным образом заключена в Имени – в нескольких (немногих)
именах. О Гёльдерлине: «Если его просят написать несколько строк, он
спрашивает: Вам о Греции, о весне или о духе времени?»39 Тютчев: «Время!
Время! Это слово вмещает в себя все»40. Глубина поэтической памяти –
это одновременно и глубина постижения имени, его неисчерпаемого
смысла. Слово и становится именем, вновь обретая онтологическую
сущность, когда в нем открывается эта беспредельная смысловая глубина:
«Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая… и
вдруг поймем… и в одном слове, как в провале, как в пропасти, все
обрушится»41. Кто посмеет о таком слове сказать, что оно «между»?
Об этом «между» необходимо сказать несколько слов. Утверждая,
что «язык не принадлежит только Богу, или только миру, или только
человеку, а находится между ними», М.М.Гиршман приписывает это
суждение Ф.Розенцвейгу на основании следующей цитаты: «Божьи пути
не суть человеческие пути, и Божьи мысли – не человеческие мысли; но
Божье слово есть и человеческое слово»42. Нетрудно заметить, что
М.М.Гиршман не просто упрощает, но искажает мысль Ф.Розенцвейга: для
того чтобы таким радикальным образом осмыслить сферу «между» как
первичную онтологическую основу языка, необходимо слова «не только
Богу» интерпретировать как «не Богу» и т.д. Мысль Ф.Розенцвейга иная:
Божье слово становится человеческим в той мере, в какой человек
оказывается способным приобщиться к нему, – где же здесь «между»? Не
только Богу – значит и Богу, не только миру – значит и миру, не только
человеку – значит и человеку, и еще вопрос, идет ли здесь речь об одном
языке. При этом никто не сомневается, что «между» одна из сфер
бытования языка, но какая?
В послании апостола Павла «К Ефесянам» говорится: «εἷς θεὸς καὶ
πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν» (««Один Бог и Отец
всех, Который над всеми и среди всех и во всех»; 4: 6). Говоря о Боге, что
он ἐπί, διά и ἐν, апостол говорит одновременно о божественном Слове – о
Там же. – С.244.
Там же. – С.252.
40
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма. – Т.4. – С.265. Ср. в Новом Завете слово апостола
Петра об Имени имен, обращенное к тем, кто распял Иисуса Христа: «…Нет другого имени
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4: 12).
41
Тютчев Ф.И. Ук. книга. – С.113.
42
Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. –
М.: Языки славянской культуры, 2002. – С.452.
38
39
187
тех сферах, в которых оно пребывает, и о единстве этих сфер. Отрывая διά
(среди, между, через) от ἐπί (над, в основании), мы лишаем слово его
онтологических корней. Слово, будучи, подобно семени, брошенным
(βάλλω) в мир, должно неповрежденным пройти через мир, чтобы пасть на
благодатную почву ἐς θυμόν (в душу, сердце) или εἰς νοῦν (в сознание) и
там произрасти, преображая тем самым (μετανοεῖτε) душу и сознание. Ко
всякому же «слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит
лукавый (πονηρός – злой, низкий, бесчестный) и похищает посеянное в сердце
его: вот кого означает посеянное при дороге» (Мф. 13: 19). Слово, которое не
прошло через «между» (διά), но осталось в нем – «при дороге», благодатной
почвы не обрело: будучи бесплодным, оно не раскрыло всю полноту
заключенного в нем смысла. Поскольку смысл таких слов закрыт – и это в
течение долгого времени вошло в привычку – мы по инерции обречены
употреблять их, не понимая. Сфера «между» приобретает, таким образом,
самостоятельный – квазионтологический – статус лишь для тех, кто «не
разумеет», чье сознание столь же бесплодно, как земля «при дороге». От
имен здесь остаются только оболочки, которые вольно наполнять каким
угодно, в том числе и понятийным, содержанием. Такие имена уклонились
от предназначенного, поэтому становятся источником последующих
заблуждений: διαβολή43 (клевета, ложное обвинение, злословие,
ненависть). Они, эти имена, утратив онтологическую путеводную нить,
оказываются игрушкой в руках διαβόλου:
Я сражалась с оконным стеклом,
Ты сражался с невидимым злом,
Что стоит между миром и Богом…44
В этой связи нельзя не упомянуть одно суждение Ш.Розенберга:
«Единственным дьяволом является тот, кто строит идеологию на дьяволе и
делит человечество на спасенных и погибших»45. Это удивительное по
степени саморазоблачения и разоблачения квазифилософии языка
«между» высказывание М.М.Гиршман квалифицирует как «очень
выразительное» и «вполне точное»46. Мы имели возможность убедиться,
какая идеология и какое понимание языка на самом деле строятся на том,
кого упоминает Ш.Розенберг. «Наши разговоры на людях, - пишет св.
Николай Сербский, - как мелкая монета, которой мы себя выкупаем, тогда
как крупная монета остается при нас, не показывается. <…> Впрочем, все
От δια-βάλλω – переправлять, но также, что взаимосвязано: клеветать, ссорить,
обманывать, обольщать.
44
Кузнецов Ю.П. До последнего края. – М.: Мол. гвардия, 2001. – С.130.
45
Подразумевается, стало быть, что это дело дьявола – спасать или не спасать. В
Евангелии сказано иное: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не
оставался во тьме; и если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я
пришел не судить мир, но спасти мир…» (Ин. 12: 46-47). Кто делит? Каждому открыт
путь к спасению.
46
Гиршман М.М. Ук. книга. – С.448.
43
188
великие стихии весьма молчаливы, а Сам Бог – молчаливее всех, тогда как
все малые творения говорливы. Так удивительно ли, что все великаны
духа молчаливы?»47 Когда – в границах символической культуры – Истина
утверждается в своей трансцендентной по отношению к языку данности,
молчание предстает как несказанная полнота смысла, целиком
противоположная языку «между».
Все, что было сказано о языке «между», относится и к «общему»
языку в ультиматуме О.Розенштока-Хюсси: «…Мы найдем либо общий
язык, либо – общую погибель»48, если этот «общий» язык понять как
компромисс «между» двумя (или несколькими) правдами. Напомню: «Две
правды – секрет черта»49. Тот, кто исходит из сосуществования двух
равнодостойных правд, каждая из которых должна чем-то поступиться во
имя достижения компромисса, целиком остается в сфере того, кому
ведомы лишь секреты, путь же к тайне закрыт.
Таким «общим» языком может быть только эсперанто, но даже на
нем разные люди будут говорить с разным акцентом. Наивно было бы
полагать, что конечное решение всех вопросов не будет зависеть от того,
какой акцент в конце концов возобладает. Человеческое сознание,
ограниченное возможностями такого языка, неизбежно станет
межеумочным, наглухо закрытым для высших проявлений духовной
жизни. Поиски единого обезличенного универсального «общего» языка (а
только такой «общий» язык может быть обретен на основе языка «между»)
на самом деле представляют собой ближайший путь к той самой погибели,
которую он якобы призван предотвратить50.
Об общем языке говорит и архимандрит Константин (Зайцев):
«Подумаем о более к нам близком – о. Иоанне Кронштадтском, с
присущей ему чистотой и простотой святости, т.е. всецелой духовности!
Как наглядно было отсутствие у него «общего» языка даже с высшими
проявлениями искусства!..»51 Как видим, подлинный общий язык – это не
нисхождение до общепонятного примитива, а значит – духовное
вырождение, но цель духовного восхождения, имеющего свои ступени, так
Св. Николай Сербский. Избранное. – Полтава: Спасо-Преображенский Мгарский
монастырь, 2004. – С.374.
48
См.: Гиршман М.М. Ук. книга. – С.453.
49
Селезнев Ю.И. В мире Достоевского. – М.: Современник, 1980. – С.320.
50
Ср. с таким «общим» языком чудо Пятидесятницы: «И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый
собственное наречие, в котором родились?» (Деян. 2: 7-8). Приобщению к Истине, т.е.
подлинному духовному рождению в языке, предшествует разделение – условие
духовного восхождения: «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них» (Деян. 2: 3). Что касается «общего» языка, о
котором речь шла выше, то в нем никто не рождается, поскольку он не онтологичен.
51
Архимандрит Константин (Зайцев). Гоголь как учитель жизни // Н.В.Гоголь и
Православие. – М.: Отчий дом, 2004. – С.346.
47
189
что и высшие проявления искусства оказываются не самой высокой из
них. Поэтому следует говорить не про «общий» язык, но про общие языки,
ограниченные контекстом своих культур. Единственная возможность
избежать «общей погибели» - создать условия для духовного восхождения
по ступеням языка в пределах каждой культуры – православной,
католической, мусульманской… На определенной духовной высоте
взаимоотношения разных общих языков – и в пределах одной культуры, и
в столкновении разных культур, оставаясь конфликтными (в той степени, в
какой сохраняются уклонения от Истины), не приводят к тотальной лжи, к
насильственному или кровавому разрешению этих конфликтов: «…Люди,
благоговеющие пред Богом, всегда ближе друг другу, чем жалкие
безбожники…»52
Теперь возвратимся от подобия имен (а языку «между» ведомы только
подобия) к именам. Когда различные попытки поэтического сказывания
руководствуются тем же самым именем, они не могут – в случае
сопоставимой глубины приобщенности – в чем-то существенном не
совпадать:
Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат Боги снах!53
Первый шаг к постижению Тютчева заключается в том, чтобы понять, что
приведенный фрагмент из его стихотворения «Видение» - не стандартная
формула, не книжная условность, но поэтическая речь во всей ее
первозданной сотворенности, равноизначальной с поэтическим словом
Пиндара, поскольку столь же первозданно для Тютчева имя – исток его
поэтической речи. Онтологической основой творчества Гёльдерлина и
Тютчева является имя, а не «самоконституция Ego». Поэтому вести ныне
модный разговор о том, что история литературы XIX-XX веков в целом есть
ничто иное как история личностей – тем более без предварительного
разграничения личности и индивида – бессмысленно. Мы имели
возможность убедиться, что векторы устремленности личности (к Истине) и
индивида (к самоизоляции) не просто различны, но противоположны. А в
наше время продолжают по инерции рассуждать якобы о личности, но уши
индивида под ее колпаком торчат.
Пред-сказывай, Муза, я же буду сказывать, говорит Пиндар на самом закате греческой способности испытывать
потребность в пред-сказании и понимающе раскрывать его в поэтическом
Митрополит Антоний (Храповицкий). Новый опыт учения о Богопознании. – СПб.:
Библиополис, 2002. – С.135.
53
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма. – Т.1. – С.71.
52
190
сказывании. «Die Zeit ist buchstabengenau und allbarmherzig»54, - пишет
Гёльдерлин в упомянутом выше письме матери в ситуации, когда не мог
не чувствовать себя неизбывно одиноким, оказавшись лицом к лицу с
такой глубиной смысла, которую никакая человеческая речь выразить не
может. Неведомый язык песен, которые пел Гёльдерлин, и недоступный
матери язык его писем – следствие разлома: сказывание поэта сохранило
связь с путеводной нитью пред-сказания, но, будучи «буквально точным»,
не смогло превозмочь пропасть, отделившую человечество от предсказанного. Причина безумия Гёльдерлина только в этом, а не в чем-то
ином. Человек из стихотворения О.Чухонцева («Зачем человек явился?»),
без конца повторяющий одно и то же слово, – родной брат Гёльдерлина55.
Это значит, что подлинная поэзия возможна только тогда, когда язык
сохраняет свою онтологическую сущность56. И это не значит, что история
возможна, когда поэзия умирает. Поэзия, как первый опыт манического
отождествления с богом или приближения к Богу, была первым деланием и
делом человечества, с нее история начинается; она же будет последним
деланием и делом, даже если от нее останется только «кыё». Это ведь тоже
«буквальная точность», как она способна проявиться в наше время.
Изначальную способность речи «казать» истину мы называем
«казовой» орудийностью языка в отличие от символической, утвердившейся
с момента преображения языка Христовой искупительной Жертвой.
Эволюция европейской литературы вплоть до наших дней главным образом
обусловлена процессом постепенной секуляризации символического языка и,
следовательно,
постепенным
утверждением
автора-творца
как
конститутивного
момента
поэтического
творчества.
Означенная
секуляризация, как уже отмечалось в книге, никогда не была полной и
окончательной. В самые поздние времена всеобщего безверия и
воинствующего атеизма поэтическое слово (пока оно остается поэтическим)
«[Наступило] время буквальной точности и всеобщего милосердия» (Hölderlin Fr.
Sämtliche Werke und Briefe. – Bd.4. – S.513).
55
О Гёльдерлине: «До сих пор он играет на фортепиано, однако в высшей степени
странно. Обратившись к этому занятию, он способен просидеть за фортепиано целый
день, снова и снова воспроизводя одну и ту же мелодию, по-детски незамысловатую, он
способен повторять ее сотни раз, без изменений, так что окружающим становится
невмоготу» (Вольф Г. Ук. сочинение. – С.227).
56
Является ли подлинной осуществляемая в сугубо эстетической сфере поэзия Лопе де
Вега? Конечно. Но видите ли… Дитя может резвиться, радоваться жизни и позволять
себе все только в благополучном доме, когда устои Истины представляются
незыблемыми – разве может им как-то повредить небольшая шалость? Высшие взлеты
творческого артистизма порождены именно этой ситуацией. Когда же дом разрушен,
тогда возможен, например, постмодернизм – в этом случае об эстетике лучше умолчать.
54
191
всегда чревато проявлением таящегося в его глубине изначального священносимволического смысла: свет слова57.
3.1.2. К ВОПРОСУ О «КАЗОВОЙ» ОРУДИЙНОСТИ ЯЗЫКА И
ИСТОКЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Вопрос о действительных (т.е. античных, греческих) истоках
герменевтики, вопреки утвердившемуся в XIX-XX вв. представлению о
библейской (главным образом протестантской) экзегетике как ее истоке, попрежнему сохраняет актуальность. Разрешению этого вопроса должна
предшествовать большая предварительная работа (едва начатая у нас) по
продумыванию глубокого отличия новоевропейского мышления от
греческого. Значит, вопрос о подлинных истоках герменевтики – это
одновременно вопрос об ограниченности объективирующего мышления,
характерного для субъективированного сознания новоевропейского человека.
Ограниченность, которая здесь имеется в виду, проявляется, в частности, в
том, что с помощью привычных для него понятий это мышление не может
ухватить ускользающую от него сущность того, что в новоевропейское время,
трансформировавшись, получило название герменевтики. Оказываясь
неспособным выйти за свои собственные пределы, объективирующее
мышление и исток герменевтики усматривает в пределах доступной для него
сферы.
Для того чтобы выйти из этого затруднительного положения,
мышление должно иначе определиться в отношении к языку, преодолев
понимание его как подручного средства для разного роды мыслительных
операций. Однако, преодолев такое отношение к языку, объективирующее
мышление перестанет быть самим собой, т.е. утратит свою сущность
(одновременно, по мнению М.Хайдеггера, сделав первый шаг к обретению
способности действительно мыслить). Значит, вопрос о греческих
Чревато, поскольку с момента утверждения священно-символической орудийности
язык (Имя, имена) неотрывно, сущностно сопряжен со священно-символическим
смыслом: будучи обращенным к Тайне, Имя «являет Тайну, и влечет мысль к новым
именам. И все они, свиваясь в Имя, в Личное Имя, живут в Нем: но Личное Имя – Имя
имен – символ Тайны, – предел философии, вечная задача ее» (Флоренский П.А. – Т.2.
У водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990. – С.150). Как видим, предел также поэзии –
в первую очередь поэзии. Философия – после. Сначала гимны сщмч. Дионисия
Ареопагита, потом Николай Кузанский. Пусть не будет сокрыто от нас, что глубинная
интенция теоретиков языка «между» заключается в искреннем (наивном) либо лукавом
(искушенном) отрицании Имени имен; исток этой интенции: «И призвавши их
(апостолов. – А.Д.), приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса»
(Деян. 4: 18).
57
192
истоках герменевтики – это вопрос о языке (по-гречески правильнее было бы
сказать: о способности речи), который сказывается нами и которому мы
принадлежим. Вопрос о языке, таким образом, становится не одним из целого
ряда других по-своему не менее интересных вопросов, но таким, который
касается изначальной сущности человеческого существования. Мысля язык
по-гречески, мы должны мыслить его как то ближайшее, в чем коренится
наша сущность и чем определяется наше человеческое существование.
Попытке увидеть исток герменевтики в античности противоречит, как
может показаться, тот факт, что Платону такая «дисциплина» неведома.
Однако это противоречие мнимое. Подобно тому, как вопрос о языке не
может быть поставлен в ряду других, казалось бы, равнодостойных
вопросов, но должен им предшествовать, так не может быть поставлен (не
будет правомерным) и вопрос об античной герменевтике как одной из
дисциплин, существующей наряду с другими.
Всякая попытка определения античной (греческой) герменевтики
становится на деле определением чего-то другого (мантики, экзегетической
грамматики, критики), но это другое вполне очевидным, но не вполне
понятным образом оказывается связанным с содержанием нашего
продумывающего сущность герменевтики мышления. Невозможность
определения греческой герменевтики как «дисциплины» и соскальзывание
любой попытки определения на нечто другое объясняется тем, что такой
«дисциплины» попросту не существует, поэтому ее нельзя «определить»58.
Этим фактом, однако вопрос об истоке герменевтики, имевшем место в
античности, не снимается.
Способность речи по-гречески – ἡ ἑρμηνεία. Герменейя для греков –
это дар богов, который позволил людям «давать друг другу участие во
всех благах путем учения и самим пользоваться ими сообща с другими,
законодательствовать и жить государственной жизнью»59. У Ксенофонта
говорится о герменейе, на которой утверждаются вторичные по
отношению к ней человеческие законы. Тайна герменейи, таким образом,
оказывается самой главной проблемой греческого мышления, в которой
таились ответы на другие, более частные по сравнению с ней, вопросы.
Вот почему не герменевтика была искусством толкования чего-либо (к
примеру, многозначных символов), но все искусства (τέχνη) и науки
(ἐπιστήμη), причастные слову (мантика, риторика, диалектика,
аподейктика, критика, грамматика), были попыткой толкования сущности
герменейи. Попутно были сформулированы положения, которые
впоследствии определили характер новоевропейской герменевтики:
«Соскальзывание» определений объясняется характером античной «герменевтики». К
примеру, «герменевтика» Аристотеля (трактат «Περὶ ‛ερμηνείας») «соскользнула» в
логику, так что ее никто и не заметил.
59
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М.: Наука, 1993. – С.129. Пер. С.И.Соболевского.
58
193
многосмысленное
толкование60,
взаимосвязь
части
и
целого
(герменевтический круг). К вопросу о сущности герменейи восходят такие
«далековатые» друг от друга, проходящие в настоящее время по разным
рубрикам вопросы, как, к примеру, проблема трагического (эстетика) и
проблема истинности или ложности высказываний (логика).
Приведенное выше суждение Ксенофонта свидетельствует о том, что,
вопрошая о законах речи, мы вопрошаем о чем-то таком, что определяет
законы человеческого существования. Что же это за законы, которые
изначальнее любых других законов? Откуда они?
Неопределенное Ксенофонтово «Боги дали нам… способность
речи…» уточняет Платон в диалоге «Кратил», в котором Сократ
рассуждает, в частности, о значении имени «Гермес»61. Если уместно
предположение, что не все в диалоге сводится к тому, чтобы изведать,
«каковы кони Евтифрона» (407d), и что в «забаве» Сократа есть доля
истины, в таком случае мы можем утверждать, что «измысленная»
Говоремыслом-герменевтом (Гермесом) речь – это и есть тот дар богов,
который Ксенофонт называет герменейей. Следовательно, герменейя
представляет собой ту первоначальную речь, все имена которой, будучи
даром богов, «действительно суть имена» (429в), т.е. соответствует
природе вещей и именно поэтому обладают властью (δύναμις) над людьми.
Познать имена, стало быть, – значит познать открываемую ими природу
вещей. Но ведь это и есть то традиционное понимание греками
орудийности не только истинных имен как наименьшей части истинной
речи (см.: 385с), но и истинной речи в целом, которое ставится под
сомнение, но не опровергается в диалоге «Кратил». Герменейя, таким
образом, и есть та речь, которая хранит в себе божественность своего
происхождения и именно поэтому выводит на свет («кажет») истину, – вот
почему причастность к ней означает одновременно принадлежность
истине. Память об этом опыте переживания речи-герменейи, не вполне
ясном, очевидно, уже для греков «классической» поры, звучит в элегии
Ф.Гёльдерлина «Хлеб и вино»:
Где оно светит теперь, далекоразящее слово?
Дельфы дремлют, но где к нам возглаголит судьба?62
Возникновение в Древней Греции различных «искусств» и «наук», по
разному «интерпретирующих» герменейю, связано с тем, что в определенный
исторический момент причастность к ней становится проблематичной.
3.1.3. О «ЧИСТОЙ» ЛИРИКЕ И СУЩНОСТИ ЯЗЫКА
См.: Данте Алигьери. Малые произведения. – М.: Наука, 1968. – С.135-136.
См.: Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1990. – С.642, 407е-408в.
Пер. Т.В.Васильевой.
62
Гёльдерлин Ф. Сочинения. – М.: Худож. лит., 1969. – С.137. Пер. С.С.Аверинцева.
60
61
194
Но прежде всего давай
остережемся одной опасности…
Чтобы нам не сделаться ненавистником всякого слова, как иные
становятся человеконенавистниками, ибо нет большей беды,
чем ненависть к слову.
Платон
Актуальной для того или иного исторического периода
орудийностью языка самым непосредственным образом определяется
характер поэтического творчества. Однако лишь «казовая» и
символическая орудийность языка имеют отношение к поэзии, тогда как
новоевропейский инструментализм с самого начала обнаруживает свою
антипоэтическую сущность. И Пиндар, и Дионисий Ареопагит по-разному
«воспевают в гимнах» свою причастность к божественному слову (к
божественной истине), – и ни у кого не возникает сомнения, что это и есть
самое серьезное и самое нужное людям дело. Совсем другое отношение к
поэзии начинает складываться, когда утверждается инструменталистское
понимание языка: дело (дельность) и поэзия постепенно становятся
занятиями противоположными – настолько, что сам поэт перестает,
наконец, в этом сомневаться и радуется, если ему удается сделать чтонибудь реальное: «не все, дескать, мы стишки пишем!…»63
Мы рассмотрим теперь, каким образом «казовая» и символическая
орудийность языка проявляются в лирической поэзии, определяя,
обусловливая ее чистоту.
В 1890 году в статье «О лирической поэзии» В.С.Соловьев выступил
против теории литературных родов Гегеля (против «ходячей гегельянской
схемы»). Отвергая понимание лирики как поэзии субъективности,
В.С.Соловьев ссылается на Я.П.Полонского, утверждавшего, что это такое
определение, от которого «ничего не жди хорошего»64. Антигегелевский
пафос упомянутой статьи не подкрепляется, однако, ее реальным
содержанием, поскольку автор, вопреки намерениям, так за пределы
«гегельянской схемы» и не выходит. В самом деле, основное положение
В.С.Соловьева, призванное, очевидно, утвердить иное, по сравнению с
гегелевским, понимание сущности лирического рода, при ближайшем
рассмотрении оказывается почти цитатой из «Лекций по эстетике». Так,
В.С.Соловьев пишет, что в «поэтическом откровении… внутренняя красота
Достоевский Ф.М. Идеалисты-циники // Достоевский Ф.М. Полн. собр. сочинений: В
30 т. – Т.23. – Л.: Наука, 1981. – С.65.
64
См.: Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. – М.: Искусство,
1991. – С.399.
63
195
души человеческой» должна состоять в «созвучии с объективным смыслом
вселенной»65.
Здесь достаточно напомнить, что именно с «общих элементов бытия
и его состояний», составляющих «содержание лирики», начинает свой
разговор об этом литературном роде немецкий философ 66. «Субъективный
характер всей этой сферы», – утверждает Гегель, – не должен «хотеть
уклониться от общих законов красоты и искусства»67.
Указывая далее на задушевность как на отличительную особенность
лирических произведений, на «совершенную слитность» в них
«содержания и словесного выражения», а также на их обращенность «к
основной постоянной стороне явлений», В.С.Соловьев формулирует такие
выводы, которые не только не противоречат, но вполне согласуются с
выводами Гегеля и разве что, вследствие краткости статьи, менее полно
охватывают предмет68. Это согласие настолько очевидно, что
представляется излишним его обосновывать69. Гораздо любопытнее
разобраться в причинах такого результата, вполне противоположного, как
видим, заявленной в начале статьи цели. Ответ на этот вопрос будет по
необходимости кратким.
Причины, на мой взгляд, заключаются в том, что В.С.Соловьев,
подобно Гегелю, своеобразие лирики пытается осмыслить в границах
представляющего мышления: «Предметом поэтического изображения
могут быть не переживаемые в данный момент душевные состояния, а
пережитые и представляемые»70. При этом, вполне в духе своего
предшественника, В.С.Соловьев полагает, что сущность лирики может
открыться лишь «метафизическому объяснению»71. Эти общие с Гегелем
основоположения не могли не привести к близким, если не
тождественным, выводам.
И, тем не менее, мы проявили бы непростительную близорукость, если бы
не смогли в наше время, спустя сто с лишним лет, рассмотреть в статье
В.С.Соловьева нечто большее, нежели простое недоразумение. Пафос этой
статьи, направленной против Гегеля, представляется мне в высшей степени
симптоматичным: он порожден реально присутствовавшими в русской
филологии тенденциями, противостоявшими гегелевской эстетике. Эти
тенденции заявили о себе как возможность в пушкинское время, а затем, так и
не выявившись по-настоящему, не обретя адекватной им по глубине
Там же. – С.401.
См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – С.292, 305.
67
Там же. – С.308.
68
См.: Соловьев В.С. Ук. книга. – С.401-402.
69
См., напр., о задушевности лирики: Гегель Г.В.Ф. Ук. книга. – С.300, 308 и др.
70
Соловьев В.С. Ук. книга. – С.399. Ср. это высказывание с ключевым для всей теории
литературы XIX века параграфом («Поэтическое представление») «Лекций по
эстетике»: Гегель Г.В.Ф. Ук. книга. – С.194-199.
71
Соловьев В.С. Ук. книга. – С.401.
65
66
196
артикуляции, остались недовоплощенными, при этом подспудно будоражили
мысль наиболее чутких и проникновенных русских мыслителей, вызывая
(часто неосознанное и не вполне понятное самому мыслителю) желание
противостоять сложившемуся в эстетике положению вещей. Слова
А.С.Пушкина, обращенные к А.А.Дельвигу: «Ты пеняешь мне за Московский
Вестник – и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю
ее…»72 – обретают, таким образом, принципиальность и перспективу: они
порождены тем же требованием, что и статья метафизика из метафизиков
В.С.Соловьева.
Что это за требование, которое было внятно Пушкину и которое, не
будучи столь же внятно В.С.Соловьеву, все же заставляет его превозмочь
самого себя: предложить метафизическое объяснение сущности лирики,
совпадающее с гегелевским, и одновременно подать голос против такого
объяснения? Этот вопрос, в отличие от предыдущего, вводит нас внутрь
такой ситуации, которая не допускает краткого ответа, как бы нам ни
хотелось им ограничиться. Определения и формулировки, столь любимые в
современном литературоведении, здесь ничего не дают. В ситуации, в
которой мы оказались, необходим разговор, который, может быть, к чему-то
нас приведет. Для начала лишь замечу, что Пушкин говорит о немецкой
метафизике, а не о метафизике вообще: для него это различие существенно.
Обращение к Пушкину позволяет нам глубже понять смысл тех
противоречий, которые мы обнаружили в размышлениях В.С.Соловьева о
лирике.
В 1827 году в статье «Стихотворения Евгения Баратынского» Пушкин
высказывает такое понимание литературных родов, которое не только при
поверхностном, но и при более внимательном рассмотрении не может не
вызвать удивления: «Нынче вошло в моду порицать элегии, как в старину
старались осмеять оды; но если вялые подражатели Ломоносова и
Баратынского равно несносны, то из того еще не следует, что роды
лирический и элегический должны быть исключены из разрядных книг
поэтической олигархии»73. Противопоставляя оду элегии как лирическое
произведение не лирическому, Пушкин очевидным образом противоречит
нашим привычным представлениям об этих жанрах. Легче всего было бы
извинить Пушкина незнанием теории литературных родов Гегеля, однако
проблема здесь гораздо серьезнее. Перед нами два разных понимания
сущности лирического рода, причем пушкинское не только имеет равное с
гегелевским право на существование, но является в принципиальном для нас
отношении более глубоким. Уточню, что пушкинским я называю его
условно, здесь речь должна идти о традиции, к которой Пушкин причастен.
Несколькими годами ранее В.К.Кюхельбекер писал: «…Ода, …без сомнения,
Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений: В 10 т. – Т.10. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
– С.226.
73
Там же. – Т.7. – С.51.
72
197
занимает первое место в лирической поэзии, или, лучше сказать, одна
совершенно заслуживает название поэзии лирической»74. Традиция, которая
имеется здесь в виду, открывала путь к более глубокому пониманию природы
лирического слова, поскольку все, кто принадлежал к ней, в своих
размышлениях о сущности лирики исходили из природы самого слова:
«Лирическая поэзия… тем превосходнее, чем более возвышается над низким
языком черни, не знающей вдохновения»75.
Такое отношение к языку невозможно в тех границах, в которых мыслит
своеобразие лирики Гегель; для него «самые слова являются лишь знаками
для представлений» (здесь и далее выделено Гегелем. – А.Д.): «поэтический
язык по своему происхождению в сущности заключается не в выборе
отдельных слов, не в способе их сопоставления в фразы и разработанные
периоды, не в благозвучии, не в ритме, не в рифме и т.д., но в характере и
свойстве представления. Поэтому исходную точку для оформленного
выражения мы должны искать в оформленном представлении, и наш первый
вопрос неизбежно касается формы, которую должно принять представление,
чтобы достигнуть поэтического выражения»76.
Забегая несколько вперед, скажу, что для формирующейся традиции
русской филологии язык – основа всякого духовного опыта, в том числе и
художественного: он «ведет» поэта, поскольку «сам по себе уже поэт»77. Вот
почему в любом разговоре о литературных родах оказывается невозможным
игнорировать изначальность вопроса о языке. Для Гегеля, как видим,
изначален вопрос о характере представления, для которого слова – лишь
средство, «знаки». Двусмысленность ситуации, в которой оказался
В.С.Соловьев, выступивший против «гегельянской схемы», заключается в
том, что тем самым он выступил и против самых основ своей собственной
философии, и порождена эта ситуация его причастностью к традиции
русской филологии, которая к тому времени, когда писалась его статья, была
уже почти забыта.
Значение статьи В.С.Соловьева, стало быть, заключается в том, что
она, будучи, очевидно, вполне философской (эстетической), хранит память
о том, что осталось нереализованным в русской филологии, хранит память
о едва наметившемся когда-то противостоянии русской филологии
немецкой метафизике. Но не только в этом. В.С.Соловьев не был бы
выдающимся мыслителем, каковым, без сомнения, является, если бы
пафос его статьи не подкреплялся хотя бы одним, хотя бы ненароком
высказанным замечанием, которое на самом деле давало бы возможность
Кюхельбекер В. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее
десятилетие // Декабристы: эстетика и критика. – М.: Искусство, 1991. – С.252.
75
Там же.
76
Гегель Г.В.Ф. Ук. книга. – С.193.
77
Гоголь Н.В. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? //
Гоголь Н.В. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.6. – М.: Худож. лит., 1967. – С.411.
74
198
выхода за пределы «гегельянской схемы». Такое замечание В.С.Соловьев
высказывает, когда, кажется, меньше всего думает о Гегеле и его схеме:
«Не одна только трагедия служит к очищению (κάαρσις) души: быть
может, еще более прямое и сильное действие в этом направлении
производит чистая лирика на всех, кто к ней восприимчив»78.
Данное высказывание, без сомнения, принадлежит к числу
важнейших в статье, несмотря на то, что в него вкралась ошибка,
обусловленная общеэстетической позицией В.С.Соловьева. Он делает
здесь едва заметный шаг в сторону от представляющего мышления (от
новоевропейской метафизики, не покидая, разумеется, ее пределов),
высказывая предположение, что и лирике, наряду с трагедией (а это
обсуждению не подлежит, это аксиома), свойственен катарсис, даже,
может быть, в большей мере. Кажется, что В.С.Соловьев движется здесь
вслед за Аристотелем, дополняя его. На самом деле это не так. Аристотель,
в отличие от В.С.Соловьева, движется в противоположном направлении –
к метафизике, поэтому его понимание катарсиса имеет иной характер.
Аристотель возражает против платоновской негативной оценки
трагедии79, утверждая, что и ей свойственен катарсис, тогда как наличие
такого свойства, к примеру, у гимнов Пиндара, которые «записывались
золотыми буквами и помещались в храмах в виде священных приношений»80,
он никогда и не подумал бы отрицать. Таков, на мой взгляд, смысл
высказывания Аристотеля в «Политике», которым он состояние жалости и
страха уравнивает в правах с состоянием религиозного энтузиазма: «И
энтузиастическому возбуждению подвержены некоторые люди, впадающие в
него, как мы видим, под влиянием религиозных песнопений, когда эти
песнопения действуют возбуждающем образом на душу и приносят как бы
исцеление (ἰατρεία) и очищение (κάαρσις). То же самое неизбежно
испытывают и те, кто подвержен состоянию жалости и страха…; все такие
люди получают некое очищение и облегчение, связанное с удовольствием;
точно так же песнопения очистительного характера доставляют людям
безобидную радость»81.
Реальным следствием выводов Аристотеля относительно трагедии
стало повышение ее статуса. Переоценка Аристотелем трагедии
свидетельствовала о коренном, глубочайшем перевороте в понимании
Соловьев В.С. Ук. книга. – С.404.
См., например, в диалоге «Кратил» рассуждение Сократа, толкующего слово «Пан»:
«…Истинная часть его гладкая, божественная и витает в горних высях, среди богов, а
ложная находится среди людской толпы – косматая, козлиная. Отсюда и большинство
преданий и вся трагическая ложь» (Платон.Собр. сочинений. – Т.1. – С.643, 408 с.).
80
Якубанис Г. Эмпедокл: философ, врач и чародей. Гёльдерлин Ф. Смерть Эмпедокла.
– К.: СИНТО, 1994. – С.39. См. также: Павсаний. Описание Эллады: В 2 т. – Т.2. – М.:
Ладомир, 2002. – С.194.
81
Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т.4. – М.: Мысль, 1983. – С.642, 1342а 7-16. Пер.
С.А.Жебелева.
78
79
199
поэтического творчества: своими словами о трагическом катарсисе он
разрушает незыблемость границы между манической82 и миметической
поэзией. Ближайший предшественник Аристотеля Платон, без сомнения,
отнесся бы к этому выводу как к легкомысленному и вредному. В
идеальное государство Платоном допускается только истинная
словесность, к которой относится, во-первых, вся маническая поэзия,
поскольку она является боговдохновенной, священной: это «гимны богам
и… хвалебные песни даймонам и героям»83; во-вторых, частично
миметическая, когда она подражает богу как причине блага, а не зла84, а
также «способу выражения человека порядочного» (163, 398в. Пер. А.Н.
Егунова) в соответствии с установленными в государстве образцами. Для
драматического рода места в идеальном государстве нет, поскольку он, в
отличие от смешанной, маническо-миметической эпической поэзии,
«целиком складывается из подражания» (159, 394с) и в силу самой своей
природы неизбежно уклоняется от установленных образцов, т.е.
подражает недостойным людям и не останавливается перед «россказнями»
(146, 381е) про богов (впадает в ложь, а «в боге не живет лживый поэт» –
147, 382d). Учителя не будут обращаться к таким сочинениям «при
воспитании юношества, так как стражи должны… быть благочестивыми и
божественными, насколько это под силу человеку» (148, 383с).
Освобождаясь от ложного и недолжного подражания (от каких попало и
кем попало выдуманных мифов (см.: 140, 377в), от трагедий и комедий),
поэзия очищается, и в результате «чистым» (166, 399е) становится
государство. В высшей степени неразумно поэтому и не благочестиво
было бы, согласно Платону, говорить о каком бы то ни было
«трагическом» катарсисе.
Однако именно аристотелевское понимание трагедии стало впоследствии
общепринятым. Ф.М.Достоевский идет вслед за Аристотелем, когда пишет в
подготовительных материалах к «Дневнику писателя»: «Древняя трагедия –
богослужение, а Шекспир отчаяние»85. Поскольку Гегель был наиболее
глубоким и полным выразителем новоевропейского понимания сущности
словесного творчества, постольку для действительного выхода за пределы его
«схемы», касающейся литературных родов, необходим такой же по глубине и
масштабам переворот, какой был совершен в свое время Аристотелем.
Невозможность для В.С.Соловьева осуществления такого переворота
объясняется, как уже говорилось, его общефилософской и эстетической
позицией.
См.: Платон. Собр. сочинений. – Т.1. – С.372-385; Т.2. – С.152-166 и др.
Там же. – Т.4. – С.253-254, 801е. Пер. А.Н.Егунова.
84
Там же. – Т.3. – С.143, 379с. Далее страницы и абзацы третьего тома указаны в
тексте.
85
Достоевский Ф.М. Полн. собр. сочинений: В 30 т. – Т.24. Л.: Наука, 1982. – С.160.
82
83
200
В.С.Соловьев утверждает, что способностью к очищению обладает
«чистая лирика». Однако его объяснение того, что такое «чистая лирика»,
остается лишь предварительным, что, впрочем, осознает и сам автор. Шаг
к прояснению сущности «чистой лирики» суждено было сделать
В.И.Иванову, который, благодаря присущей ему широте кругозора, сумел
расслышать в статьях Н.В.Гоголя о русской поэзии нечто такое, что
ускользало от внимания других, не менее искушенных читателей.
Очевидно, в начале ХХ века без такой широты кругозора и одновременно
без специальной ориентированности на греческую культуру уже нельзя
было уяснить то, что само собой, в силу причастности к еще не
прерванной традиции, открывалось в пушкинское время.
В «Спорадах» В.И.Иванов пишет: «Гиератический стих, которого, как
это чувствовал и провозглашал Гоголь, требует сам язык наш
(единственный среди живых по глубине запечатления в его стихии типа
языков древних), – отпраздновав свой келейный праздник в не
расслышанной поэзии Тютчева, умолк. И в наши дни, дни реставрации
«Поэтов», немногие из них не боятся слова, противоречащего обиходу
житейски вразумительной, «простой и естественной» речи, – у немногих
можно наследить и вещий атавизм древнейшей из стихотворных форм –
гиератического стиха заклинаний и прорицаний»86.
Комментатор В.М. Толмачев считает, что выражение «гиератический
стих» происходит «от греческого слова «гиерофант» (высший жрец при
Элевсинских мистериях; гиерофанты торжественно открывали мистерии и
провозглашали священные откровения)»87. Это толкование, не будучи
безукоризненным с точки зрения лингвистической, является тем не менее
правомерным, так как строго следует логике рассуждений В.И.Иванова. ἱεροφάντης буквально значит: являющий нечто священное. Вторая часть этого
слова соотносится с прилагательным φανερός – явный, ясный, очевидный,
открытый. Гиерофант, следовательно, вводит священное в область явленного,
открытого, делая его очевидным и приобщая тем самым к нему. Значит ли
это, что речь, которая «кажет» священное, оказывается одновременно
обычной, «житейски вразумительной» речью, так что любой человек,
«владеющий» ею, может со знанием дела, имея для этого досуг и желание,
потолковать, в том числе, и о священном, явленном в речи? Об этом
размышлял в свое время Гераклит, который сам был гиерофантом если не
формально, то по существу. Полагая, что «сокровенная связь могущественнее
явной» (ἁρμονίη ἀφανής φανερῆς κρείττων88), Гераклит утверждает: «Владыка,
его прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не скрывает, но указывает,
намекая» (DK 93, здесь и далее перевод мой. – А.Д.).
Иванов В.И. Родное и вселенское. – М.: Республика, 1994. – С.81.
Там же. – С.405.
88
Die Fragmente der Vorsokratiker. Bd.1. – Berlin, 1906. DK 54.
86
87
201
Слова «указывает, намекая» очень приблизительно передают смысл
греческого глагола «σημαίνει». Полнее помогает охватить этот смысл
набор слов, который предлагается словарем: обозначать, отмечать,
указывать, показывать, объявлять, приказывать, давать знак, сигнал.
Приоткрываемый этими словами смысл таков: священная речь (речь бога)
не говорит и не утаивает, но оставляет («кажет») знаки, меты в языке – для
понимающих. В немецком переводе σημαίνει предстает как er deutet an, что
по-русски может быть понято: «истолковывает, указывая». С помощью
deutet в греческом глаголе схватывается то, что ускользает от нас в
русскоязычных переводах. Доверившись немецкому слову, мы можем
утверждать, что священная речь не подлежит истолкованию, но сама уже
есть истолкование, которое должно быть услышано. Истолковывая,
священная речь выявляет сокровенные связи в присутствующем,
несокрытом. Ее существо, стало быть, заключается в том, что она является
божественным даром истинных имен (ἑρμηνεία): священная речь
принадлежит богу, который, ведая о тайных связях и даруя людям
(учреждая) имена, способные «казать» истину (являть тайные связи), по
праву может быть назван толкователем, герменевтом (ἑρμηνεύς). Человек,
который всерьез захотел бы претендовать на роль герменевта (толкователя
– творца священной речи), совершил бы тем самым святотатство, но
будучи причастным к герменейе (священной речи), он вполне мог стать
гиерофантом, т.е. исполнителем того, что приходило к явленности в слове
герменевта.
Подтверждение сказанному находим во второй Олимпийской оде
Пиндара, в которой впервые встречаемся со словом «герменевт»:
Много у меня
под локтем внутри колчана
быстрых стрел,
обладающих даром речи для понимающих;
«герменевтов» же («вещателей») страстно жаждет толпа.
Мудрый многое знает по природе;
неистовые же [ученики «герменевтов»],
которые обучаются болтовне (παγγλωσσία, букв.:
всеязычие),
подобно воронам, попусту сотрясают воздух (каркают)
рядом с божественной птицей Зевса.89
Природный дар понимания божественной речи, говорит Пиндар,
никаким учением не заменишь; не разумеющие этого «герменевты»
(вещатели «истин» для толпы) могут стать творцами разве что болтовни, но
только не «герменейи», которая тем и отличается от «всеязычия», что свято
хранит истину. Сравните с тютчевским стихотворением «В деревне», в
89
Pindarus. Carmina cum fragmentis. – Pars 1. – Lipsiae, 1980. – Р.11-12, 83-89.
202
котором в роли такого же самозванного «герменевта» выступает
«современный гений», истолковывающий (осмысляющий) то, что заведомо
лишено смысла:
Так современных проявлений
Смысл иногда и бестолков, –
Но тот же современный гений
Всегда их выяснить готов.
Иной – ты скажешь – просто лает,
А он свершает высший долг, –
Он, осмысляя, развивает
Утиный и гусиный толк!90
Две с половиной тысячи лет спустя слово Пиндара нашло отклик в
поэзии Тютчева: не в качестве герменевта, но в качестве гиерофанта, свято
воспроизводящего открытое ему («не свое»), предстает поэт, когда пишет:
Стоим мы слепо пред Судьбою,
Не нам сорвать с нее покров…
Я не свое тебе открою,
Но бред пророческий духов…91
Природа поэтического слова Тютчева, следовательно, заключается в
том, что оно, подобно слову Пиндара или Гераклита, не говорит и не
утаивает, но, будучи причастно священному – в его изначальном
проявлении, – оставляет меты в языке, «тайно светит».
Другое понимание сущности гиератического стиха русской поэзии
находим у Н.В.Гоголя, на которого В.И.Иванов ссылается: «…В лиризме
наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно –
что-то близкое к библейскому, – то высшее состояние лиризма, которое
чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное
торжество духовной трезвости»92; при этом называются имена
Ломоносова, Державина, Пушкина, Языкова. Здесь, разумеется, говорится
не о трезвости, не выходящей за пределы так называемого здравого
смысла, но о том «духовном трезвении», которому посредством
гиератического стиха открывается высший смысл. Верховным источником
этого высшего (то есть «чистого») лиризма, утверждает Н.В.Гоголь,
является устремленность к Богу (но также любовь к России и любовь к
Царю93). Н.В.Гоголь, таким образом, имеет в виду православную
традицию. Поэтому, следуя логике его рассуждений выражение
«гиератический стих» следует возводить к греческому ἱερός (священный,
святой; не случайно выражение ὁ ἱερòς λόγος совсем не характерно для од
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.2. – М.: Классика, 2003. – С.205.
Там же. – С.67.
92
Гоголь Н.В. О лиризме наших поэтов // Гоголь Н.В. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.6. –
С.237.
93
См.: там же, с.238-240.
90
91
203
Пиндара, тогда как, к примеру, для сочинений Дионисия Ареопагита –
одного из основных зачинателей православной традиции – оно в высшей
степени характерно). Н.В.Гоголь существо русского языка усматривает в
священном смысле, заключенном в нем, возводя к этому смыслу и чистую
лирику. Такой гиератический стих, следовательно, не являет, не вводит в
присутствие священное, как это было в Древней Греции, но сам по себе
является священным – в той мере, в какой наделяется способностью
указывать на сверхъязыковую сущность священного, имея в нем и свой
собственный исток. Этот стих тоже «тайно светит», но в этом свете еще
должно просиять то, что по самой своей сути не иноприродно, как у
Пиндара («мудрый многое знает по природе»), а сверхприродно.
Со словами о «гиератическом стихе» может быть соотнесено другое
суждение В.И.Иванова, навеянное высказыванием одного из немецких
философов: «Как Шопенгауэру казалось, что истинный стих от века
предопределен и зачат в стихии языка, так – мнится – искони посеяны в ней и
всякое гениальное умозрение, отличительное для характера нации, и всякая
имеющая процвести в ней святость. И Пушкин, и св. Сергий Радонежский
обретают не только формы своего внутреннего опыта, но и первые тайные
позывы к предстоящему им подвигу под живым увеем родного «словесного
древа», питающего свои корни в Матери-Земле, а вершину возносящего в
тонкий эфир софийской голубизны»94. В.И.Иванов упоминает здесь
высказывание А. Шопенгауэра, в котором немецкий философ пытается
раскрыть тайну воздействия стихотворной речи – «метра и рифмы»: «Я
объясняю это тем, что удачно рифмованные стихи вызывают своим
неописуемым эмфатическим действием ощущение, будто выраженная в них
мысль была уже представлена, даже предобразована в языке и поэту
оставалось только найти ее там»95.
Не трудно заметить, что В.И.Иванов не просто повторяет мысль
А.Шопенгауэра, но существенным образом ее переосмысляет и – углубляет,
поскольку у него речь идет не просто об «удачно рифмованных стихах»
(обязательно ли быть поэтом, чтобы уметь удачно рифмовать?), но об
«истинном стихе». Нет сомнения, что «истинный стих», предопределенный и
зачатый в стихии языка, следует толковать как тот «гиератический стих»,
выявляющий сущность русского языка, в котором подлинно лирическое
(«высший лиризм») и священное оказываются тождественными. Это
толкование вполне соответствует духу наметавшейся в пушкинское время
традиции русской филологии, к которой обнаруживает такую чуткость
В.И.Иванов. Он ведь и на высказывание А.Шопенгауэра обратил внимание
только потому, что почувствовал в нем что-то очень родное, давно знакомое,
слышанное когда-то и пережитое. В те же годы, когда А. Шопенгауэр
Иванов В.И. Ук. книга. – С.397.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Т.2. – М.: Наука, 1993. – С.451. Пер.
М.И.Левиной.
94
95
204
размышлял о тайне стихотворной речи, Н.В.Гоголь высказал мысль, что
русский язык – «сам по себе уже поэт»96, по-видимому, подразумевая то же
самое, но на самом деле нечто иное. Русский язык – поэт, по мысли
Н.В.Гоголя, не потому, что из него можно извлечь как бы предобразованные
мысли для удачно рифмованных стихов, но потому, что в его глубине таится
живой источник всякой истинно поэтической строки. Приобщение к этому
источнику, истоку, позволяет не просто понять, но всем существом пережить
истинно лирическое как священное, а священное как истинно лирическое. Это
и есть тот высший лиризм гиератического стиха, который оказывается
могущественнее любых рассуждений и доказательств, становясь одновременно
для русского человека тем духовным домом, в котором и образ России как
дома впервые восполняется до целости: «Скорбью ангела загорится наша
поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет
в самые огрубелые души святыню того, что никакие силы и орудия не могут
утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию – нашу русскую Россию», ту,
в которой «мы… действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на
чужбине»97. Ближайшим образом рассуждения Гоголя о сущности русской
поэзии коренятся в пушкинском:
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».98
Но в данном случае не хотелось бы ограничиваться указанием лишь
на ближайшую традицию. Общий корень рассуждений Гоголя и
Шопенгауэра, как и поэтического высказывания Пушкина, весьма
отдаленный по времени, мы находим в сочинении Дионисия Ареопагита
«О божественных именах»: «Этому следуя богоначальному руководству,
которое управляет всеми святыми порядками сверхнебесных сущностей,
поистине почитая превышающее ум и сущее сокровенное Богоначалие,
неисследимое даже священным, испытывающим благоговейный страх
умом, неизреченное же почитая целомудренным молчанием, мы
оказываемся приподнимаемы к сияющим нам в священных речениях (ἐν
τοῖς ἱεροῖς λογίοις) лучам. И ими световедомые к богоначальным гимнам,
ими сверх всякой упорядоченности просвещаемые и к священным
гимноречениям (πρὸς τὰς ἱερὰς ὑμνολογίας) преобразуемые, как и к
созерцанию соразмерно через них даруемых богоначальных светов, мы
обретаем способность воспевать в гимнах благодатное начало всех
Гоголь Н.В. Собр. сочинений: В 7 т. – Т.6. – С.411.
Там же. – С.411-412.
98
Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений: В 10 т. – Т.2. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. –
С.341.
96
97
205
священных светоявлений, насколько оно само себя в священные речения
(ἐν τοῖς ἱεροῖς λογίοις) передало»99.
Слова А.С.Пушкина: «В XI веке древний греческий язык…
усыновил» «славяно-русский»100, – обретают, таким образом, еще одно
подтверждение и новый (или позабытый старый) смысл. Вместе с тем
вопрос о тютчевской поэзии в ее соотнесенности с «казовой»
(изначальной) орудийностью языка остается все еще не проясненным.
Предпримем еще одну попытку ответить на этот вопрос, обратившись к
стихотворению Ф.И.Тютчева «Silentium!».
3.1.4. СТИХОТВОРЕНИЕ Ф.И.ТЮТЧЕВА «SILENTIUM!»
Вопрос «Что такое язык?» в большей степени, чем какой-либо другой,
определяет сущность духовной ситуации ХХ – начала XXI вв. Значение этого
вопроса выходит далеко за пределы того чисто профессионального интереса,
когда различные ученые устанавливают на язык различные точки зрения, а
потом с удовольствием обсуждают их на конференциях. Устанавливать
различные точки зрения – значит, делать язык предметом представления,
объективировать его. Однако исполненный драматизма опыт Л.
Витгенштейна свидетельствует о том, что даже выдающемуся мыслителю не
под силу втиснуть всю глубину вопроса о языке в границы представляющего
мышления. Не спасает положения и попытка таким образом понятый язык
объявить определяющим жизненные формы. «Представить же себе какойнибудь язык, – читаем в «Философских исследованиях», – значит
представить некоторую форму жизни»101. Будучи представленной, «форма
жизни», в конечном счете, оказывается творением не языка, а
субъективированного (представляющего) сознания, которое одновременно
является конститутивным моментом и «представленного» языка.
Приведенное высказывание, следовательно, остается вариацией более
раннего утверждения Л. Витгенштейна – §5.6 из его «Логико-философского
трактата». Это утверждение, за пределы которого Л. Винтгенштейн, кажется,
так и не вышел, гласит: «Границы моего языка (выделено автором. – А.Д.)
означают границы моего мира»102. Перед нами такое высказывание, которое,
как раз в силу своей принципиальной значимости для автора, позволяет нам
Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – СПб.:
Глаголъ, 1994. – С.18.
100
Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений: В 10 т. – Т.7. – С.27.
101
Витгенштейн Л. Философские работы. – Ч.1. – М.: Гнозис, 1994. – С.86. Пер.
М.С.Козловой и Ю.А.Асеева.
102
Там же. – С.56.
99
206
усомниться в справедливости вывода М. Мамардашвили, что именно с Л.
Витгенштейна начинается в нашем столетии «новая философская мысль»103.
Усомниться, потому что Л. Витгенштейн, по-видимому, прошел мимо
того поворота в соотношении языка и мышления, которым, собственно, и
отмечено начало «новой философской мысли». Для того чтобы
прояснился характер этого поворота, необходимо в высказывании Л.
Витгенштейна в обоих случаях убрать притяжательное местоимение; оно в
результате приобретет следующий вид: «Границы языка означают
границы мира». Однако, будучи таким образом измененным, это
высказывание попадает в контекст уже хайдеггеровской, а не
витгенштейновской проблематики.
Л. Витгенштейн уверен, что подлинное мышление может
осуществляться лишь в границах «моего» (мне принадлежащего) языка.
М.Хайдеггер проблематизирует саму способность мышления, утверждая,
что возможность ее обретения лежит на «пути к языку»104, который по
отношению к мышлению изначален. В этом и заключается смысл того
поворота, о котором было сказано выше. Используя удачное выражение
М. Фуко, этот поворот можно было бы обозначить как «возвращение
языка». Язык, возвращаясь, «открывает» себя мышлению; мышление, в
свою очередь, «открывает» для самого себя факт своей принадлежности
языку. И здесь уже истина не формулируется в пределах принадлежащего
мне языка, но присутствует в горизонте языка, превышающем границы
субъективированного сознания.
Позиции М.Хайдеггера и Л. Витгенштейна, как видим,
противоположны настолько, насколько это вообще возможно. Но эти
противоположные позиции порождены единой духовной ситуацией.
Ситуация эта герменевтична по самой своей сути, но характер ее
герменевтичности особый. Истолкованию предстоит здесь не нечто,
выраженное в языке, а сам язык. Мы сталкиваемся, таким образом, с
вопросом, предшествующим не только любой конкретной науке, но и
самой герменевтике как отдельной дисциплине с определенным кругом
относящихся к ней проблем. Вот почему, игнорируя изначальность вопроса о
языке, профессиональная герменевтика в этой новой ситуации может
оказаться менее герменевтичной, нежели, к примеру, «Логико-философский
трактат», который из этого вопроса исходит. Герменевтичность, о которой
здесь идет речь, не сводится к какой-то новой методологии, отменяющей или
потеснившей прежние, но является некоей общей почвой всех дисциплин,
причастных слову: эта общая почва, если она действительно, как в случае
М.Хайдеггера, обретена, изменяет природу мышления как такового. Язык,
Мамардашвили М. Картезианские размышления. – М.: Прогресс; Культура, 1993. –
С.34. См. также: Аналитическая философия: Избр. тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1993. –
С.29, 162.
104
См.: Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – М.: Гнозис, 1993. – С.259-273.
103
207
который «открывает» себя мышлению, преобразуя его, и язык, который
мышление привыкло считать подручным средством для всякого рода
мыслительных операций, – это, стало быть, не две стороны одного явления,
но два разных явления, которые нужно научиться различать.
Откуда приходит этот «открывающий себя мышлению» язык? Нашему
сознанию, всегда в таких случаях по инерции следующему определенным
установкам элементарно понятой метафизики, сразу же представляются
некие запредельные дали, из которых посредством языка к нам доходят
«сигналы». Мы полагаем, что предметом нашего рассмотрения в этом случае
является «открывающий себя» язык, однако на самом деле по-прежнему
остаемся при «служебном», «подручном» языке, изменяя только масштабы
этой «служебности». «Открывающий себя» язык ниоткуда не приходит. Он
пребывает всегда в качестве ближайшего, и в этом ближайшем, независимо
от того, осознаем мы это или нет, коренится наша сущность.
– «Ἄγχιστος γὰρ εἶ»105 («ибо ближайший [ты] есть»), – говорит
Иокаста, обращаясь к Аполлону. Ближайшим для Иокасты (и для других
героев трагедии «Царь Эдип») является слово Аполлона, которое, все в
большей и большей степени «открывая себя» в ходе развертывания
действия, выводит тем самым на свет долженствующую свершиться
необходимость (α̉νάγκη) и тождественно ей. Необходимость, явленная
словом Аполлона, следовательно, не извне навязывает себя
присутствующему, но причастна ему изначально и проявляется в нем
таким образом и в такой степени, в какой присутствующее способно и
готово ее принять, «прияти», в том числе и в смысле «перенести,
претерпеть».
В качестве ближайшего «открывающий себя мышлению» язык
возвращает нас, после все наших трансцендентных исканий, к нашей
изначальной сути, в наш «дом» (М.Хайдеггер), который мы давно
покинули и о существовании которого забыли. Хайдеггеровский «дом»
может быть назван еще – «истоком»106. Об этом «истоке» твердит нам все
еще не услышанная поэзия Тютчева:
Sophocles. Tragoediae. Lipsiae, 1908. – S.136, 919.
Связь «истока» с «домом» можно усмотреть в «колыбельном пении» подземных вод
в стихотворении «Безумие» (Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.1. –
С.120). Далее том и страницы по этому изданию указаны в тексте.
105
106
208
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь –
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими – и молчи… (Т.1, с.123).
Вторую строфу стихотворения продолжает, проясняя ее содержание, третья:
Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум –
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи –
Внимай их пенью – и молчи!..
Общепринятое мнение, что перед нами проповедь романтического
субъективизма, очень далеко от истины107. Скорее уж стихотворение
попутно говорит об ограниченности и бесплодности субъективизма, но не
это является главной его темой. Оно говорит о ключах, питающих думы,
тем самым озвучивая их. Ключи – в душе, но мы должны поостеречься
поспешного вывода, что они в так называемом «внутреннем» мире,
противостоящем «внешнему». Ключи соотнесены с «целым миром» («Есть
целый мир в душе твоей…»), который такого привычного для нас
разделения не знает, как не знает он и разделения на «здесь» и «там».
Ключи, если угодно, «здесь», но в то же время они не в нашем
распоряжении, поскольку «целый мир» – это не «мой» мир, с которым я
могу делать все, что хочу. Напротив, всякая попытка проявления личной
инициативы, претендующей на овладение «целым миром», грозит его
утратой («Взрывая, возмутишь ключи…»), уводит от подлинного к
мнимому, является формой проявления без-умия (без-мыслия):
И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных Вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из Земли исход! (Т.1, с.120).
Но разве «пению дум» не противостоит «мысль изреченная»? Разве здесь
не проходит граница, разделение? Ведь стихотворение говорит о «целом мире
дум», к которому, очевидно, «изреченная мысль» не принадлежит. В чем
смысл этого разделения? В том, что двоемирие – это судьба, от которой нам не
уйти? Очень легко все свести к двоемирию и в пустоте этого
«всеобъемлющего» понятия успокоиться. Однако такое «успокоение» на деле
Ср. в одной из последних и интересной в целом книге: «Поэтическая мысль Тютчева
в этом стихотворении сосредоточена на самоценности внутренней жизни человека,
причем это уже человек, переживший современную трагедию разлада с природой…»
(Шайтанов И.О. Ф.И.Тютчев: поэтическое открытие природы. – М.: Изд-во МГУ, 2001.
– С.66).
107
209
оказалось бы нереализованной возможностью помыслить действительно
сказанное стихотворением. «Пение дум» и «мысль изреченная» говорят не о
двоемирии, но о двух разных состояниях мира, причем только в случае «мысли
изреченной» разговор о двоемирии имеет смысл: строка «Мысль изреченная
есть ложь» свидетельствует о том, что разделение является не всеобщим
принципом, но внутренним принципом того состояния мира (ἀντι-νομία),
которому «изреченная мысль» причастна. Значит внутренним принципом
«целого мира» является соединение (συν-νομία)? Что является основой этого
соединения?
Мысль не есть дума, как изреченное не есть то, что причастно музыке
и сказывается в пении. Но разве из-реченное не исходит из речи? Значит
сказываемое в «пении дум» есть сама речь, из которой исходит изреченное, и тогда «открывающий себя мышлению» язык можно просто
назвать речью? Стихотворение говорит, что думы питаются ключом,
истоком. Исток «озвучивает» думы, дает им возможность сказаться в
пении. Молчание, таким образом, оказывается формой сказывания,
которое говорит больше любого «изреченного». Гимн молчанию
становится гимном речи, которая поет в истоке и сама является истоком. В
благоговейном молчании подходит к истоку внимающий пению речи.
Питающие ключи – это поющая речь. Пением открывает речь факт своего
присутствия внимающему. Значит, наше отождествление ключей с речью
не было искусственным притягиванием друг к другу двух совершенно
разных слов, тем более что в стихотворении, написанном примерно в то
же время, такое отождествление ясно выражено:
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот –
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот! (Т.1, с.132).
Речь, присутствуя, соединяет внимающих. Поэтому у Тютчева нет
противоречия между призывом к молчанию (который вроде бы делает
невозможным само появление стихотворения) и страстной проповедью,
обращенной к «ты». Стихотворение обращено к «ты», а не к «другому».
«Ты» – это обобщенное личное местоимение, называющее всех,
внимающих речи, причастных ей. Стихотворение, следовательно, является
не набором «изреченных мыслей», которые есть ложь и поэтому
разъединяют людей, но перифразой «пения дум», озвученных речью,
которые есть истина и соединяет людей. Соединение, о котором здесь
говорится, не есть следствие «диалога». Истину выводит на свет речь, и ее
знает каждый внимающий.
Что значит «выводит на свет»? Значит ли это, что выведенное на свет
речью становится всеобщим достоянием, так что остается лишь протянуть
руку, чтобы взять? Речь выводит на свет тайное для изреченного («таи»).
То, что сказывается в пении, не может быть переведено на язык
210
изреченного. Для изреченного выведенное на свет речью так и остается
тайной. Не будучи сама по себе (поскольку соотнесена с «целым миром»)
ни «здешней», ни «тамошней», речь по отношению к той области, где
правит изреченное, – трансцендентна. Из-речь – значит вывести из речи,
значит по-ставить перед собой, значит пред-ставить, сделать предметом
пред-ставления. Являясь пред-ставленным, изреченное оказывается
символом, знаком трансцендентной по отношению к нему речи. Вступая в
область изреченного, мы вступаем, стало быть, в область метафизического
мышления. Это значит, что сама метафизика, поскольку ее область –
изреченное, порождена отпадением от речи. «Мысль изреченная»
показывает действительное отношение метафизического мышления к тому,
которое причастно речи: они не дополняют друг друга, но соотнесены как
целое и отколовшийся от целого осколок. Пребывая в уверенности, что оно
устремлено к сверхсловесному (несказанному), метафизическое мышление на
самом деле устремлено к своему лону: к речи, которая выводит на свет
«целый мир», сказываясь в «пении дум». Однако самообман метафизики,
которая, пребывая в разделенном, полагает, что разделение является
основополагающим принципом мира, приводит к тому, что подлинное целое
остается забытым.
Можно осуществлять процесс мышления с помощью изреченного, но
мыслить можно только в речи, а не с помощью речи. В стихотворении
«Silentium!» двум состояниям мира соответствуют два состояния
человеческого мышления – причастного речи как своему дому, истоку
(проявляющегося в «пении дум») и покинувшего свой дом, попытавшегося
подчинить себе речь, но на самом деле подчинившего изреченное – «мой
язык» (представляющее, объективирующее). Проявляющееся в «пении дум»
мышление называют еще вопрошающим. Оно названо вопрошающим не
потому, что предполагает постановку вопросов, а потому, что само
порождено одним большим вопросом о своей подлинной причастности речи.
К речи как изначальному по отношению к себе обращено вопрошающее
мышление.
Когда приобщение к речи в качестве открывающей себя основы
нашего существования становится действительным событием нашего
мышления, сразу же теряет актуальность, обнаруживая свою
метафизическую праздность, вопрос о том, а что же после языка, за ним?
Ничего. Причем это такое «ничего», которое не переживается как недостаток, как тревожащее отсутствие чего-либо. Мышлению, открывшему
для себя факт своей принадлежности речи, становится понятным, что речь
– это всё. Поэтому в новом свете предстает и вопрос о том, что мы
называем «несказанным». Не ограниченное сознание отдельного человека,
но сама речь правит теперь сказыванием, и для нее нет ничего
«несказанного». В ней сказывается все, что должно быть сказано. Следует
отметить и другое: поскольку сказыванием правит речь, постольку в
211
стороне остаются разговоры о якобы экзистенциалистском характере
поставленных здесь проблем.
Почему, описывая эту, по-видимому, уникальную ситуацию, мы говорим
о «возвращении» языка (речи)? Очевидно, слово «возвращение» указывает на
опыт продумывания сущности речи, который предшествует нам. Этот
предшествующий нам опыт принадлежит грекам. Для открывающей себя в
качестве основы и дара речи у греков было особое слово – ἡ ἑρμηνεία.
Вспомним еще раз слова Ксенофонта, что герменейя (способность речи) – это
дар богов, который «доставляет нам возможность давать друг другу участие во
всех благах путем учения и самым пользоваться ими сообща с другими,
законодательствовать и жить государственной жизнью»108. У Ксенофонта
говорится о герменейе, на которой утверждаются вторичные по отношению к
ней человеческие законы. Поскольку он касается изначального, вопрос о
сущности герменейи, таким образом, становится самым главным вопросом
греческого мышления.
Однако на чем основана наша уверенность, что «пение дум» Тютчева
и «герменейя» Ксенофонта говорят одно и то же или, во всяком случае,
нечто близкое? Насколько правомерна эта уверенность? На эти вопросы,
очевидно, нельзя дать один из тех готовых ответов, которые всегда
имеются про запас. Попытке ответа должно предшествовать проникнутое
смирением осознание всей безмерной огромности затронутой здесь темы.
ГЛАВА ІІ
О ПОЭТИЧЕСКИХ РОДАХ: ПЛАТОН И
АРИСТОТЕЛЬ
Было время, когда считали, что Аристотель, говоря в «Поэтике» о
разных типах подражания, имеет в виду те самые поэтические роды,
наиболее полное и глубокое описание которых дал Гегель. Единственное
отличие Аристотеля от Гегеля (достаточно формальное) усматривали в
том, что он не пользуется теми же понятиями (субъективное, объективное
и т.д.). Позднее была высказана иная точка зрения. Теоретики литературы
склонялись к мнению, что в древнегреческой поэзии в «классический»
период формируются принципы жанрового мышления, поэтому именно о
жанрах применительно к ней (а также к последующей европейской
108
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – С.129.
212
литературе вплоть до XVIII ст.) и нужно говорить, тогда как понятие
«род» актуализируется гораздо позднее (на рубеже XVIII-XIX вв.)109.
Оба эти подхода являются очевидными крайностями, которые
нуждаются в уточнении. И Платон и Аристотель на самом деле говорят о
родах поэзии, но их понимание поэтических родов в корне отлично от
гегелевского. Различие начинается уже с того, что Аристотель выделяет не
три, а два поэтических рода, границы которых совпадают с двумя разными
по своему характеру подражаниями. Вся поэзия, таким образом,
рассматривается Аристотелем как подражательное искусство. Для Платона
же граница между двумя поэтическими родами совпадает с границей
между манической и миметической поэзией. В сущности этих в общем
виде сформулированных положений нам и предстоит сейчас разобраться.
3.2.1. МИМЕСИС. ЗАГАДКА АРИСТОТЕЛЯ
В самом начале «Поэтики» Аристотель называет различные виды
поэтического (эпос, трагедия, комедия, дифирамб) и музыкального
(авлетика, кифаристика) искусства и после этого перечисления
утверждает, что «πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τò σύνολον...» (Poet.
1447a 9-10), т.е. что все это в целом, будучи само по себе сущим, обладает
способностью в качестве подражания выводить на свет иное сущее.
Слова «все это в целом» свидетельствуют, что для Аристотеля всякое
поэтическое творчество (поскольку нас интересует именно оно) является
миметическим
(подражательным),
следовательно,
поэзию
он
рассматривает исключительно в границах мимесиса. Речь, стало быть, у
Аристотеля идет не о разграничении миметического творчества и какогото не миметического, но о том, чем отличаются друг от друга разные
подражания. Об этих отличиях Аристотель говорит так: «διαφέρουσι δὲ
ἀλλήλων τρισίν, ἢ γὰρ τῷ γένει ἑτέροις μιμεῖσαι ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως καὶ
μὴ τòν αὐτὸν τρóπον» (1447а 10-12); (различаются же они между собою
трояким образом: или [тем, каким] родом [сущего] другим [родам]
осуществляется подражание, или [тем, какому роду] другие [роды
подражают], или [тому же роду тот же род] другим, а не тем же самым
образом).
Поэзия, говорит Аристотель, выводит на свет определенный род
сущего, но не непосредственно, а подражая, т.е. через другой род. Там, где
такого вы-ведения одного рода через другой нет, там, очевидно, нет и
поэзии. Аристотель утверждает, что тот или иной род сущего может быть
выведен на свет через другой род трояким образом.
См.: Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986. –
С.310-311, 322-323.
109
213
1. В первом случае подражаемый род сущего остается тем же самым
(например, определенное событие из жизни Эдипа), но подражающие роды
могут быть различными в зависимости от того, благодаря чему возможным
оказывается их осуществление – благодаря ли краскам (χρώμασι), формам
(σχήμασι), голосу (φωνῆς) либо ритму (ῥυμῷ), речи (λóγῷ) или созвучию
(ἁρμονίᾳ). Все перечисленное представляет собой подражающий род сущего,
а не просто «средства», поскольку не являет себя в качестве простого
наличествования, но выводит на свет то или иное сущее (в красках, ритме,
речи и т.д.), указывающее на другое сущее (на то или иное событие).
Из всех названных Аристотелем возможностей подражания больше
всего вопросов, разумеется, вызывает речь. Если, например, танцор
подражает некоему жизненному событию, то здесь все ясно: осуществляемые
танцором ритмические движения являются подражающим родом сущего,
тогда как подразумеваемое жизненное событие – подражаемым. Но как быть
с речью? В каком случае мы имеем право говорить о ней, как о
подражательной? Существуют ли какие-то внешние отличительные
особенности такой речи? Относительно внешних особенностей (например,
наличия метра) Аристотель замечает, что это не главное, так как не сам по
себе метр делает речь поэтической (миметической): Эмпедокл, несмотря на
метрическую речь, все же остается скорее природоведом (1447в 20). Тогда,
может быть, все дело в характере тех событий, которые выводятся на свет
речью?
2. Очевидно, имея в виду этот вопрос, Аристотель переходит ко второму
отличительному
признаку
подражаний,
а
именно:
подражание,
осуществленное в том же самом (например, в речи), может различаться тем,
какого рода сущее выступает в качестве подражаемого – добродетельные ли
это люди или порочные. Общей же отличительной особенностью всех
подражаний, согласно Аристотелю, является то, что «μιμοῦνται οἱ μιμούμενοι
πράττοντας» (1448а 9); (т.е., все подражающие подражают тем, кто действует).
Прояснив таким образом, в чем заключается отличие поэтов от природоведов
(Гомера от Эмпедокла), Аристотель все еще оставляет открытым вопрос о
соотношении поэзии и истории, поскольку и та, и другая, как известно, говорят
о тех, кто действует. Их различие Аристотель раскрывает в знаменитом
суждении, которое является конкретизацией его общего положения о разных
видах искусства как подражаниях: «Φανερòν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι οὐ τὸ τὰ
γενóμενα λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ’ οἷα ἂν γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ
τὸ εἰκός ἢ τò ἀναγκαῖον» (1451b 3-5); (из сказанного ясно, что дело поэта
говорить110 не о том, что произошло, но о том, что могло бы быть – возможное
в силу правдоподобной вероятности или необходимости).
Когда мы говорим вслед за Аристотелем, что при подражании один
род сущего выводит на свет другой, мы тем самым утверждаем, что
110
Т.е. выводить на свет в качестве сущего в словах.
214
поэтическая речь (как единственно возможный для поэзии подражающий
род сущего) подражает той речи, в которой подражаемое жизненное
событие осуществилось непосредственно, тогда как история должна
стремиться ту самую речь, непосредственно осуществившую жизненное
событие, просто повторить. Подражая случившейся речи, поэтическая
речь восполняет ее в соответствии с характером самого жизненного
события, восполняя тем самым и единичное жизненное событие до целого:
«διò καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιóτερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν˙ ἡ μὲν γὰρ
ποίησις μᾶλλον τὰ καóλου, ἡ δ’ ἱστορία τὰ κα’ ἕκαστον λέγει» (1451b 1113); (поэтому поэзия отличается большей философичностью и дельностью
от истории, ибо поэзия в большей степени содержит в себе [сущее] в
целом, история же [содержит в себе сущее] порознь). И далее Аристотель
объясняет, что значит сущее «в целом», соотнося его с именем: « ἔστιν δὲ
καóλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἄττα συμβαίνει λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τò εἰκòς
ἢ τò ἀναγκαῖον, οὗ στοχάζεται ἡ ποίησις ὀνóματα ἐπιτιεμένη• τò δὲ κα’
ἔκαστον, τί Ἀλκιβιάδης ἔπραξεν ἢ τί ἔπαεν» (1451в 14-17); («в целом» же
значит: кому что подобает говорить или делать в соответствии с
правдоподобием или необходимостью, чего и стремится [достичь] поэзия,
именуя [для этого действующих лиц]; «порознь» же значит: что [именно]
сделал или претерпел [в такой-то ситуации] Алкивиад).
«Именовать», как это понимали когда-то греки, вовсе не значит «давать
вымышленные имена» в современном понимании этого слова111. Сократ в
диалоге «Кратил» утверждает: «Ὄνομα ἄρα διδασκαλικóν τί ἐστιν ὄργανον καί
διακριτικòν τῆς οὐσίας...» (Crat. 388b-с); (имя, стало быть, есть некое орудие
обучения и различения сущего). Имя «кажет» характеры действующих лиц112,
поскольку является орудием их различения; в самом имени, таким образом,
уже обозначены границы правдоподобия и необходимости. Другими
словами, имя – это и есть имплицитное целое, которым устанавливается закон
восполнения характера до целого. В истории же сохраняется противоречие
между имплицитной полнотой имен, которая так и остается неразвернутой, и
принципиальной неполнотой разрозненных жизненных событий, о которых
рассказывает историк.
Неожиданно для себя мы открываем, что Аристотель – не такой уж
безнадежный «нигилист» по отношению к герменейе (изначальной
способности речи), каким его привычно рисует наше воображение. В его
рассуждении об именах звучит вполне ощутимый отголосок изначального
состояния речи («казовой» ее орудийности), и в трактовке Аристотеля, как
видим, сохраняющего актуальность для поэзии, которая с самого начала
См. в переводе М.Л.Гаспарова: Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т.4. – М.: Мысль,
1983. – С.655.
112
Т.е. «кажет» бытие как присутствие – такое сущее, которое не следует путать с
находящимся в наличии сущим. См. об этом: Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad
Marginem, 1997. – С.41-45.
111
215
была не чем иным, как мышлением, руководимым именами. У Платона,
как мы помним, сущность этого мышления афористично выразил Кратил:
«ὃς ἂν τὰ ὀνóματα ἐπίστηται, ἐπίστασαι καὶ τὰ πράγματα» (435d); (кто знает
имена, [тому] дано познать и вещи).
Отпадение от изначального понимания существа поэзии как
мышления, руководимого именами, – это и было одно из важнейших
проявлений процесса секуляризации греческого языка. Этот процесс
крайнего выражения достигает в высказывании Секста Эмпирика (≈ II в.
после Р.Х.) – весьма показательном по своему цинизму для той эпохи
упадка традиционной греческой духовности, которую он представляет:
«…Поэтическими свидетельствами пользуются … те, кто морочит
многочисленную чернь на базаре. Ведь нетрудно показать, что поэты поют
не в один голос и воспевают то, что только ни захотят…»113.
Когда мышлением утрачивается «путеводная нить языка»114
(Г.-Г.Гадамер), тогда возникает иллюзия, что поэты воспевают что попало.
Эта иллюзия весьма красноречиво характеризует то состояние тупика, в
котором неминуемо оказывается мышление, как только язык перестает
восприниматься и ощущаться в качестве основы нашего духовного опыта.
Оказавшись в такой ситуации, человек, в конечном счете, рано или поздно
лишается какой бы то ни было позитивной духовной перспективы. Для
выхода из этой ситуации необходим тотальный духовный переворот, в
результате которого язык вновь наполнился бы священным смыслом.
Такой переворот, не замеченный Секстом Эмпириком, был совершен
Иисусом Христом – Его искупительной Жертвой, Его претворением в
результате этой Жертвы в слово человеческое. Язык вновь обрел
возможность руководить мышлением. При этом мышление, которое
руководствуется именами, возвращается в новом качестве: уже не в виде
«казовой», но символической орудийности. О символической орудийности
имен, руководящих мышлением, как уже говорилось, пишет Дионисий
Ареопагит: «Эти общие и соединенные разделения или благолепные
исхождения во-вне всецелой божественности мы постараемся по мере сил
воспеть, руководствуясь божественными именами, которые являют ее в
Речениях, – прежде… отдав себе отчет в том, что все благотворящие
божественные имена, применяемые к богоначальным ипостасям, следует
воспринимать как относящиеся ко всей богоначальной целостности без
изъятий»115. Именно потому, что Дионисий Ареопагит возвращается к
Секст Эмпирик. Сочинения: В 2 т. Т.2. – М.: Мысль, 1976. – С.112. Пер. А.Ф.Лосева.
«Путеводная нить языка» – это путеводная нить имени. В этой связи ср. у Н.К.Гея:
«В идеале имя перестает быть словом, а без хотя бы отдаленнейшего эха имени в нем –
слова грозят нам “сквозящей пустотой масок”» (Гей Н.К. Метахудожественность
литературы // Теория литературы. – Т.1. Литература. – М.: ИМЛИ РАН, 2005. – С.119.
115
Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – С.77.
Пер. Г.М.Прохорова.
113
114
216
мышлению, которое руководствуется именами, он постоянно называет
свои сочинения гимнами, воспевающими под разными именами Бога116.
Говоря об Аристотеле и Кратиле, мы должны помнить о существенном
различии между ними. Аристотелю, этому наиболее «трезвому» из всех
греческих мыслителей, глубоко чуждо изначальное понимание орудийности
имен. И, тем не менее, когда речь заходит о поэзии, даже у него традиция сразу
же внятно заявляет о себе, хотя речь у него идет вовсе не об изначальной
(манической), но о более поздней (миметической) поэзии, которую он, как уже
отмечалось, отождествляет с поэзией вообще. В чем причина такого
отождествления? Не в том ли, что Аристотель вообще отрицает существование
манической поэзии? Его рассуждение об именах позволяет нам усомниться в
этом. Но Аристотель не отрицает существования манической поэзии только
потому, что этой проблемой не озабочен. Загадка Аристотеля заключается в
том, что он как поздний мыслитель, лишь подспудно причастный герменейе,
попросту утрачивает способность различения манической поэзии и
миметической. Подтверждение тому мы обнаруживаем, когда переходим к
третьему отличительному признаку подражаний.
3. «Ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμήσαιτο ἄν τις.
καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα (ἢ
ἕτερόν τι γιγνόμενον, ὥσπερ ‛Όμηρος ποιεῖ, ἢ ὡς τòν αὐτòν καὶ μὴ
μεταβάλλοντα), ἢ <παράγοντα> πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας τοὺς
μιμουμένους...» (1448а III, 7-12); (еще [есть] и третье различие этих
[подражаний]: каким образом каждое из них отдельно может осуществить
подражание. Ибо можно тому же самому подражать и [использовать] одни
и те же [средства], либо сообщая (при этом становясь кем-то другим, как
делает Гомер, или [оставаться] самим собой, не меняясь), либо <выводя>
всех подражающих [лиц] как действующих и деятельных).
Быть может, нигде «систематическое умонаправление» (Пушкин)
Аристотеля не подвергается такому серьезному испытанию, как в этом случае.
Наш систематический век с готовностью построил на этом высказывании
Аристотеля свою теорию литературных родов, не замечая, что оно – всего
лишь эклектическое смешение того, что еще у Платона выступало вполне
самостоятельно и раздельно. После этого высказывания закономерным
выглядит переход к нашим литературным родам, но когда этот переход
осуществился, была утрачена та изначальная проникновенность в существо
поэтического слова, которая делала невозможной такую поверхностную
систематизацию.
О том, что механическое перенесение нашей родовой
дифференциации на Аристотеля основано на очевидном недоразумении,
свидетельствует уже тот факт, что Аристотель делит поэзию по способу
подражания не на три, а на два рода: поэт может либо сообщать (ἀπ –
116
См., напр.: там же, с.18 и др.
217
αγγέλλω), либо выводить действующих и деятельных лиц. Из этого
положения с необходимостью следует, что равно сообщающими, хотя
делающими это по-разному, оказываются в результате Пиндар и Гомер.
Следуя этой логике, мы можем найти новые аргументы в пользу такого
сближения. В самом начале «Илиады» говорится про жреца Хриса, что
…держа в руках, на жезле золотом, Аполлонов
Красный венец, умолял убедительно всех он ахеян,
Паче ж Атридов могучих, строителей рати ахейской:
«Чада Атрея и пышнопоножные мужи ахейцы!
О! да помогут вам боги, имущие домы в Олимпе,
Град Приамов разрушить и счастливо в дом возвратиться…»117
Нетрудно заметить, что другим, т.е. жрецом Хрисом, Гомер
становится только в последних трех стихах, тогда как в предыдущих он,
подобно Пиндару, остается самим собой, не меняясь. Почему и в первом, и
во втором случае речь должна идти о подражании? Ответ Аристотеля, как
мы уже видели, гласит: и в первом, и во втором случае Гомер восполняет
характер Хриса до целого в соответствии с правдоподобием и
необходимостью: сначала он говорит, как мог и должен был выглядеть и
вести себя жрец в той ситуации, в которой он оказался; затем мы узнаем,
что в этой ситуации он мог и должен был сказать. Такова логика
Аристотеля, однако Платон с нею не согласился бы.
Платон тоже делит поэзию на два рода, но для него граница между
родами проходит через приведенной выше отрывок из поэмы Гомера. Эпос,
таким образом, оказывается, согласно Платону, не каким-то самостоятельным
поэтическим родом, но соединением двух разных родов. Каких? Ответ на
этот вопрос будет дан ниже. А пока отметим, что всё отличие Платона от
Аристотеля заключено в понимании ими слова α̉π–αγγέλλω. У Аристотеля
оно значит «сообщать» и целиком укладывается в границы миметической
поэзии. У Платона это слово наполнено иным смыслом.
3.2.2. МАНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ И МИМЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
…Творения здравомыслящих затмятся
творениями неистовых.
Платон
Для Аристотеля, как мы видели, два поэтических рода – это два
разных по своему характеру подражания, тогда как для Платона граница
между двумя поэтическими родами совпадает с границей между
манической и миметической поэзией.
117
Гомер. Илиада. – Л.: Наука, 1990. – С.3. Пер. Н.И.Гнедича.
218
Общеизвестно, что подробно о манической поэзии говорится в диалогах
Платона «Ион» и «Федр», однако важнейшее объяснение ее сущности мы
находим в его диалоге «Государство». Объяснив Адиманту, о чем должны
говорить мифологи и поэты, Сократ переходит к вопросу о том, как они это
делают. И здесь плавное течение разговора сразу же прерывается:
– Не понимаю я твоих слов, – говорит озадаченный Адимант.
Этот вопрос оказался трудным не только для Адиманта, но и для всей
последующей теории литературы. Поэтому есть смысл еще раз вслушаться
в рассуждения Сократа.
Сократ объясняет, что мифологи и поэты, рассказывая о прошлом,
настоящем и будущем, могут это делать либо «путем простого
повествования», либо «посредством подражания, либо того и другого
вместе»118. Именно это разграничение и непонятно Адиманту, как будет
оно непонятно впоследствии и Аристотелю. С целью преодолеть
возникшее затруднение Сократ напоминает собеседнику тот самый
отрывок из «Илиады», который был рассмотрен нами выше:
…держа в руках, на жезле золотом, Аполлонов
Красный венец, умолял убедительно всех он ахеян,
Паче ж Атридов могучих, строителей рати ахейской:
«Чада Атрея и пышнопоножные мужи ахейцы!
О! да помогут вам боги, имущие домы в Олимпе,
Град Приамов разрушить и счастливо в дом возвратиться…»
В первых трех строках этого отрывка, согласно Сократу, «говорит
лишь сам поэт и не пытается вводить нас в заблуждение, изображая, будто
здесь говорит кто-то другой, а не он сам. А после этого он говорит так,
будто он и есть сам Хрис, и изо всех сил старается заставить нас поверить,
что это говорит не Гомер, а старик жрец» (392e – 393b). При этом в обоих
случаях мы имеем дело с «повествованием», но характер его разный: в
первом случае оно выступает как «простое повествование», во втором –
как «подражание»119. В соответствии с этими двумя
способами
повествования распределяются и роды, а также виды поэзии: «один род
поэзии и мифотворчества весь целиком складывается из подражания – это
… трагедия и комедия; другой род состоит из высказываний самого поэта
– это ты найдешь преимущественно в дифирамбах; а в эпической поэзии и
во многих других видах – оба эти приема…» (394с).
Адимант после этого объяснения отвечает Сократу:
– Что ж, я понимаю, о чем ты тогда хотел говорить.
Однако нам, в отличие от Адиманта, все еще остается непонятным
рассуждение Сократа. Проще всего, пожалуй, разобраться с
правомерностью отнесения рода поэзии, состоящего «из высказываний
самого поэта», к маническому творчеству. Правомерность такого
118
119
Платон. Собр. соч.: В 4 т. – Т.3. – М.: Мысль, 1994. – С.157, 392d. Пер. А.Н.Егунова.
См.: там же, с.157-159.
219
отнесения обусловлена указанием Сократа на дифирамб: вспомним, что в
«Ионе» именно с дифирамба он начинает перечисление манических видов
поэзии120.
Но почему и эпическую, и драматическую речь Сократ определяет как
«повествование»? Существует ли какое-то различие в этом отношении, к
примеру, между Гомером и Пиндаром, или «простое повествование» и в том,
и в другом случае одинаково по своему характеру? Что значит: другой род
поэзии «состоит из высказываний самого поэта»? Не оказываются ли в
данном случае Гомер или Пиндар (вполне в духе новоевропейской традиции)
автономными носителями самоценной истины? Наконец, в чем заключается
существенное отличие манического слова от миметического?
Начнем с последнего вопроса. Очевидно, он связан с вопросом об
одноязычии и многоязычии, который был рассмотрен М.М.Бахтиным в
работах 1940-1941 гг. «Из предыстории романного слова» и «Эпос и
роман». Для того чтобы эту связь прояснить, обратимся к ответам
М.М.Бахтина: «Многоязычие имело место всегда (оно древнее
канонического и чистого одноязычия), но оно не было творческим
фактором, художественно-намеренный выбор не был творческим центром
литературно-языкового процесса. Классический грек ощущал и «языки», и
эпохи языка, многообразные греческие литературные диалекты (трагедия
– многоязычный жанр), но творческое сознание реализовало себя в
замкнутых чистых языках (хотя бы фактически и смешанных).
Многоязычие было упорядочено и канонизировано между жанрами»121.
Трагедия является многоязычным жанром (дорийский диалект хоровых
партий, аттический – декламационных), но ее «языки» (диалекты), согласно
М.М.Бахтину, замкнуты в себе, они не взаимодействуют друг с друга.
Поэтому трагическое слово, равно как эпическое или лирическое, остается
«прямым»: творящий его «имеет дело с тем предметом, который он
воспевает, изображает, выражает, и со своим языком, как единственным и
вполне адекватным орудием для осуществления его прямого предметного
замысла»122. В отличие от прямого, непрямое слово определяется
М.М.Бахтиным как «изображенное чужое слово, чужой язык в
интонационных кавычках»123. Таково романное слово. Важнейшими
факторами, предопределившими его возникновение, были, указывает
М.М.Бахтин, смех и многоязычие124.
Я полагаю, что выводы М.М.Бахтина могут быть уточнены. Генезис
романного слова связан с переходом от манической поэзии к миметической.
Именно этот переход является необходимым условием возникновения
Платон. Собр. соч. – Т.1. – С.377, 534с.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худ. лит., 1975. – С.455.
122
Там же. – С.426.
123
Там же. – С.417.
124
См. там же.
120
121
220
романного слова с его важнейшей отличительной особенностью –
«стилистической трехмерностью»125. Не об этом ли свидетельствует суждение
Сократа о подражательном повествовании Гомера: «Но когда он приводит
какую-либо речь от чужого лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь
как можно более похожей на речь того, о чьем выступлении он нас
предупредил?»126. В этом же контексте должно быть осмыслено указание
Ф.Шлегеля на генетическую связь романа с драматической (в нашей
терминологии – изначальной миметической, так что и поэмы Гомера в
известном
смысле
представляют
собой
трагедии)
поэзией:
«…Противоположность между драмой и романом оказывается настолько
незначительной, что драма в глубокой и исторической трактовке ее…
составляет подлинную основу романа»127. Переход от «прямого» слова к
такому многоязычию, которое становится «творческим фактором»,
М.М.Бахтин расценивает как в высшей степени положительное событие, – и
это действительно так, если рассматривать литературный процесс с точки
зрения развития романа как его важнейшего жанра. Однако нет сомнения, что
Платон не только отнесся бы к этому событию иначе, но иначе его и осмыслил
бы.
Начнем с того, что не всякое слово, которое М.М.Бахтин называет
«прямым», является таковым для Платона. Это различие объясняется тем,
что М.М.Бахтин мыслит поэзию целиком в границах аристотелевской
парадигмы, подразумевающей, что поэзия в целом – всегда ἡ μιμητικὴ
τέχνη. Поэтому для М.М.Бахтина всякое поэтическое слово – как прямое,
так и непрямое – является миметическим. Для Платона же только
непрямое слово является миметическим, тогда как прямое – манично, а не
миметично. В чем смысл этого платоновского разграничения?
Сократ свои объяснения Адиманту начинает следующим суждением:
«…Все, о чем бы ни говорили сказители и поэты, это повествование о
прошлом, о настоящем либо о будущем, не так ли?»128. В этом переводе,
принадлежащем известному отечественному ученому, сомнение вызывает
правомерность употребления слова «повествование» как равно
принадлежащего любому виду поэзии: и эпическим поэмам Гомера, и в
такой же степени – хоровой лирике Пиндара. У Платона Сократ говорит
так: «ἆρ’ οὐ πάντα ὅσα ὑπò μυολóγων ἢ ποιητῶν λέγεται διήγησις οὖσα
τυγχάνει ἢ γεγονóτων ἢ ὄντων ἢ μελλóντων;» (R.P. III 392d 2-3).
Слову «повествование», как видим, у Платона соответствует
существительное ἡ διήγησις. Оно этимологически связано с глаголом
См.: там же, с.454-456.
Платон. Собр. соч. – Т.3. – С.158, 393 с.
127
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. – Т.1. – М.: Искусство, 1983.
С.404. Пер. Ю.Н.Попова. См. об этом же глубокие суждения и выводы в кн.: Бицилли
П.М. Избр. труды по филологии. – М.: Наследие, 1996. – С.490, 504, 520.
128
Платон. Собр. соч. – Т.3. – С.157, 392d.
125
126
221
ἡγέομαι – идти впереди, указывать дорогу, управлять (ср. с общеизвестным
ὁ ἡγεμών – вождь, предводитель, повелитель). διήγηγις, следовательно, – не
просто «повествование» (тем более – наполненное современными,
уводящими в сторону значениями), но направляющее нас сказывание. Это
слово в рассуждении Сократа соседствует с существительным οὖσα –
сущее. Направляющее нас сказывание, таким образом, оказывается и
выведением на свет, в область непотаенного, определенного сущего, и
вместе с тем приведением нас к этому сущему, которому мы, пока
сказывание длится, принадлежим. Таким сказыванием действительно
является всякая поэзия – как маническая, так и миметическая. Однако в
разных родах (маническом и миметическом) сказывание-сущее
осуществляется по-разному:
Ἆρ’ οὖν οὐχὶ ἤτοι ἁπλῇ διηγήσει ἢ διὰ μιμήσεως γιγνομένῃ ἢ δι’
ἀμφοτέρων περαίνουσιν; (392d 5-6); (не так ли они [это] совершают:
прямым сказыванием [осуществляющегося сущего, при котором равно
пребывают мифологи, поэты, как и прочие люди], либо с помощью
подражания тому, что на самом деле осуществляется (т.е. действительному
ходу дела), либо с помощью того и другого способа вместе?).
Прежде всего, заметим, что здесь, как и в случае Аристотеля, речь
идет не о трех, а именно о двух родах поэзии. Когда в приведенном выше
отрывке из «Илиады» Гомер переходит от первого способа сказывания ко
второму (к сказыванию от лица Хриса), вовсе не рождается некий третий
род поэзии, но в пределах одного целого взаимодействуют два
вышеназванных129. Второй род поэзии (сказывание от лица Хриса) и
Платон, и Аристотель называют подражательным, тогда как по
отношению к первому они высказывают противоположные мнения. Для
Платона, в отличие от Аристотеля, «прямое сказывание» – не μιμητικὴ
τέχνη. Причем здесь важны оба слова: «прямое сказывание», будучи
поэзией, не является ни подражанием, ни искусством130.
Любое мусическое искусство (а это и музыка, и поэзия, и танец)131,
согласно Платону, не может не быть подражанием: «Что касается
мусического искусства, то ведь всякий согласится, что все относящиеся к
нему создания (ποιήματα) – это подражания и воспроизведения (ἀπεικασία
букв.: уподобление)»132. В случае же манической поэзии отмеченная связь
творчества и искусства утрачивает силу. Это имеется в виду в
«Государстве», об этом же говорится в созвучном «Государству» «Ионе»:
«...Поэт – это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить
Ср. с мнением А.А.Тахо-Годи: Платон. Собр. соч. – Т.3. – С.573.
Ср. с мнением А.Ф.Лосева, полагающего, что неподражательная область творчества
– тоже искусство: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. – М.:
Искусство, 1974. – С.35.
131
См.: там же, с.57.
132
Платон. Собр. соч. – Т.4. – С.118, 668b-c. Пер. А.Н.Егунова.
129
130
222
лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в
нем более рассудка... И вот поэты творят и говорят много прекрасного о
различных вещах... не с помощью искусства, но по божественному
определению»133. Становясь технэ, маническое преобразуется в
мантическое, при этом мантика, именно благодаря связи с маническим,
оказывается «прекраснейшим искусством (τῇ καλλίστῃ τέχνῃ)»134.
Углубляясь в происхождение миметического, мы обнаруживаем, что
мимесис изначально был тождественен маническому: «Мистерию,
изображающую брак Зевса и Геры у Диодора, можно толковать не как
простое подражание, а как попытку участников мистерии стать на время
самим Зевсом и Герой»135. Маническое, стало быть, является
порождающим началом миметического. До тех пор, пока танцующий
(поскольку мимесис изначально связан с танцем)136 осознавал себя
тождественным богу (Дионису, Зевсу, Гере), его танец не был
подражанием, искусством, но был одержимостью, исступлением, манией.
Подражанием он становится, когда танцующий начинает представлять
бога – выходя таким образом из сферы изначального тождества
священного и творческого в сферу автономного по отношению к
священному творческого. В случае поэзии это означало, что поэт
перестает быть «существом священным», при этом перестает таковым
быть и слово поэта.
Нам остается лишь разобраться, правомерно ли понимание «прямого
сказывания» как «высказывания самого поэты»137. У Платона говорится: «ἡ
δὲ δι’ ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ – εὕροις δ’ ἂν αὐτὴν μάλιστά που ἐν
διυράμβοις...» (R.P. III 394с 2-3).
Приведу перевод, предложенный А.Н.Егуновым: «…Другой род
состоит из высказываний самого поэта – это ты найдешь преимущественно
в дифирамбах...»138. «Высказывание», как видим, – это платоновское
ἀπαγγελία, что буквально значит: извещение назад. Поэт потому и является
существом не только священным, но и легким и крылатым, что способен и
приобщиться к Музам и принести назад, людям, весть, которую он
получил, будучи одержим Музами139.
Платон. Собр. соч. – Т.1. – С.377, 534b-c. Пер. Я.М.Боровского.
Платон. Собр. соч. – Т.2. – С.153, 244с.
135
Лосев А.Ф. Ук. книга. – С.53.
136
См.: там же, с.52-55.
137
Платон. Собр. соч. – Т.3. – С.159, 394с.
138
Там же.
139
В пределах священно-символической орудийности языка древнегреческая μανία
становится обожением: «В обожении осуществляется сверхмыслимое, таинственное
соединение непостижимой нетварной природы Бога с тварной природой человека…»
Это «приводит … не к изображению божественной природы в человеке через
подражание (что делает несостоятельными рассуждения о божественности творца в
сфере миметического творчества. – А.Д.), но к преображению Богом человеческой
133
134
223
Ничего этого нет в миметическом слове: оно не является «вестью
назад», следовательно, не является священным и истинным. Поэтому в
устах Платона естественным выглядит выражение, шокирующее своей
неожиданностью и непонятностью новоевропейское сознание: «вся
трагическая ложь»140. Без всякого сомнения, точно так же он определил бы
и миметическое романное слово. Ясно и то, что вопрос об авторе в
пределах манического и миметического родов будет решаться по-разному,
причем понятие «автор-творец» оказывается актуальным только во втором
случае.
природы через соединение» (Мартынов В.И. Культура, иконосфера и богослужебное
пение Московской Руси. – М.: Прогресс – Традиция, Русский путь, 2000. – С.39).
140
Платон. Собр. соч. – Т.1. – С.643, 408с.
224
ГЛАВА III
О СУЩНОСТИ ТРАГИЧЕСКОГО
3.3.1. ТРАГЕДИЯ: НА ГРАНИЦЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ТОЛКОВАНИЯ
…Весь Ницше – это толкование
нескольких греческих слов…
М. Фуко
К одной из самых показательных особенностей художественного
сознания Нового времени, без сомнения, принадлежит его завороженность
трагедией как высшим проявлением искусства и даже вообще творческой
способности человека. На протяжении нескольких последних столетий
формируется и усиливается культ трагедии, с которым ничто в литературе
Нового времени сравниться не может. Инерция, заданная этим культом,
настолько сильна, что отчетливо ощущается и в наше время, полностью, надо
полагать, утратившее ту духовную мощь, которая необходима для создания
трагедий. Достаточно напомнить только три примера, красноречиво
подтверждающих сказанное.
В 70-е – 80-е годы XVIII века И.В. Гете пишет в «Театральном
призвании Вильгельма Мейстера»: «Я надеялся, что страстное желание
моего сердца приблизит меня к предмету моих стремлений, и я не могу
даже описать тебе, насколько оно было велико. Все мои помыслы были
направлены главным образом на трагедию, величие которой имело для
меня неизъяснимое очарование»141.
В.Г.Белинский в 1841 году утверждает: «Драматическая поэзия есть
высшая ступень развития поэзии и венец искусства, а трагедия есть высшая
ступень и венец драматической поэзии, объемлет собою все элементы ее…»142
В конце 40-х годов ХХ столетия К. Ясперс, отнюдь не драматург и не
литературный критик, из всех поэтических жанров только трагедию
относит к «величайшим творениям» человечества143.
Все эти исполненные не только энтузиазма, но и пиетета высказывания
очевидным образом контрастируют с пренебрежительным отношением
Платона к трагедии, для которой, в отличие от гимнов богам и хвалебных
песен даймонам и героям, он не предусмотрел места в идеальном
Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Мейстера. – Л.: Наука, 1981. – С.56.
Пер. Е.И.Волгиной.
142
Белинский В.Г. Собр. сочинений: В 3 т. – Т.2. – М.: ГИХЛ, 1948. – С.56.
143
См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С.251.
141
225
государстве144. Отношение Платона к трагедии ставит нас перед проблемой, от
которой мы не имеет права отмахнуться, даже если она грозит разрушением
многих заученных нами представлений, которыми мы привыкли бездумно
пользоваться. К числу самых проблематичных стереотипов принадлежит, на
мой взгляд, общепринятое в современной теории литературы мнение, что
сущность трагического, какой явили ее древняя и новая поэзия, может быть
помыслена в одних и тех же категориях и понятиях. Именно такое понимание
трагического мы находим в немецкой эстетике конца XVIII – первой половины
XIX столетий. Это понимание, следовательно, не могло выйти за границы
интерпретации.
Гумбольдт, Шеллинг и Гегель основополагающим для понимания
сущности трагедии считают осуществляемое ею единство (синтез) лирического
и эпического начал, которое осмысляется ими как единство (синтез)
субъективного и объективного (свободы и необходимости, внутреннего и
внешнего). Для Шопенгауэра, напротив, сущность трагедии целиком
коренится в сфере объективного, и в этом отношении именно драматическая
поэзия, а не эпос, оказывается полной противоположностью лирики, тогда как
эпос представляет собой синтез двух противоположных родов.
Я полагаю, что концепции великих немецких мыслителей, взятые в
целом – вместе с неизбежными противоречиями, в большей или меньшей
степени раскрывают природу новоевропейской трагедии, но к греческой
непосредственного отношения не имеют, за исключением отдельных,
иногда вскользь высказанных замечаний.
К числу таковых можно отнести слова В. фон Гумбольдта о том, что
трагедия «учит нас не столько любить» жизнь, «сколько с нею мужественно
расставаться»145. Не исключено, что это рассуждение содержит ключ к
такому пониманию аристотелевских сострадания (ἔο) и ужаса (óο),
которое, позволяет приблизиться к действительному смыслу известного
высказывания древнегреческого философа146. Мужество ведь требуется не
только для того, чтобы умирать, но и для того, чтобы жить. Трагедия, очищая
душу зрителя от сострадания к бедствию других (не сценических
персонажей, а окружающих людей, его близких) и от ужаса перед смертью,
не делает тем самым его бесчувственным, но возвращает ему мужество жить
и умирать – так, на мой взгляд, может быть продолжена мысль Гумбольдта.
К числу исключений относится также Шеллингова характеристика
См.: Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.4. – М.: Мысль, 1994. – С.253-254, 270-271.
Гумбольдт В. фон. Эстетические опыты. Первая часть. О «Германе и Доротее» Гете
// Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – С.241. Пер.
А.В.Михайлова.
146
«Трагедия есть подражание действию важному и законченному, …совершающее
посредством сострадания и страха очищение подобных страстей» (Аристотель.
Сочинения: В 4 т. – Т.4. – М.: Мысль, 1983. – С.651).
144
145
226
трагического героя как «невинно-виновного»147 и вывод Гегеля о всецелом
господстве субстанциального начала в характерах греческой трагедии 148,
возражая только против его выдвижения на первый план нравственного в
субстанциальном. В силе остается для греческой поэзии также вывод
Шопенгауэра о противоположном характере лирики и трагедии 149, но эта
противоположность должна быть помыслена совсем не в понятиях
«субъективный» и «объективный» элементы. Более глубоко сущность
греческой трагедии была понята Фридрихом Ницше.
Первым в перечне слов, осмыслением которых озабочен Ф.Ницше,
без сомнения, должно быть названо греческое слово ‛η τραγωδία. Отличие
Ф.Ницше от предшественников, о которых говорилось выше, заключается
в том, что для них трагедия представляла частный интерес наряду с
другими более важными для них проблемами, тогда как для Ф.Ницше
трагедия – не просто литературный жанр, не просто некая любопытная
теоретическая отвлеченность, но «вопрос первого ранга» и вместе с тем
«глубоко личный вопрос»150, в котором к тому же судьбы искусства
неразрывно соединились с судьбами мира.
Переход от Шопенгауэра к Ницше – это не просто продолжение
кабинетного разговора о трагедии, но такой перебой в разговоре, который
не может не привести нас в замешательство. Поток мощных, свежих,
ошеломляюще-неожиданных мыслей внезапно обрушивается на нас,
выбивает из-под ног привычную почву и, унося в незнакомую местность,
приобщает к такому жизненному содержанию, память о существовании
которого давно уже стерлась в нашем сознании. Для того чтобы стал
возможен разговор о Ницше, необходимо какое-то время, чтобы освоиться
и научиться понимать язык, на котором мы никогда не говорили и для
понимания которого у нас нет соответствующего опыта. Отдельные
суждения Ницше о трагедии настолько глубоки, настолько захватывают
самое изначальное ее существо, что по сравнению с ним даже Платон
может показаться человеком, пришедшим из такого позднего времени,
когда слух и чуткость к трагическому были уже утрачены. Может быть,
вся тайна Ф.Ницше заключается лишь в том, что он в некотором
принципиальном отношении понял греков лучше, чем сам Платон, тогда
как неудача его ближайших предшественников в их попытках понять
изначальную сущность трагического объясняется тем, что они не поняли
не только греков, но даже Платона?
Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. - С.405.
См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1958. – С.386.
149
См.: Шопенгауэр Ф. Мир как воля и представление. – Т.2. – М.: Наука, 1993. – С.445.
150
Ницше Ф. Рождение трагедии… // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – Т.1. – М.: Мысль,
1990. С.48. Пер. Г.А.Рачинского. В дальнейшем после цитат из первого тома этого
двухтомника в скобках будут указываться только страницы.
147
148
227
Переход к Ф.Ницше – это переход к самой яркой из всех известных нам
интерпретаций трагедии, к интерпретации, которая остановилась на пороге
истолковывающего проникновения в сущность трагического. Превзойти
Ф.Ницше, предложив более захватывающую интерпретацию трагедии и
сущности
трагического,
невозможно. Вот почему он делает
проблематичными какие бы то ни было новые ее интерпретации. Все
последующие мыслители обречены были пытаться с большим или меньшим
успехом продолжать и развивать идеи Ницше (наиболее яркий пример –
замечательные работы В.И.Иванова151), либо попросту возвращаться к его
предшественникам (в первую очередь, разумеется, к Гегелю).
Вместе с тем не все суждения Ф.Ницше соответствуют этой высокой
оценке: прежде всего имеется в виду его «Рождение трагедии…» Эту раннюю
работу, написанную в 1871 г., сам Ницше, спустя 16 лет, назовет
«сомнительной» и даже «невозможной книгой» (48, 40). Ее сомнительность
объясняется, помимо иных причин (позднейшей переоценки творчества
Р.Вагнера), главным образом тем, что автор не сумел (или, как он позднее
считал, «не имел мужества») для греческой проблемы, совершенно чуждой
новоевропейской метафизике, найти адекватный ей язык, слишком
доверившись метафизическому языку Канта и Шопенгауэра (см.: 54-55).
Противоречие между сущностью осмысляемой проблемы и неадекватным ей
языком, постоянно уводящим в сторону и то и дело накладывающим на
глубинные проникновения печать поверхностных интерпретаций, в самом
деле является главным недостатком этой, без сомнения, гениальной книги.
Сам Ницше, великодушно подавая руку помощи своим будущим
критикам, говорит, что о трагедии лучше всего можно было бы сказать
поэтически (Хайдеггер сказал бы: стихослагая) или, в крайнем случае,
филологически, при этом утверждая, что та филология, которую он имеет
в виду, еще не начиналась (см.: 51). Ф.Ницше подразумевает, что первый
шаг к подлинной филологии заключается в том, чтобы перестать говорить
о трагедии (о поэзии) как ученый – пользуясь словами (т.е. как он в этой
ранней работе пока что пытается говорить – «на чужом языке»). Я
полагаю, что филология, о которой мечтает Ницше, в контексте
хайдеггеровской проблематики может быть понята как способная на
поэтическое стихослагание откликнуться истолковывающе-осмысляющим
стихослаганием.
«Рождение трагедии…»
Из существа искусства, как оно
обычно понимается на основании
единственной категории иллюзии
151
См.: Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. – СПб.: Алетейя, 2000.
228
и красоты, честным
трагедии не выведешь…
образом
Ф.Ницше
Этими словами Ф.Ницше отделил свое понимание трагедии от
предшествующих ее интерпретаций. В них (в этих словах)
подразумевается основное противоречие, в котором Ницше усматривает
существо трагедии: противоречие между музыкальным дионисическим
началом («действительностью опьянения») и аполлонической иллюзией
видений, порождаемых музыкой (см.: 60, 63). Через сто с лишним лет мы
можем сказать, прибегая к языку XX столетия, что здесь в конечном счете
уже намечено противоречие между представляющим мышлением и
изначальным вопрошающим, которое руководствуется речью, а не
руководит ею. Но поскольку у Ницше это разграничение двух способов
мышления лишь намечено, постольку многое у него остается не
проясненным.
Первая неожиданность, подстерегающая нас в книге Ф.Ницше, – его
возвращение к идее Гумбольдта о сродстве трагедии и лирической поэзии – к
той идее, которая, казалось бы, окончательно была преодолена
Шопенгауэром. При этом в гумбольдтовской теории обнаруживаются такие
неожиданные возможности и смысловые глубины, которые вряд ли были
понятны самому Гумбольдту и еще менее могли быть выявлены Шеллингом
и Гегелем в их умозрительной интерпретации трагедии (драмы) как синтеза
лирики и эпоса. Недостаточность этого общеизвестного положения – у нас,
благодаря В.Г.Белинскому, утвердившегося в качестве хрестоматийного, –
после «Рождения трагедии…» становится вполне очевидной.
Свой путь к уяснению сущности трагического Ф.Ницше начинает с
разговора о генетической связи лирики с музыкой, причем не просто
констатирует ее наличие, но на примере народной песни словно делает нас
очевидцами живого процесса рождения лирической поэзии: «…Народная
песня имеет для нас значение музыкального зеркала мира, первоначальной
мелодии, ищущей себе теперь параллельного явления в грезе и выражающей
эту последнюю в поэзии. Мелодия, таким образом, есть первое и общее,
отчего она и может испытать несколько объективаций, в нескольких текстах.
<…> Мелодия рождает поэтическое произведение из себя, и притом все
снова и снова; не что иное говорит нам и деление народной песни на
строфы:… непрестанно рождающаяся мелодия мечет вокруг себя искры
образов; их пестрота, их внезапная смена, подчас даже бешенная
стремительность являет силу, до крайности чуждую эпической иллюзии и ее
спокойному течению» (76). Здесь проясняется коренное отличие «вполне
аполлонического эпоса», подражающего «миру явлений и образов» от
дионисически-аполлонической лирики, которая порождена «высшим
напряжением языка, стремящегося подражать музыке», истолковывая при
этом «музыку в образах» (76-78). Ф.Ницше, целиком в духе
229
господствовавших в XIX веке концепций, не забывает указать на
ограниченность возможностей языка: он «при всех попытках подражать
музыке всегда соприкасается с нею лишь внешним образом; сокровеннейший
же ее смысл, несмотря на все лирическое красноречие, нимало не становится
нам ближе» (78-79). Представляется сомнительным, что Пиндар согласился
бы с этим выводом Ф.Ницше.
Тем не менее после такого предварительного рассуждения нам
становится понятным, почему трагедию нельзя трактовать как синтез
лирики и эпоса. Во-первых, потому что в самой лирике, по мысли
Ф.Ницше, имплицитно содержится все, что в развернутом виде определяет
своеобразие трагедии. В этом отношении Ф.Ницше близок В.Гумбольдту,
утверждавшему, что трагедия – не просто «особенный», но «наивысший
вид лирической поэзии»152, причем у Ф.Ницше эта идея приобретает
особую притягательность: «…Мы видим Диониса и его менад, мы видим
опьяненного мечтателя-безумца Архилоха, погруженного в сон, упавшего
на землю – как нам это описывает Еврипид в «Вакханках», – спящего на
высокой альпийской луговине под полуденным солнцем, и вот к нему
подходит Аполлон и прикасается к нему лавром. Дионисическимузыкальная зачарованность спящего мечет теперь вокруг себя как бы
искры образов, лирические стихи, которые в своем высшем развитии
носят название трагедий и драматических дифирамбов» (73).
Во-вторых, понимание трагедии как результата синтеза лирического
и эпического начал само собою выводит на первый план понятия
«субъект» и «объект», правомерность использования которых и по
отношению к лирике, и по отношению к трагедии была оспорена Ф.Ницше
уже в этой ранней книге: «Я лирика звучит… из бездн бытия: его
«субъективность» в смысле новейших эстетиков – одно воображение»
(73).
Все сказанное естественным образом подводит нас к уяснению того, в
чем же Ф.Ницше усматривает существо трагедии: «…Процесс
трагического хора есть драматический первофеномен: видеть себя самого
превращенным и затем действовать, словно ты действительно вступил в
другое тело и принял другой характер. Этот процесс стоит во главе
развития драмы. Здесь происходит нечто другое, чем с рапсодом, который
не сливается со своими образами, но, подобно живописцу, видит их вне
себя созерцающим оком; здесь налицо отказ от своей индивидуальности
через погружение в чужую природу. <…> Вся остальная хоровая лирика
есть только огромное усиление роли единичного аполлонического певца;
между тем как в дифирамбе мы имеем перед собой общину
бессознательных актеров, которые смотрят и на себя, и друг на друга как
на преображенных.
152
Гумбольдт В. фон. Ук. сочинение. – С.240.
230
Очарованность есть предпосылка всякого драматического искусства.
Охваченный этими чарами, дионисический мечтатель видит себя сатиром
и затем, как сатир, видит бога, т.е. в своем превращении зрит новое
видение вне себя, как аполлоническое восполнение своего состояния. С
этим новым видением драма достигает своего завершения» (86). Такое
пониманием трагедии позволило Ф.Ницше ответить на вопрос, почему
трагический хор был «древнее, первоначальнее и даже важнее
собственного «действия», несмотря на то, что состоял «из одних низких
служебных существ, первоначально даже из козлообразных сатиров»;
после этого объяснения «орхестра перед сценой» впервые в истории
новоевропейского изучения трагедии перестала быть загадкой: «..Сцена
совместно с происходящим на ней действием в сущности и первоначально
была задумана как видение и …единственной «реальностью» является
именно хор, порождающий из себя видение и говорящий о нем всею
символикою пляски, звуков и слова. Этот хор созерцает в видении своего
господина и учителя – Диониса, и поэтому он извечно – хор служителей:
он видит, как бог страждет и возвеличивается, и поэтому сам не принимает
участия в действии. При этом решительно служебном по отношению к
богу положении он все же остается высшим и именно дионисическим
выражением природы и изрекает поэтому в своем вдохновении, как и она,
слова мудрости и оракулы; как сострадающий, он в то же время и мудрый,
из глубин мировой души вещающий истину» (87). В сатирах, из которых
состоял хор, Ф.Ницше усматривает «отображение природы и ее
сильнейших порывов»; сатир для него – это «музыкант, поэт, плясун и
духовидец в одном лице» (там же).
Приведенное высказывание является самым глубоким ответом на
вопрос, почему этот вид поэтического творчества был назван «козлиной
песнью» (трагедией). Скоропостижная смерть греческой трагедии –
признаки приближающегося конца Ф.Ницше отмечает уже в творчестве
Еврипида, который, в отличие от Эсхила и Софокла, стремился не к
слиянию с божественным, но к «подражанию повседневному» (97) –
объясняется утратой хором своего значения: дух музыки, осенивший
трагедию при ее рождении, очень скоро оставил ее. «Великий Пан умер»,
вместе с ним умерла трагедия и никогда уже в прежнем качестве не
возрождалась: то, что в новоевропейской литературе было названо
«козлиной песнью» (трагедией), только по недоразумению получило то же
самое имя. В самом деле, все предназначение хора сатиров заключалось в
том, чтобы своим пением привести зрителей в такое состояние
экстатирующего опьянения, которое позволило бы им сквозь все маски
«действующих» персонажей прозреть главного и единственного героя –
страдающего бога Диониса (см.: 93). Как только связь с этим
мирочувствованием была утрачена, закончилась недолгая жизнь греческой
231
трагедии. А что в новоевропейской трагедии осталось от этого
мирочувствования?
Рядом с отмеченными удивительными проникновениями в существо
греческой трагедии как-то слишком уж непритязательно-поверхностной в
книге Ф.Ницше выглядит интерпретация катарсиса: простое, ни на что не
претендующее повторение А.Шопенгауэра. Вспоминая об «очищающей и
разряжающей силе трагедии», Ф.Ницше утверждает, что она «в лице
трагического героя способствует нашему освобождению от алчного
стремления к этому существованию, напоминая нам о другом бытии и
высшей радости, к которой борющийся и полный предчувствий герой
приуготовляется своей гибелью, а не своими победами» (140). Позднее
Ф.Ницше признает такое шопенгауэровско-метафизическое понимание
трагического катарсиса ошибочным.
К числу недостатков «Рождения трагедии…» принадлежит, на мой
взгляд, и однозначно полемическое отношение автора к Платону. Вопрос о
том, в самом ли деле Ф.Ницше превзошел Платона в понимании
изначального существа трагедии, поставленный выше, остается пока без
ответа. Пришло время попытаться на него ответить.
Сразу же отмечу, что Ницше в пылу полемики не всегда оказывается
справедливым по отношению к древнегреческому мыслителю, относя его,
как и Еврипида, к «эстетическому сократизму», погубившему, по его
мнению, трагедию. Ф.Ницше считает, что, подобно Еврипиду,
«божественный Платон также говорит о творческой способности поэта,
поскольку это не есть сознательное уразумение, в большинстве случаев
иронически и уподобляет эту способность дару прорицателя и
снотолкователя; поэт, мол, способен начать творить не прежде, чем он
станет бессознательным и рассудок его покинет» (105).
Оставляя вопрос о Еврипиде открытым, скажу несколько слов в
защиту Платона. Платон действительно чрезвычайно низко оценивает
трагедию, но совсем не по той причине, на которую указывает Ницше.
Рассуждение Ницше отсылает нас главным образом к двум диалогам
Платона – к «Иону» и «Федру». В первом из них Сократ, объясняя
рапсоду, именем которого назван диалог, откуда у того дар понимания
Гомера, говорит о природе поэтического творчества: «Все хорошие
эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству,
а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так и хорошие
мелические поэты: подобно тому как корибанты пляшут в исступлении,
так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; ими
овладевают гармония и ритм, и они становятся вакхантами и одержимыми.
<…> И каждый может хорошо творить только то, на что его подвигнула
Муза: один – дифирамбы, другой – энкомии, этот гипорхемы, тот –
эпические поэмы, иной – ямбы; во всем же прочем каждый из них слаб.
Ведь не от умения они говорят, а благодаря божественной силе; если бы
232
они благодаря искусству могли хорошо говорить об одном, то могли бы
говорить и обо всем прочем; но ради того бог и отнимает у них рассудок и
делает их своими слугами, божественными вещателями и пророками,
чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь
драгоценные слова, а говорит сам бог и через них подает нам свой
голос»153. Если Ницше имел в виду именно этот фрагмент диалога «Ион»
(а для такого предположения имеются все основания), тогда нужно еще
доказать, что в приведенном высказывании присутствует хотя бы намек на
иронию. Думается, гораздо ближе к истине В.Ф.Эрн, когда утверждает,
что «при написании Федра Платон… находится в состоянии «мании»,
которую он не только описывает, но и которая заставляет, «нудит»
(тютчевское слово. – А.Д.) его говорить…»154
Платон утверждает, что существуют поэтические произведения,
которые создаются не благодаря человеческому умению (искусству), но
благодаря божественной силе. К этим произведениям, в которых
сказывается божественное слово, относятся поэмы (в «Государстве»
Платон уточнит, в какой мере155), дифирамбы (διύραμβος – хоровая песнь
в честь Вакха), энкомии (ἐγ-κώμιον – хвалебная песнь в честь Вакха, а
также в честь победителя на играх; от κῶμος – веселая процессия в честь
Вакха), гипорхемы (ὑπόρχημα – хоровая песнь в честь Аполлона с
обязательной пляской; ὑπ-ορχέομαι – плясать под музыку), ямбы ( ἴαμβος –
в перен. насмешливое или колкое стихотворение, «насмешливые и
позорящие песни», исполнявшиеся во время «весенних празднеств
плодородия»156). За исключением поэмы, о которой необходим отдельный
разговор, и ямба, преобразованного в VII в. Архилохом, Платон называет
различные виды хоровой лирики157. Трагедию к тем видам, в которых
сказывается божественное слово, он не относит. Трагедия для Платона –
не высшее проявление лирического (точнее сказать: манического) начала,
но, напротив, полностью противоположна хоровой лирике, тогда как
никакого принципиального отличия дифирамба от других видов хоровой
лирики, согласно Платону, вовсе не существует.
В «Федре» Платон осуществляет разграничение словесного творчества
в зависимости от того, что лежит в его основе – божественная сила или
человеческий рассудок (искусство). Первое он называет маническим:
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – С.377.
Эрн В.Ф. Верховное постижение Платона // Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991.
С.478. О Платоне как «горячем поборнике» Пиндара в понимании поэзии см.: Миллер
Т.А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля // Аристотель и античная
литература. – М.: Наука, 1978. – С.45.
155
См.: Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.3. – С.157-159.
156
Тронский И.М. История античной литературы. – М.: Высш. шк., 1983. – С.31.
157
См.: Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – С.377. Употребляя понятие «лирика»,
отдаю дань теоретико-литературной традиции. Более корректно в данном случае
говорить о хоровой манической поэзии.
153
154
233
«Третий вид одержимости и неистовства – от Муз, он охватывает нежную и
непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический
восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное
множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства,
посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он
благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек
от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями
неистовых»158. Очевидно, трагедия, согласно Платону, принадлежит к
творениям здравомыслящих, о которых всерьез он не считает нужным
рассуждать. Такие творения Платон называет подражательными
(миметическими).
Принципиальное различие манического творчества и миметического
искусства проясняется, когда Платон рассказывает о душах, которые после
попытки «узреть поле истины» возвращаются на землю: «Душа, видевшая
всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты
или человека, преданного Музам и любви… пятая по порядку будет вести
жизнь прорицателя или человека, причастного к таинствам; шестой
пристанет подвизаться в поэзии или другой какой-либо области
подражания…»159.
Платон здесь, вопреки мнению Ницше, не иронизирует над
маническим творчеством, порождаемым Музами («бессознательным»), но
рассматривает его как один из высших уделов человека, отличая от
искусства прорицателя и от поэтического искусства, которое вполне
принадлежит к области подражания. Маническое творчество порождено,
если продолжить мысль Платона, причастностью к герменейе – такой
способности речи, которая не просто сосуществует с другими
способностями (как поэтическое подражание рядом с другими видами
подражания), но лежит в основе всех человеческих способностей.
Поскольку человек причастен к герменейе (божественному слову) – а эта
причастность проявляется в маническом творчестве, – постольку он может
иметь и все присущие ему потребности, например, испытывать
удовольствие от поэтического подражания, хотя в подражании ничего
непосредственно божественного уже нет.
Забвение изначальной сущности речи, произошедшее уже в Греции
«классической» поры, привело, в конечном счете, к тому, что значимым
осталось только удовольствие от подражания, а то, что выходило за его
пределы (Гёльдерлин, Тютчев), оставалось на периферии художественной
словесности, на полузаконных правах. На этом фундаменте (на
отождествлении поэтического творчества и подражательного искусства)
стоит эстетика с ее языком, как будто специально выработанным для того,
чтобы вопрос об изначальной сущности поэзии никогда не был поставлен.
158
159
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.2. – С.154, 245а.
Там же, с.157, 248d-e.
234
Поэтому нам еще только предстоит понять, что маническое творчество,
исходящее из герменейи – божественной речи, и подражательное
искусство, основанное на игре со словом (а древние, в отличие от нас,
были очень чуткими к подобного рода различиям, и в этом отношении
Платон, конечно же, превосходит Ницше) – две разных способности речи,
следовательно, два разных способа существования, смешивать которые
недопустимо. Этому учит нас Платон, но Ницше, как видим, на этот урок
внимания не обратил.
235
3.3.2. МЫШЛЕНИЕ, УПРАВЛЯЕМОЕ ИНСТИНКТАМИ, И ТРАГЕДИЯ
Действуешь только тогда совершенно,
когда действуешь инстинктивно.
Ф.Ницше
В «Рождении трагедии…» Ф.Ницше предпринял две попытки
раскрыть смысл «Царя Эдипа». В первом случае главную причину
«водоворота злодеяний», в который был ввергнут Эдип, он усматривает в
чрезмерной мудрости фиванского царя, позволившей ему разрешить
загадку Сфинкс. Бедствия Эдипа, таким образом, объясняются
нарушением аполлоновского требования меры160.
Во втором случае Эдип предстает «как тип благородного человека,
который, несмотря на всю его мудрость (выше Ницше утверждал, что как раз
вследствие его мудрости. – А.Д.), предназначен к заблуждениям и к бедствиям,
но, в конце концов, безмерностью своих страданий становится источником
магической благодати для всего, что его окружает, – благодати, не теряющей
своей действительности даже после его кончины». И далее следует памятный
всем, кто читал Ф.Ницше, вывод: «Благородный человек не согрешает, – вот
что хочет нам сказать глубокомысленный поэт; пусть от его действий гибнут
всякий закон, всякий естественный порядок и даже нравственный мир – этими
самыми действиями очерчивается более высокий магический круг влияний,
создающих на развалинах сокрушенного старого мира мир новый»161.
Глубина обоих суждений несомненна, однако поздний Ницше дает
нам возможность иначе понять основной смысл трагедии Софокла.
§440 «Воли к власти», важнейшее высказывание из которого
приведено выше в качестве эпиграфа, заканчивается так: «…Всякое
мышление, протекающее сознательно, соответствует и гораздо более
низкой ступени морали, чем мышление того же человека, поскольку оно
управляется инстинктами»162. Какие новые возможности в понимании
«Царя Эдипа» открывает нам это суждение Ф.Ницше?
В прологе Эдип говорит пришедшим к нему с мольбой о спасении
жрецу Зевса и юношам:
ὥστ’ οὐχ ὕπνῳ γ’ ἐνδóντα μ’ ἐξεγείρετε,
ἀλλ’ ἴστε πολλὰ μέν με δακρύσαντα δή,
πολλὰς δ’ ὁδοὺς ἐλόντα φροντίδος πλάνοις.
ἣν δ’ εὖ σκοπῶν ηὕρισκον ἴασιν μόνην,
ταύτην ἔπραξα…163.
См.: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1990. – С.70.
Там же. – С.89.
162
Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей // Ницше Ф. Избр.
произведения: В 3 т. – Т.1. – М.: REFL-book, 1994. – С.204.
163
Sophocles. Tragoediae. – Lipsiae, 1908. – S.109, 65-69.
160
161
236
Ф.Ф.Зелинский предлагает следующий перевод этих строк:
Нет, не со сна меня вы пробудили:
Я много плакал, много троп заботы
Измерил в долгих странствиях ума.
Один мне путь открылся исцеленья –
Его избрал я.164
У С.В.Шервинского эти строки звучат так:
Меня будить не надо, я не сплю.
Но знайте: горьких слез я много пролил,
Дорог немало думой исходил.
Размыслив, я нашел одно лишь средство.
Так поступил я…165
Различие между двумя переводами представляется очевидным,
причем о втором можно с уверенностью говорить как о более позднем,
даже ничего не зная о переводчиках. В первом переводе ум, побуждаемый
заботой, странствует в поисках исцеленья, тогда как Эдип лишь измеряет
пройденные при этом тропы. Путь исцеленья открывается Эдипу, а не
открыт им. Эдип избирает то, что, открывшись, заранее определило его
выбор. Ум, таким образом, вполне в духе той давней поры, как мы ее
обычно понимаем, онтологизируется, т.е. приобретает самостоятельное
существование, более безусловное, нежели сам Эдип, состоящий при нем.
Во втором переводе способность действовать переходит к Эдипу: это
он, размыслив, сам находит средство исцеления; его поступок,
следовательно, вполне сознателен и определен его способностью
понимания.
Создается впечатление, что перед нами два разных Эдипа; в таком случае
необходимо разобраться, который из них истинный. Что говорит нам об этом
Софокл? Как у него соотносятся Эдип и ум (дума)? И, наконец, какой смысл
имеет у него слово, которое на русский язык переводится как ум (дума)?
У Софокла этим русским словам соответствует φροντίδος. Это генетив
существительного φροντίς, что значит: дума, забота, попечение, хлопоты,
старание. Мысль, следовательно, в этом слове предстает как попечение,
забота. Это оберегающее собирание в целое (ис-целенное) всего
присутствующего. Ис-целение – это, стало быть, возвращение исцеленному его принадлежности целому, и, наоборот, освобождение целого
(в данном случае – полиса) от того, что, в силу действия непреложных
законов, уже отпало от него, отошло. С этим собирающе-освобождающим
попечением, которое не является индивидуальным свойством Эдипа, но
есть проявление природной, божественной законосообразности
человеческого существования и существования космоса в целом,
соотносится то, что у С.В.Шервинского переведено как «размыслив», а у
164
165
Софокл. Драмы. – М.: Наука, 1990. – С.7.
Софокл. Трагедии. – М.: Худож. лит., 1988. – С.33.
237
Ф.Ф.Зелинского осталось без перевода. Что может размыслить Эдип,
кроме того, что уже проявило себя в качестве неотвратимости, что уже
«открылось», как в высшей степени по-гречески сказано в первом
переводе? Русскому «размыслив» у Софокла соответствует εὖ σκοπῶν:
хорошо рассмотревший, и только в качестве рассмотревшего –
обдумывающий, взвешивающий и т.д.
Теперь мы можем обратиться к подстрочному переводу
интересующего нас фрагмента из высказывания Эдипа:
Так что не сну предавшего [заботу] меня пробуждаете,
Но знайте меня, поистине многие слезы пролившего,
Многие дороги проложившего заботы блужданиям.
Ту единственную [дорогу], которую, хорошо рассмотрев,
открывал исцелению,
Ее проторил ( ἔπραξα – букв.: сделал).
Мы видим, что на вопрос о том, который из двух стихотворных
переводов точнее, однозначно ответить нельзя. Перевод Ф.Ф.Зелинского в
большей мере соответствует духу греческого мышления, но при этом не
вполне проясненным остается, в чем же собственно заключается вина
Эдипа, его преступление против благочестия в том изначальном греческом
понимании, которое сохраняло актуальность и авторитет для зрителей –
современников Софокла. В этом отношении более предпочтительным
оказывается перевод С.В.Шервинского, который выявляет (при этом
усиливая, приближая к нам, менее чутким, нежели древние, к слову и
определенным смысловым нюансам) то, что само собой открывалось
современникам Софокла без всяких дополнительных толкований, но
ускользает от нас, оставаясь незамеченным. Ключ к пониманию
высказывания Эдипа мы находим в «Воле к власти» Ф.Ницше.
Прежде, чем совершить поступок, Эдип рассматривает различные
возможности. Он уверен в своей способности, рассматривая, – понять, как
и в том, что спасение – в сознательном выборе. Таким образом Эдип хочет
избежать предсказанного ему ужасного несчастья, перехитрить судьбу.
Однако все его поступки, основанные на сознательном выборе, неизбежно
приближают его к катастрофе.
Главный конфликт «Царя Эдипа» мы можем представить, следуя логике
Ф.Ницше, как конфликт сознательного мышления и инстинкта – и конечное
посрамление первого. Эдип присваивает себе право на попечительную
заботу. Его ум обольщен торжеством над Сфинкс. Но Сфинкс, загадку
которой разгадал Эдип, спасая тем самым город, – это только уловка,
приманка для ума, создающая иллюзию его всесилия. На самом деле, как мы
знаем, городу грозит теперь еще более страшное бедствие: вина Эдипа
переходит теперь и на него. Конфликт разрешается в пользу человека
«трагической эпохи» (Ф.Ницше), вполне доверяющего инстинктам (здесь –
Креонт, но более показательный пример – Тесей в «Эдипе в Колоне»), – в
238
этом следовании инстинктам проявляется и его благочестие. Наказание Эдип
заслужил за измену инстинктам, но ведь это относится и к его родителям,
причем в не меньшей степени. Эдип – следствие. Эдип – не только жертва, но
и орудие судьбы. Бедствия, которые обрушились на него, призваны доказать,
что разум слеп, «видят» инстинкты, причем их «видение» не зависит от
внешнего (физического) зрения. Тогда, может быть, слепой Эдип
возвращается к естественному состоянию человека «трагической эпохи»?
Обо всем этом говорит нам не столько «Царь Эдип», сколько «Эдип в
Колоне».
Но что это за особенное состояние, за возвращение к которому Эдипу
пришлось заплатить такую страшную цену? Ответ на этот вопрос Ф.Ницше
дает в «Сумерках идолов…»: «Что сообщает о себе трагический художник?
Не показывает ли он именно состояние бесстрашия перед страшным и
загадочным? – Само это состояние является высшей желательностью; кто
знает его, тот чтит его высшими почестями. Он сообщает о нем, он должен о
нем сообщать, предполагая, что он художник, гений сообщения. Мужество и
свобода чувства перед мощным врагом, перед бедствием высшего порядка,
перед проблемой, возбуждающей ужас, – вот то победное состояние, которое
выбирает трагический художник, которое он прославляет. Перед трагедией
воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии; кто привык к
страданию, кто ищет страдания, героический человек, платит трагедией за
свое существование, – ему одному дает трагический поэт отведать напитка
этой сладчайшей жестокости»166. Вина родителей Эдипа, как и самого Эдипа,
заключается, стало быть, в том, что они изменили своему призванию –
призванию человека «трагической эпохи» – мужественно и бесстрашно
принимать свой удел, каким бы он ни был.
Итак, не «сознательное мышление», но следование инстинкту могло
привести Эдипа к искуплению вины. Что главным образом имеет в виду
Ф.Ницше, когда пишет об инстинкте в греческом его понимании?
«Основной факт эллинского инстинкта», как он выражался в
дионисийских Мистериях, в которых, как мы знаем, зарождается
трагическое искусство, – «воля к жизни», «торжествующее Да по
отношению к жизни наперекор смерти и изменению»167. Дионисийскими
Мистериями эллины, утверждает Ф.Ницше, гарантировали себе «вечную
жизнь». Именно поэтому такой глубокий символический смысл
приобретает у них «мистерия половой жизни», «соитие», становясь даже
выражением «всего античного благочестия»: «Все отдельное в акте
соития, беременности, родов возбуждало высшие и полные торжества
чувства». «Я не знаю, – пишет Ф.Ницше, – высшей символики, чем эта
греческая символика дионисий. В ней придается религиозный смысл
глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности
166
167
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – Т.2. – С.606. Пер. Н.Полилова.
Там же. – С.628-629.
239
жизни, – самый путь к жизни, соитие, понимается как священный
путь…»168. В этих словах таится разгадка и сущности трагического
искусства, как его понимает немецкий мыслитель, а вместе с тем и
сущности трагического катарсиса, который никогда ранее таким образом
не трактовался. Следующее полемическое рассуждение Ф.Ницше,
касающееся катарсиса, направлено главным образом против Аристотеля и
Шопенгауэра: «Подтверждение жизни в самых непостижимых и суровых
ее проблемах, воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами
собственной неисчерпаемости, – вот что назвал я дионисическим, вот в
чем угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы
очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением – так понимал
это Аристотель, – а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию,
быть самому вечной радостью становления, – той радостью, которая
заключает в себе также и радость уничтожения…»169
В том, что именно соитие и деторождение являются преступными, а
не благочестивыми у Эдипа, проявляется противожизненность,
враждебность богам тех устоев, которыми определяются его действия.
Эдип, несмотря на весь свой ум, не чрезмерно мудр, как считал ранний
Ф.Ницше, а, напротив, вовсе лишен мудрости, поскольку лишен
божественного попечения, ибо, как сказано у Пиндара,
ἐκ εοῦ δ’ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως.170
Муж сообразно [дарованной] богом [мере] изобилует,
процветая мудростью (букв.: мудрым умом).
В случае Эдипа мы, стало быть, имеем дело с немудрым умом.
Ту единственную [дорогу], которую, хорошо рассмотрев,
открывал исцелению,
Ее проторил, –
так говорит Эдип, находясь на пороге роковых и ужасных открытий. При этом,
как уже было сказано, ни сам Эдип, ни окружающие его фиванцы нисколько не
сомневаются в том, что он обладает такой точкой зрения, которая позволяет
ему, рассматривая, найти выход, помочь городу. В предпоследнем коммосе
«Эдипа в Колоне» он, обращаясь к Антигоне и Исмене, говорит нечто иное:
ὦ παῖδες,ἥκει τῷδ’ ἐπ’ ἀνδρὶ έσφατος
βίου τελευτὴ κοὐκέτ’ ἔστ’ ἀποστροφή.
О дети, приблизился к мужу явленный божественным
гласом
жизни конец, защиты нет (уклониться невозможно).
В ответ Антигона спрашивает:
πῶς οἶσα; τῷ δὲ συμβαλὼν ἔχεις, πάτερ;
Там же. – С.629.
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – Т.2. – С.629. Пер. Н.Полилова.
170
Pindarus. Carmina cum fragmentis. Pars 1. – Lipsiae, 1980. – S.47, 10.
168
169
240
Как можешь знать? Что истолковываешь, отец?
καλῶς κάτοιδ’… (209, 1472-75).
Хорошо знаю, –
отвечает только на первый вопрос, и как бы не слыша второго, Эдип.
Вопросы Антигоны у С.В.Шервинского переведены так:
Как можешь знать, отец? Откуда видишь?171.
Область, из которой открывается Эдипу присутствующие во всей полноте –
вместе с тем, что неотвратимо приближается, – эта область для Антигоны
запредельна. Антигона спрашивает о знаках, которые якобы
истолковываются Эдипом (τῷ δὲ συμβαλὼν ἔχεις ;), не замечая, что он на них
уже указал:
Διὸς πτερωτὸς ἥδε μ’ αὐτίκ’ ἄξεται
βροντὴ πρὸς Ἅιδην … (208, 1460-Ι).
Крылатый Зевс – этот гром – сейчас
унесет меня к Аиду…
Но Эдип истолковывает не знаки: он слышит божественный голос,
непосредственно открывающий ему то, что должно свершиться.
Причастность Эдипа к божественной речи – это не просто свидетельство уже
произошедшего искупления, но возведение Эдипа на такую высоту, на
которой находятся избранные богами. Эдип становится провидцем:
«Провидец стоит перед лицом присутствующего в его несокровенности,
которая одновременно просветляет сокровенность присутствующего как
отсутствующего. Провидец видит, поскольку он все имеет увиденным как
присутствующее… <…> Провидец собрал все присутствующее и
отсутствующее в одно при-сутствие и в этом присутствии истовствует. Наше
старое слово «истник» означает «капитал». Мы знаем этот корень еще в слове
«истовый», что значит настоящий, радетельный, попечительный. Это
«истовствовать» можно мыслить как «просветляя и оберегая беречь».
Присутствие оберегает присутствующее, – настоящее и не-настоящее, – в
несокровенности истины. Из истовости присутствующего сказует провидец.
Он есть истосказатель»172. Эдип оказывается теперь способным проявить
попечительную заботу по отношению к Афинам, поскольку в качестве
провидца он этой попечительной заботой наделен.
«ὦ πάντα νωμῶν («о, все видяще-постигающий» (116, 300), –
обращался Эдип к Тиресию, призванному им истолковать оракул
Аполлона. Теперь эти же слова можно обратить к самому Эдипу.
Покидающий земную жизнь Эдип всецело принадлежит божественной
речи. То, что о себе он говорит, как о постороннем («приблизился к мужу
Софокл. Трагедии. – С.160.
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Хайдеггер М. Разговор на проселочной
дороге. – М.: Высш. шк., 1991. – С.48, 49. Пер. Т.В.Васильевой.
171
172
241
… жизни конец») и о своей могиле – не святотатствуя при этом – как о
священной («ἱερὸν τύμβον» (211, 1545), – свидетельство того, что это
говорит уже не тот Эдип, каким мы его до этого знали. Точнее, это уже
говорит не Эдип.
Антигона, в силу того, что инстинкт (а в нем проявляется божественное
попечение) не ведет ее, не понимает отца, а после его смерти отказывается
искать его «священную могилу» не потому, что постигает смысл запрета, а
потому что просто подчиняется запрету Тесея. В отличие от Антигоны Тесей,
не оставленный попечением богов, движимый инстинктом, в ответ на
указание Эдипом знаков (знамений) неотвратимо приближающейся смерти,
говорит: «πείεις με» (210, 1516) («ты убеждаешь меня»), – и строго
выполняет все, что открывает ему в прощальном напутствии Эдип.
Так могут быть поняты «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне» Софокла,
если следовать букве и духу позднего учения Ф.Ницше о трагедии. Хотя,
строго говоря, наши рассуждения о причастности Эдипа божественной
речи принадлежат скорее герменевтике ХХ века, нежели учению
Ф.Ницше. Но показательна возможность этого естественного перехода от
Ф.Ницше к современной герменевтике: своим учением о мышлении,
управляемом инстинктами, Ф.Ницше уже предсказывает то вопрошающее
(обращенное к речи) мышление, которому наиболее глубоко может
открыться изначальная сущность трагического.
3.3.3. ГЕРМЕНЕЙЯ И СУЩНОСТЬ ТРАГИЧЕСКОГО
Куда слово нас понесет,…
туда и надо идти.
Платон
Обратившись к изречению Анаксимандра – этому «древнейшему
изречению» европейского мышления, М.Хайдеггер указал, что приходящее в
нем «к речи постижение сущего в его бытии не пессимистично, не
нигилистично, оно также и не оптимистично. Оно остается трагическим»173.
Значит, в изречении Анаксимандра таится ответ на вопрос о сущности
трагического, который предшествует платоновской критике трагедии, т.е.
ответ настолько изначальный, насколько нам дано к изначальному
приблизиться.
Нет нужды подчеркивать, что мое понимание изречения Анаксимандра
определено работой М.Хайдеггера, предложившего такое его толкование,
которое очень надолго исключило необходимость в каких бы то ни было
новых. Истолковывая изречение Анаксимандра, М.Хайдеггер заодно
истолковывает и сущность трагического, каким оно предстало в самом
173
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. – С.56.
242
начале, как и сущность трагической эпохи в целом. Характер этой
трагической эпохи определяется главным образом не тем, что в Греции
когда-то существовала особая порода людей, как полагал Ф.Ницше174, но,
учит нас М.Хайдеггер, особым отношением человека к языку, речи.
В то же время мой перевод изречения Анаксимандра сохранит связь с
традиционным его пониманием – не потому, что меня в каком-то
отношении не удовлетворяет истолкование Хайдеггера, а для того, чтобы
переход к Хайдеггеру не был для неподготовленного читателя слишком
головокружительным.
М.Хайдеггер подвергает критическому рассмотрению два перевода
этого изречения. Первый принадлежит Ф.Ницше: «Откуда вещи берут свое
происхождение, туда же должны они сойти по необходимости; ибо
должны они платить пени и быть осуждены за свою несправедливость
сообразно порядку времени»175.
Второй выполнен Г.Дильсом: «Из чего же вещи берут происхождение,
туда и гибель их идет по необходимости; ибо они платят друг другу
взыскание и пени за свое бесчинство после установленного срока»176. Эти
переводы, замечает М.Хайдеггер, существенным образом не отличаются друг
от друга, потому что в равной степени проходят мимо того, что на самом деле
вы-сказывается в изречении Анаксимандра. Оно говорит о сущем (τὰ ὄντα), о
характере бытия (τὸ εἶναι) сущего. Допонятийное содержание этих
основополагающих слов всего западного мышления М.Хайдеггер проясняет
на примере фрагмента из первой песни «Илиады»:
…снова поднялся
Калхас, Тестора сын, мудрейший птицегадатель,
Знающий то, что есть (τά τ’ ἐόντα), что будет (τά τ’ ἐσσóμενα)
иль прежде что было (πρó τ’ ἐόντα). (Пер. В.В.Вересаева).
Дословный перевод последней строки звучит так:
Знающий (видяще-ведающий) как и сущее,
так и становящееся сущим, так и прежде бывшее сущим.177
Ф.Ницше об Анаксимандре: «Он жил, как писал, говорил так же торжественно, как
одевался; он поднимал руку и ставил ногу, как будто бы эта жизнь была трагедией, в
которой он рожден был играть героя. Во всем он был великим прообразом Эмпедокла»
(Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху // Ницше Ф. Избр. произведения: В 3 т. –
Т.3. – М.: REFL-book, 1994. – С.206).
175
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. – С.28. Ср. другую редакцию перевода:
Ницше Ф. Избр. произведения: В 3 т. – Т.3. – С.204.
176
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. С.29. Ср. также перевод А.В.Лебедева: «А
из каких [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по роковой
задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды
[=ущерба] в назначенный срок времени…» (Фрагменты ранних греческих философов. –
Ч.1. – М.: Наука, 1989. – С.127).
177
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. – С.47.
174
243
Первое, что помогает нам понять М.Хайдеггер, истолковывая
приведенные слова Гомера, – необходимость различать «настоящее» как
внутривременное либо как определенную черту предметного (объективного)
в его соотнесенности с представляющим субъектом (наше традиционное
понимание), – и, в соответствии с греческим пониманием, как
присутствующее, которое также есть «и прошедшее, и будущее. Оба суть
некоторые виды присутствующего, а именно присутствующего не в
настоящее время», в равной мере, как и присутствующее в настоящем,
открытые ведению Калхаса. При этом присутствующее в настоящем имеет
отличительной чертой то, что, прибывая в несокровенность, оно
осуществляется как лад («чин» и «суразность»; порядок), в котором каждое
отдельное присутствующее обретает свое место относительно любого
другого присутствующего и связано с ним.
Осталось лишь напомнить, что, согласно хайдеггеровскому
толкованию, τὰ ἐόντα (сущее-присутствующее) «не есть название ни для
одних лишь естественных вещей, ни для всяких объектов вообще,
противостоящих
человеческому
представлению.
Человек
тоже
принадлежит к ἐόντα; он есть тот присутствующий, который,
просветленно-внимая и, тем самым, собирая, позволяет присутствующему
как таковому существовать в несокровенности»178.
Теперь нам понятнее становится, что сказывается в изречении
Анаксимандра. В нем говорится, каким образом сущее-присутствующее
осуществляется. Ограничим наш перевод лишь словами, которые,
согласно Д.Барнету и М.Хайдеггеру, вкрапляясь в комментарий
Симпликия, действительно принадлежат Анаксимандру:
…κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν
ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας.179
Наша очень осторожная гипотеза заключается в том, что ἀλλήλοις
(друг другу) указывает на соотношение сокрытого и несокрытого, т.е.
позволяющего про-ис-ходить – и про-ис-ходящего, которое, вследствие
этого, несет в самом своем про-ис-хождении вину за него и неизбежность
расплаты. Если с этой гипотезой можно согласиться, изречение
Анаксимандра примет следующий вид:
…по необходимости: ибо должны они сами давать друг другу право
[на про-ис-хождение в несокрытость] и возмещение ущерба, [вызванного
этим про-ис-хождением, ценою последующего за-хода в сокрытое].
Однако даже при условии, что Анаксимандр нами понят – хотя бы в
самых главных чертах – правильно, все еще остается не проясненным, каким
образом это изречение может приблизить нас к пониманию сущности
трагического. Какое «трагическое» мы необходимо должны помыслить, если
не покинем пространство, обозначенное для нашей мысли изречением
178
179
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. – С.51.
Там же. – С.43.
244
Анаксимандра? Очевидно, речь должна пойти не о литературном жанре,
который в ряду других драматических и недраматических жанров обладает
вот такой спецификой, поскольку изречение Анаксимандра захватывает
сущность трагического глубже и изначальнее, нежели любая поэтика,
начиная с аристотелевской. Очевидно, здесь речь пойдет и не о том, каким
образом человек в своей субъективной сфере, противостоящей объективному
миропорядку,
является
носителем
трагического
мироощущения:
мужественно ли противоборствуя ударам судьбы или отказываясь от воли к
жизни180, – поскольку изречение Анаксимандра захватывает сущность
трагического глубже и изначальнее, нежели любая эстетика. Равно и не о
выходящем за пределы эстетики платоновском разграничении манического
творчества и миметического искусства (к которому, согласно Платону,
принадлежит трагедия) мы будем говорить, но из Анаксимандрова
высказывания, помысленного в соответствии с заключенным в нем
содержанием, само это разграничение, кажется, впервые за истекшие
тысячелетия откроется нам во всей своей подлинной значимости для
последующей литературы.
Чтобы подступиться к трагическому, как оно высказалось в изречении
Анаксимандра, обратимся к трагедии Софокла «Царь Эдип», а именно: к
началу эписодия второго, когда Креонт, обвиненный Эдипом в заговоре,
приходит, чтобы оправдаться. С интересующей нас фразы начинается его
обращение к хору:
ἄνδρες πολῖται, δείν’ ἔπη πεπυσμένος
κατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδíπουν,
πάρειμ’ ἀτλητῶν
(123, 513-515).
Ф.Ф.Зелинский переводит эти слова так:
Сограждане, в ужасном преступленье
Меня винит – так слышал я – Эдип.
Напраслины не вынес я.181
У С.В.Шервинского:
Сограждане! Узнал я, что Эдип
Меня в делах ужасных обвиняет.
Я не стерпел и к вам явился.182
Эти переводы существенным образом не отличаются друг от друга,
поскольку в равной степени оказываются пере-водами греческого мышления
к тому привычному для нас пониманию драматического конфликта, когда
человек является главной движущей его силой. Поведение Креонта в обоих
случаях объясняется особенностями его нетерпеливого характера: он
См. у А.Шопенгауэра, который признает главной тенденцией и последней целью
трагедии «поворот к резиньяции, к отрицанию воли к жизни» (Шопенгауэр А. Мир как
воля и представление. – Т.2. – С.459).
181
Софокл. Драмы. – С.21.
182
Софокл. Трагедии. – С.49.
180
245
оскорблен и хочет доказать несправедливость обвинений. Его поведение тем
более понятно, что никакой вины за ним, мы это знаем, нет. Но когда мы
переходим к Софоклу и пытаемся помыслить его слова, как они
действительно сказаны, не приспосабливая их к нашим привычным
представлениям (чем вынуждены заниматься переводчики), мы убеждаемся,
что поступки Креонта объясняются вовсе не его характером, но характером
его бытия-присутствия, которое вследствие определенных причин не просто
должно быть именно таким, но вообще может иметь или не иметь право на
существование.
Приведу дословный перевод сказанного Креонтом:
Мужи-сограждане, ужасные слова услышаны мною,
Что обвиняет меня царь Эдип,
Присутствую при невыносимых (нестерпимых) [словах].
Промедлительное бытие-присутствие человека осуществляется «при
словах» – от про-ис-хождения до за-хода. При каких словах? Любое ли слово
– основа нашего присутствия, как оно осуществляется? Слово, которое
осуществляет наше присутствие, само должно быть наполнено присутствием,
должно быть истинным, то есть живым. У Софокла это ἔπη. ’Έπος («слово»,
но в то же время – «стихотворение», «стих»), равно как ἐπ-ωδή, или
ἐπωνυμία, является именем для ἑρμηνεία (герменейи). Герменейя как
изначальная способность речи есть «прапоэзия» (М.Хайдеггер), в которой
впервые сказывается стихослагающее существо мышления. История
забвения этого изначального мышления есть история отпадения от
герменейи. ’Έπος как слово-стих, причастный к герменейе, кажет истину,
что значит: кажет «промедлительно присутствующее» каковому надлежит
быть, но также и то, каковому, вследствие обнаружившейся вины,
надлежит отойти в сокрытое (сокровенность), чтобы, отойдя, ис-целить от
вины целое присутственного183, возвратив ему «лад» и «суразность».
Обвиняющие слова Эдипа указывают, что таким несущим вину
присутствующим, чье промедление препятствует исцелению города,
является Креонт. Приход Креонта, следовательно, объясняется не его
личным нетерпением, но тем, что обвиняющие слова поставили его вне
города (т.е. вне целого присутственного), и в зависимости от того,
справедливыми они окажутся или нет, зависит его судьба. Мы, как и
Креонт, знаем, что они несправедливы. Это значит, что ἔπος, будучи
одним из имен герменейи (истинной речи), в то же время уже и не вполне
герменейя, поскольку может быть истинным или ложным. От чего это
зависит?
«…Дом бытия никогда не создается мыслью. Мысль сопровождает историческую
экзистенцию, т.е. humanitas подлинного homo humanus, в область восхода
Целительного» (Хайдеггер М. Время и бытие. – С.217). «Ближе всего к слову “поэт”
греки ставили слова “целитель” и “пророк”…» (Макуренкова С.А. Онтология слова:
апология поэта. Обретение Атлантиды. – М.: Логос-Гнозис, 2004. – С.33).
183
246
С ἔπη Эдипа перекликаются ἔπη корифея хора из первого эписодия,
когда он пытается помочь Эдипу найти убийцу Лаия. В ответ на просьбу
корифея позволить ему предложить второе решение, Эдип говорит:
Не откажи и в третьем, если есть.184.
После обмена репликами корифей откликнулся на это позволение Эдипа:
καὶ μὴν τά γ’ ἄλλα κωφὰ καὶ παλαί’ ἔπη (116, 290).
И в самом деле [есть, присутствуют] другие пустые и давние
слова.
Эти слова корифея хора имеют в виду убийцу Лаия. Почему они названы
пустыми и давними? Откуда они приходят? Чем вызван их приход?
«Пустые» означает «не наполненные присутствием». «Пустые» слова
не «кажут» сущее, поэтому они «немые» (другое значение слова «κωφά»).
Не указывая на сущее, такие слова не преодолевают поэтому границ
молчания (немоты), даже будучи произнесенными или записанными.
«Давние» означает «отмененные теми закономерностями, которые
определяют, каким образом актуальное для Эдипа и фиванцев
присутствующее осуществляет свое присутствие». Такое «давнее» вполне
может быть названо древним (что, собственно, παλαιóς и обозначает). При
этом «древность» некоего события вовсе не предполагает, что его
обязательно должен отделять от настоящего большой промежуток
времени.
Ἄρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι; – спрашивает Сократ Критона и слышит в
ответ: ’Επιεικω̃ς πάλαι (Crit. 43a).
– Но ты недавно находишься здесь или давно?
– Достаточно давно.
Критон пришел из другого времени, когда то, что он теперь знает и хочет
сообщить Сократу, еще не существовало. Он пришел с известием, что
скоро придет корабль с Делоса. Это событие, осуществившись, повлечет за
собой смерть Сократа, что коренным образом изменит состояние сущего,
разделив время на предшествующее и последующее, причем
предшествующее станет «παλαίω» в тот самый момент, когда Сократ
умрет. Смерть Сократа, таким образом, является основоположением для
нового состояния присутствующего. Его за-ход – это одновременно
разрешение на про-ис-хождение другого, причем это другое будет
промедлительно присутствовать до тех пор, пока смерть Сократа сохранит
свою значимость в качестве его основоположения. Поскольку это
основоположение оказывается значимым и для нашего теперешнего
присутствия, постольку мы оказываемся собеседниками Сократа в
большей степени, нежели сторонними наблюдателями или археологами в
духе М.Фуко185.
Софокл. Драмы. – С.13, 283.
«Археология обращается к дискурсу в его собственном объеме как к памятнику
(курсив автора. – А.Д.). <…> Это не возврат к самой тайне происхождения; это
184
185
247
Что является границей между предшествующим и актуально
наличествующим в трагедии Софокла? Об этом говорят слова Креонта из
пролога:
Сфинкс песнею лукавой отвлекла
Наш ум от смутных бед к насущным бедам.186
Речь хитропесенной Сфинкс (ἡ ποικιλωδὸς Σφίγξ) и все события, связанные
с торжеством Эдипа над нею, – не что иное, как явленность основания для
того целого, в пределах которого право Эдипа на власть в Фивах не может
быть поставлено под сомнение. Однако указание корифея хора на
присутствие «пустых и давних слов» ( ἔπη) свидетельствует о том, что
они перестают быть пустыми и давними, вновь обретая способность
«казать» сущее и выводя тем самым на свет новое основоположение для
присутствующего – событие гибели Лаия. Очевидно, это происходит не
вследствие субъективных устремлений того или иного участника событий
(Креонта или Тиресия), но в силу необходимости (κατὰ τὸ χρεών). О
необходимости, которой следует подчиниться, поскольку нельзя заставить
бога делать угодное человеку, Эдип говорит корифею хора:
δίκαι’ ἔλεξας· ἀλλ’ ἀναγκάσαι εοὺς
ἃν μὴ έλωσιν οὐδ’ ἂν εἷς δύναιτ’ ἀνήρ.187
То, что ты сказал, справедливо [соответствует заведенному
богами порядку188], но принудить богов [что-либо сделать],
если нет на то их желания, человек не в силах.
Гибель Лаия в качестве основополагающего события определяет такое
состояние присутствующего, в пределах которого не только может, но
необходимо должен быть поставлен вопрос о вине Эдипа и, следовательно, о
расплате за вину; сам Эдип и вопрошает об этом, имея в виду неведомых
убийц:
ποῦ τόδ’ εὑρεήσεται
ἴχνος παλαιᾶς δυστέκμαρτον αἰτίας;189
где может быть найден
этот темный след древней вины?
Αἰτία по-гречески обозначает не только «вину», но и «причину, основание»,
то есть такую вину, которая лежит в основании чего-либо, в данном случае –
причину бедствий, обуревающих (χειμάζω) город. С точки зрения этого
систематическое описание дискурса-объекта» (Фуко М. Археология знания. – К.: НикаЦентр, 1996. – С.139, 140).
186
Софокл. Драмы. – С.9, 130-131.
187
Sophocles. Tragoediae. – S.116, 280-281.
188
Эдип имеет в виду слова корифея:
Послал нам Феб мудреную загадку –
Он разрешить ее способней всех (Софокл. Драмы. – С.13, 278-279).
189
Sophocles. Tragoediae. – S.110, 108-109.
248
нового основополагающего события, выступившего теперь на свет, речь
хитропесенной Сфинкс, в свою очередь, переходит в разряд «пустого и
давнего».
Об этом ином основоположении, определяющем такой характер
присутствующего (целого, ис-целенного), в котором самому Эдипу, носителю
вины, в результате не найдется места, говорит Эдип Тиресию. Тиресий приходит
из того же «давно», предшествующего речи Сфинкс («πάλαι δὲ μὴ παρὼν
αυμάζεται190), из которого выходят на свет, в область явленного, «пустые и
давние слова», однако только теперь его отсутствие замечено в качестве
отсутствия. Будучи замеченным, оно перестает быть отсутствием. Причиной
прихода Тиресия, осуществленного вопреки его желанию, является, стало быть,
не его подчинение воле Эдипа, но новое состояние присутствующего, к
которому Тиресий самым непосредственным образом причастен, что и
засвидетельствовано словами Эдипа, обращенными к нему: «ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν»191
(ибо в тебе мы есть). В том состоянии присутствующего, которое про-ис-ходит
из торжества Эдипа над Сфинкс, такой значимостью по праву обладал Эдип как
спаситель города: в нем были Фивы и он был Фивами. Но теперь Фивы в
Тиресии, а сам Тиресий – при «пустых и давних словах», которые уже «есть», –
именно поэтому он наделен способностью их истолковать.
В пределах того состояния присутствующего, которое про-ис-ходит из
события гибели Лаия, слова Эдипа, обвиняющие Креонта, утрачивают силу,
становятся ложными, поскольку сам Эдип к этому новому целому
присутствующего уже не причастен. Всю трагедию, таким образом, мы
можем понять как конфликт истинных и ложных слов ( ἔπη), «при которых»
присутствуют персонажи; природой этих слов – истинных или ложных –
объясняется то или иное разрешение конфликта. Не является ли утверждение
Аристотеля, что трагедия может обойтись без характеров (ἦος)192, довольно
поздним рефлексом этого изначального соотношения слов и персонажей?
Заодно мы можем уточнить одно глубокое рассуждение Ф.Ницше о трагедии,
относящееся к началу 1880-х гг. («Веселая наука»): «Пусть же рассмотрят
греческих трагиков в том, чем главным образом возбуждалось их
прилежание, их изобретательность, их соперничество – наверняка уж не
намерением потрясать зрителей аффектами!193 Афинянин шел в театр
слушать изящные речи! И об изящных речах шло дело у Софокла! – да
простится мне эта ересь!»194 Применительно к греческой трагедии мы,
очевидно, должны говорить не о речах (λóγоι), но о стихослагающей
«С давнего времени его отсутствие удивляет» (Sophocles. Tragoediae. – S.116, 289).
Напомню, что «с давнего времени» значит: с того времени, когда Эдип восторжествовал
над «хитропесенной Сфинкс», а не с того момента, когда за Тиресием были посланы гонцы.
191
Ibid. S.117, 314.
192
См.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т.4. – М.: Мысль, 1983. – С.652, 1450а 23-26.
193
Страхом и состраданием, согласно общеизвестной аксиоме.
194
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – Т.1. – С.561.
190
249
явленности
истины:
про-ис-ходящей
в
несокрытость
–
и
противоборствующей
ей
от-ходящей,
т.е.
становящейся
своей
противоположностью, ложью. Другое дело, что стихослагающее вы-явление
истины становится в трагедии игрой (подражанием), теряя при этом ту
подлинность, которая свойственна маническому стихослаганию.
Мы видели, что истолкование нескольких стихов из «Илиады» привело
М.Хайдеггера к прояснению сущности трагического; в свою очередь
трагедия Софокла опять возвращает нас к эпосу ( ἔπος, ἔπη). Эта взаимосвязь
(поскольку она не преднамеренна) – не случайна, но принадлежит к самому
существу эпоса и трагедии, лишний раз доказывая правоту Платона, который
указывал на коренное отличие поэзии, известной нам под названием
лирической, и трагедии, противопоставляя «гимны богам и… хвалебные
песни даймонам и героям»195 как маническое творчество трагедии, целиком
принадлежащей миметическому искусству.196 В то же время обнаруженная
нами взаимосвязь эпоса и трагедии вновь обостряет проблематичность
учения Гумбольдта и Ницше о внутреннем сродстве лирической поэзии и
трагедии. С другой стороны, мы видели, что «эпос» в трагедии Софокла – это
уже не вполне «эпос». Тогда, может быть, изначально «эпос» был связан
именно с манической поэзией197? К этому вопросу мы возвратимся в § 3.4.2.
Итак, в чем же заключается существо греческой трагедии? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо еще раз обратиться к
рассмотрению манической поэзии, прояснив тем самым подлежащее
осмыслению через противоположное.
Мы помним, что ведению Калхаса у Гомера открыто «как сущее (τά τ’
ἐóντα), так и становящееся сущим (τά τ’ ἐσσóμενα), так и прежде бывшее
сущим (πρó τ’ ἐóντα)». Какое состояние сущего (присутствующего) мы по
праву можем назвать трагическим?
Корифей хора говорит Эдипу как будто с некоторым удивлением, как
о чем-то неожиданном даже для него:
И в самом деле [присутствуют] другие пустые и давние слова.
Слова ( ἔπη), которые приходят в присутствие, внезапно изменяя
(περιπέτεια)198 состояние присутствующего, делая сущее в настоящем –
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.4. – С.253-254, 801е.
См.: Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.3. – С.159, 394с.
197
О миметическом и маническом «эпосе» на примере «гомеровского текста» – в
границах «грамматического» дискурса: «Можно даже проследить тонкие
грамматические нюансы в формульном употреблении того épos, которое Музы
передают от чьего либо лица, и того épos, которым они повествую сами» (Надь Г.
Греческая мифология и поэтика. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С.48. Пер.
Н.П.Гринцера).
198
́́
«К тому же главное, чем трагедия увлекает душу, – переломы (περιπέ́τεια)
и
узнавания» (Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т.4. – С.652, 1450а 33-36). Περιπέτεια –
внезапная перемена, момент перехода от хорошего к худому и наоборот; граница,
разделяющая два разных состояния присутствующего.
195
196
250
прежде бывшим сущим, одновременно приводя в присутствие то, что
пребывало в сокрытом, – эти слова даже для произносящего их корифея хора
все еще «пустые и давние», но они уже есть. Они уже «кажут» убийцу Лаия,
и поэтому оказывается возможным возвращение Тиресия, который,
вследствие этого, обретает способность узреть, подобно Калхасу, и то, что
будет.
Иное мы усмотрели в словах ( ἔπη) Эдипа, обвиняющих Креонта. Они
сохраняют всю видимую истинность и силу. Даже для Креонта, лучше
других знающего, насколько они несправедливы, эти слова невыносимы,
поскольку отказывают ему в присутствии. Но именно потому, что они
ложны, они, видимо присутствуя, на самом деле уже принадлежат
«пустому и давнему», уже от-ходят в сокрытое. Трагическое состояние
присутствующего, таким образом, – это ситуация столкновения, борьбы
про-ис-ходящего в несокрытость и того, что, от-ходя, медлит в своем отходе, противоборствуя осуществлению перелома199. Страх и сострадание,
равно как мужество (Гумбольдт, Ницше) или, напротив, резиньяция
(Шопенгауэр) – не цель трагедии, но только возможные следствия того
состояния присутствующего, которое мы называем здесь трагическим и
которое впервые саму трагедию делает трагедией.
Как в этом отношении маническое творчество соотносится с
трагедией? Размышляя над этим вопросом, мы, возможно, глубже уясним
причины неприятия ее Платоном.
В XI Пифийской песне Пиндара говорится:
…τε τὸν ’Ιφικλείδαν
διαφέρει ’Ιóλαον
ὑμνητὸν ἐóντα…200
…и сына Ификла Иолая
переносит [через от-ходящее, вопреки от-ходящему]
поющее гимн сущее…
Для манического творчества, как видим, ложное слово не существует,
поскольку нет от-ходящего в сокрытое, которое в трагедии обретает
возможность, противоборствуя про-ис-ходящему, настаивать на своей правоте.
Маническое творчество, стало быть, вполне осуществляется в пределах
герменейи, и каждое имя герменейи, к примеру, в песнях Пиндара является
таковым в полной мере, не обретая в самом себе своей противоположности,
как это имело место в случае с ̉έπη в трагедии Софокла. В числе важнейших
пиндаровских имен герменейи, выявляющих («кажущих») «поющее гимн
В этом отношении, очевидно, никакого существенного отличия трагедии от эпоса (в
общепринятом понимании этого слова) нет. Вот почему Платон имел полное право
утверждать в «Государстве», что Гомер – не только «самый творческий», но «первый из
творцов трагедий» (Платон. Сочинения: В 4 т. – Т.3. – С.404, 607а).
200
Pindarus. Carmina cum fragmentis. Pars 1. – S.119, 59-61.
199
251
сущее» назовем πολύφατος ὕμνος (многоголосый гимн, Ол., 1,8), τὸν ἀλαῆ
λóγον (истинная речь, Ол., 1.28), ἀλαής … ἔξορκος (истинная клятва, Ист.,
VI,44), εὐλογία φόρμιγγι συνάορος (похвала, с формингой соединенная, Нем.,
IV,5); εσπεσία … α̉οιδά (божественная песня, Нем., IX,7). На примере ἔπη в
трагедии Софокла мы имеем возможность видеть, как происходило забвение
сущности герменейи: каждое из ее имен имело свою историю такого забвения.
В чем помогло нам разобраться это краткое обращение к Пиндару?
Трагедия расцвела на краткий миг, когда причастность к герменейе
(истинной речи, дару богов, речи как божественному откровению) становится
проблематичной, но не прерывается. За-ход герменейи201 – это и было
единственное по-настоящему трагическое событие в истории Греции,
определившее и характер трагической эпохи, и после этого события всякая
литературная трагедия могла быть создана лишь человеком, действительно
начисто лишенным инстинкта. За-ход герменейи в самом прямом, а не
переносном смысле означал онемение человека, поэтому единственным
поступком, достойным этого величественного события, было бы не лицедейство
(каковым, без сомнения, представлялась Платону трагедия), а молчание. Но если
уж начиналось говорение, оно должно было осуществляться в перспективе от
этого эпохального события и каждый раз должно было стать попыткой
помыслить его. Только такое говорение и такое мышление соответствовали
своей сути, поэтому имели право на существование. Может быть, наиболее
яркий пример забвения сущности герменейи мы находим у Аристотеля, когда
он, обратившись к ее рассмотрению в трактате «Περὶ ἑρμηνείας» («О
герменейе»), утверждает: «Всякая речь что-то обозначает, но не как естественное
орудие, а, как было сказано, в силу соглашения»202. Как далеко это
уравновешенно-констатирующее утверждение (заодно и о герменейе
поговорили) от исполненной внутренней напряженности последней греческой
«трагедии» – Платонова диалога «Кратил», посвященного рассмотрению имен
( ὄνομα): существует ли их природная правильность или нет. В этом диалоге
сущность герменейи в последний раз выступила в несокрытость, прощальным
лучом осветив беседующих, и отблеском этого света наполнено лучшее, что
было во всей нашей последующей культуре. А между тем вопрос: что такое
герменейя? – и теперь, спустя две с половиной тысячи лет, все еще будоражит
нас, и ответ на него мы все еще только пытаемся найти.
Что мы скажем теперь о наиболее глубоком оппоненте Платона в вопросе
о сущности трагического? В «Рождении трагедии…» Ф.Ницше пропел самый
яркий в истории мировой литературы гимн греческой трагедии, но этот гимн
Стоит попытаться осознать, что могло значить для Платона это событие.
Последующее крушение языческого мира («закат звезды» его «кровавой») – при всей
своей грандиозности – лишь следствие этого величественного события.
202
Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т.2. – С.95, 17а 1-2.
201
252
по своей сути скорее новоевропейский, чем греческий203. У Платона были
другие поводы петь гимны, и в перечне этих поводов трагедия как известный
нам литературный вид стояла бы на последнем месте или, вернее, вообще бы
отсутствовала. «Рождение трагедии…», без всякого сомнения, является
гениальной книгой, но, вопреки мнению Ф.Ницше, мы (даже теперь, в самом
начале ХХІ столетия) не только не оставили Платона далеко позади, но в своем
понимании трагедии лишь приближаемся к нему.
Итак, принципиально иной характер древнегреческой трагедии, в конечном счете, объясняется «казовой» орудийностью языка, когда все, что происходит, осуществляется «при словах». В то же время мы видели, что трагедия
– именно подражанием, т.е. игровым отношением к слову – делает шаг за пределы «казовой» орудийности. Разгадка отрицательного отношения Платона к
трагедии, на мой взгляд, таится именно здесь. «Куда слово нас понесет,… туда
и надо идти». Но куда может повести слово, которое стало игрой?204
ГЛАВА IV
О МАНИЧЕСКОМ И ТРАГИЧЕСКОМ В ЛИРИКЕ
Ф.И.ТЮТЧЕВА
3.4.1. К ПРОБЛЕМЕ ТОЛКОВАНИЯ ПОЭЗИИ Ф.И.ТЮТЧЕВА
Ср. у М.Хайдеггера: «В конце концов, ницшевское пристрастие к творцам выдает,
что Ницше мыслит лишь по-новоевропейски, идя от гения и гениальности, и
одновременно – в технической колее, идя от результативности» (Хайдеггер М. Время и
бытие. – С.183). Постановка вопроса об онтологии поэтического слова в данной книге –
это попытка выйти за пределы новоевропейской парадигмы.
204
Приведя 52 фрагмент Гераклита (о веке-ребенке, играющем в пессейю),
М.Хайдеггер говорит: «Самый великий, благодаря кротости своей игры царственный
ребенок – это та тайна игры, в которую вводится человек и время его жизни, тайна
игры, в которой на карту поставлено его существо. <…> Игра есть без “почему”. Она
играет, пока она играет. Она остается только игрой: чем-то высочайшим и
глубочайшим. Но это “только” есть Все, Единое, Единственное. <…> Бытие как
основывающее не имеет никакого основания, играя как без-дна ту игру, которая в
качестве посыла судьбы бросает нам в руки бытие и основание» (Хайдеггер М.
Положение об основании. – СПб.: Алетейя, 1999. – С.190. Пер. О.А.Коваль). Здесь,
собственно, речь идет об укорененности игры в маническом. Характер такой “игры”
(или праигры) определяется способностью человеческого Dasein откликнуться на
«посыл судьбы» и быть по возможности соразмерным той мере, которая задается
просветом бытия – истиной-несокрытостью. Вот почему М.Хайдеггер говорил, что для
него «нет ничего фатального» (Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – С.148.
Пер. Н.С.Плотникова).
203
253
Настоящая глава призвана, кроме прочего, прояснить внутреннюю
завершенность книги. В числе важнейших ее тем – разговор о сущности
тютчевской лирики, о сущности манической поэзии и миметического
искусства. В лирике Ф.И.Тютчева – позднего наследника и восприемника
сокровищ античной поэтической мысли – маническое и миметическое
встречаются и сосуществуют, – но вовсе не так, как они, по слову Платона,
сосуществуют в поэмах Гомера (см. вторую главу настоящего раздела). В
том, как это происходит, мы и постараемся сейчас разобраться.
Стихотворение Ф.И.Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» –
яркий, может быть, ярчайший в XIX-XX веках пример манической поэзии.
В чем главная ее особенность? Сославшись на значение греческого слова
μανία, мы ответим: в чувстве одержимости, исступленности, неистовства,
которое овладевает поэтом, - и тогда он оказывается способным изрекать
такие истины, которые ему недоступны в обычном состоянии. Всем
памятны слова Сократа из «Иона», которые являются ключевыми для
понимания
рассматриваемой
проблемы,
поэтому
неоднократно
цитируются в книге: «…Поэт – это существо легкое, крылатое и
священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается
вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у
человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать»205.
Каждый раз, обращаясь к этим словам, мы должны отдавать себе отчет в
том, что речь здесь идет не о всякой, но именно о манической поэзии.
В стихотворении Тютчева мы находим то, о чем говорит Сократ:
ветер «взрывает» в сердце чуткого к его сетованиям человека «неистовые
звуки», и эти звуки являются отповедью на «страшные песни», которые
поет ветер, и на «повесть любимую», которую он рас-сказывает. В
результате стихотворение наполняется пророческим смыслом. Сущность
манической поэзии, стало быть, заключается не просто в «неистовстве», а
в том, чем оно вызвано. Маническая поэзия – не что иное, как форма
присутствия подлинного языка в человеческой речи. В состоянии
неистовства – в «неистовых звуках» – сказывается истина. Сказывание
истины сопровождается неистовостью потому, что обычная человеческая
речь не может вместить ее, как не может ее вместить обычное
человеческое существование. Приобщаясь к ней, человек неизбежно
оказывается в состоянии одержимости, в пограничной ситуации, в которой
человеческие слова обретают иной смысл, причем этот иной смысл
является не вторичным по отношению к обычной человеческой речи, но,
напротив, более изначальным. В такой пограничной ситуации творится
поэтическое слово Тютчева. Поэтому вся его поэзия – это конфликт
явленности истинного (подлинного) языка и человеческой неспособности
205
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – С.377, 534в.
254
этот язык усвоить, о-сознать или даже просто у-знать. А сам Тютчев
становится Тиресием, которому этот язык понятен («Понятным сердцу
языком…»), но вся глубина смысла которого ускользает и от него
(«Твердишь о непонятной муке…»). В этом проникновении «понятного
языка» ветра в поэтическую речь проявляется гиератическая сущность
тютчевской поэзии.
Говоря о Тютчеве, мы должны помнить, что манический характер
его поэзии – свидетельство манической природы всего его духовного
существа. Не случайно К.Пфеффель, имея в виду вовсе не стихи, а
историософскую его публицистику, пишет: «Убедите Тютчева нарушить
свое молчание и снова подняться на треножник. Он обладает даром
пророчества»206. Нечто подобное говорит о своем отце Анна Федоровна
Аксакова, по слову В.П.Боткина, духовно наиболее близкая ему, называя
его «одним из… недоступных нашему пониманию изначальных духов»207.
Коль скоро затронута проблема манической природы тютчевской
поэзии, мы должны поставить вопрос о ее соотнесенности с поэзией
Пиндара, поскольку именно в его песнях маническое раскрывается в
доступной нам изначальной сущности. В то же время мы должны
откликнуться на слова А.А.Блока о стихотворении Тютчева («Два
голоса»), что в нем – «эллинское, до-Христово чувство Рока,
трагическое»208. Суть противоречия, с которым мы столкнулись,
заключается в том, что трагедия, согласно путеводному для нас указанию
Платона, целиком принадлежит к миметическому роду209. Какое
отношение к лирике Тютчева может иметь миметическое искусство в
любых, даже наивысших своих проявлениях? От этого вопроса мы не
имеем права отмахнуться как от надуманного, несерьезного, поскольку его
ставит А.А.Блок – один из самых проникновенных ценителей русской
поэзии. Может быть, вовсе не случайно сказывание ветра – это
одновременно и песня, и повесть, другими словами – и сама весть,
явленная в стихослагающе-поющем раскрытии, и рас-сказ о том, что «по
вести», что порождено ею, – почти как в древнегреческой трагедии.
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться,
актуально ли для Пиндара противоречие между маническим (прямым,
истинным) и не маническим словом. Об этом Пиндар, в частности, говорит
в I Пифийской песне:
καιρὸν εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα συντανύσαις
ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρωЛитературное наследство. – Т.97: В 2 кн. Федор Иванович Тютчев. Кн.2. – М.:
Наука, 1989. – С.249.
207
Там же. – С.265.
208
Блок А.А. Дневники // Блок А.А. Собр. сочинений: В 8 т. – Т.7. – М.; Л.: ГИХЛ,
1963. – С.99.
209
См.: Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.3. – С.159, 394с.
206
255
πων· ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει
αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας,
ἀστῶν δ’ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ’ ἐσλοῖσιν ε̉π’ ἀλλοτρίοις.210
М.Л.Гаспаров предлагает следующий перевод этого отрывка:
Если в пору сказано слово,
Если многое пытано и в малое сжато,
Дальше от следов твоих будет людская хула.
Пагубное пресыщение
Сламывает острие торопливой надежды,
Слух о чужих подвигах
Больно ложится на скрытные умы.211
В переводе труднее всего понять, что это за “торопливая надежда”,
как она связана со “скрытными умами”. Какую “надежду” должны
утратить “умы”, чтобы стать “скрытными”? Что значит “скрытные”?
Затаившие некую истину, не желающие ею поделиться? Почему, в таком
случае, какой бы то ни было слух может их “больно” ранить? В “скрытных
умах”, разумеется, не следует искать ничего такого, что вы-сказывается в
стихотворении Тютчева “Silentium!”: “Есть целый мир в душе твоей…”
Они-то, эти “умы”, как раз от “целого мира” находятся дальше всего. У
Пиндара говорится: ταχείας ἐλπίδας. Эти слова буквально значат то самое,
что предлагает М.Л.Гаспаров: быстрые (торопливые) надежды. Однако
глагол ἐλπίζω, кроме “надеяться”, “ожидать”, значит еще – “думать”,
“полагать”. ’Ελπίδες, следовательно, могут быть поняты как мысли,
предвосхищающие
какое-либо
событие,
например,
смысл
долженствующего прозвучать слова. В таком предвосхищении
проявляется соприродность слушающего тому, что должно быть сказано,
его принадлежность истине, которая выводится на свет, в несокрытость,
словом. Отрывок из I Пифийской песни Пиндара, таким образом,
приобретает следующий вид:
О если бы [слово] было сказано тобой в надлежащее время,
[если бы] границы многого были стянуты
в малое, – меньше поспевает [за таким словом] людская насмешка:
ведь постоянным пресыщением притупляются
предвосхищающие [слово] быстрые мысли,
а молва среди горожан о чужих благородных [свершениях]
более всего отягощает сокрытый ум.
Пиндар обращается к Гиерону Сиракузскому («тобой») и именно ему
объясняет, каким должно быть истинное (доступное несокрытым умам)
слово. Оно должно быть сказано «в надлежащее время» и должно вмещать
210
211
Pindarus. Carmina cum fragmentis. Pars 1. – S.63, 81-84.
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – М.: Наука, 1980. – С.63.
256
в себя такую полноту смысла, которая не доступна никакому людскому
многословию (παγγλωσσία, как сказано во II Олимпийской песне, стих 87).
Слово истинное – оно же маническое, священное. Поскольку у Пиндара
поэтическое тождественно священному, носителем манического слова в
такой же степени может быть тиранн Гиерон, как и поэт. Это значит:
объясняя Гиерону Сиракузскому сущность истинного слова, Пиндар
одновременно раскрывает природу своей поэзии. Согласно Пиндару, не
маническое слово виновно в том, что появляются люди, не причастные к его
смыслу. Виновны сами люди, не способные отличить слово истины от
многословия. Такая неспособность различения – первый шаг к забвению
существа истины (существа манического слова). Указанное противоречие
(между выступающей в несокрытость истиной и «сокрытыми умами») – не
внутреннее противоречие поэтического слова Пиндара, но противоречие
между истинным (маническим, поэтическим) словом и словом ложным. В
самой песне явленность манического слова ни в коей мере не ставится под
сомнение, поэтому поэзия Пиндара не трагична ни в каком смысле – ни в
греческом, ни, тем более, в новоевропейском.
Теперь мы можем возвратиться к проблеме соотнесенности
манического и трагического в лирике Тютчева. В рассмотрении этой
проблемы нам может помочь Тиресий, с которым мы Тютчева уже
сопоставили. С Тиресием мы встречаемся как в манической (I Немейская
песня), так и в миметической («Царь Эдип», «Антигона») поэзии. И в
песне Пиндара, и в «Царе Эдипе» Тиресий призывается: в первом случае –
Амфитрионом, во втором – Эдипом. Однако появление Тиресия в ответ на
зов приводит в песне и в трагедии к противоположным результатам. У
Пиндара Амфитрион сразу же после того, как младенец Геракл совершил
деяние, выходящее за пределы всякого людского разумения,
γείτονα δ’ ἐκκάλεσεν
Διὸς ὑψίστου προφάταν ἔξοχον‚
ὀρθόμαντιν Τειρεσίαν· ὁ δέ οἱ
φράζε καὶ παντὶ στρατῷ‚ ποίαις
ὁμιλήσει τύχαις…212
Соседа вызвал
высочайшего Зевса прорицателя величайшего –
вещателя истины Тиресия:
он же указал [в видимом и осмысленном раскрытии
Амфитриону] и всему (целому) войску,
с какими судьбами [сын его] сойдется
в противоборстве…
Мы видим, что Тиресий – сосед Амфитриона, поэтому в его появлении
(при всей необычности ситуации) нет ничего необычного. Появление
212
Pindarus. Carmina cum fragmentis. Pars 1. – S.125, 60-61.
257
Тиресия – не предвестие καταστροφή, долженствующей ниспровергнуть
существующий миропорядок и на его руинах учредить новый. Тиресий,
Амфитрион и все войско принадлежат к одному сущему. Это сущее
коренится в слове, ближайшим образом – в речи, произносимой Тиресием.
Поскольку это так, постольку все, принадлежащие к единому сущему, в
полном молчании слушают и «несокрытым умом» воспринимают речь
Тиресия. «Несокрытым умам» во всей своей глубине открывается истина как
ἀλήθεια (несокрытость). Она открывается не в результате претерпевания
различных страстей вроде «ужаса и сострадания», но в силу
непосредственной причастности всех присутствующих к истинному слову,
которое не противостоит тому, что совершается, не отменяет его, но
развивает и проясняет. Поскольку речью Тиресия выводится на свет, в
непотаенность, судьба Геракла, ужас (θάμβει, стих 55) перед случившимся,
(овладевший Амфитрионом после того, как он увидел «сверхчеловеческую
волю и силу сына», – стихи 56-58), оставаясь ужасом, становится
одновременно благоговением – так осуществляется его очищение. Сказать
иначе: катарсис (преодоление чувства ужаса и приобщение к истине) в песне
Пиндара осуществляется в результате претерпевания истинного слова, а не в
результате
претерпевания
бедствий,
вызванных
неспособностью
приобщиться к его смыслу.
Нечто совсем иное мы видим в трагедиях Софокла, в частности в
трагедии «Царь Эдип». К Эдипу Тиресий приходит издалека, не сразу
откликнувшись на зов:
…πάλαι δὲ μὴ παρὼν θαυμάζεται.213
…с давнего времени он удивляет своим отсутствием.
Но Тиресий приходит не просто издалека. В пределах того сущего,
которое определяется торжеством Эдипа над Сфинкс, он не может
появиться, поскольку к этому сущему не причастен. Поэтому Эдип
говорит: «С давнего времени…», то есть именно с того времени, когда
Эдип спасает Фивы и становится в них царем. Эдип и был Тиресием для
Фив. Появление Тиресия свидетельствует о том, что Эдип этот свой статус
уже утратил. Появление Тиресия – свидетельство того, что состояние
сущего изменилось и в этом новом его состоянии, определяемом смертью
Лаия как основополагающим событием, самому Эдипу в результате не
найдется места. Эдип приветствует Тиресия словами: «ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν»214
(ибо в тебе мы есть). В тебе – значит в том слове истины, носителем
которого является Тиресий. Это в полной мере относится к Амфитриону и
«всему (целому) войску» в песне Пиндара, но в устах Эдипа (в трагедии)
его фраза наполняется противоположным смыслом и значит буквально: «в
Sophocles. Tragoediae. – Lipsiae, 1908. – S.116, 289.
Ibid. – S.117, 314. В дальнейшем после цитат из этой книги страницы и стихи
указаны в тексте.
213
214
258
тебе я не есть», хотя Эдип этого и не понимает, как не понимает он и
высказывания Тиресия, в котором прорицатель открывает ему истину215:
Меня винишь ты? Я ж тебе велю –
Во исполненье твоего приказа
От нас, от граждан отлучить себя:
Земли родной лихая скверна – ты!216
В стихотворном переводе совсем не отображено, насколько
принадлежащим языку мыслится все происходящее. У Софокла Тиресий
говорит:
ἄληθες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι
ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, κἀφ’ ἡμέρας
τῆς νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ’ ἐμέ‚
ὡς ὄντι γῆς τῆσδ’ ἀνοσίω μιάστορι.217
На самом деле? Я же предаю тебя приказу,
которому ты предал [нас]; со дня
нынешнего [надлежит] называться не этим [людям], не мне,
[но] поистине [тебе] этой земли нечестивой мерзостью.
Со словом ἀν-όσιος (не-святой, безбожный, нечестивый) мы встречаемся и
в «Антигоне», когда Тиресий говорит Креонту о мертвом Полинике:
ἔχεις δὲ τῶν κάτωθεν ἐνθάδ’ αὖ θεῶν
ἄμοιρον, ἀκτέριστον, ἀνόσιον νέκυν.218
Имеешь же, напротив, здесь [принадлежащую] подземным
богам
лишенную [надлежащей] доли не схороненную, нечестивую
жертву.
Как видим, для Фив Эдип уже мертв, поскольку тождественен
мертвому Полинику. Он, как и Полиник, уже не принадлежит
присутствующему в том виде, в каком оно раскрывается в трагедии; он
должен отойти, сокрыться.
В «Царе Эдипе» Тиресий (после приведенных выше слов из его
диалога219 с царем) еще более определенно говорит о вине Эдипа:
Внемли: тот муж, которого ты ищешь
С угрозой кары, Лаия убийца –
Он здесь! Пришлец – таким его считают;
Но час придет – фиванцем станет он…
В подлиннике это высказывание Тиресия и начинается со слова ἄληθες – наречия,
производного от существительного ἀλήθεια (истина, несокрытость) (118, 350).
216
Софокл. Драмы. – С.16.
217
Sophocles. Tragoediae. – Lipsiae, 1908. – S.118, 350-354.
218
Ibid. S.257, 1070-1071.
219
В трагедии мы имеем дело именно с диалогом, а не с беседой, как в песне Пиндара.
215
259
Узнает он, что он своим исчадьям –
Отец и брат, родительнице – вместе –
И сын и муж, отцу же своему –
Соложник и убийца.220
Однако эти слова Тиресия вызывают в Эдипе не ужас и раскаяние, как
можно было бы ожидать и как действительно было бы в случае Амфитриона,
но вполне противоположное чувство гнева, хотя сказанное Тиресием (и в этом
отношении Вольтер прав) «нисколько не походит на обычные пророчества с их
двусмысленностью: трудно высказаться с меньшей неясностью…»221
Сказанное, впрочем, вовсе не означает (вопреки мнению Вольтера), что с
окончанием этого диалога заканчивается и сама трагедия. На самом деле
собственно трагедия здесь еще не начиналась. Между тем нас не оставляет
ощущение, что с окончанием диалога между Эдипом и Тиресием в трагедии
действительно что-то заканчивается. Тогда, может быть, следует считать, что с
последней репликой пророка (μάντις) Тиресия заканчивается маническая
(μαντικός) ее часть и начинается миметическая? Памятуя указание Платона, мы
ответим, что так сказать нельзя, поскольку в трагедии может быть в числе
персонажей пророк, но не может быть манического слова – есть только
подражание ему. Переход от эписодия первого, большую часть которого
занимает диалог Эдипа и Тиресия, к эписодию второму – это, стало быть,
переход от подражания маническому слову к подражанию действию (δρᾶμα),
то есть собственно к драме. Это значит, что подражание действию как способ
выведения истины в несокрытость оказывается возможным и необходимым
тогда, когда маническое слово само по себе уже стало сокрытым, уже
недоступно непосредственному пониманию. Остается его имитация,
подражание ему, а неисчерпаемая глубина его смысла (и, следовательно,
приобщение к нему и очищение) может в той или иной степени раскрыться
лишь в действии (в «драме») в результате претерпевания соответствующих
страстей (страха и сострадания). Прозрение даруется лишь после пережитых
страданий и потрясений, причем размах переживаемых героем страстей
целиком зависит от того, насколько он отпал от истинного слова, насколько он
утратил способность его слышать.
Таким образом, подражающее маническому слову высказывание
Тиресия у Софокла – это не что иное, как имплицитная трагедия, тогда как
собственно трагедия – развернутое в действие высказывание Тиресия как
подражание маническому слову. Все действие, будучи присутствием, в
пределах трагедии, с точки зрения манического слова, протекает в
сокрытости. Именно поэтому истинное слово остается не узнанным.
Если мы теперь, памятуя все сказанное, посмотрим на поэзию
Ф.И.Тютчева, мы увидим в ней сложное переплетение манического и
миметического, лирического и трагического начал. У Тютчева говорится:
220
221
Софокл. Драмы. – С.20, 449-452, 457-460.
Вольтер. Эстетика. – М.: Искусство, 1974. – С.37.
260
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке…222
Сердцу здесь открывается то, что превышает возможности других
способов понимания. Сердцу язык ветра доносит весть непосредственно,
минуя такое необходимое для человеческого понимания условие, как опыт.
Все другие способности человеческого понимания за сердцем не поспевают:
Твердишь о непонятной муке…
Очевидно, чтобы муку понять, ее нужно пережить. Но, может быть,
понимание сердцем – это и есть некий особый вид опыта, способность
обретения которого утрачена, поэтому и мука остается неразгаданной?
В приведенном выше отрывке из I Пифийской песни сказано:
молва среди горожан о чужих благородных [свершениях
более всего отягощает сокрытый ум (θυμόν).
Апелляция к θυμός может способствовать прояснению тютчевского
слова сердце, поскольку вбирает в себя все перетекающие друг в друга
смыслы: это и ум, и дух, и душа, и сердце, и жизнь в целом. Понимание
сердцем у Тютчева – это, стало быть, не один из способов понимания,
сосуществующих с другими (например, умом), но такое, в котором
различные способы понимания еще не распались, но представляют собой
единое целое. Сказанное является ключом к постижению природы
вопрошающего мышления.
О «разумении сердцем» говорится и в самом авторитетном для нас
проявлении священной речи – в Новом Завете: «ибо огрубело сердце людей
сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и
не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я
исцелил их» [Мф. 13: 15]. Огрубелостью сердца объясняется здесь
неспособность людей видеть и слышать, а «разумение сердцем» (τῇ καρδίᾳ
συνῶσιν) является главным условием «исцеления». Причем такое разумение –
это именно со-разумение (συν-), буквально – со-устремленность к истине; это
способность «несокрытых сердец», когда они оказываются под
притягательным воздействием истины, испытывать влечение к ней и
пребывать в ней. Такое разумение, поскольку оно изначально-цельно,
оказывается трансцендентным по отношению к любому другому пониманию
(например, «умом» или «рассудком общим» – вполне допустимое толкование
тютчевского «аршином общим»), осуществляемому в границах
представляющего мышления. То, что разумеется сердцем, нельзя изъяснить
на «другом» языке.
В лирике Ф.И.Тютчева, как и в песнях Пиндара, конечно, присутствует
это изначально-цельное понимание слова, но в ней мы находим и нечто такое,
что сближает ее с древнегреческой трагедией. В его поэзии конфликт между
несомненной причастностью к цельному знанию и всеобщей неспособностью
222
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.1. – С.133.
261
приобщиться к такому пониманию достигает предельной напряженности,
какой нет и не может быть у Пиндара. Именно об этом конфликте идет речь в
одном из писем Ф.И.Тютчева жене: «Бывают мгновения, когда я задыхаюсь
от своего бессильного ясновидения, как заживо погребенный, который
внезапно приходит в себя»223. Такой Тютчев, разумеется, ближе к Тиресию
трагедий Софокла, а не песни Пиндара.
В стихотворении, на которое указал А.А.Блок, мы сталкиваемся с
более очевидным случаем присутствия трагического начала. Звучащие в
нем «два голоса» вполне могут быть рассмотрены как реплики из
древнегреческой трагедии, произносимые в ситуации, когда смысл
истинного слова уже утрачен.
Теперь надлежит прояснить вопрос о манической природе лирики
Ф.И.Тютчева. Для этого попробуем осуществить опыт аналитики его
стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной?..» Аналитика, в отличие от
гносеологически ориентированного анализа, осуществляется в границах
онтологического понимания языка и является опытом восхождения к тем
изначальным смыслам, которыми порождена та или иная поэтическая речь.
Если бы возникла необходимость кратко определить, о чем
стихотворение Ф.И.Тютчева “Silentium!”, можно было бы ответить, что
оно об онтологии речи. На тот же вопрос относительно стихотворения “О
чем ты воешь, ветр ночной?..”, прозвучал бы иной ответ: оно об онтологии
языка. Другими словами можно сказать, что эти стихотворения о более
позднем и более раннем проявлении герменейи, причем о более раннем ее
проявлении нам может сказать только поэзия.
Напомню еще раз, что герменейя – это такое состояние языка, когда
все имена, принадлежащие ему, “действительно суть имена”224, то есть они
выявляют природу вещей. Именно поэтому Кратил, защищая изначальное
понимание языка (речи), утверждал: “…Кто знает имена, [тому] дано
познать и вещи”225. У Ф.И.Тютчева мы обнаруживаем понимание
герменейи как “пения дум”, как изначальной стихослагающей речи,
которая соотнесена с “целым миром”:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум…
В этом целом мире “я” тождественно “ты”, а “душевная глубина” –
космосу, “звездам в ночи”, но также “ключам”, то есть речи. В речи –
начало и конец “целого мира”, в речи его онтологическая основа. До тех
пор, пока сохраняется такое понимание языка, поэзия остается не только
серьезным, но самым важным делом; более того, только она и способна
по-настоящему утвердить значимость любого человеческого свершения:
τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει,
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.5. – С.191.
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.1. – С.667, 429b.
225
Plato. Opera quae feruntur omnia. – Vol.2. – Lipsiae, 1957. – S.81.
223
224
262
ἐί τις εὖ ἔίπη τι· καὶ πάγκαρπον
ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν
ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί (172, 58-60).
Ибо бессмертно звучащим пребывает то,
что сказано хорошо: [благодаря этому] и по всеплодящей
земле и через море прошел
дел прекрасных негаснущий луч навсегда (Истм.4).
В имени, принадлежащем герменейе, в имплицитном виде истина уже
заключена, поэтому любое подлинное стихотворение оказывается на деле
не чем иным, как развертыванием этого имплицитного целого. Любое
подлинное стихотворение, таким образом, является надписью на имени,
эпиграммой в изначальном смысле этого слова. Подобное соотношение
имен и Речений (гимнов) мы обнаруживаем у Дионисия Ареопагита:
«…Все приличествующие Богу имена всегда воспеваются Речениями как
относящиеся не к какой-то части, но ко всей божественности во всей ее
целостности, всеобщности и полноте, и все они нераздельно, абсолютно,
безусловно и всецело применимы ко всей цельности всецельной и полной
божественности. И если… кто-то станет утверждать, что это сказано не
обо всей божественности, тот безосновательно дерзнет хулить и делить
сверхсоединенную Единицу»226.
О том, насколько живучим, насколько действенным на протяжении
тысячелетий оставалось такое понимание поэтического слова,
свидетельствует творческий опыт Ф.И.Тютчева. В конце августа 1868 г.
Ф.И.Тютчев пишет М.П.Погодину: “Простите авторской щепетильности.
Мне хотелось, чтобы, по крайней мере, те стихи, которые надписаны на
ваше имя, были по возможности исправны, и потому посылаю вам их
вторым изданием…”227 “Стихи, которые надписаны на ваше имя”, – так порусски в наше время не говорят. Но не говорят не потому, что этот оборот
не свойственен русской речи, противоречит ее природе, а потому, что нами
утрачен некий смысл, который здесь высказывается Тютчевым. Поэт тем и
отличается от простых смертных, что он настолько укоренен в речи,
настолько приобщился к самому ее существу, что ему нет надобности
сверяться с грамматикой по поводу любого необычного оборота. Стихия
речи – его родная стихия, поэтому он может высказать то, что нам,
забывшим о своем сродстве с речью, даже уже и не грезится. И, тем не
менее, задача наша остается прежней: постараться понять, какой смысл,
часто благодаря невзначай брошенной поэтом фразе, выходит из потаенных
глубин языка. Значит, речь укоренена в языке. Мы, таким образом,
возвратились к началу – к вопросу о стихотворениях “Silentium!” и “О чем
ты воешь, ветр ночной?..”
Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – СПб.:
Глаголъ, 1994. – С.47. Пер. Г.М.Прохорова.
227
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.6. – С.341.
226
263
Попробуем начать разговор еще раз. Не страшно, если мы опять
пройдем по кругу: в конце концов, любое наше вопрошание обращено к
одному и тому же. Слова “стихи, которые надписаны на… имя” – это
определение эпиграммы, какой была она когда-то в греческой поэзии.
ε̉πίγραμμα (букв.: надпись) в чистом виде была не чем иным, как
вопрошанием имени и его называнием. Пример такой эпиграммы находим
у Симонида (или у оставшегося неизвестным одного из его
современников):
Молви, кто ты? Чей сын? Где родился? И в чем победитель?
Касмил; Эвагров; Родос; в Дельфах, в кулачном бою.228
Когда почувствуешь вкус к этому чекану имен, когда поймешь, что
каждое отдельное имя было когда-то тождественно целому, совмещая в
себе в еще не распавшемся единстве поэтическое и священное, – только
тогда станет ясно, что имел в виду Гиперион в письме к Диотиме: “Верь
мне и помни, я говорю это от всей души: дар речи (die Sprache – λόγος. –
А.Д.) – великое излишество. Лучшее всегда живет в самом себе и покоится
в душевной глубине, как жемчуг на дне моря”229. И становится понятно,
что когда поэт теряет все, остается только это: «…Я добросовестно,
словно эхо, называл каждую вещь данным ей именем»230. Пока поэзия
была называнием имен, любое имя было достойным называния: «Касмил»
вмещало в себе ту же полноту смысла, что и «Дельфы». Когда же такое
восприятие имен утрачивается, поэзия, оставаясь по-прежнему
руководимой именами, одновременно становится развертыванием имени в
речи. Именно так соотносятся песни Пиндара, посвященные олимпийским
победителям, с приведенной выше эпиграммой: в этом отношении
эпиграмма действительно была «ядром» «данного типа словесной
культуры»231, только не «скромным», а самым настоящим, подлинным.
Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить с нею любую песню
Пиндара: построение песни определяется теми же самыми вопросами,
значит, она обращена к тем же самым именам. Характерный пример –
вторая Немейская песня:
Кто ты?
«О Тимодем!»
Чей сын?
«Ему, сыну Тимоноя».
Где родился?
«Издревле
Славились Ахарны добрыми мужами…»
Греческая эпиграмма. – СПб.: Наука, 1993. – С.18. Пер. М.Л.Гаспарова.
Гёльдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. – М.: Наука, 1988. – С.198.
230
Там же. – С.93.
231
Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика
древнегреческой литературы. – М.: Наука, 1981. – С.36.
228
229
264
И в чем победитель?
«Заложил основанье побед своих на священных играх
В многократно воспетой роще Зевса Немейского».
«Сила твоя, испытанная борьбой, возвеличивает тебя».232
Поскольку песни Пиндара по-прежнему руководимы именами, постольку
они остаются манической поэзией, то есть создаются в состоянии одержимости
именем (словом). Но так как поэт не ограничивается называнием имени, но
развертывает его в речи как перифразе имени, со временем таких имен, в
которых
оказывается
возможным
осуществление
поэтического
(стихослагающего) мышления (мышления в герменейе), остается совсем
немного.
Прежде всего следует назвать «родимый хаос», из которого все
происходит. Затем – четыре стихии, которые, про-ис-ходя из хаоса,
остаются родимыми по отношению к «целому миру», определяя «состав»
его «частей»: свет (огонь), воздух (ветер), вода, земля. К ним, вслед за
Эмпедоклом, необходимо прибавить еще два имени: любовь и вражду. И
еще: время и память. Мы знаем: именно память (Мнемозина) породила
поэзию. Без большого преувеличения можно сказать, что эти имена
главным образом определили содержание всей мировой поэзии. Но первые
пять все же стоят особняком: это не столько имена, сколько праимена,
причем если из первого все происходит, то последующие четыре
оказываются способными заключать в себе все, поскольку они
предшествуют «целому миру» – его порождают, будучи сами
порождением хаоса. В этом отношении в поэзии от Пиндара до Тютчева
ничего не изменилось: «дневной свет» у Пиндара столь же «первозданен»
(Пиф. 4.111)233, сколь первозданен «ночной ветер» у Тютчева, а земля и у
того, и у другого поэта вовсе не только в силу поэтической традиции
остается матерью234. Все эти имена взаимозаменимы и тождественны не
только потому, что, к примеру, у Пиндара источник, ключ (κρουνός) может
иметь значение: огонь (Пиф. 1.25)235.
Каждая из названных стихий [имен] неподвластна времени: огонь (πῦρ)
у Пиндара вечен, земля (χθών) – бессмертна.236 Все они священны: свет
(φέγγος) – фр. 153; земля (κρημνός, νᾶσος) – Ол. 3.22; Пиф. 4.7; вода (πόρος).237
Все они в равной степени соотнесены с языком, поэтической речью, то есть
являются словом: у Пиндара вода (ὕδωρ) – песня (Нем. 7.62; Истм. 6.74),
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – М.: Наука, 1980. – С.120.
См.: Гринбаум Н.С. Художественный мир античной поэзии: Творческий поиск
Пиндара. – М.: Наука, 1990. – С.6.
234
См.: Pindarus. Carmina cum fragmentis. – Pars 1. – S.28; Пиндар. Вакхилид. Оды.
Фрагменты. – С.33; Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.1. – С.144.
235
См. Гринбаум Н.С. Ук. книга. – С.16.
236
См.: там же, с.6, 10.
237
См.: там же, с.6, 11, 15.
232
233
265
равно роса (δρόσος) – победная песня, гимн (Пиф. 5.99; Истм. 6.64). Гимны
обладают способностью сиять (Пеан 18.5), но гимном может быть и камень
(λίθος,- Нем. 8.47).238 Не от этого ли камня ведет свою родословную
знаменитый тютчевский камень, “скатившийся в долину”?
О всеохватывающей полноте смысла, присущего этим словам,
свидетельствует то содержание, которое может вмещать в себя “ветер”
(ου̃ρος): это и “бог” (Ол. 13.28), и “гимны” (Пиф. 4.3), и “слова” (Нем.
6.28), и “люди” (Истм. 4.5)239. Поскольку в ветре заключено все, постольку
заключено все в любом его проявлении, в любом его ощутимом
присутствии. Поэтому и у Тютчева в “вое” ночного ветра совмещены все
возможные смыслы: это и “странный голос”, и “понятный сердцу язык”, и
“неистовые звуки” – ответные на неистовство ветра, и “страшные песни”,
и “повесть любимая”, и, наконец, напоминание о “заснувших бурях”. Все
эти имена – попытки называния того, что слышится в ночном вое ветра;
это вопрошание, порожденное им и обращенное к нему.
Поэзию, которая руководствуется именами, мы называем
манической. Стихотворения Ф.И.Тютчева “Silentium!” и “О чем ты воешь,
ветр ночной?..” – примеры такой поэзии: первое – надпись на имени
“молчание”, второе – на имени “ночной ветер”. Каждое из этих
стихотворений от начала и до конца – вопрошание имени и его
развертывание в поэтической речи240. Это развертывание осуществляется в
состоянии одержимости именем: в первом случае – молчанием как
“пением дум”, во втором – “безумием” ночного ветра и “неистовством” его
“страшных песен”. Безумие и неистовство – это и есть μανία. В
одержимости истинным именем как раз и проявляется присутствие θεῖον
241
в нас.
В гимне “Рейн” Ф.Гельдерлин говорит:
Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch
Der Gesang kaum darf es enthüllen.242
Чистый исток остается загадкой. Песня
Также едва ли смеет снять с нее покров.
См.: там же, с.6, 7, 12, 15.
См.: там же, с.6.
240
В свою очередь для музыки «исходной точкой» является, согласно Г.В.Ф.Гегелю,
междометие: «…Междометия доставляют… исходную точку для музыки, но сама музыка
является искусством лишь как размеренное междометие и в этом отношении должна
художественно подготовить свой чувственный материал в большей степени, чем живопись
и поэзия, прежде чем он окажется способным художественно выразить содержание духа»
(Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.14. – С.107). Музыка, таким образом, оказывается ничем
иным, как «надписью» на междометии. Границей, разделившей междометие и имя,
определяется граница, разделяющая музыку и лирическую поэзию (как и поэзию в целом).
241
“Если мы позволим себе заблуждаться насчет нашего θεῖον, или назови его как хочешь, –
все искусство и все труды наши будут напрасны” (Гёльдерлин Ф. Ук. книга. – С.387).
242
Hölderlin F. Sämtliche Werke und Briefe. – Bd.1. – Berlin; Weimar, 1970. – S.458.
238
239
266
Песня не смеет снять покров с тайны истока, но не может не думать о
ней. Эту меру Тютчев соблюдает в стихотворении “Silentium!”, не выходя за
пределы человеческой речи, хотя и в изначальной ее стихослагающей
явленности – «пении дум». И эту меру Тютчев превозмогает в стихотворении
«О чем ты воешь, ветр ночной?..», восходя в нем к тому состоянию
герменейи, которое предшествовало рождению человеческого слова.
Откровение «шевелящегося хаоса» – не что иное, как наказание за нарушение
меры.
Неистовство «страшных песен» увлекает поэта в ту область, которая
человеку заказана. Тайна истока открывается песне, поскольку поэт – в
состоянии одержимости – оказывается причастным «языку» ветра, этот
«язык» становится ему «понятным». Становясь неистовым, поэт
одновременно становится провидцем. О взаимосвязи неистовства и
провиденья, как уже отмечалось, говорил М.Хайдеггер: «Провидец собрал
все присутствующее и отсутствующее в одно при-сутствие и в этом
присутствии истовствует.<…> Из истовости присутствующего сказует
провидец. Он есть истосказатель.<…> В один прекрасный день мы станем
учиться наше затасканное слово «истина» мыслить из этой истовости»243.
И если справедливо, что, вопрошая, мы ничего не у-станавливаем, но сами
должны у-стоять, храня при этом «оберегающее внимание к истине»244, то
в стихотворении «О чем ты воешь, ветр ночной?..» как раз и открывается
присутствие такой истины, перед которой нам необходимо у-стоять – при
том условии, что мы способны ее услышать.
Приоткрываясь, тайна сохраняет способность оставаться тайной. В
стихотворении Тютчева это происходит потому, что непонятна и не может
быть понята человеком звучащая в «страшных песнях» ветра мука. Поэтому
вопрос: о чем поет песни ветер? – остается открытым. Любой наш ответ, если
он будет захватывать существо вопроса, будет повторением сказанного
поэтом. «Страшные песни» ветра – о том состоянии природы, которое
предшествовало рождению «целого мира» с его по-человечески
артикулированным смыслом. Они – о начале и конце, о роковом и
неизбежном, о той праоснове мира, благодаря которой возможным стало его
существование и к которой он рано или поздно обречен возвратиться – в свой
«последний час».
«Страшные песни» ветра – это голос судьбы, который чуткое ухо
поэта различает среди голосов «целого мира». Он звучит из той дальней
дали, когда не было ничего, кроме первого усилия хаоса превозмочь
самого себя245 и в ветре, свете, воде и земле явить возможность иного
существования, установить предел «беспредельному».
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М.: Высш. шк., 1991. – С.49.
Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.243.
245
Источник этого усилия заключен, разумеется, не в самом по себе хаосе, поскольку
он самостоятельной творческой и творящей силы лишен. Соприродное хаосу состояние
243
244
267
«Страшные песни» ветра - это отзвук бурь, впервые прошумевших и
прогремевших в момент рождения мира, и в его первозданном и
неизбывном с тех пор вое сразу же прозвучала и вся мука рождения, и вся
мука предстоящей гибели. А все наши песни, если они касаются существа
дела, – только попытка человеческим языком передать смысл этой
«непонятной» муки, – передать, потому что в ней заключено все.
3.4.2. ИСТОК ПОЭЗИИ И ЛИРИКА Ф.И.ТЮТЧЕВА
В настоящей книге неоднократно говорилось, что, восходя к
изначальным смыслам, которые живут в поэзии Ф.И.Тютчева, т.е. к истоку
поэзии, мы приближаемся к пониманию сущности его творчества.
В истоке заключена сущность. Поэзия и в наше время остается
поэзией, т.е. жизненно важным делом, постольку, поскольку она все еще
связана с истоком. И об истоке поэзии может сказать только сама поэзия,
что значит: сама поэтическая речь.
Наиболее памятны нам три самые глубокие попытки ответа на
вопрос, вынесенный в заголовок параграфа. Первая принадлежит
Ф.Ницше, вторая – Вячеславу Иванову, третья – М.Хайдеггеру.
Вполне в духе гегелевской эстетики ограничивая сферу поэзии
областью наглядного представления, Ф.Ницше – на этом основании – исток
поэзии усматривает в музыке, в которой содержание раскрывается
непосредственно, а не опосредовано: «Музыка может породить из себя
образы, которые всегда будут схемой и как бы примером ее настоящего
общего содержания. Но как же образ, т.е. представление, может породить из
себя музыку?… Несомненно, что из таинственного замка композитора
перекинут мост в свободную страну образов и что лирика идет по нему. Но
нет обратного пути…»246
Эти слова нашли отклик у нас в начале ХХ века. А.Белый в
«Принципе формы в эстетике» (1906 г.) утверждает: «Если музыка –
– оно же в поэзии Ф.И.Тютчева изначальное – «безразличие» стихии («Смотри, как на
речном просторе…»). Космос творится «высокой волею богов» («День и ночь»).
Созидательная воля богов проявляется в животворящей силе разделивихся, ставших
различными, стихий, например «ключевых вод»:
И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды. (Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма:
В 6 т. – Т.1. – С.62).
Предварительное различение стихий – условие лада, утверждаемого «высокой волею
богов» и само есть результат действия этой воли.
246
Ницше Ф. О музыке и слове // Ницше Ф. Избр. произведения: В 3 т. – Т.3.
Философия в трагическую эпоху. – М.: REFL-book, 1994. – С.83-84.
268
общий ствол творчества, то поэзия – ветвистая крона его. Образы поэзии,
нарастая на свободном от образов ритме, ограничивают ритмическую
свободу, так сказать, обременяют ее видимостью»247. Через четыре года
молодой О.Мандельштам, еще неуверенно пробуя голос, пишет:
Останься пеной Афродита,
И слово в музыку вернись…248
Попытка стихами озвучить философскую мысль ставит поэзию в
фальшивое положение. Поэзия изначальнее и глубже философии, поскольку
глубже ее укорененность в ее изначальной стихии – речи. Поэзия
выговаривает истину даже тогда, когда оговаривает себя: тем, что дает
возможность почувствовать выговариваемое как недолжное. Поэзия не может
возвратиться в музыку, но в своем истоке она с музыкой встречается – в
«пении дум», как сказано у Ф.И.Тютчева, или в герменейе, как, вслед за
греками, говорим мы. Эта встреча буквально осуществляется в
характеристике Плутархом «некой Миртис», ученицей которой была
Коринна, как «поэтессы мелодий». «Существует много доказательств того,
что в определение «поэт» вкладывалось и понятие «музыкант»249. Не забудем
также суждение Платона о первичности слов по отношению к ритму и
напеву250.
Вячеслав Иванов, находясь под могучим влиянием Ф.Ницше, все же
сумел предугадать основную проблематику ХХ века, когда усмотрел в
«стихии языка» порождающее лоно истинной поэзии251.
Наконец, М.Хайдеггер в 1936 году ставит традиционную для
эстетики XIX века проблему «Der Ursprung des Kunstwerkes»
(«Происхождение произведения искусства»), в ходе рассмотрения которой
приходит к выводу, что наиболее полно сущность искусства выявляется
именно в поэзии. Непреходящее значение названной работы М.Хайдеггера
заключается, в частности, в том, что после нее всякие попытки искать
исток поэзии в любом ином виде искусства (в музыке, например)
становятся анахронизмом. Однако и после этой работы все еще открытым
остается вопрос о том, правомерно ли говорить об истоке произведения
Белый А. Символизм: Кн. статей. – М.: Мусагет, 1910. – С.179.
Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1990. – С.71.
Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. – СПб.: Алетейя, 1995. – С.124.
См.: Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.3. – С.166, 400а.
См.: Иванов В.И. Родное и вселенское. – М.: Республика, 1994. – С.141. Речь идет,
разумеется, о родном языке. Тому, кто так и не понял, что порождающим лоном
подлинной поэзии может быть только родная речь, творчеством Ф.И.Тютчева вообщето заниматься противопоказано. Всякое подлинное мышление, как и всякое подлинное
поэтическое творчество, начинается с уяснения основополагающей роли «родного
слова». В XIX веке это очень хорошо понимали, потом забыли. Впрочем, в 1955 году
Т.Элиот сказал: «…Поэт – наименее абстрактное существо из всех людей, потому что
он, как никто другой, привязан к родному языку; он даже не может позволить себе
знать иностранный язык так же хорошо, как родной…» (Элиот Т. Избранное: Религия,
культура, литература. – Т.1-2. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.388-389). Наименее
абстрактное – значит наиболее воплощенное.
247
248
249
250
251
269
искусства, рассматривая и поэзию в целом как один – хотя и важнейший –
вид искусства?
Поэзия – это ποίησις, искусство – τέχνη. Как соотносятся эти имена –
ποίησις и ποιητικὴ τέχνη: говорят ли они одно и то же, а если нет – в чем
заключается различие? С самого ли начала ποίησις выступает как τέχνη?
Эти вопросы, несмотря на их очевидную важность, не только не
осмыслены современной теорией, но по-настоящему даже не поставлены.
Поэтому они все еще нуждаются в обосновании – насколько они
правомерны?
Долгое время говорили об аристотелевском разделении поэзии на роды
(или, в лучшем случае, на три вида подражания); эту увиденную глазами
современного специалиста по эпосу, лирике и драме якобы аристотелевскую
теорию механически переносили на поэзию, предшествовавшую
Аристотелю, - и после этого начинали дискутировать о том, какой из этих
родов возник раньше. Так решали вопрос о происхождении поэзии или, что в
данном случае одно и то же, поэтического искусства. Потом теория
литературы осмотрелась и пришла к выводу, что характер поэзии в ее
изначальный период обусловлен формирующимся жанровым мышлением.
Поэтому и вопрос об истоке поэзии трансформировался в вопрос о генезисе
ее жанров.
Первый подход был порожден оптимистичной верой в
универсальность актуальных для нашего времени и нашего мышления
понятий; второй тем, что «мы филологи» (Ф. Ницше) к концу ХХ века
перестали понимать не только дух, но и букву греческой поэзии. А без
такого понимания в теории литературы могут быть утрачены все
ориентиры.
Между тем и Платон, и Аристотель говорят о поэтических родах, но
совсем не так, как мы привыкли о них говорить. Поэтому понимание вопроса
об истоке поэзии как вопроса о генезисе поэтических родов остается в силе.
Еще раз напомню то, о чем говорилось во второй главе настоящего
раздела. Объясняя отличительные особенности разных подражаний,
Аристотель утверждает: «…Различаются же они между собою трояким
образом: или [тем, каким] родом [сущего] другим [родам] осуществляется
подражание, или [тем, какому роду] другие [роды подражают], или [тому же
роду тот же род] другим, а не тем же самым образом» (1447а 10-12). Словам
«или [тем, каким] родом [сущего] другим [родам] осуществляется
подражание» у Аристотеля соответствует: «ἢ γὰρ τῷ γένει ἑτέροις μιμεῖσθαι».
Род – γένος, отсюда – γένεσις. Сам язык, таким образом, указывает
направление поисков истока, происхождения поэзии. Не являются ли ποίησις
и ποιητικὴ τέχνη именно тем, что мы ищем – двумя родами, причем такими,
что из одного происходит другой? Мы помним, что Платон в диалоге «Ион»
говорит о ποίησις, которая не является τέχνη. Поскольку она творится в
состоянии одержимости (μανία) божественным словом, мы называем ее
270
манической. Подлинная маническая поэзия всегда имеет священный
характер. Такой поэзия впервые рождается, поэтому таков ее первоначальный
род.
А как быть с другим родом поэзии – миметическим? В § 3.2.2. уже
говорилось о том, что μίμησις изначально для греков соотносится с танцем:
сам «греческий глагол “подражать” первоначально значил “изображать в
танцах”»252 (курсив автора. – А.Д.). До тех пор, пока участники обряда
отождествляли себя с богом, которому был посвящен обряд, их танец
сохранял свою первоначальную природу – маническую. Миметическим танец
становится тогда, когда танцующие начинают изображать бога. Разумеется,
священное продолжает присутствовать в глубине миметического действа, но
конститутивным моментом этого действа становится эстетическое. У нас нет
никаких оснований сомневаться, что та же закономерность действовала в
поэзии. Видом поэзии, который целиком принадлежит миметическому роду,
является трагедия, причем равно миметическими являются как
декламационные, так и хоровые партии. О том, какой ситуацией порождена
трагедия (миметическая поэзия), поет хор в стасиме втором «Царя Эдипа»:
οὐκέτι τὸν ἄθικτον εἶμι γᾶς ἐπ’ ὀμφαλὸν σέβων
οὐδ’ ἐς τὸν Ἀβαῖσι ναὸν οὐδε τὰν Ὀλυμπίαν,
εἰ μὴ τάδε χειρόδεικτα
πᾶσιν ἁρμόσει βροτοῖς…
φθίνοντα γὰρ Δαλίου
θέσφατ’ ἐξαιροῦσιν ἤδη,
κοὐδαμοῦ τιμαῖς Ἀπόλλων ἐμφανής·
ἔρρει δὲ τὰ θεῖα.253
Уже к середине земли не пойду я, благоговеющий,
ни в Абайский храм, ни в Олимпию,
если вот эти явные [несоответствия]
бог не соединит [столь же явно] для всех смертных…
Вот сейчас меркнущее Делосского [бога]
пророчество уносят;
толпы почестями еще окружен открытый для созерцания
[кумир] Аполлона,
но уходит божественное.
«Божественное» уходит, вместе с ним уходит маническое. Этим
событием
обусловлен
переход
от
вопрошающего
мышления,
осуществляемого в речи (манический род), к наглядному представлению, по
отношению к которому речь вторична (миметический род). Так ποίησις
становится ποιητικὴ τέχνη. Для Платона, мыслившего поэзию еще в границах
ποίησις, подлинной трагедией был сам этот переход, его роковая
252
253
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. – М.: Искусство, 1974. – С.53.
Sophocles. Tragoediae. Lipsiae, 1908. – S.135, 897-902, 906-910.
271
неизбежность254. Для Аристотеля трагедией был определенный поэтический
вид, который обладал вот такими особенностями. Однако жанром, в котором
в концентрированном виде важнейшая особенность ποιητικὴ τέχνη
выразилась, становится экфрасис. Именно экфрасис оказывается, может быть,
важнейшей
«формой
формосозидающей»255
всего
последующего
поэтического искусства: это проявляется, например, и в убежденности
Ф.И.Тютчева, что видеть – значит знать, и в его очевидной ориентации на
экфрасис античной поэзии.
Становясь τέχνη, рождаясь в новом качестве, поэзия напрочь забывает о
своем прежнем состоянии. Уже Аристотель об этом ничего не знает и ничего
не говорит. ποίησις как стихослагающая явленность истины знает свой исток,
ποιητικὴ τέχνη может о нем лишь гадать, – для нее он оказывается
«мифическим» или, что одно и то же, «варварским, диким, примитивным»256.
Этот до трогательности наивный современный просветительский оптимизм,
который ничего не смог извлечь из трагического опыта двух последних
столетий, который словно вышел со страниц «Философских повестей»
Вольтера, но так и не покинул их пределы, ставит нас перед необходимостью
ответить на все четыре вопроса: в самом ли деле изначальная ποίησις – «миф»,
в самом ли деле она «варварская, дикая, примитивная»?
Наш ответ будет по необходимости кратким.
Ποιητός (сделанный) изначально захватывает всю сферу культуры в ее
противостоянии природному существованию. Это слово называет все то, что
стало возможным, осуществилось благодаря человеку – его деланию. Почему
позднее это имя – «делание» – закрепилось лишь за поэзией как
стихослаганием, утратив, как представляется, свой всеобщий для
человеческого свершения характер? Ответ может быть только один: потому
что именно со стихослаганием (стихослагающим мышлением) оно было
изначально связано как с «деланием», в котором заключен исток всего.
ποίησις как стихослагание, в котором сказывается божественное, называет
«делание», предопределившее возможность любого другого «делания» –
неизбежно вторичного по отношению к нему. ποίησις как стихослагание была
делом прежде всего. Когда необходимо было обратиться к самому важному и
существенному, греки говорили «πρὸς ἔπος», то есть именно «к делу».
С другим столь же неожиданным для нас употреблением слова ̉ έπος
мы встречаемся в третьей Немейской песне Пиндара:
λεγόμενον δὲ τοῦτο προτέρων
В.С.Соловьев пишет о «жизненной драме» Платона, что не знает «более
значительной и глубокой трагедии в человеческой истории» (Соловьев В.С. Философия
искусства и литературная критика. – М.: Искусство, 1990. – С.624), правда, объясняет
сущность этой трагедии совсем иначе.
255
См.: Шефтсбери. Эстетические опыты. – М.: Искусство, 1974. – С.213.
256
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М.: Весь Мир, 2003. – С.135.
254
272
ἔπος ἔχω...257
В том, что говорится, следую
эпосу предков…
Следуя эпосу предков, хоровая песня Пиндара сама становится
эпосом. Как это может быть? Или еще один вопрос для современного
специалиста по литературным родам: почему Платон называет Гомера
«самым творческим и первым из творцов трагедий»258?
Смысл слова «эпос», с которым мы встречаемся в песне Пиндара, в
современных литературоведческих словарях не разъясняется. Эпос у
Пиндара – то изначальное делание в слове и словом, в котором впервые
сказывается истина и в котором впервые проявляется человеческая
принадлежность истине – в стихослагающем (вопрошающем) мышлении.
Это и есть исток поэзии. Эпос – одно из имен истока, который в других
случаях у Пиндара называется песней, гимном и т.д. μῦθος (сказка, басня,
вымысел) приходит позднее, когда связь с изначальным ἔπος утрачивается
либо становится проблематичной. Поэтому называть изначальное
состояние слова мифом – ничем не оправданное легкомыслие.
Все перечисленные выше имена (эпос, песня, гимн) называют одно и то
же – изначальную ποίησις. К числу ее имен принадлежит и «пророчество». О
пророчестве (но равно и о ποίησις как стихослагании в целом, т.е. как
маническом стихослагании) сказано в шестой Олимпийской песне Пиндара,
что оно порождено «способностью слышать голос, которому неведома
ложь»259. У Ф.И.Тютчева этому голосу соответствует в стихотворении
«Silentium!» «пение дум», которое становится, таким образом, одним из имен
ποίησις.
Говоря о манической поэзии, мы отнюдь не должны путать ее
сущность и определенные внешние проявления, ее сопровождающие.
«Одержимость» необходимо мыслить как «пребывание-в» истине речи, тогда
как бурные проявления чувств – характерное, но вовсе не обязательное
следствие манического состояния. Оно может выражаться и в полном
владении собой, в сосредоточенности и уравновешенности, всегда
проникнутыми, однако, большим или меньшим внутренним напряжением. С
таким проявлением манического состояния мы встречаемся в третьей
Пифийской песне:
Если же умом кто-либо
из смертных придерживается истинного пути,
[тому] необходимо [радоваться]
от блаженных [богов] выпадающим благам. Один раз одно,
другой раз другое высоколетящих ветров дуновение.
Pindarus. Carmina cum fragmentis. – Pars 1. – S.130, 52-53.
Платон. Собр. сочинений: В 4 т. – Т.3. – С.404, 607a.
259
Pindarus. Carmina cum fragmentis. – Pars 1. – S.23, 66-67.
257
258
273
Ведь нетронутая целость счастья не надолго приходит
к человеку,
260
обремененному множеством забот.
«Нетронутая целость счастья» как маническое состояние – это такая
полнота присутствия, которая равнозначна «пребыванию-в» истине речи. Для
Тютчева такая полнота присутствия – «время золотое», которое, если оно
осуществилось, есть непременное условие приобщения к самой вечности,
несмотря на то, что «сладко жизни быстротечной // Над нами пролетала тень».
Сущность поэзии Ф.И.Тютчева заключается в соприсутствии ποίησις
и ποιητικὴ τέχνη. Чтобы понять Тютчева, нужно помнить об этих двух
истоках его поэзии: с одной стороны, «слух к голосу, которому неведома
ложь», с другой – миметическое, связанное с античным экфрасисом и
античной трагедией, слово. Этой же соотнесенностью определяются
особенности завершения поэтического целого у Ф.И.Тютчева.
Утверждение, что эти особенности обусловлены «художественной формой
фрагмента»261, мы должны отклонить как не соответствующее
действительности. Если переход от ποίησις к ποιητικὴ τέχνη или наоборот в
стихотворении осуществляется, перед нами целое как целое, а не целое как
фрагмент262. Непониманием этого факта порождаются проблемы, в том
числе связанные и с изданием стихотворений Тютчева. Обратимся к
одному из показательных примеров:
Душа моя – Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных.
Душа моя, Элизиум теней!
Что общего меж жизнью и тобою,
Меж вами, призраки минувших, лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?..263
Pindarus. Carmina cum fragmentis. – Pars 1. – S.75, 103-106.
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С.42.
262
Во втором разделе книги говорилось о взаимодействии двух форм видения в лирике
Ф.И.Тютчева. В том и другом случае актуальным остается момент перехода как
определяющий для поэтического целого, но по-разному осмысляемый в пределах
«эйдосной» теории литературы и «филологической» теории.
263
Современник, литературный журнал А.С.Пушкина. 1936-1937. – М.: Сов. Россия,
1988. – С.277.
260
261
274
В таком виде стихотворение было напечатано в пушкинском
«Современнике»264 – по копии И.С. Гагарина. Маловероятно, чтобы сам
А.С.Пушкин не принял участие в его редактировании. Поскольку расстановка
знаков препинания – одно из важных условий адекватного понимания
стихотворения, мы можем сказать, что в редакции, опубликованной в
«Современнике», стихотворение было понято адекватно его смыслу и
сущности поэтического творчества Ф.И.Тютчева. Здесь целое предстает как
целое, т.е. как переход от ποιητικὴ τέχνη к ποίησις: первая строфа – экфрасис
(тире в первой строке), вторая – прямое поэтическое высказывание (запятая в
пятой строке). В прямом поэтическом высказывании обнаруживается
соответствие маническому слову – всегда прямому, потому что именно
прямой смысл – для понимающего – высказывает «голос, которому неведома
ложь». В 6 Олимпийской песне говорится, как Иам воззвал к отцу, Аполлону,
и как
…в обмен его голосу прозвучал иной,
Отчий, вещающий прямые слова…265
Проясняется, таким образом, и наше понимание эволюции поэтического
слова: переход от ποίησις к ποιητικὴ τέχνη – это одновременно переход от
прямого слова (изначальный ἔπος) к слову переносному (τρόπος, μετα-φορά)
как более позднему. Разговоры о метафоре как истоке поэзии и даже
человеческого мышления в целом266 остаются, следовательно, всего лишь
разговорами. Еще для Аристотеля, несмотря на его принадлежность к совсем
другой эпохе, метафора, именно в силу своей вторичности, остается
отклонением от нормального состояния языка. Показательно, однако, что
причин такого соотношения прямого и метафорического слова у Аристотеля
не сумел понять А.Ричардс, вступив по этому поводу в дискуссию с греческим
мыслителем267.
Вместо того чтобы признать в качестве канонической расстановку знаков
препинания в приведенной выше редакции «Современника», последующие
редакторы стремились «улучшить» тютчевское стихотворение, настойчиво
превращая целое во фрагмент, правда, с противоположными результатами. В
издании 1966 года (редактор К.В. Пигарев)268 все стихотворение превращено в
развернутый экфрасис, вследствие чего возникает смысловой и интонационный
перебой при переходе от пятой строки к шестой, проигнорированный, кстати
говоря, тем, что эти две строки объединены в одно предложение. Этот перебой,
возникший вследствие редакторской ошибки (кому бы она ни принадлежала),
Привожу стихотворение с исправлением двух очевидных ошибок – «замыслам» в
третьей строке и «признаки» – в предпоследней.
265
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.29.
266
Многочисленные примеры см. в книге: Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. –
С.33, 46, 77 и др.
267
См.: там же, с.45.
268
См.: Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. – Т.1. – М.: Наука, 1966. – С.66.
264
275
ни в коем случае не соответствует реальному интонационному и смысловому
переходу, совпадающему с разделением стихотворения на строфы. В изданиях
1980 (А.А.Николаев)269 и 2003 (В.Н.Касаткина)270 годов все стихотворение
превращено в прямое поэтическое высказывание, вследствие чего оно более
чем на половину оказывается состоящим из обращения. Ссылкой на автограф
такое превращение целого во фрагмент не может быть оправдано, тем более что
Ф.И.Тютчев, очевидно, «не завершил синтаксическое оформление»271
стихотворения и явно в данном случае, как и всегда, тяготился этой работой,
делал ее небрежно или вообще не делал, если была возможность переложить ее
на другого272. Показательна в этом отношении его фраза, обращенная к И.С.
Гагарину (!) в письме от 7 июля 1836 года: «Но возвращаюсь к моим виршам:
делайте с ними что хотите, без всякого ограничения или оговорок, ибо они ваша
собственность…»273. Понятно, почему лирика Ф.И.Тютчева остается одной из
самых больших текстологических проблем русской литературы, в разрешении
которой сам автор никак не захотел нам помочь.
У нас перед Ф.И. Тютчевым то несомненное преимущество, что мы
более справедливо можем оценить значимость сделанного им в поэзии,
поэтому редактирование его стихов не считаем праздным занятием. Вот
почему при издании стихотворений Ф.И.Тютчева его автографы – в
отношении расстановки знаков препинания – не могут быть признаны в
качестве последнего аргумента. Упорным нежеланием заниматься правкой
«безобразных списков» своих стихов он передоверил нам эту работу, и нам
остается лишь доказать, что мы способны соответствовать тем
обязанностям, которые он, сам того не желая, на нас возложил.
Целое у Тютчева строится приблизительно по таким же законам, по
каким строились поэмы Гомера, в которых осуществляется постоянный
переход от эпоса (прямого манического слова) к трагедии и наоборот.
Согласно Платону, это одновременно переход от слова истины к слову
ложному («вся трагическая ложь» в «Кратиле»). У Тютчева мы видим нечто
иное.
См.: Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2 т. Т.1. – М.: Правда, 1980. – С.74.
См.: Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.1. – С.142.
271
Там же. – С.412.
272
Разумеется, не из-за пресловутой «праздной лени», а, во-первых, потому что
нисколько не сомневался в недолговечности своей поэзии («в наш век стихи живут дватри мгновенья»), во-вторых, не следует забывать о его глубинной связи со стихией
изначального устного поэтического слова, для которого фиксация с помощью
письменных знаков – недолжная или, как сказал бы Ф.И.Тютчев,
«противоестественная» форма существования. Для Тютчева записанные стихи
становились «виршами», тогда как к звучащему поэтическому слову он относился
совсем иначе: «Как удивительно он читал!» – спустя много десятилетий восхищенно
восклицает С.М Волконский (см.: Лит. наследство. – Т.97: В 2 кн. – Кн.2. – М.: Наука,
1989. – С.164).
273
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.4. – С.53.
269
270
276
Для Тютчева «мысль изреченная есть ложь», но слово изображающее
(миметическое) отнюдь не есть ложь. Оно вполне может вмещать ту же
полноту истины, что и маническое слово, но явленную созерцающему глазу
(наглядному представлению) в образе. В этом, безусловно, проявляется
воздействие на Ф.И.Тютчева позднейшей священно-символической
художественной культуры, в пределах которой священный образ мыслится
предшествующим священному слову, которому в свою очередь принадлежит
человек. Полнота видимого осуществления истины, доступная созерцанию
человека, может приближать человека к небожителям в такой же степени, в
какой маническое слово соединяет божественное и человеческое:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!274
Сказанное, однако, вовсе не означает, что маническое и
миметическое у Тютчева целиком уравновешены. Иерархия изначального
и того, что порождено изначальным, сохраняется у него и проявляется в
роковые минуты истории:
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное…275
Когда ποιητικὴ τέχνη уходит, оказываясь излишним («теперь тебе не
до стихов»), остается ποίησις, как изначальное делание и дело, как слово
истины («лучших, будущих времен // Глагол»), долженствующей
осуществиться, - не искусство стихотворства, но приходящая к явленности
в поэтическом слове стихотворящая первооснова жизни.
274
275
Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. – Т.1. – С.36.
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т.2. – С.66.
277
ПРИЛОЖЕНИЕ I
О ПРИРОДЕ КЛЯТВЕННОГО СЛОВА
Боже мой, Боже мой, я – живая клятва Твоя,
что Ты пребудешь со мной до конца.
Св. Николай Сербский
В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Еще слышали вы, что сказано
древними: «не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои».
А я говорю вам: не клянись вовсе… Но да будет слово ваше: «да, да», «нет,
нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5: 33-34, 37). Приведенное
утверждение Иисуса очевидным образом противоречит Его наставлению о
фарисеях, в котором можно усмотреть иное отношение к клятве: «Горе вам,
вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянется храмом, то ничего, а
если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые! что
больше: золото, или храм, освящающий золото?» (Мф. 23: 16-17). Как видим,
Иисус здесь говорит о том, какая клятва в большей степени истинна, но не
отвергает самой ее возможности. Наконец, в своем падении Петр сначала
говорит: «не знаю» («нет, нет»), а потом дважды клянется, отрекаясь от
Иисуса. Почему он клянется? Почему именно дважды? И случайна ли именно
такая последовательность предсказанного Иисусом троекратного отречения?
Мы будем избавлены от бесплодных спекуляций и пустой траты
времени, если с самого начала противоречие, действительно
присутствующее в приведенных фрагментах, сумеем понять как языковую
проблему. Вопрос, стало быть, нужно поставить не о клятве вообще, а о
том, какую клятву отрицает Иисус.
В Нагорной проповеди сказано (Мф. 5):
33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέη τοῖς
ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ
τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.
34 ’Εγω δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως…
37 ἔστω δὲ ο λόγος ὑμῶν, Ναὶ ναί, Οὒ οὔ˙
τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
В буквальном переводе это значит:
33 Вновь услышали вы, что сказано
древними: «Не будешь клясться ложно, но возвратишь
Господу клятвы твои».
34 Я же говорю вам: не клясться совсем...
37 Будь же слово [уст] ваших: Да, да; нет, нет;
а что больше этих [слов], то от бесчестных [уст].
278
Иисус говорит здесь о клятве – ὅρκος, которая дается в соответствии с
установлениями древних. Она в свою очередь связана с ὅρκιον, что значит:
жертва, приносимая в подтверждение клятвы или договора. Почему эту
клятву нужно возвратить Богу? Возвращают то, что тебе не принадлежит,
что берешь на время – у владельца. Значит, клятва-горкос принадлежит
Богу; это слово Бога, которое в ходе совершения ритуала как залогпоручительство передавалось человеку. Одновременно сам человек
предавал себя во власть этого вызывавшего священный трепет
божественного слова. Уверенность в исполнении обещанного
основывалась, следовательно, не на субъективном представлении о
честности клянущегося, а на божественной природе клятвенного слова.
Горкос как слово Бога – это слово истины (несокрытости), которая в слове
и словом осуществляла свое присутствие, определяя тем самым и характер
присутствующего в целом – включая человека. Будучи вызванным в
присутствие, оно, в силу своей истинности, должно было исполниться,
претворив сущее в соответствии со своим смыслом. Одновременно
претворялся в сущее принадлежащий слову человек, «давший клятву»; тем
самым он возвращал ее Богу (богам), совершая искупление вины за
дерзость обращения к слову Бога (богов) и получая при этом право на
продолжение жизни, тогда как не претворенное в сущее клятвенное слово
такую возможность исключало.
Связь с ритуалом указывает, что клятвенное слово может вступить в
присутствие не где угодно, но только в определенном месте, почитаемом
как священное (ἐν τόπῳ ἁγίῳ; Мф. 24: 15). Запрет на клятву-горкос в
Нагорной проповеди, стало быть, объясняется тем, что такого места,
которое оставалось бы священным в том смысле, как его понимали
древние, больше нет, ибо везде присутствует «Отец ваш Небесный»
(Мф. 5: 48): небо – Его Престол, земля – «подножие ног Его» (Мф. 5: 34-35).
Очевидным представляется также то, что запрет Иисуса не распространяется
на клятву вообще, поскольку в противном случае следовало бы сделать
вполне абсурдное допущение, что Он отрицает всякое присутствие
божественного Слова в языке человеческом. Подтверждение тому, что смысл
учения Иисуса к такому отрицанию не сводится, находим в наставлении о
фарисеях (Мф. 23):
16 Οὐαι ὑμιν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες,
Ὃς ἂν ὀμόση ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν ὃς
δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.
17 μωροὶ καὶ τυφλοί• τίς γὰρ μείζων ἐστὶν,
ὁ χρυσὸς, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;
«16 Горе вам, поводыри слепые, говорящие:
Если поклянешься храмом, ничего; если же
поклянешься золотом храма, должен.
17 Глупые и слепые! Ибо что больше:
279
золото или храм, освящающий золото?»
Мы видим, что клятва, которую признает Иисус, в отличие от клятвыгоркос, не привязана к жертве (поскольку золото – не что иное как аналог
жертвенного животного), но соотнесена с новым пониманием священного.
Расширение границ священного и одновременное его преображение
(освящает не здание, названное храмом, от которого «не останется… камня
на камне» (Мф. 24: 2), но нерукотворный храм, «воздвигаемый в три дня»
(Иоан. 2: 19)) вызвано тем, что «приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3: 2).
Приблизившееся Царство Небесное изменяет содержание религиозного
опыта, ставит каждого перед необходимостью «переменить мысли»
(μετανοεῖτε – призыв Иоанна Крестителя; в традиционном переводе –
покайтесь). С этим новым содержанием религиозного опыта связан иной
смысл признаваемой Иисусом клятвы, подчеркнутый поздней (новозаветной)
формой и самого слова (ομόση) и соответствующей конструкции, в которой
оно употребляется ( έν τινι). Такую клятву может дать (вызвав тем самым в
присутствие божественное Слово) лишь тот, кто духовно причастен к
созидаемому Иисусом нерукотворному храму. Постараемся изъяснить мысль
еще точнее: лишь устами причастного к нерукотворному храму, который
созидается Иисусом, может сказаться признаваемое Им клятвенное слово.
Такая клятва, следовательно, не может быть ложной, поскольку в ней и ею
осуществляется Истина; не человек «дает клятву», но само клятвенное Слово в
силу необходимости сказывается человеком. Этот факт позволяет иначе понять
смысл того, что на самом деле происходит в сцене отречения Петра.
Трижды отрекаясь, Петр каждый раз делает это по-разному (Мф. 26):
70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσεν πάντων,
λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις.
72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο με’ ὅρκου, Ὅτι
οὐκ οἶδα τὸν ἄνρωπον.
74 τότε ἤρξατο καταναεματίζειν καὶ
ὀμνύειν, Ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνρωπον.
καὶ εὐέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε.
«70 Он же отказался перед всеми,
сказав: Не знаю, что [ты] говоришь.
72 И вновь отказался с клятвой (με’ ὅρκου), что
не знает [этого] человека.
74 Тогда начал [он] отрекаться (καταναεματίζειν)
и клясться (ὀμνύειν), что не знает [этого] человека.
И тотчас петел возгласил».
Кажется, смысл сказанного Петром лежит на поверхности. В первом
случае, в соответствии с заповедью Нагорной проповеди, Петр не клянется,
но говорит только «нет» («не знаю…»), преступая, однако, законы
человеческие, поскольку говорит заведомую неправду. Во втором случае
Петр преступает установления древних, давая запрещенную Иисусом клятву280
горкос в подтверждение той самой неправды. Именно такую клятву, которую
затем не посмел не исполнить, дал в свое время Ирод (Мф. 14):
6 Во время же празднования дня рождения
Ирода дочь Иродиады плясала
перед собранием и угодила Ироду,
7 посему он с клятвою (με’ ὅρκου) обещал
ей дать, чего она ни попросит.
8 Она же, по наущению матери своей,
сказала: дай мне здесь на блюде
голову Иоанна Крестителя.
9 И опечалился царь, но, ради клятвы (διὰ δὲ τοὺς ὅρκους)
и возлежащих с ним, повелел дать ей…
Создается впечатление, что Петр стремится сохранить свою жизнь и в то
же время не согрешить перед Иисусом. Но во втором случае, давая клятвугоркос, он такой грех совершает (даже не содержанием сказанного, но самим
фактом произнесения этой клятвы). Однако подлинного отречения от Иисуса
ни в первом, ни во втором случае нет. Можем ли мы утверждать, что понастоящему Петр отрекается от Иисуса лишь в третий раз, когда в
подтверждение прежней неправды, дает клятву, признаваемую Иисусом?276 Но
как быть тогда с предсказанием Иисуса: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь,
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мф. 26: 34)?
Это значит, что наше объяснение отречения Петра было слишком поспешным.
Троекратному отречению Петра предшествует троекратное моление о
чаше. В этом молении впервые обнаруживается несовпадение воли Иисуса
с волей Отца Небесного: «…Впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:
39); «Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да
будет воля Твоя» (Мф. 26: 42).
Это несовпадение свидетельствует о том, что Иисус оказывается в новой
ситуации по отношению к Отцу Небесному и соответственно Сам становится
другим. И этого другого Иисуса не узнает Петр, отрекаясь от Него.
В свое время, находясь в пределах Кесарии Филипповой, Иисус
спрашивал учеников, за кого они Его почитают. Петр ответил: «Ты –
Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16: 16). Теперь же Петр говорит, что «не
знает [этого] человека» (Мф. 26: 72; 74). Мы видим, что Петр не отрекается от
Христа, он отрекается от человека. Это изменение имени не случайно.
После Нагорной проповеди, «когда Иисус окончил слова сии, народ
дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий (ὡς ἐξουσίαν
ἔχων), а не как книжки» (Мф. 7: 28-29). По воскресении Иисус
подтверждает свою власть: «…Дана Мне всякая власть (πᾶσα ἐξουσία) на
небе и на земле» (Мф. 28: 18). На вопрос первосвященников и старейшин,
Связанное с новозаветным καταναθεματίζειν нейтральное ομνύειν (стих 74)
противопоставляется мною клятве-горкос (стих 72) и рассматривается в контексте
признаваемой Иисусом клятвы, о которой Он говорит в наставлении о фарисеях.
276
281
кто дал Ему такую власть (Мф. 21: 23), Иисус не ответил, обнаружив их
лукавство, но мы знаем, что власть Его – в благоволении Отца небесного:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:
17).
Новая ситуация, в которой оказывается Иисус в сцене моления о чаше
(несовпадение Его воли и воли Отца Небесного), связана с тем, что Он, идя на
крестные муки, теряет власть, становится вполне человеком, смертным,
обретает способность умереть. Когда во время суда над Иисусом
«первосвященники и старейшины и весь синедрион» вынесли решение:
«Ἔνοχος ανάτου ἐστί» (букв.: «одержим смертью», Мф. 26: 59; 66), они
повторяют, по-видимому, нечто близкое к тому, что сам Иисус говорит о
Себе перед молением о чаше, призывая Петра и сыновей Зеведеевых
бодрствовать вместе с Ним: «Περίλυπος ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως ανάτου…»
(«Скорблю премного, [ибо] душа моя [приблизилась] к смерти…», Мф. 26:
38)277.
Такого Иисуса Петр никогда не знал, поэтому он не пытается создать
видимость отречения, якобы «спасая» себя от опасности, но на самом деле
трижды отрекается от человека, каким стал Иисус, – лишенного власти,
принадлежащего (причастного) смерти. Выйдя за ворота, Петр плакал
горько не только из-за своего отречения. Он плакал по Христу, имеющему
власть, Которого не видел теперь рядом с собой.
Петру понадобилось третье отречение, поскольку первые два не убеждают
обвиняющих его. После первых двух отречений обвиняющие сказали: « Ἀληῶς
καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ• καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ». («Воистину и ты из
них, ибо и речь твоя обличает тебя (букв.: явным тебя делает)», Мф. 26: 73).
λαλιά здесь переводится как речь (говор, диалект), изначальное же значение
этого слова – болтовня. Болтовня – это речь, противоположная клятвенному
слову, это слово праздное – от человека, а не от Бога: «Говорю же вам, что за
всякое праздное слово (ῥῆμα ἀργὸν), какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда» (Мф. 12: 36). Для окружающих Петра (враждебных Иисусу) клятвенное
слово в прежнем значении теряет авторитет, становится праздным. Их
убеждает третье отречение Петра. Это значит, что клятвенное слово,
признаваемое Иисусом, становится для них авторитетным.
Слова Петра удостоверяют то, что открылось в молении о чаше –
причастность Иисуса смерти. Он должен умереть, чтобы ожил мир: Дух
Божий пресуществляется в слово человеческое, преображая его, и это
преображение оказывается значимым для всех, не зависимо от их отношения
к Иисусу. Об этот претворенном Слове, исполненном вечной жизни, сказано,
что оно не прейдет (Мф. 24: 35).
Вина с первосвященников и старейшин тем самым, однако, не снимается: «Горе
миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через
которого соблазн приходит» (Мф. 18: 7).
277
282
ПРИЛОЖЕНИЕ II
СТИХОТВОРЕНИЕ Ф.ГЁЛЬДЕРЛИНА
«НÄLFTE DES LEBENS»:
ПЕРЕВОД КАК ОПЫТ ТОЛКОВАНИЯ
Сначала приведу текст самого стихотворения:
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.278
В сборнике «Немецкая поэзия XIX века» опубликованы три перевода
этого стихотворения на русский язык: А.В.Луначарского, С.С.Аверинцева,
В.Г.Куприянова.279 По той простой причине, что я хочу предложить свой
перевод, я, по возможности, не буду говорить о поэтических достоинствах или
недостатках переводов, сделанных ранее. Укажу лишь на некоторые
особенности стихотворения Гельдерлина, которые я постарался, насколько это
было в моих силах, передать в своем переводе.
Вслед за А.В.Луначарским я останавливаюсь на варианте названия
«Половина жизни» (у С.С.Аверинцева и В.Г.Куприянова «Середина жизни»).
Этот вариант представляется мне более точным и в буквальном смысле, и по
существу, поскольку главное в стихотворении – не воссоздание
неповторимости одного из моментов земного существования, но
противопоставление двух предельно контрастных половин жизненного пути
человека.
В первой строфе дано изображение жизненной полноты, характерной
лишь для первой половины человеческого существования. Выражением этой
жизненной полноты становится способность одного предмета отразиться в
278
279
Hölderlin F. Sämtliche Werke und Briefe. – Bd. I. – S.447.
См.: Немецкая поэзия XIX века. – М.: Радуга, 1984. – С.465-467.
283
другом: в таком взаимном отражении распавшиеся части расколовшегося
мира опять собираются в единство, мир становится Целым. Ощущение
жизненной полноты, таким образом, неотрывно от Целого, порождено
причастностью к нему. С первой строфой рассматриваемого стихотворения
(и с «Sonnenschein» второй) перекликается, проясняя ее содержание, целый
ряд высказываний разных персонажей романа «Гиперион». Приведу одно из
высказываний главного героя: «…Wie die Sonne des Himmels sich wiederfand
im tausendfachen Wechsel des Lichts, das ihr die Erde zuruckgab, so erkannte mein
Geist sich in der Fulle des Lebens, die ihn umfing, von allen Seiten ihn uberfiel»280.
(«…Как солнце на небе вновь находило себя в тысячекратных переливах
света, возвращенного землей, так узнавал себя мой дух в полноте (избытке)
жизни, которая охватывала его, со всех сторон на него обрушивалась»). Вот
почему Schatten второй строфы (букв.: тень, призрак, силуэт) очевидным
образом коррелирует со словом «отраженья» (ср. «hänget… Das Land in den
See» первой строфы), утрата которых означает утрату жизненной полноты.
Конечное проявление этого противоположного состояния мира и души –
образ зимы, зимней стужи. Близкое по содержанию рассуждение находим в
четвертом письме Гипериона: «Wie oft warst du mir nahe, da du längst mir ferne
warst, verklärtest mich mit deinem Lichte, und wärmtest mich, daß mein erstarrtes
Herz sich wieder bewegte, wie der verhärtete Quell; wenn der Strahl des Himmels
ihn berührt!»281. («Как часто был ты рядом со мной, хотя давно находился
вдали; твой свет преображал и согревал меня, и мое окоченевшее сердце
вновь приходило в движение, как замерзший ключ, когда небесный луч
касается его!»).
В русской поэзии XIX века такую же по силе жажду обретения
жизненной полноты (Целого), причем выражаемую (как, впрочем, и
противоположное состояние) в тех же или подобных образах, находим у
Ф.И.Тютчева. Отмеченная близость двух поэтов объясняется причинами
более глубокими, нежели простая их принадлежность к одной эпохе.
Больше всего трудностей при переводе вызвала последняя строка
стихотворения. Я считаю, что в варианте «Скрежещет флюгер» (у
С.С.Аверинцева и В.Г.Куприянова) на первый план выступают
отсутствующие в подлиннике смысловые оттенки. Дело не в том, что звук,
издаваемый флюгерами, вызывает неприятные ощущения, а в том, что он
не превозмогает немоту, но еще больше ее подчеркнет. Это не скрежет, а
бессмысленное звяканье. Перевод А.В.Луначарского более точен по
смыслу («Дребезжат флюгера»), однако стремление сохранить
множественное число подлинника привело к слишком очевидному
ритмическому несоответствию. Я предпочитаю единственно число,
поскольку важнее буквальной точности оказалось для меня стремление
сохранить ритмический и мелодический рисунок последней строки.
280
281
Hölderlin F. Sämtliche Werke und Briefe. – Bd. 2. – S.119-120.
Ibid. – S.111.
284
Привожу текст перевода:
ПОЛОВИНА ЖИЗНИ
С желтыми грушами берег,
Весь в диких розах,
В озеро никнет,
И лебеди тоже,
Опьянев от лобзаний,
Головы клонят
В священнотрезвые воды.
О горе, где цветы –
Когда зима, и где искать мне
Солнца блеск
И тени земли?
Застыло все –
Немо, и только в ветре
Звякает флюгер.
285
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Иисус Христос 139, 178, 182, 206, 265269
* * *
Апостол Павел 73, 178
* * *
Григорий Богослов, свт. 94.
Григорий Турский, свт. 110
Дионисий Ареопагит, сщмч. 51-52, 54,
57-59, 82, 94, 108-111, 129, 182, 185, 194,
196, 206, 250
Иоанн Кронштадтский, св. прав. 173, 180
Иоанн Лествичник, прп. 171
Иустин (Попович), прп. 115
Кирилл Александрийский, свт. 130
Максим Исповедник, прп. 57-59, 109
Николай Сербский, свт. 9, 26, 104, 179,
265
Сергий Радонежский, прп. 194
* * *
Антоний (Храповицкий), митрополит 181
Булгаков С.Н., свящ. 128
Иоанн (Шаховской), архиепископ 65
Константин (Зайцев), архимандрит 180
Роман, иеромонах 168
Флоренский П.А., свящ. 115-116, 125,
136, 172-173, 182.
* * *
Абакумов С.И. 161
Аверинцев С.С. 11, 13, 16-18, 22-23, 42,
110, 252, 270-271
Аксаков И.С. 152
Аксаков К.С. 142, 152
Аксакова А.Ф. 242
Алкивиад 205
Алпатов М.В. 166
Альми И.Л. 119
Альфонсов В.Н. 84
Аммоний 38-39
Анаксимандр 230-233
Ананьев Б.Г. 85
Аристарх 38
Аристотель 39-42, 57-58, 61, 72, 76, 98,
104-109, 130, 169, 189-191, 202-209, 212,
215, 222, 228, 237-238, 240, 257, 259, 262
Аристофан (грамматик) 38
Архилох 219,222
Байрон Дж.Г. 118
Барнет Дж. 232
286
Барт Р. 60-61
Баршт К. 15
Батюшков К.Н. 144
Бахтин М.М. 7, 11, 13-15, 17-20, 22-25,
27-28, 31, 34, 48-50, 67, 69-70, 76, 80,
91-97, 99-103, 111-112, 120-121, 124,
171, 173-174, 209-211
Белинский В.Г. 74-75, 78, 83, 128-129,
136, 214, 218
Белый А. 116, 134-135, 137, 141, 143,
148, 256
Бенедиктов В.Г. 74-75, 124
Беньян Дж. 110
Бергсон А. 98
Берковский Н.Я. 152-153, 165
Бехтеев С.С. 111
Бибихин В.В. 10, 50, 57
Бимель М. 35
Бирюков Б.В. 45
Бицилли П.М. 12, 23, 124, 210
Бланшо М. 83, 94-95
Блок А.А. 120, 243, 249
Бодлер Ш. 174
Бонди С.И. 146
Бонецкая Н.К. 25
Боратынский Е.А. 73, 118-119, 133,
141-142, 144-152, 154, 157, 159, 161163, 165-167, 188
Борев Ю.Б. 14
Боткин В.П. 54, 242
Бочаров С.Г. 92, 120, 144-145, 149-152,
173
Брагинская Н.В. 158
Бройтман С.Н. 11, 26
Брюсов В.Я. 98, 152
Бубер М. 43
Бультман Р. 12, 16
Бухштаб Б.Я. 154-155
Бычков В.В. 78, 130
Вагнер Р. 217
Валлантен А. 165-166
Вальцель О. 79, 96, 104
Вернадский В.И. 48
Веселовский А.Н. 141
Вёльфлин Г. 165
Витгенштейн Л. 196-197
Волконский С.М. 75, 263
Вольтер 51, 176, 247, 259
Вольф Г. 177, 182
Вышеславцев Б.П. 138
Вяземский П.А. 78, 143-144
Гагарин И.С. 142, 262-263
Гадамер Г.-Г. 10, 25-27, 30-33, 37, 43-44,
60, 73, 76-77, 90, 170, 174, 206
Гартман Н. 85, 92
Гаспаров М.Л. 19, 51, 55-56, 98-99, 107108, 205, 243-244
Гаусс К.Ф. 99
Гегель Г.В.Ф. 11, 22, 27, 30, 33, 47, 74, 7983, 86, 90, 98, 102, 104-107, 111, 116-117,
126, 135, 169-171, 186-189, 191, 202, 215216, 218, 253, 255
Гей Н.К. 24, 71, 206
Гелиодор 73
Георгиевский А.И. 100, 122
Гераклит 58, 192-193, 241
Гердер И.Г. 175
Гермоген 38-39
Герцман Е.В. 256
Гершензон М.О. 143
Гёльдерлин Ф. 44, 49-50, 62, 72, 76, 173,
176-177, 181-182, 185, 223, 251, 254, 270
Гёте И.-В. 116, 121, 123, 126-134, 214-215
Гинзбург Л.Я. 149, 163
Гиршман М.М. 95, 138-139, 156, 178-180
Гоголь Н.В. 10, 49, 115, 130, 180, 188,
191, 193-195
Гоготишвили Л.А. 19, 31
Гойя Ф. 165-166
Голосовкер Я.Э. 112-113
Гомер 45, 204, 207-212, 221, 231, 238, 241,
260, 263
Гораций 73
Горелов П.Г. 136
Горнфельд А.Г. 11
Горький М. 138
Грехнев В.А. 153
Гриб В.Р. 131
Гринбаум Н.С. 41, 54-55, 252-253
Гумбольдт В. 32, 215, 218-219, 238-239
Гуссерль Э. 13-15, 24-25, 29-32, 37, 100
Данте Алигьери 184
Дворжак М. 164
Декарт Р. 105
Дельвиг А.А. 187
Денисьева Е.А. 100, 122
Державин Г.Р. 111, 125, 194
Деррида Ж. 15
Дефо Д. 110
Дильс Г. 231
Дильтей В. 12, 25, 30, 45, 171, 175
Диоген Лаэртский 41
Дионисий Фракиец 38
Дис Б. 146
Добролюбов Н.А. 78
Достоевский Ф.М. 23, 61, 74, 92, 99,
111-116, 120, 124, 128, 133-135, 151152, 173, 180, 186, 191
Душечкина Е.В. 158
Евклид 17
Еврипид 220-221
Егунов А.Н. 73, 213
Жан-Поль 83, 116, 127, 130-132, 134,
141-142, 149, 160
Жинкин Н.И. 84
Жирмунский В.М. 80, 128
Жуковский В.А. 6, 111, 122, 128
Заболоцкий Н.А. 142-143
Зелинский Ф.Ф. 51, 225-226, 233
Ибсен Г. 135, 143
Иванов В.Вс. 67
Иванов В.И. 10, 112, 120, 191-195, 217,
255-256
Ильин И.А. 77-78, 82, 111
Ипполит 58
Йорк, граф 30
Кальдерон П. 176
Кант И. 30, 116, 217
Карамзин Н.М. 78
Карташев А.В. 113
Касаткина В.Н. 144, 263
Кассирер Э. 49
Киреевский И.В. 140-143, 145
Кожинов В.В. 84
Козлов Л.К. 86
Компаньон А. 105-107
Кораблев А.А. 81-82
Коринна 256
Кратет Маллотский 38
Кратил 38-39, 109, 205-206, 250
Кристева Ю. 24
Критон 235
Крупин В.Н. 140
Ксенофонт 184, 202
Кузнецов Б.Г. 99
Кузнецов Ю.П. 111, 179
Куприянов В.Г. 270-271
Кюхельбекер В.К. 188
Ларцев В.Г. 161
Лебедев А.В. 9, 231
287
Лейбниц Г.В. 124, 149
Леонтьев К.Н. 97
Лермонтов М.Ю. 84, 117-118, 121, 129,
136, 148, 176
Лессинг Г.Э. 90, 131
Лихачев Д.С. 125
Ломоносов М.В. 64, 188, 194
Лопе де Вега 176-177, 182
Лосев А.Ф. 11, 81, 83-84, 86-88, 102, 104,
136, 172, 174, 212, 258
Лотман Ю.М. 14, 88-90, 156
Луначарский А.В. 270-271
Людвиг Э. 127
Маймин Е.А. 152-153
Макуренкова С.А. 234
Мамардашвили М. 197
Мандельштам О.Э. 256
Манн Т. 129
Манн Ю.В. 142
Мартынов В.И. 120, 213
Маяковский В.В. 84, 143
Медведев П.Н. 79, 96
Мережковский Д.С. 114
Миллер Т.А. 169, 222
Михайлов А.В. 10, 126-127, 129-130, 175
Михайловский Н.К. 137
Мориак Ф. 171-172
Мочульский К.В. 115
Набоков В.В. 91, 103
Надь Г. 102, 238
Небольсин С.А. 92
Некрасов Н.А. 121
Николаев А.А. 263
Николай Кузанский 6, 9, 82, 182
Ницше Ф. 9-10, 44, 72, 74, 174, 216-221,
223-224, 226-228, 230-231, 237-240, 255257
Новалис 88
Новиков Вл. 92
Овсянико-Куликовский Д.Н. 81
Орлицкий Ю.Б. 69
Павлов Н.Ф. 145
Павсаний 190
Палиевский П.В. 18
Пастернак Б.Л. 84, 127, 136, 143
Пигарев К.В. 132, 158, 262
Пиндар 40-41, 47, 51, 54-56, 59, 121-122,
169-170, 176, 181, 185, 189, 192-194, 207,
209, 218, 222, 228, 239, 242-245, 249, 252253, 260-262
288
Платон 11, 38-41, 53, 55, 72, 106-107,
109, 183-185, 189-191, 202-203, 205,
207-214, 216, 221-223, 237-243, 250,
256-260, 263
Плотин 82
Плутарх 256
Погодин М.П. 251
Подгаецкая И.Л. 127-128
Полонский Я.П. 186
Поспелов Г.Н. 140
Потебня А.А. 10-12, 14-15, 18, 22, 79,
89, 92, 101-102, 104
Прехтль П. 100
Прокл 17
Прохоров Г.М. 52-53
Пуанкаре А. 12
Пушкин А.С. 10, 22, 92, 103, 111, 118,
122, 127-129, 140, 144-145, 147-148,
153-154, 164-165, 187-188, 194-196,
207, 261-262
Пфеффель К. 242
Рассел Б. 72
Рембрандт 165-166
Ремизов А.М. 102, 168
Рикёр П. 87, 105
Рихтер М.Л. 141
Ричардс А. 83, 262
Розанов В.В. 76, 129
Розенберг Ш. 179
Розенцвейг Ф. 178
Розеншток-Хюсси О. 179
Саводник В.Ф. 129, 147-148, 153-154
Свифт Дж. 21
Секст Эмпирик 38-42, 50, 205-206
Селезнев Ю.Н. 112, 115, 180
Семенко И.М. 147, 151
Сидаш Т.Г. 82
Симонид 40, 73, 251
Симонов К.М. 119-120
Симпликий 232
Сократ 38, 42, 66, 109, 184, 189, 208211, 221, 235, 241-242
Соловьев В.С. 10, 115, 186-187, 189,
191, 259
Сорокин П.А. 11, 129
Софокл 42, 63, 70, 198, 220, 224-226,
229-230, 233-239, 245-249, 258
Суворин А.С. 129
Тарасов Б.Н. 120
Тахо-Годи А.А. 212
Твардовский А.Т. 119-120
Толмачев В.М. 191
Толстой Л.Н. 51, 85, 114, 175
Тронский И.М. 222
Тургенев И.С. 130, 137, 140
Тынянов Ю.Н. 12, 15-18, 20, 22, 261
Тютчев Ф.И. 6, 8, 26-27, 54, 56, 62-64, 69,
72-73, 75-76, 88-90, 100-102, 104, 112-113,
120-123, 129-130, 132-133, 139, 142-145,
148-149, 152-153, 154-166, 173, 175, 177178, 181, 191, 193, 196, 198-199, 202, 222223, 241-244, 248-256, 259-264, 271
Тютчева Эрн. Ф. 158
Уилрайт Ф.89
Уэлш Э. 140
Федоров В.В. 21, 75, 100-101, 174
Филострат Старший 158
Фихте И.Г. 30, 171
Флобер Г. 172, 174
Франк С.Л. 94-96, 99
Фромантен Э. 166
Фуко М. 214, 235
Хабермас Ю. 259
Хайдеггер М. 8, 10-11, 25, 28-29, 31-37,
44-46, 49-50, 57, 60-62, 65-68, 70, 73, 7577, 97, 121, 168, 170, 174, 183, 197-198,
205, 217, 229-232, 234, 237, 240-241, 254255, 257
Херрманн Фр.-В. 36
Хетсо Г. 146
Хлебников В. 135, 143
Чехов А.П. 137-139
Чистякова Н.А. 52-53
Чудаков А.П. 137
Чухонцев О.Г. 111, 133, 177, 182
Шайтанов И.О. 199
Шевырев С.П. 141
Шекспир У. 49, 123, 191
Шелер М. 25, 68-69
Шеллинг Ф.В.Й. 30-31,84, 90, 102, 123,
141-142, 170, 177, 215, 218
Шервинский С.В. 225-226, 229, 233
Шестов Л. 29
Шефтсбери 259
Шиллер Ф. 23
Шкловский В.Б. 14-16
Шлегель Ф. 86, 108-109, 123-124, 133135, 210
Шлейермахер Ф. 25, 171
Шопенгауэр А. 74, 175, 194-195, 215-218,
220, 228, 233, 239
Шпет Г.Г. 11
Эйнштейн А. 99
Эккерман И.П. 127, 130, 132
Эко У. 94
Элиот Т.С. 110, 256
Эль Греко 165
Эмпедокл 190, 204, 230, 252
Эпикур 21
Эрн В.Ф. 66, 221-222
Эсхил 220
Юм Д. 77, 87
Языков Н.М. 194
Якобсон Р.О. 11, 69, 73, 87
Якубанис Г. 190
Ярхо Б.И. 98
Ясперс К. 214
289
Наукове видання
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДОМАЩЕНКО
ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ТА ТЛУМАЧЕННЯ
Монографія
(російською мовою)
Технічний редактор Т.О.Алимова
________________________________________________________________
Підписано до друку 20.12.2006 р. Формат 60х90/16. Папір типографський.
Офсетний друк. Умовн. друк. арк. 17,25. Тираж 300 прим. Замовлення №_____
________________________________________________________________
Видавництво Донецького національного університету,
83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24
Надруковано: Центр інформаційних комп’ютерних технологій
Донецького національного університету
83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24
Свідоцтво про держреєстрацію:
серія ДК №1854 від 24.06.2004 р.
291