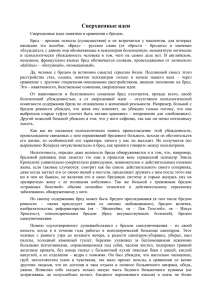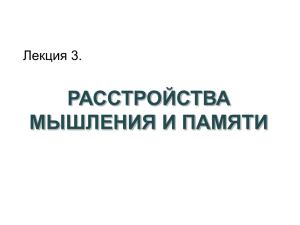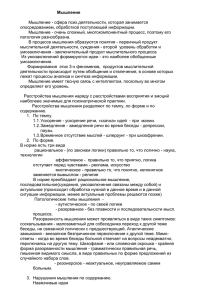Руднев В.П., Логика бреда
реклама

Вадим Петрович Руднев Логика бреда Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12051655 «В. П. Руднев. Логика бреда»: Когито-Центр; Москва; 2015 ISBN 978-5-89353-446-7 Аннотация Книга известного российского философа и психолога Вадима Руднева посвящена осмыслению вопросов, связанных с построением логики бредовых представлений с позиций философии обыденного языка и психосемиотики, междисциплинарного подхода, который автор книги давно разрабатывает в своих исследованиях. Автор вводит ряд новых концептов, таких, как бессознательная наррация, согласованный бред и подлинный бред. Бессознательная наррация – это повествование, которое разворачивается помимо сознания его автора. Согласованный бред – это та реальность, в которой мы живем. Подлинный бред – это не просто бред шизофреника, а некое особое и, как правило, креативное состояние человеческой психики. Книга написана живым, увлекательным языком. Она будет интересна и полезна не только психологам, философам и культурологам, но и всем читателям, для которых актуальны вопросы развития человеческого интеллекта. Вадим Руднев Логика бреда © Руднев В. П., 2015 © Когито-Центр, 2015 *** От автора. Бред и мы Жиль Делёз, как известно, считал, что философия – это изобретение концептов. В этой книге мне, кажется, удалось изобрести как минимум два интересных концепта: бессознательная наррация и согласованный бред . Я не буду рассказать, что это значит, потому что тот же Делёз (который последние годы оказывает на меня все большее влияние) писал, что философская книга должна быть похожа на детективный роман. Так что я не стану портить читателю удовольствие. Вообще говоря, чтобы лучше понять «Логику бреда», лучше бы вначале прочитать книгу «Новая модель реальности», так как многие идеи взяты из нее. Но поскольку совершенно непонятно, какая книга выйдет в свет раньше, а какая позже, на первых страницах «Логики бреда» я постараюсь объяснить основные положения своей нарративной онтологии. О чем эта книга? Она не о сумасшедших и не о бреде сумасшедших, она о нашей обыкновенной жизни, и не потому, что наша жизнь – это полное безумие, хотя она, конечно, и есть полное безумие, а потому, что бред – это настолько странное явление, что он в какомто смысле есть, а в каком-то смысле, может быть, его и нет. Но я уже начал рассказывать сюжет. Мой парижский друг Ефим Курганов читал ежедневно каждый фрагмент этой книги, и от него я получал много комплиментов и еще больше критики. И за то, и за другое я выражаю ему самую глубокую признательность. С Михаилом Бойко, моим учеником и другом, мы обсуждали те вещи, которые касаются мультиверсной интерпретации квантовой физики. Моя жена Татьяна Михайлова подсказала мне несколько интересных сюжетных ходов. Кирилл Горелов оказывал мне неоценимую моральную поддержку. Я желаю всем счастья. Предисловие. Откуда берется бред? Давайте для начала зададимся простым вопросом: откуда берется бред? Ответ будет таким: бред берется из жизни, из самой обыкновенной обыденной жизни. Шизофрения – специфическое психическое заболевание человека. Только homo sapiens болеет шизофренией. Потому что чтобы сойти с ума, нужно по меньшей мере им обладать. Что такое ум, мышление? Это способность отличать одно от другого и строить умозаключения. Люди это умеют. Почему же они сходят с ума? На самом деле сумасшедших не существует. Шизофреники – такие же люди, как мы. Но чем-то они все-таки отличаются от нас. Чем же? Можно было бы сказать так: они не тестируют реальность, они ее отрицают. Но что такое реальность? Я отвечу на этот вопрос в духе своей только что законченной книги «Новая модель реальности». Реальность – это система нарраций, зашифрованных посланий, смыслов, превращающихся друг в друга и проникающих друг в друга, а также отождествляющихся и разотождествляющихся друг с другом1. Шизофрения вполне отвечает такому определению реальности, ибо в ней происходят именно эти процессы. Выходит, Фрейд и другие психоаналитики, которые определяли шизофрению как отрицание реальности, ошибались? Нет, они не ошибались. Они просто не задумывались над тем, что такое реальность, или понимали ее наивно-позитивистски, в духе XIX века, как нечто существующее самостоятельно, помимо нашего сознания. Что же такое жизнь, откуда, как мы полагаем, берется бред? Жизнь – это нечто в высшей степени парадоксальное. С одной стороны, она ведет к смерти, энтропии, с другой – к бессмертию, информации. И самое удивительное, что эти противоположные процессы происходят в жизни одновременно. Мы живем и все время что-то созидаем, а что-то разрушаем. Как возникает бред, шизофренический бред, бред воздействия? Мы все так или иначе воздействуем друг на друга. В детстве на нас воздействуют родители, старшие братья, воспитатели и учителя, телепередачи, книги, подслушанные разговоры взрослых, знакомые мальчишки во дворе. Когда мы становимся взрослыми, то сами начинаем воздействовать на других людей: на своих детей, жен, коллег, друзей и знакомых. Но на нас по-прежнему продолжают оказывать воздействие книги, картины, музыка, газеты и другие массмедиа, в последнее время – интернет и политики, которые нас обманывают. Причем же здесь бред воздействия? У так называемых психически здоровых людей взаимное превращение и проникновение смыслов происходит хотя и по-разному, но более или менее однотипно. Но представим себе, что нечто или некто воздействует на нас совершенно особым образом. Когда Гамлет говорил с призраком своего отца, это был, возможно, бред воздействия. Гамлет очень не любил своего дядю и ревновал его к матери. У него был классический эдипов комплекс. Во всяком случае, так считал Фрейд, посвятивший Гамлету фрагмент своей книги «Толкование сновидений». Вот на этой датской почве принц и заболел. А призрак отца был его проекцией и больше ничего. Он просто сформировал у Гамлета сверхценную идею: отомстить, убить Клавдия, и с этой точки зрения вся система смыслов и ценностей у Гамлета переформировалась. Сам Гамлет не считал себя психически больным, он хотел добросовестно убедиться в преступлении Клавдия и поэтому притворился сумасшедшим. С моей точки зрения, близкой к позиции антипсихиатрии Рональда Лэйнга и Томаса Саса, быть сумасшедшим и притворяться им – это, в сущности, одно и то же. Безумие – это языковая игра со своими правилами. Первое состоит в том, что безумец не должен поступать разумно. Иначе его разоблачат и обвинят в симуляции. А что значит вести себя разумно? Это значит ходить на работу, читать газеты, любить жену и заботиться о детях. А что значит вести себя безумно? Бегать, рвать на себе волосы, выкрикивать нелепые слова, видеть галлюцинации? Не обязательно. А что обязательно? Перестать верить в формальные стереотипы жизни. 1 Руднев В. Новая модель реальности. М.: Дело, 2015. Безумец – это всегда другой, не такой, как все. Евангельский Иисус в молодости вел себя так, что даже родные считали его сумасшедшим. Был ли Иисус шизофреником или параноиком? Формально у него были сверхценные идеи, что Он – Мессия, Сын Божий, проповедующий Царствие Небесное. Но это была только поверхность. Он очень ясно дал понять Пилату, что Царствие Его не от мира сего. Что пытался сделать Иисус? Он пытался приобщить людей к высшей сознательности (которую Он и называл Царствием Небесным) при помощи метанойи, то есть изменения разума. Его миссия была прервана. Но одно он успел сделать: он дал нам психологию. Суть ее заключалась в том, что внутреннее важнее, чем внешнее 2. Бред появляется тогда, когда нечто внутреннее начинает восприниматься как внешнее, когда человек экстраецирует внутренний голос, который он воспринимает за реальность. Яркий пример бреда воздействия описан раннехристианским философом Боэцием в трактате «Утешение философией». Он сидел в тюрьме и ждал смертной казни. Тогда ему явилась прекрасная женщина Философия и утешила его. Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою и записывал стилем на табличке горькую жалобу, мне показалось, что над моей головой явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой; хотя была она во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку. Трудно было определить и ее рост, ибо казалось, что в одно и то же время она и не превышала обычной человеческой меры, и теменем касалась неба, а если бы она подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее людей 3. С точки зрения новой модели реальности внутреннее все время переходит во внешнее и наоборот, как на ленте Мебиуса. Как можно изучать бред с точки зрения новой модели реальности? В ответе на этот вопрос цель моей книги. Глава первая. Бред воздействия Представим себе разговор двух людей. Каждый из них считает втайне другого сумасшедшим. Поэтому они боятся друг друга, крайне напряжены и стараются в разговоре быть как можно более любезными. Примерно так относятся друг к другу почти все нормальные взрослые люди. Даже говоря «правду» (люди, склонные полагать, что они знают, что такое правда, глубоко заблуждаются), они лгут другу другу. Каждый видит в другом если не врага, то по меньшей мере противника. Вот этот «разговор» «нормальных» людей на самом деле и есть настоящая шизофрения. Лечить надо здоровых от их здоровья. Как же люди могут воздействовать друг на друга? Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать более фундаментальным – психическое здоровье в традиционном смысле или (тоже в традиционном смысле) психическую болезнь. Я исхожу из того, что «психическая болезнь» более фундаментальна. Потому я часто ссылаюсь на поразившие меня раз и навсегда слова Лакана, что «норма – это лишь хорошо компенсированный психоз»4. Человеку с самого начала его развития приходится испытывать воздействие на себе со стороны значимых объектов и самого себя считать способным на всемогущее воздействие (на самом деле галлюцинаторное). Младенец склонен думать, что все находится под его всемогущим контролем. Впервые об этом ясно написал один из самых ярких учеников Фрейда Шандор Ференци в статье «Ступени развития чувства реальности»5. Лишь 2 Подробно см.: Руднев В. Иисус Христос и философия обыденного языка. М.: Аграф, 2013. 3 Боэций . «Утешение философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. С. 190. 4 Лакан Ж. Семинары. Кн. 5. Образования бессознательного. М.: Гнозис/ Логос. 2002. С. 451. 5 Ференци Ш. Теория и практика психоанализа. М.: Университетская книга, 2000. постепенно ребенок начинает понимать, что не все в его власти, и мириться с этим. Принцип удовольствия сменяется принципом реальности. Но именно из раннего детства и младенчества человек черпает навыки того, как можно воздействовать на другого человека. В том числе и память о том, что воздействие может быть даже смертельным. Это очень хорошо понимал Франц Кафка. В его рассказе «Приговор» старый немощный отец, сидящий в инвалидной коляске, кричит сыну: «Я приговариваю тебя к казни водой», и сын тут же бежит топиться. (Я прошу прощения у своих постоянных читателей за то, что часто из книги в книгу привожу одни и те же примеры. Отчасти я делаю это сознательно: повторение – мать учения.) Но воздействие не обязательно должно быть грубо авторитарным, прямолинейным, сугубо императивным. «Вон отсюда, ублюдок!» «Встать! Партбилет на стол!» «Коммунисты, вперед!» – это, так сказать, тоталитарное (и в основе своей психотическое) воздействие. Только что я прочитал дневник девушки, у которой был бред воздействия. Ей казалась, что она находится во власти Системы, которая отдавала ей жесткие приказы, например, запрещала ей принимать пищу6. Воздействие может быть более утонченным, косвенным. Косвенные речевые акты были подробно описаны ярким представителем теории речевых актов Джоном Серлем7: «Было бы неплохо, если бы вы отдали нам деньги прямо сейчас». «Лучше всего было бы, если бы вы сейчас вышли из комнаты» и т. п. Косвенное воздействие логично назвать либеральным воздействием. Либеральное воздействие может быть чрезвычайно эффективным и при этом являться в скрытой форме тоталитарным. Существует пословица: «Если кошке внушать, что она собака, то она в конце концов залает». Когда я пишу эти строки, мне становится горько и тоскливо, потому что вся эта ложь, воздействие, скрытый тоталитаризм, вражда, жажда наживы – все это бессмысленно. Мы все на самом деле живем в рамках новой модели реальности, где нет нормальных и сумасшедших, где вместо воздействия – взаимодействие. Как объяснить людям, что они живут не в ложной реальности, а в волшебном мире добра и справедливости? Даже Христу не удалось это, а куда уж мне! Поэтому я действую по-хитрому. Изучаю бред воздействия, чтобы подспудно, так сказать, от обратного, приучить людей к новой модели реальности. Предположим, жена говорит мужу: «У нас кончилась картошка, пойди купи картошки. Хоть что-нибудь сделай для семьи!» Муж послушно идет и покупает картошку. Это лучше, чем если она его будет пилить до вечера. Муж презирает жену за ее мелочность, придирчивость и истерические скандалы. Он не понимает, что тот ад, который царит в их доме, сотворил он сам. Что он невнимателен к жене, утыкается все время в газету, пьет с друзьями пиво, а с ней почти не разговаривает. Таких семей очень много. Но ведь кому-то действительно нужно покупать картошку и другие пищевые продуты. Самый лучший, самый эффективный способ воздействия на близкого человека – это давать ему что-то, а не требовать постоянно от него. Есть два вида боевых искусств – западные и восточные. Западные примитивны: бить, бить, пока противник не упадет и больше не встанет. В восточной боевой практике тайцзи цюань важно, напротив, не нанести удар, а спровоцировать противника нанести неверный удар. Однажды я участвовал в презентации своей книги «Новая модель бессознательного» на ежегодной ярмарке «Non fiction». Я сидел и «торговал» своими книгами. Подошла бедно, но чисто одетая старушка, купила книгу и попросила сделать дарственную надпись. Я спросил ее, где она работает. Она ответила, что читает лекции во втором медицинском институте. Я спросил: «По философии?». Она кротко улыбнулась и ответила: «Нет, по эндокринологии». 6 Сэшэй М. Дневник шизофренички. М.: Когито-Центр 2013. 7 Серль Дж. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике, вы. 17. Теория речевых актов. М., 1987. Я никогда не забуду эту старушку. Это было одно из самых позитивных воздействий в моей жизни. В минуту разочарований я вспоминаю ее, и мне становится веселей на душе. Что же такое бред? В клинической традиции на этот вопрос отвечают так. Бред – это система ложных воззрений и высказываний патологического сознания, искаженно отражающих окружающую действительность. Наивность этого определения бросается в глаза. Что значит ложных воззрений, какой еще «окружающей действительности»? Как можно определить бред с точки зрения принципов новой модели реальности? Что это за принципы? Прежде всего реальность – это наррация, система посланий, зашифрованных смыслов, взаимно переходящих, проникающих друг в друга и отождествляющихся друг с другом на ленте Мебиуса, где внутреннее переходит во внешнее, а внешнее – во внутреннее. С этих позиций классическое понятие бреда теряет смысл. Бред – это и есть послание, полное зашифрованных загадочных смыслов, наррация, где внутреннее переходит во внешнее. Так, значит, новая модель реальности изображает бредовую реальность? Нет, это наша традиционная реальность, в которой мы, как нам кажется, живем, является бредовой. Но не слишком ли это радикальное высказывание? Молодой человек говорит девушке: «Давайте пойдем с вами завтра на концерт, я уже взял билеты». «Конечно!» – радуется девушка. Где здесь бред? Нормальные интеллигентные люди. Будут слушать музыку. Прекрасно! Но почему-то сразу вспоминаются строки из Есенина: Как прыщавой курсистке длинноволосый урод Говорит о мирах, половой истекая истомою. Это из позднего стихотворения Есенина «Черный человек», где изображен классический бред воздействия. Приведем его полностью. Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит Над пустым и безлюдным полем, То ль, как рощу в сентябрь, Осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, Как крыльями птица. Ей на шее ноги Маячить больше невмочь. Черный человек, Черный, черный, Черный человек На кровать ко мне садится, Черный человек Спать не дает мне всю ночь. Черный человек Водит пальцем по мерзкой книге И, гнусавя надо мной, Как над усопшим монах, Читает мне жизнь Какого-то прохвоста и забулдыги, Нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек Черный, черный… «Слушай, слушай, — Бормочет он мне, — В книге много прекраснейших Мыслей и планов. Этот человек Проживал в стране Самых отвратительных Громил и шарлатанов. В декабре в той стране Снег до дьявола чист, И метели заводят Веселые прялки. Был человек тот авантюрист, Но самой высокой И лучшей марки. Был он изящен, К тому ж поэт, Хоть с небольшой, Но ухватистой силою, И какую-то женщину, Сорока с лишним лет, Называл скверной девочкой И своею милою». «Счастье, – говорил он, — Есть ловкость ума и рук. Все неловкие души За несчастных всегда известны. Это ничего, Что много мук Приносят изломанные И лживые жесты. В грозы, в бури, В житейскую стынь, При тяжелых утратах И когда тебе грустно, Казаться улыбчивым и простым — Самое высшее в мире искусство». «Черный человек! Ты не смеешь этого! Ты ведь не на службе Живешь водолазовой. Что мне до жизни Скандального поэта. Пожалуйста, другим Читай и рассказывай». Черный человек Глядит на меня в упор. И глаза покрываются Голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, Что я жулик и вор, Так бесстыдно и нагло Обокравший кого-то. …………………………… Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит Над пустым и безлюдным полем, То ль, как рощу в сентябрь, Осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная… Тих покой перекрестка. Я один у окошка, Ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта Сыпучей и мягкой известкой, И деревья, как всадники, Съехались в нашем саду. Где-то плачет Ночная зловещая птица. Деревянные всадники Сеют копытливый стук. Вот опять этот черный На кресло мое садится, Приподняв свой цилиндр И откинув небрежно сюртук. «Слушай, слушай! — Хрипит он, смотря мне в лицо, Сам все ближе И ближе клонится. — Я не видел, чтоб кто-нибудь Из подлецов Так ненужно и глупо Страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся! Ведь нынче луна. Что же нужно еще Напоенному дремой лирику? Может, с толстыми ляжками Тайно придет „она“, И ты будешь читать Свою дохлую томную лирику? Ах, люблю я поэтов! Забавный народ. В них всегда нахожу я Историю, сердцу знакомую, Как прыщавой курсистке Длинноволосый урод Говорит о мирах, Половой истекая истомою. Не знаю, не помню, В одном селе, Может, в Калуге, А может, в Рязани, Жил мальчик В простой крестьянской семье, Желтоволосый, С голубыми глазами… И вот стал он взрослым, К тому ж поэт, Хоть с небольшой, Но ухватистой силою, И какую-то женщину, Сорока с лишним лет, Называл скверной девочкой И своею милою». «Черный человек! Ты прескверный гость! Это слава давно Про тебя разносится”. Я взбешен, разъярен, И летит моя трость Прямо к морде его, В переносицу… …………………… …Месяц умер, Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один… И разбитое зеркало… Что поражает в этом замечательном стихотворении? Его честность и беспощадность. Черный человек – это сам герой, его двойник, «странный объект», психотическая часть его личности. А зеркало – символ его психической смерти. Самая важная, фундаментальная черта бреда – это его честность, находящаяся по ту сторону истины и лжи. В рамках новой модели реальности не герой разговаривает с зеркалом, а зеркало разговаривает с ним, разбитое же зеркало (разбитое сердце?) символизирует не психическую смерть, а фрагментированную ложную целостность личности, как об этом писал Лакан в знаменитой статье «Стадия зеркала». Что значит «честность по ту сторону истины и лжи»? Быть честным – не означает быть правдивым. Можно честно врать. И можно лицемерно говорить правду. Бред больше похож на честную ложь, наши обычные житейские высказывания – на лицемерную правду. Хорошо. Когда мы приводили пример с молодыми людьми, которые собирались пойти на концерт, и интерпретировали это строками из Есенина, мы хотели сказать, что концерт был только поводом, сублимацией их сексуального желания. Но разве не могут люди пойти на концерт или в театр искренне, из любви к музыке и театральному искусству? Конечно, могут! Однако люди не могут все время ходить на концерты. Они должны себе зарабатывать на жизнь. И вот тут начинается настоящий бред. Они отсиживают в офисах, как отсиживали и при Советской власти, не вылезают из Интернета, этой современной квинтэссенции бреда воздействия, смотрят на часы, ожидая, когда же наконец закончится рабочий день. Но есть другие люди, молодое поколение, которые, наоборот, все время страстно хотят учиться, учиться и учиться. Из десяти моих аспирантов защитил диссертацию всего один. Остальные либо просто сошли с дистанции, либо поступили в другие аспирантуры и магистратуры. «Раньше все было просто: были мы и были они», – сказала в начале перестройки моя жена. Мы ходили на концерты, читали «Школу для дураков» и стихи Бродского. Они вступали в партию, ездили по заграницам и покупали шмотки. Сейчас все действительно перепуталось. Что же такое бред? Бред – это наша обыденная жизнь. Мы сейчас живем в атмосфере тотального интеллектуального кризиса. И когда мы из него выберемся, неизвестно. Героями нашего времени вновь становятся Передонов и Варвара. Что же делать? Прорываться в новую реальность. Исповедовать метанойю. Думать, думать! Но я не буду думать за тебя, читатель. Я буду лишь помогать тебе думать самостоятельно. Давай думать вместе, как вырваться из тисков бреда воздействия. Но для этого надо сначала хорошо изучить его. Что ж, за дело! С клинической точки зрения бред воздействия представляет собой такое положение вещей, когда, как правило, в голове больного заводится, как ему кажется, какое-то существо или какая-то сила, которая руководит его действиями, приказывает и запрещает. Человек становится послушным автоматом в руках этой силы. Что здесь бросается в глаза? Прежде всего модальный характер бреда воздействия. Он представляет собой ярко выраженную деонтическую модальность. Нечто должно делать, нечто запрещено делать, но ничто не разрешено. Страдающий бредом воздействия становится как будто одержим дьявольской силой. Он лишается воли, все за него решает другой. Самое удивительное и самое страшное, что эта дьявольская сила является лишь обратной черной стороной самого бредящего, как в процитированном стихотворении Есенина. Как же человек мог попасть в капкан собственной психики? Учение о новой модели реальности может интерпретировать этот парадокс так. Каждый человек в принципе диссоциирован. В нем находится много субличностей, и одна переходит в другую. В какойто момент одна из них становится доминирующей и подчиняет себе волю всех остальных. В рамках новой модели реальности не может быть никакого бреда воздействия, поскольку там все переходит во все и все отождествляется со всем. Но как же это объяснить страдальцу, у которого в голове зловещая сила приказывает, что ему делать и чего не делать? Как можно переселить человека в новую реальность? Это очень трудно, но возможно. Для этого надо обесценить голос зловещей силы, звучащий в голове человека. Как это сделать? Надо попытаться противопоставить ей противоположную добрую силу, которая в состоянии победить злую силу. Но это лишь первый шаг – показать человеку, что его внутренний мир является ареной борьбы добра и зла. Если злая воля приказывает и запрещает, то добрая воля разрешает. Второй шаг заключается в том, чтобы показать, что зло является лишь обратной стороной добра. Надо, чтобы человек обрел смелость встретиться с самим собой и обрел целостность как дизъюнктивный синтез всех наличествующих в нем начал. Как всего этого добиться? В битве враждующих внутри человека архетипов должна победить Самость. Для западного человека воплощением Самости является Иисус Христос. Ситуация Христа противоположна бреду воздействия. Он так доверял Своему Отцу, что принял смерть, уверенный, что воскреснет через три дня. Эзотерическая трактовка Страстей Христовых заключается в том, что человек должен умереть как ветхий человек и родиться как новый. Но причем же здесь бред воздействия? Чтобы победить его, человек должен встать на позицию Христа, у которого тоже был эпизод, сходный с бредом воздействия, когда дьявол искушал его в пустыне. В сущности, как и всякое психическое заболевание, бред воздействия – это проверка на прочность или даже инициация. Для того, кто прошел эту инициацию, уже ничего не страшно, отныне дьявол бессилен будет что-то ему приказывать или запрещать. Нормальным эквивалентом бреда воздействия является влюбленность, когда любимый как будто вселяется в душу влюбленного и начинает терзать ее. Кажется, что лучше умереть, чем терпеть такое мучение. Дона Анна Ну? что? Чего вы требуете? Дон Гуан Смерти. О пусть умру сейчас у ваших ног, Пусть бедный прах мой здесь же похоронят, Не подле праха, милого для вас, Не тут – не близко – дале где-нибудь, Там – у дверей – у самого порога, Чтоб камня моего могли коснуться Вы легкою ногой или одеждой, Когда сюда, на этот гордый гроб, Пойдете кудри наклонять и плакать. Дон Гуану действительно пришлось умереть от руки статуи Командора, которого он сам вызвал к жизни своей дерзкой отвагой. Однажды у меня была пациентка, в которую влюбился ученый старше ее. У нее также был друг, который отнесся ко всему этому очень мягко. Пациентка восхищалась его благородством, а я качал головой. «Хорошо! – взорвалась она, – а вы бы что сделали на его месте?» – «Я бы на его месте вызвал бы вашего нового друга на дуэль». Это была шоковая терапия. Больше я свою пациентку не видел. Я решил, что она сама разберется в ситуации. Как же все сказанное можно обобщить с позиций новой модели реальности? Человек, пребывающий в этой новой реальности, должен отказаться от всех оппозиций, сопровождавших его прошлую обыденную жизнь. Он теперь не нормальный и не сумасшедший, не здоровый и не больной, не хороший и не плохой, не живой и не мертвый. Он вообще должен отказаться от своей личности. Он становится частью какого-то огромного целого, которое парадоксальным образом является частью его самого. Теперь попробуем подойти к проблеме от обратного. Возможна ли такая ситуация, когда на человека что-то не воздействует? Кажется, что, конечно, да, возможна. Вот я сижу дома и пишу книгу «Логика бреда». А в это время моя жена читает лекции в университете. Она воздействует на своих студентов. А на меня никоим образом. Но это не так. Она воздействует на меня своим отсутствием. Я скучаю по ней, думаю, когда она наконец придет, и т. д. Хорошо, допустим, где-то в Африке, в джунглях, негр сидит в хижине. Уж онто точно не воздействует на меня. И Барак Обама не воздействует на меня. И Анджела Меркель не воздействует на меня. И даже Николь Кидман на меня не воздействует, если я не смотрю фильм с ее участием. Но стоит мне мысленно представить себе негра в хижине, Барака Обаму и Николь Кидман, они начинают воздействовать на меня. Но как же на меня могут воздействовать люди, которых я никогда в жизни не видел, разве что по телевизору? Они воздействуют на меня самим фактом своего существования. А неодушевленные предметы? Разве ручка, которой я пишу, воздействует на меня? На первый взгляд, кажется, что точно не воздействует. Но стоит в ней кончиться чернилам, я не смогу ею писать. Выходит, я испытываю косвенное воздействие со стороны своей ручки, я зависим от нее. Пока я жив, я испытываю воздействие от всего на свете, и все на свете испытывает воздействие с моей стороны. Здесь мы приближаемся к законам новой модели реальности, где все взаимодействует со всем. Как все может взаимодействовать со всем? Постараюсь объяснить, как я сам это понимаю. В рамках новой модели реальности нет вещей, событий, слов и предложений. Вещь-событие-слово-предложение это одно и то же, переходящее, превращающееся, проникающее в другие вещи-события-слова-предложения. В рамках новой модели реальности, если у меня бред воздействия, значит, у всей реальности бред воздействия, или, скорее, вся реальность представляет собой один сплошной бред воздействия. Можно возразить, что эта картина не реалистична. А что реалистично? Мобильный телефон? Интернет? Телевизор? Компьютерная графика? Мы собираем реальность, как пазл, но только этот пазл не статичный, он подвижный. Если мы рассмотрим моментальный срез традиционной реальности, то мы мысленно увидим, что в ней одновременно происходит множество событий: кто-то спит, кто-то катается на велосипеде, ест, занимается любовью, читает книжку, пьет пиво, рождается, умирает. Вдумаемся: разве это не фантастическая картина! А теперь представьте, что все перечисленные и не перечисленные события – это вы сами. Каждый из нас одновременно спит, катается на велосипеде, ест, занимается любовью, читает книжку, пьет пиво, рождается и умирает. Это и есть новая модель реальности. Но давайте на минуту спустимся на грешную землю, в обычную реальность, где, положим, молодой человек говорит девушке: «Я тебя люблю, выходи за меня замуж», а она отвечает, что не может этого сделать, потому что любит другого. Как эта ситуация выглядит с точки зрения новой модели реальности? Девушка воздействует на молодого человека, на девушку воздействует какой-то другой человек, которого она любит и который, возможно, любит ее. Но они все – одно зашифрованное послание, один треугольник с множеством углов, где все девушки любят всех молодых людей и взаимно превращаются друг в друга. Я вижу, вы не понимаете меня. Тогда вспомните первые кадры фильма «Малхолланд драйв», где танцуют его будущие персонажи, переходя один в другого. Вспомните странную онтологию этого фильма, в которой непонятно, где заканчивается одна девушка и начинается другая. Этот фильм очень важен для нас. Он сделан в духе новой модели реальности, и мы еще вернемся к нему. К чему мы сейчас приходим? Я думаю, к тому, что бред воздействия есть какая-то ошибка, результат неправильного взаимодействия одной части психики с другими. Но человек – не автомобиль и даже не компьютер. Его нельзя разобрать, исправить неполадки и собрать снова. Как восстановить правильное взаимодействие частей психики человека? Психиатр ответит так: «Существуют нейролептики нового поколения, которые решат эту проблему за несколько дней». А как эта проблема решалась, когда не было нейролептиков, во времена Гельдерлина, Сведенборга или Сократа, у которого был своеобразный бред воздействия, который он назвал даймонионом? Один пациент спросил свою жену: «Что ты сделаешь, если я приду к тебе и скажу, что я убил человека?» Она ответила: «Я обниму тебя и крепко прижму к себе, и тогда тебе станет легче». Истинно, истинно говорю: эта женщина живет в рамках новой модели реальности. Можно ли сказать, что бред – это такое положение вещей, при котором человек погружается в себя и его мышление искажает объективную реальность? Но в который раз спросим себя: что такое объективная реальность? и в который раз ответим: она лишь иллюзия. Реальность принципиально скоординирована с моим сознанием, и, стало быть, каков бред, такова и реальность. Бред – это языковая игра со своими правилами. Если это бред отношения, то основным правилом является то, что все имеет ко мне отношение, все обращают на меня внимание, всё, что пишут в газетах, показывают по телевизору и выкладывают в Интернете, относится ко мне. Если это бред преследования, то основным правилом является то, что меня кто-то преследует, как у Пушкина Медный Всадник преследует Евгения. Если это бред воздействия, то основное правило заключается в том, что какая-то сила внутри меня руководит моими мыслями и поступками. Если это бред величия, то основное правило заключается в том, что я – Наполеон или Христос, или испанский король, или Дева Мария. Или же все, вместе взятые. Что общего между всеми перечисленными видами бреда, составляющими развернутый бредово-галлюцинаторный комплекс при параноидной шизофрении? Пожалуй, общим является то, что бредящий чрезвычайно активно взаимодействует с реальностью, а вовсе не отдаляется от нее. Отто Ранк, автор книги «Травма рождения», в другой своей книге писал, что безумец пребывает в истине, в то время как «нормальный человек» – в иллюзии своей нормальности. Я совершенно согласен с этим положением. Вот я сам сейчас пребываю в опасной иллюзии, что я – философ, писатель, автор большого числа книг, и больше знать ничего не желаю. Почему это иллюзия, и чем она опасна? Если я философ и писатель, то, значит, я нормальный человек, т. е., по Ранку, пребываю в иллюзии своей нормальности. Как мне пробиться к психотической истине и утвердиться в ней? Что на этот счет говорит новая модель реальности? Она говорит, что Я – настолько пустая и ненужная вещь, что о ней вообще не стоит и думать. Нет никакого Я, есть только взаимные превращения и отождествления. Но ведь это я придумал новую модель реальности. Как же она может диктовать мне свои условия? Но так ставить вопрос – значит вновь заниматься раздуванием, инфляцией своего Я. Не я придумал новую модель реальности, а она придумала меня, впустила меня в себя на какое-то время. В рамках новой модели реальности все действительно имеет отношение ко всему, и, стало быть, бред отношения – фикция. Все на самом деле преследуют всех, но не в том смысле, в каком убийца преследует жертву, а скорее в том, в каком говорят о преследовании какой-то цели. Какую цель преследую я? Ведь цель состоит не в том, чтобы написать очередную книгу, а в том, чтобы в очередной раз предпринять попытку разобраться в себе. Но ведь есть больные, у которых на самом деле есть преследования, которые уверены, что их преследуют масоны, ЦРУ или ФСБ. Если человек думает, что его преследуют масоны, то в его модели реальности, в его возможном мире так оно и есть. Он страдает и мучается из-за этого, его жизнь превращается в кошмар. Если же человека на самом деле преследуют, то жизнь его на самом деле превращается в кошмар. И, самое главное, невозможно определить, на самом ли деле его преследуют или у него персекуторный бред. «А судьи кто?» Точно так же дело обстоит с бредом воздействия. Кто мне докажет, что я на самом деле не одержим какой-то дьявольской силой? Что это такое «на самом деле»? Да, черный человек Есенина – это был он сам, его психотическая часть, но он сам пришел к этому. Так что же, надо оставить все как есть? Не лечить бредящих? Пусть себя бредят на здоровье! В определенном смысле так оно и есть. Но это же бесчеловечно! А не бесчеловечно ли было в брежневские времена преследовать инакомыслящих, сажать их в сумасшедшие дома и закалывать аминазином и галоперидолом, пока они от этого действительно не сходили с ума? У каждого человека есть свой жизненный проект, и он будет осуществлять его. Здесь не поможешь никаким таблетками. Теперь о бреде величия. Ведь что такое бред величия? Чаще всего он возникает на терминальной стадии шизофрении. Человеку представляется, что он мессия. Ну что же, значит, он в своем жизненном проекте, в своем возможном мире действительно мессия. Христа, который заявлял, что Он – Сын Божий, тоже поначалу считали сумасшедшим. Но ведь у Ницше в конце жизни был бред величия. Он отождествлял себя то с Христом, то с Дионисом. Что ж, Ницше сам писал: «Падающего толкни!» То есть любому процессу не стоит препятствовать, а надо содействовать его завершению. А как на это отреагирует новая модель реальности? И Ницше, и Христос, Дионис, и все другие боги и смертные суть проявления одного начала, творческого по своей природе. Все человеческие (а в новой модели реальности – и не только человеческие) отношения регулируются механизмом проективной идентификации, открытым Мелани Кляйн и в дальнейшем подробно разработанным ее последователем Уилфредом Бионом. Суть этого механизма как универсального механизма защиты состоит в том, что человек не просто идентифицирует себя с другим человеком, но и пытается заставить его вести себя так, как сам хочет. Например, пациент в психоанализе отождествляет аналитика со своим отцом и начинает его ненавидеть, навязывает ему свою трансферентную ненависть и заставляет его вести себя так, как будто он и есть его отец. В свою очередь аналитик в своем контрпереносе может ответить пациенту взаимной ненавистью. Но на месте ненависти в проективной идентификации может быть и любовь, и взаимопонимание, и любое другое чувство. Проективная идентификация имеет непосредственное отношение к бреду воздействия. Когда сознание человека раздваивается и его психотическая часть в виде некой силы воздействует на него, понуждая к одним поступкам и запрещая другие, это и есть механизм проективной идентификации. Как может себя повести в ответ человек, страдающий бредом величия? Он может подчиниться и может бороться. Как здесь можно бороться, мы уже писали: для этого нужно обесценить воздействующую силу. Для этого психотик прибегает к следующему маневру, подробно описанному Бионом: он выталкивает свою психотическую часть наружу и вселяет в какую-нибудь вещь – черные очки, тапочки, халат, во все, что угодно. В результате образуется то, что Бион назвал «странными объектами». Но это сугубо психотическое решение проблемы. Оно облегчает психотику жизнь в том смысле, что бороться с внешним противником гораздо легче, чем с внутренним. Но в этом случае могут появиться другие странные объекты, и все начнется снова. Есть ли более эффективные способы борьбы с бредом воздействия? Такие способы возможны лишь в рамках какого-то конкретного психотерапевтического метода, например, гешальт-терапии или психодрамы. Пациенту предлагается вывести наружу свою психотическую часть, посадив ее на «горячий стул». Затем он должен также экстраецировать свою творческую часть и посадить ее на другой стул. Между этими тремя объектами заводятся прения в присутствии психотерапевта, и все стороны могут высказываться совершенно откровенно. Я присутствовал на подобных сеансах и могу сказать, что они весьма эффективны. Как выглядит эта ситуация в рамках новой модели реальности? Проективная идентификация играет там гораздо большую роль, чем в традиционно понимаемых человеческих отношениях. Но при этом важно, что новая модель реальности не признает «странных объектов», так как в ее рамках нет ни бреда, ни безумия. Одно переходит в другое. Происходит бесконечный диалог между ее элементами. В этом диалоге имеет место не воздействие, в взаимодействие. Проективная идентификация играет роль мощного стимула к осуществлению этого диалога, так как она носит принципиально взаимный характер. Если вернуться к обыденной реальности, то следует, очевидно, поинтересоваться, какую роль играет проективная идентификация в других видах бреда. Возьмем бред отношения. Допустим, мне кажется, что за мной все пристально наблюдают – на улице, в кафе, на работе, везде. Все пытаются осуществить по отношению ко мне проективные идентификации. Тогда у меня возникает естественный в данных обстоятельствах вопрос: почему ко мне проявляется такое повышенное внимание? Ответов может быть только два. Первый заключается в том, что, наверное, меня хотят уличить в каком-то преступлении или неблаговидном поступке. Так бред отношения перерастает в бред преследования. Второй ответ таков: если все на меня обращают внимание, значит, я такая значительная личность. Так бред отношения перерастает в бред величия. Какую роль здесь играет проективная идентификация? При бреде преследования преследующий хочет поймать меня и признать виновным. При бреде величия дело обстоит более сложно. Здесь самое важное заключается в том, что собственное Я больного исчезает и на его месте появляются Наполеон, Иисус Христос и т. д. Мегаломан сам становится гиперстранным объектом, так как патологическая проективная идентификация поглощает его собственное Я, растворяет его в экстраективной идентификации с великим человеком. Чем проективная идентификация отличается от экстраективной? Тем, что для проективной идентификации нужно два субъекта, а при экстраективной они сливаются в один квазисубъект (гиперстранный объект) или в целый кластер квазисубъектов, поскольку при бреде величия больной может отождествлять себя с кем и с чем угодно. Парадоксальным образом бред величия очень близок к тому, как складываются отношения между элементами в рамках новой модели реальности, так как там все отождествляется со всем. Мы должны еще раз повторить, что все анализируемые виды бреда имеют свои эквиваленты в обыденной «здоровой» жизни, где на нас обращают внимание, преследуют нас, воздействуют на нас и где мы сами считаем себя выдающимися людьми. Почему такие слова, как «здоровый» или «нормальный», я ставлю в кавычки? Потому что психическая норма – эта такая же иллюзия, как внешняя реальность. Как за обыденной моделью реальности стоит новая модель реальности, так за психической нормой скрывается, по словам Лакана, «хорошо компенсированный психоз». Здесь мне представляется необходимым сделать следующую оговорку. Если мы признаем, что «окружающая действительность», или «внешний мир», – это иллюзия, то и воспринимающее ее сознание – тоже иллюзия, фикция. Никакого сознания не существует. Нам только кажется, что мы что-то сознаем. Например, мне кажется, что я сейчас пишу книгу «Логика бреда», и я нахожусь сам под воздействием этой иллюзии. Или мне кажется, что я осознаю, что у меня есть жена и я ее люблю. Если принять гипотезу Гурджиева, что все мы – спящие машины, то как может машина что-то осознавать! Никак не может. Откуда же тогда берется иллюзия, что у нас есть сознание, при помощи которого мы воспринимаем внешний мир? На этот вопрос будет ответить нелегко. Если с самого начала нашей жизни до самой смерти мы только и делаем, что спим, то нам нужно какое-то иллюзорное оправдание этому. В качестве этого оправдания и возникает иллюзия, что мы что-то делаем – учимся, работаем, пишем книги, любим. Но тогда зачем же я пишу эту книгу, если я знаю, что мне это только кажется? И не скрывается ли в этом парадокс? Если я уверен, что мне все кажется, то не является ли и эта моя уверенность также иллюзией? Может ли человек знать наверняка хоть что-нибудь? Например, можно сказать: я знаю наверняка, что меня зовут Вадим Руднев. Может быть, мне это тоже только кажется. Какие у меня доказательства, что меня зовут Вадим Руднев? Я беру свой паспорт, в который приклеена моя фотография и написано «Вадим Руднев». Но ведь паспорт – это элемент внешней реальности, которая иллюзорна. И любое другое доказательство будет взято из внешней реальности и, стало быть, также будет иллюзорным. Что же делать? Если я ни в чем не уверен, если мне все только кажется, то зачем вообще вся эта жизнь? Я не знаю. Могу ли я быть уверенным в этом «Я не знаю»? Я и этого не знаю. Временами у меня возникает ощущение, что внешний мир вот-вот пропадет и мне скажут: «Добро пожаловать в пустыню Реального», как в «Матрице» Морфеус сказал Нео. Значит, я просто сумасшедший? Но любой настоящий философ – сумасшедший. Для философа, как и для безумца, мир предстает в виде агломерата странных объектов. Они все воздействуют на него. Телевизор, айфон, Интернет. Когда они выключены, они напоминают «Черный квадрат» Малевича, несомненно, самую странную картину на свете. Одна из важнейших черт бреда воздействия заключается в том, что все неодушевленные предметы кажутся бредящему живыми, а сам бредящий становится неживым автоматом, лишенным воли. Так в мире безумия живое и неживое меняются местами… Но к чему эти разговоры об особенностях бреда воздействия, если ничего не существует, все только кажется! И самое неприятное, что кажущийся тоже лишь кажется самому себе. Кто-то назвал мою философию лингвасолипсизмом. Это неверно. Солипсист по крайней мере убежден в существовании себя самого. Но я не верю в существование себя самого. Более того, я не верю в существование ничто. Ничто тоже не существует. Ну а как же новая модель реальности? Она находится по ту сторону существования и несуществования. Ее элементы «упорствуют», по выражению Делёза. Они упорствуют в своей нелокальности. Нелокальность – свойство квантового мира. Квантовый мир придумали физики. Но я не придумывал новую модель реальности. Это она меня придумала. Я думаю (мне кажется), что новая модель реальности – это нечто вроде Розы Мира Даниила Андреева, у которого с клинической точки зрения (будь она неладна!), несомненно, был бред воздействия. Он сидел в камере, и по ночам ему показывали Шаданакар, Энроф и другие не менее интересные вещи. Он был не автором «Розы мира», а лишь передатчиком некой мистической информации. Новая модель реальности – калейдоскоп взаимных превращений. Она не дает застаиваться на одном месте. В этом смысле она уникальна. С точки зрения традиционной онтологии новая модель реальности – утопия, так же как и «Роза Мира». Но кто такая традиционная онтология, чтобы утверждать подобные вещи! Она вся построена на иллюзии и самообмане. Если люди когда-нибудь проснутся от гурджиевского сна, они несомненно окажутся в новой реальности. Пока же они не проснулись, они пребывают в состоянии бреда воздействия. Я не настолько глуп, чтобы считать, что могу своими книгами способствовать всеобщему пробуждению. Но сам я на какие-то доли секунды просыпаюсь, и тогда новая модель реальности предстает в бесконечных просторах любви и счастья. Глава вторая. Бессознательная наррация Теперь для более углубленного анализа бреда воздействия мы введем понятие бессознательной наррации . Напомню, что в новой модели реальности наррация – одно из основополагающих понятий. Реальность – это и есть система зашифрованных нарраций, посланий, и цель человеческой жизни – расшифровка этих посланий. Что же такое бессознательная наррация? Это нечто, что с точки зрения традиционной онтологии наррацией вообще не является. Вот я вышел на улицу вижу идущих мне навстречу прохожих, витрины магазинов, рекламы, машины… Я не осознаю всего того, что я вижу и слышу, я погружен в свои мысли. Но в бессознательном у меня откладываются цепочки из увиденного и услышанного. Это и есть бессознательная наррация. Для чего нужно это понятие? С точки зрения новой модели реальности вещи и факты не существуют сами по себе, они скоординированы с воспринимающим их человеком. Взятые вместе, они составляют элементы новой модели реальности. Но бо́льшая часть вещей и фактов воспринимается человеком бессознательно. Эти впечатления откладываются в памяти в виде нарративных цепочек. Бессознательные наррации представляют собой материал для построения обычных нарраций. В терминах генеративной грамматики Хомского бессознательная наррация соответствует глубинной структуре, а обычная наррация – поверхностной структуре. Подобно тому как глубинная структура является более фундаментальной по сравнению с поверхностной структурой, бессознательная наррация более фундаментальна, чем обычная наррация. Вообще все бессознательное является более фундаментальным, чем все сознательное (если сделать уступку традиционной психологии и признать, что сознательное в каком-то смысле существует). Бессознательная наррация потенциально психотична, поэтому она по преимуществу бессвязна и номинативна. Так, бессознательная наррация моей прогулки по улице на пути от дома к метро может быть реконструирована примерно следующим образом: «ступеньки – подъезд – окурки – объявление – уважаемые жильцы – капли дождя – две тетки в серых пальто – парикмахерская «Татьянин день» – двое пьяных – нет, я не курю – машины – дома – метро». Чего не хватает бессознательной наррации, чтобы стать обыкновенной наррацией? Это равносильно вопросу о том, чего не хватает глубинной структуре, чтобы стать поверхностной структурой. Глубинная структура бессвязна, асинтаксична: мальчик – мороженое – есть. Поверхностная структура представляет собой связное членораздельное высказывание: Мальчик съел мороженое. Наша гипотеза состоит в том, что при бредообразовании обычные наррации элиминируются и на место их встают бессознательные наррации. Это соответствует классическому психоаналитическому положению: у психотика на место сознательного встает бессознательное8. Когда больной сообщает своему психиатру или психоаналитику о своем бреде, он использует обычную наррацию. Он говорит нечто вроде: «На меня воздействует какая-то дьявольская сила, которая заставляет меня убить жену и детей». Но это высказывание так же соотносится с самим бредом, как рассказ о сновидении – с самим сновидением (разновидностью бессознательного нарратива). Сам бред разворачивается в виде бессвязной бессознательной наррации, может быть, примерно так: «Иван – топор – твоя жена – не жена тебе – топор – возьми скорей – твоя жена – Иван – ведьма – скорей возьми – и твои дети – немедленно топор – скорей, Иван – убей – твоя жена – немедленно – твои дети это – не твои – ведьма – скорей убей». Как соотносится гипотеза о существовании бессознательной наррации с основными законами новой модели реальности? Во-первых, в рамках новой модели реальности нет противопоставления сознательного и бессознательного, поскольку там одно постоянно переходит в другое. Во-вторых, наррация в рамках этой модели не похожа на обычную наррацию, там нельзя сказать: Однажды, в студеную зимнюю пору, Я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. Скорее, это будет нечто макароническое: Однажды, в студеную зимнюю пору Она пришла с мороза В белом венчике из роз, В приемный зал вошел без панталон, На холмах Грузии вас больше не тревожит. Конечно, это карикатура на новую модель реальности. Важно другое: применимо ли понятие бессознательной наррации в новой модели реальности? Ответ прост: любая наррация в новой модели реальности является эквивалентом бессознательной наррации. Но отсюда как будто напрашивается вывод, что новая модель реальности психотична. Но это с точки зрения традиционной психологии и онтологии. В новой реальности субъект перестает различать норму и патологию, он вообще лишается личности, попадая в калейдоскоп бесконечных превращений. Чтобы сделать понятие бессознательной наррации более выпуклым, возьмем всем известный пример – новеллу «Наваждение», вторую новеллу фильма Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Лето, экзаменационная сессия. Шурик натыкается на улице на девушку, которая читает нужный ему конспект. Он бессознательно следует за ней, читая этот конспект (бессознательная наррация). Шурик и девушка садятся в трамвай, выходят на нужной остановке и, продолжая читать конспект, идут к дому девушки, бессознательно преодолевая все препятствия: красный свет светофора, серию открытых люков гидрантов. Даже злая собака у подъезда, видя, что они ее не замечают, не может им помешать. Они, продолжая читать конспект, входят в квартиру девушки, садятся за стол, не 8 Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М., 2004. глядя едят и пьют, потом раздеваются, потому что очень жарко, и, продолжая читать конспект, ложатся на диван. (Если бы это был Голливуд, то дело несомненно дошло до бессознательного – не прерывая чтения конспекта – полового акта.) На этом бессознательная наррация заканчивается и начинается наррация сознательная. После экзаменов Шурик знакомится с этой девушкой, которую, как ему кажется, он раньше никогда не видел, они едут на трамвае по тому же маршруту, но затем чуть не попадают под колеса общественного транспорта. Шурик сваливается в один из люков, а злая собака, которая не дает им войти в дом, становится непреодолимым препятствием. После целой серии манипуляций с колбасой и кошкой они наконец попадают в квартиру девушки, и там у Шурика начинается дежа вю. Чем бессознательная наррация выгодно отличается от сознательной? Тем, что в ней все происходит на уровне тела. Ведь бессознательное, как мы показали, находится не в психике, а в теле9. Поэтому герои так легко на уровне бессознательной наррации преодолевали все препятствия. Чем характеризуется бессознательная наррация при бредообразовании? Тем, что она синкретична, что закономерно связывает ее с архаическим допонятийным мышлением. Вот что писала по этому поводу Ольга Фрейденберг: Греческий роман опирается на очень древний материал. Тут рассказ носит субъектнообъектный характер; в нем нет различия между тем, кто рассказывает, что рассказывается, кому рассказывается. <…> В таком мифе сам рассказчик идентичен своему рассказу; <…> рассказ уподоблен жертвенному животному <…> жертвенным животным был сам герой… 10. Считаю необходимым заметить, что Ольга Фреденберг, несомненно, была одним из (бессознательных!) создателей новой модели реальности. Ср. следующий фрагмент: Похвальба победителя (жизнь), поносившего побежденного (смерть), колесообразно превращалась в свою противоположность, и побежденный (бездействующий, мертвый) герой становился побеждающим (действующим, живым) 11. Здесь мы должны сказать, что понимаем наррацию предельно широко, ведь реальность с точки зрения ее новой модели в принципе нарративна, и нарративом является каждый ее элемент. В реальности вообще нет ничего анарративного. Номинативное слово-предложение «Зима» – это наррация о зиме. Предложение «Мальчик съел мороженое» – наррация о мальчике, съевшем мороженое. Наррациями являются все языковые игры в витгенштейновском смысле – лекция, прогулка по взморью, половой акт, игра в горелки, дефекация, анекдот, порка, репетиция оркестра. 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2. Оно было в начале у Бога. 3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Но слово не может существовать вне контекста предложения, речевого акта и языковой игры. Лакан утверждал: «Бессознательное структурировано как язык». Что нам дает это знаменитое определение? Как структурирован бредовый язык? Язык бессознательного, бессознательная наррация бессвязна, асинтаксична. В ней нет различий говорящего, слушающего и самого рассказа. Следовательно, бессознательная наррация, если вспомнить первый процитированный фрагмент из Ольги Фрейденберг, есть в своей основе архаическая наррация, где слово и предложение, вещь и факт слиты во «всеобщем оборотничестве» (А. Ф. Лосев). Бессвязность является языковым эквивалентом бессвязности и переменчивости аффекта при бреде. Это превосходно показал Алексей Апухтин в стихотворении «Сумасшедший»: 9 Руднев В. Реальность как ошибка. М.: Гнозис, 2010. 10 Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: Лабиринт 1978. С. 210–211. 11 Там же. С. 210. Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх И можете держать себя свободно, Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях Я королем был избран всенародно, Но это всё равно. Смущают мысль мою Все эти почести, приветствия, поклоны… Я день и ночь пишу законы Для счастья подданных и очень устаю. Как вам моя понравилась столица? Вы из далеких стран? А впрочем, ваши лица Напоминают мне знакомые черты, Как будто я встречал, имен еще не зная, Вас где-то, там, давно… Ах, Маша, это ты? О милая, родная, дорогая! Ну, обними меня, как счастлив я, как рад! И Коля… здравствуй, милый брат! Вы не поверите, как хорошо мне с вами, Как мне легко теперь! Но что с тобой, Мари? Как ты осунулась… страдаешь всё глазами? Садись ко мне поближе, говори, Что наша Оля? Всё растет? Здорова? О Господи! Что дал бы я, чтоб снова Расцеловать ее, прижать к моей груди… Ты приведешь ее?.. Нет, нет, не приводи! Расплачется, пожалуй, не узнает, Как, помнишь, было раз… А ты теперь о чем Рыдаешь? Перестань! Ты видишь, молодцом Я стал совсем, и доктор уверяет, Что это легкий рецидив, Что скоро всё пройдет, что нужно лишь терпенье. О да, я терпелив, я очень терпелив, Но всё-таки… за что? В чем наше преступленье?.. Что дед мой болен был, что болен был отец, Что этим призраком меня пугали с детства, — Так что ж из этого? Я мог же, наконец, Не получить проклятого наследства!.. Так много лет прошло, и жили мы с тобой Так дружно, хорошо, и всё нам улыбалось… Как это началось? Да, летом, в сильный зной, Мы рвали васильки, и вдруг мне показалось… ………………………………………………… Да, васильки, васильки… Много мелькало их в поле… Помнишь, до самой реки Мы их сбирали для Оли. Олечка бросит цветок В реку, головку наклонит… «Папа, – кричит, – василек Мой поплывет, не утонет?!» Я ее на руки брал, В глазки смотрел голубые, Ножки ее целовал, Бледные ножки, худые. Как эти дни далеки… Долго ль томиться я буду? Всё васильки, васильки, Красные, желтые всюду… Видишь, торчат на стене, Слышишь, сбегают по крыше, Вот подползают ко мне, Лезут всё выше и выше… Слышишь, смеются они… оже, за что эти муки? Маша, спаси, отгони, Крепче сожми мои руки! Поздно! Вошли, ворвались, Стали стеной между нами, В голову так и впились, Колют ее лепестками. Рвется вся грудь от тоски… Боже! куда мне деваться? Всё васильки, васильки… Как они смеют смеяться? ……………………………………… Однако что же вы сидите предо мной? Как смеете смотреть вы дерзкими глазами? Вы избалованы моею добротой, Но всё же я король, и я расправлюсь с вами! Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме! Для этого меня безумным вы признали… Так я вам докажу, что я в своем уме: Ты мне жена, а ты – ты брат ее… Что, взяли? Я справедлив, но строг. Ты будешь казнена. Что, не понравилось? Бледнеешь от боязни? Что делать, милая, недаром вся страна Давно уж требует твоей позорной казни! Но, впрочем, может быть, смягчу я приговор И благости пример подам родному краю. Я не за казни, нет, все эти казни – вздор. Я взвешу, посмотрю, подумаю… не знаю… Эй, стража, люди, кто-нибудь! Гони их в шею всех, мне надо Быть одному… Вперед же не забудь: Сюда никто не входит без доклада. Итак, в архаической бредовой наррации говорящий есть то же, что его рассказ, и он – жертва своего рассказа. И он приносит в жертву свой рассказ. При бреде величия, как в вышеприведенном стихотворении Апухтина, король – не просто король, но король в тюрьме (то же в «Записках сумасшедшего» Гоголя), т. е. жертва, преследуемый король; Наполеон – не просто Наполеон, но Наполеон в изгнании на острове Эльба; Христос – не просто Христос, но агнец Божий, обреченный на заклание. Почему в наррации бредящего все время речь идет о жертве? Потому ли только, что он – жертва психической болезни? Но классический психотик не понимает, что он душевнобольной, так же как архаический человек не понимает, что он – архаический человек. И тот и другой считают себя жертвой обстоятельств. При бреде отношения он жертва слишком пристального внимания со стороны окружающих, при бреде ревности он жертва измены коварной жены, при персекуторном бреде он жертва преследования. При бреде воздействия он жертва таинственных сил, игрушка в их руках, при бреде величия он жертва своего величия, подобная архаическому царю, описанному Фрэзером в «Золотой ветви». Но и любая обычная поверхностная наррация есть нарррация о жертве, в пределе – о смерти. Каждое слово в языке связано со смертью12. В этом смысле бессознательна наррация выполняет компенсаторную функцию. Она повествует о преодолении всех препятствий, о Воскресении, о реинкарнации. Если обычная наррация говорит: «Зима», то имеется в виду, увядание, смерть, если она говорит: «Лето», то это повествование об изнурительной жаре. Пушкин в стихотворении «Осень» рассказывает о своем отношении к временам года, и все они чем-то плохи, кроме осени, но и осень он любит, как умирающую «чахоточную деву». Ольга Фрейденберг писала, что наррация заменила собой миф. Она выразилась более определенно: «Наррация есть понятийный миф». Она также подчеркивала, что в мифе нет и не может быть никакой наррации. Она неправа лишь в том, что миф – это бессознательная наррация, где рассказчик, рассказ и слушатель, по ее же словам, слиты в одно. Жертва – внесение антропологического, «исторического», «сознательного» начала в бессознательную наррацию. В аграрном мифе, в элевсинской мистерии в обряде инициации, смерть-жертва – лишь доведение до предела архаических жизненных возможностей с тем, чтобы возникла новая жизнь. Когда говорят о мифологическом времени, например, об аграрном цикле, то поверхностно нарративизируют, историзируют миф. В мифе вообще нет и не может быть никакого времени, как нет его и в бессознательной наррации. Возможно, это будет звучать как парадокс, но понятие времени возникает только тогда, когда человек может отличить вымышленное от реального, а в мифе этого отличия нет, миф находится до этого отличия. Любое предложение представляет собой обычную поверхностную наррацию. Например: «Наступила зима». Здесь есть время, есть интрига, начало и конец. Но в мифологическом языке нет и не может быть слов «наступила» и «зима», так как мифологический язык, по блестящей реконструкции А. Ф. Лосева, имеет инкорпорирующий строй. Там нет частей речи и членов предложения, но есть простое атемпоральное нанизывание основ, высказывание одновременно является самим действием и претерпеванием13. Но почему мы настаиваем на том, что в мифе есть бессознательная наррация? Потому что человек в принципе не может себе представить ничего анарративного. Жизнь человека – 12 См. об этом главу «Эксперимент со смертью» книги: Руднев В. Реальность как ошибка. М., 2011. 13 Лосев А. Ф. О пропозициональной функции древнейших лексических структур // А. Ф. Лосев. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М., 1982. это рассказывание историй, начиная с истории о том, как младенец сосет материнскую грудь. При этом рассуждения Мелани Кляйн и Вилфреда Биона о том, кто такой младенец, при всей их важности для психоаналитической теории и практики, с точки зрения реконструкции мифологического мышления чрезвычайно наивны. У младенца не может быть представлений о «плохой груди» или «хорошей груди», хотя у него скорее всего есть зачаточные бессознательные нарративные функции. Но они возможны только на инкорпорирующем языке. Не «Я сосу грудь», а нечто вроде «меня-груде-сосание». Переходя к нашей главной теме, к бреду воздействия, необходимо сказать, что бессознательная наррация о нем, благодаря которой бредящий может выжить, подобно тому как архаический человек мог выжить благодаря бреду, также может представлять собой только нечто вроде архаического инкорпорирующего строя, в котором нет времени, категорий начала и конца и отличия подлинного от вымышленного. Почему мы говорим, что бессознательная наррация (бред) позволяет психотику выжить и не превратиться в животное? Потому что животное не знает наррации. Психическая смерть – это падение в животную анарративность (например, при кататонии). Пока человек говорит, он жив физически, пока психотик бредит, он жив психически. Бессознательная наррация есть внутренняя (глубинная) наррация, обычная наррация есть внешняя (поверхностная) наррация. Но у бредящего психотика на место внешнего («сознательного») встает внутреннее (бессознательное). Стало быть, обычная поверхностная наррация и бессознательная глубинная наррация при бреде меняются местами. Что из этого следует? Защитная функция бессознательной наррации у «здорового» человека ослаблена его «здоровьем», она ему почти не нужна. У бредящего психотика она востребована. «Здоровый» человек идет по улице, ничего не замечая вокруг (лишь его бессознательное все регистрирует). Психотик не может себе этого позволить. Если он, к примеру, видит два окурка, значит, здесь стояли и курили жена и ее любовник. Если он видит машину, значит, она наблюдает за ним или готова его раздавить. В каждом окне и за каждым углом прячутся преследователи. Все предметы, слова, события и факты для психотика полны скрытого или явного смысла. И все это происходит в режиме активной бессознательной наррации, всплывшей на поверхность. Здесь надо остановиться на том, что, говоря о бессознательной наррации, мы самого понятия бессознательного до сих пор не определили. Теперь настало время это сделать. В нашей книге о бес-сознательном14 мы представили соотношение индивидуального фрейдовского бессознательного и коллективного юнговского бессознательного как диалектику малого и большого зеркал, направленных друг на друга и отражающих друг друга. Одна из важных идей Юнга заключается в том, что при острой шизофрении психика затопляется архетипами коллективного бессознательного. Как применить вышесказанное к понятию бессознательной наррации? Будем считать, что бессознательная прогулка по улице «здорового» человека – «малое зеркало» его индивидуального бессознательного: окурки, машины, окна, дома – это все «шлак», который обычный человек не замечает. При наступлении психоза большое зеркало коллективного бессознательного полностью вбирает в себя малое зеркало индивидуального бессознательного. Прогулка по улице становится архетипической. Не просто окурок, машина, окно, дом, но – их архетипы, сверхзначимые странные объекты, с которыми он вступает в отношения проективной идентификации. Что это в данном случае означает? Все предметы вокруг становятся живыми, поэтому с ними можно вступать в диалог. Как можно вести диалог с окурком? Его можно спросить, был ли он свидетелем свидания жены и любовника. Если окурок будет опираться, его надо растоптать, окончательно уничтожить. Но если он расколется, его надо будет приберечь как вещественное доказательство и при случае предъявить жене. Скольжение между двумя зеркалами индивидуального и 14 Руднев В. Новая модель бессознательного. М.: Гнозис, 2012. коллективного бессознательного обеспечивает значимость всего вокруг. Мир бреда – это предельно семантизированный мир, там нет ничего, не имеющего смысла. Эти смыслы и предстают в виде бессознательной наррации об измене жены, о преследователях, о дьявольской воздействующей силе или о себе самом как воплощении великой жертвы. Можно сказать, что бредящий психотик живет в состоянии мифа, вне времени и вне противопоставления подлинного и вымышленного. Как мы можем посмотреть на вышеописанную ситуацию с точки зрения новой модели бессознательного, где все переходит, проникает и превращается одно в другое? Как возможна бессознательная наррация там, где внешнее все время превращается во внутреннее и наоборот, а не так, как у психотика – внутреннее становится внешним, а сознательное бессознательным и на этом все останавливается? Новая модель реальности представляет наррацию как рассказ всего обо всем. Здесь не может быть ни бреда, ни не-бреда. Это сплошной поток творения смыслов. Теперь уместно задать вопрос о том, какова судьба обычной поверхностной наррации у человека, находящегося в состоянии острого бреда. Если бред полностью поглощает человека, то поверхностная наррация редуцируется. Этому есть одна важная причина, которая заключается в том, что для острого психоза, как и для архаического сознания, слово отождествляется с вещью, а предложение – с событием. На архаическом материале это показала Ольга Фрейденберг, на психотическом – Уилфред Бион. Что из этого следует? Именно невозможность обычной наррации. Для того чтобы сказать «Я иду по улице», надо понимать, что «Я» и «улица» – это слова, которые не похожи на обозначаемые ими вещи. Почему это так важно, что слово «улица» в «нормальном» мышлении не похоже на саму улицу? Потому что произвольность (арбитрарность) знака – одна из самых фундаментальных черт мышления Homo sapiens15. Когда наступает психоз и происходит регрессия к архаическому мышлению, слово «улица» становится не просто похожим на саму улицу, оно и становится самой улицей, и эта мифологическая улица – живая, хотя и покалеченная, как у Маяковского: Пока выкипячивают, рифмами пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать и разговаривать. Из этого следует очень важная вещь. А именно тот факт, что внешняя реальность становится острому шизофренику не нужна. Зачем она, когда в голове образуются бесконечные пространства из слов-вещей и предложений-событий? Именно в этом и только в этом смысле можно сказать, что психотик отказывается от реальности. И именно это и только это роднит реальность психотика и новую модель реальности, которая так же оперирует превращающимися друг в друга словами-вещами-предложениями-событиями. Но на этом сходство заканчивается. Важнейшее свойство бреда – его косность. Новая же модель реальности – это сама лабильность. Например, в ее рамках невозможен бред ревности, так как там потенциально все мужчины являются мужьями всех женщин, а все женщины – женами всех мужчин. Также там невозможен бред отношения, так как все имеет отношение ко всему. Невозможен бред преследования, так как там преследуются не люди, а цели. Невозможен бред воздействия, так как там царит взаимодействие. Невозможен и бред величия, так как великое и малое все время взаимно превращаются друг в друга. Как же при бредообразовании происходит отождествление слова и вещи, предложения и события? Допустим, у человека бред ревности, и он считает, что жена ему изменяет со 15 Crow Т. Is schizophrenia the price that Homo sapiens pays for language? // Schizophrenia Research. 1997. № 28. P. 127–141. всеми подряд. При этом к обычному поведению жены это может не иметь никакого отношения. Жена действительно может с кем-то ему изменять. Но действительное для него уже не имеет никакого значения. Более того, у него реально вообще может не быть жены. Зачем, если слово «жена» и есть сама жена! И слово «измена» и есть сама измена. Что в этом плане можно сказать о бреде отношения? Когда он заходит достаточно далеко, то за человеком начинают следить или обращать на него внимание не только прохожие на улицах, соседи, но фотографии, игральные карты (как было в бреде Передонова), персонажи с кино– и телеэкрана. Здесь субъект бреда вступает в мифологическую стадию не-разграничения вымышленного и подлинного, неодушевленного и одушевленного. При персекуторном бреде преследователь, как правило, представляет собой материализованное Суперэго Отца или Имя Отца. Так у Пушкина Медный Всадник преследует Евгения. Здесь тоже обыденная реальность не нужна, так как преследуемый, как правило, галлюцинирует. При бреде воздействия воздействующие силы, как правило, инсталлируются в голове больного в интрапроекции. Это псевдогаллюцинации, т. е. даже не настоящие слова. В том смысле, что их реально никто не произносит. Что происходит при бреде величия? Его особенность в том, что утрачивается Собственное Я. Человек отказывается от своего имени, биографии и превращается в исторического героя или вымышленного персонажа. Здесь не просто утрачивается связь языка с реальностью и не просто исчезает сама реальность. Здесь исчезает сам язык. Хотя мегаломан может без конца повторять «Я Наполеон», это уж не речь, это вербигерация, нечто формальное, лишенное своего реального носителя. Поскольку при мегаломании может происходить отождествление с каким угодно количеством персонажей, это указывает на ее парадоксальное сходство с новой моделью реальности. Природа этого сходства нам пока не ясна. В чем же особая фундаментальность бреда воздействия? Человек разговаривает сам с собой, но одна его часть уже не он, а что-то странное, экстраецированный Большой Другой, который диктует человеку свои правила игры. А что это за правила игры? Универсальность бреда воздействия обусловлена его модальным синкретизмом. Главная модальность – как будто деонтическая: человеку что-то приказывают. Но ему приказывают, как правило, нечто очень дурное – это есть это аксиологическая модальность со знаком минус. Человек не знает, что именно ему приказывает, т. е. это эпистемическая модальность со знаком минус. Приказы эти отдает некая сверхъестественная сила, т. е. происходит нечто с точки зрения здравого смысла невозможное – алетическая модальность со знаком минус. Именно поэтому бред воздействия обладает такой мощной иллокутивной силой – он ударяет сразу по всем четырем модальностям сразу, этим совершенно обезоруживая человека. Но самое удивительное, что человек не может жить без этой иррациональной воздействующей на него силы, ведь это авторитет Отца с большой буквы, Тотема, как его описал Фрейд в книге «Тотем и табу». И человек сам часть этого Тотема. Поэтому неудивительно, что именно бред воздействия является специфическим для шизофрении (бред отношения и преследования имеют место и паранойе, бред величия бывает при маниакальной стадии маниакальнодепрессивного психоза). В чем самая характерная особенность бреда воздействия? В том, что разум человека раскалывается две половины, и одна из них воздействует на другую. Раскол же разума лежит в основании шизофрении. Известно, что шизофрения во многом определяет культурный облик XX века. На пороге двух столетий естественнонаучная картина мира и соответствующая ей «естественнонаучная» модель культуры (так называемый «реализм») исчерпали себя. Там было все ясно: есть вещи, есть идеи. Мир вещей первичен, мир идей производен от мира вещей – во всяком случае, такова была картина во второй половине XIX столетия (в романтизме, конечно, было не так, но стык нашей эпохи приходился не с романтизмом, а именно с этой естественнонаучной второй половиной XIX века). Что же произошло потом? Прежде всего «исчезла материя». Произошло это оттого, что физики внедрились в структуру атома, и разграничения между тем, что реально существует, и тем, что можно только воображать, сильно пошатнулись. «Где эти атомы, вы их видели?» – спрашивал Эрнст Мах, один из зачинателей новой модели мира, сформулировавший закон «принципиальной координации» между материей и сознанием, после которого разграничение между материализмом и идеализмом в философии было похоронено. Потом внедрились в структуру атомного ядра, и дело стало совсем плохо – появилась квантовая физика, потребовавшая новой онтологии и новой логики (многозначной), потому что элементарные частицы одновременно и существуют, и не существуют с точки зрении обыденного здравого смысла. А это, как мы показали в одной из предыдущих глав, соответствует шизофреническому схизису, когда в сознании одинаково актуально нечто одно и нечто противоположное. Итак, уже мир самой фундаментальной из наук оказался шизофренизированным; такая получалась картина, что она не укладывалась в дошизофренические модели: вот вещи, а вот знаки. Так больше не получалось. В гуманитарной культуре происходили не менее удивительные вещи. Чего стоило одно изобретение кинематографа: человек давно уже умер, но вот он на экране совершенно живой, двигается, смеется, кажется, до него можно дотронуться рукой, но не тут-то было (как это замечательно описал Томас Манн в «Волшебной горе»). Вновь схизис: человек умер, а его изображение двигается. Открытие бессознательного работало в том же направлении. Оказалось, что бессмысленные, как представлялось раньше, сновидения и ошибочные действия играют в психической жизни человека едва ли не бо́льшую роль, чем то, что происходит наяву и «правильным образом». О сновидениях стали говорить как о ежедневном схождении с ума, уподобляя его только что «открытой» шизофрении. Фрейд еще из последних сил пытался остаться в рамках онтологии XIX века. Формально это ему удавалось, но лишь на первых порах. Уже его вторая и третья теории психического аппарата – гипотеза об инстанциях Я, Оно и Сверх-Я и постулирование наряду с инстинктом жизни инстинкта смерти – полностью разрушали представления обыденной психологии. Если на человека одновременно в противоположных направлениях действуют две силы (с одной стороны, влечения, с другой – нормы; с одной стороны, инстинкт жизни, с другой – смерти), то здесь также можно говорить о психологическом схизисе, хотя Фрейд, вероятно, не отдавал себе в этом отчета. Но Юнг уже осознал это. Сам будучи шизофреником, он постулировал мир коллективного бессознательного, который он наводнил архетипами, так что психика как здорового, так и больного человека стала описываться им как в принципе противоречивая, шизофреноподобная. Искусство очень быстро улавливало новые открытия. Наиболее эксплицитно психоанализ изучали сюрреалисты, применявшие метод свободных ассоциаций и автоматическое письмо. В результате художественные миры, которые они строили на своих полотнах, фактически были мирами душевных заболеваний. Музыка, которая ближе к математике и, стало быть, к физике, в XX веке тоже стала шизофренической. Говоря о близости к математике и физике, я имею в виду неклассические их формы, потребовавшие для своего осуществления новых языков, непонятных для «представителей «нормальной науки» и воспринимающихся как в определенном смысле безумные (ср. знаменитую максиму Бора: «Все мы понимаем, что перед нами совершенно безумная теория, вопрос состоит только в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть верной»). Также новые языки потребовались для музыки начала XX века. Классическая «естественная» диатоническая система гармонии, построенная на противопоставлении мажора и минора, к концу XIX века исчерпала себя, как исчерпало себя позитивистское естественнонаучное мышление. Нововенская школа Арнольда Шенберга построила искусственный музыкальный язык, игнорировавший обыденную гармонию. Этот язык своей искусственностью и непонятностью для обывателя во многом напоминает бредовый язык больного шизофренией. Подобно тому как бредовое построение требует для понимания особого навыка от психиатра, также особого навыка требовало восприятие языка додекафонии, «композиции на основе двенадцати соотнесенных тонов». Эта музыкальная система строилась следующим образом. Вместо традиционной «естественной» гаммы («естественной» в кавычках, потому что привычная для европейского музыкального уха диатоническая гармония тоже была искусственно построена в эпоху барокко, только более постепенно) брался искусственный звукоряд из 12 неповторяющихся звуков (серия) и далее он повторялся, варьируя только по строгим законам контрапункта, т. е. последовательность могла быть прямой, ракоходной, инверсированной и инверсированно-ракоходной. Кроме того, можно было начинать последовательность от любой ступени хроматического звукоряда, что давало еще 12 вариантов. В результате в ортодоксальной додекафонии использовалось всего 48 (4×12) серии. Нечего и говорить, что впечатление от этой музыки, получившей широкое распространение, было психотически жутким и тревожно мистическим. По другому пути пошли последователи Малера, Стравинского и Хиндемита, создавшие так называемую систему неоклассицизма. Их музыкальный язык строился как коллаж цитат из различных опусов и музыкальных систем прошлого и настоящего. В результате, подобно речи шизофреника, структура музыкального опуса представляла собой «звуковой салат» (ср. понятие «словесный салат», имеющий место при некоторых формах шизофрении). Такая музыка также отражала неоклассическую и в целом психотическую или околопсихотическую (шизотипическую) реальность новой культуры. В литературе аналогом неоклассицизма был неомифологизм. Вообще в XX веке естественнонаучная позитивистская идея эволюции сменилась идей вечного повторения (Ницше). Близость повторяющегося мифа о вечном возращении к шизофрении с ее мифологическим уклоном (в параноидной форме) и тяготением к повторению речевых отрезков и фрагментов поведения (персеверации) достаточно очевидна. Подобно нарушениям ассоциативных рядов в речи, которое Блейлер считал главной особенностью шизофрении, и созданию причудливых ассоциативных рядов («комплексов», как называл их ранний Юнг), литературный дискурс стал строиться как цепь мифологических ассоциаций, которые были далеки обыденному пониманию того, что такое литература, и далеки от того, как понималась литература в XIX веке (Достоевский может здесь рассматриваться как главный предтеча художественной поэтики XX века). Литературное произведение стало коллажем цитат и реминисценций – это относилось к поэтике символизма и акмеизма, сюрреализма и экспрессионизма, к неомифологическим романам Джойса, Томаса Манна, Булгакова, Платонова, вплоть до Апдайка, Фаулза, Беккета, Ионеско, Роб-Грийе, отчасти позднего Набокова, Умберто Эко, Павича, С. Соколова, В. Сорокина. То же самое происходило и в кинематографе XX столетия: фильмы «авторского» кино часто строились как система неомифологических цитат и реминисценций, недоступных обыкновенному зрителю, как недоступен обывателю шизофренический бредовый язык. Наряду с литературой и искусством шизотипическое мышление сыграло решающую роль в философии (Витгеншетейн, Хайдеггер, постмодернисты (и здесь неслучайно самоназвание «шизоанализ» у Делёза и Гваттари)), в психологии и психотерапии (главные персонажи здесь Юнг, Перлз, Мелани Кляйн, Лакан – представители шизотипического мышления). В их построениях и терапии большую роль играет вымышленная реальность, будь то архетипы у Юнга, гештальт у Перлза, «шизоидно-параноидная позиция» Мелани Кляйн, «Реальное» у Лакана. Особую роль сыграло творчество Франца Кафки. Сложность состоит в том, что его нельзя отнести ни к одной из описанных форм шизофрении (гебефренической, параноидной, кататонической). Как правило (за исключением таких текстов, как «Превращение»), в текстах Кафки нет выраженного параноидно-галлюцинаторного бредового начала. Тем не менее, мир его произведений чрезвычайно странный – безусловно, это шизофренический мир. Как кажется, применительно к Кафке и его творчеству имеет смысл говорить о schyzophrenia simplex (простой шизофрении), особенность которой в отсутствии продуктивной симптоматики (прежде всего бреда и галлюцинаций) и преобладании негативных симптомов – усталости, депрессии, ипохондрии, характерной шизофренической опустошенности. Принято считать, что творчество Кафки отразило грядущий тоталитаризм с его иррациональностью и мистикой. Последнее не так уж далеко от действительности, если понимать это не вульгарно-социологически. Сам феномен специфического тоталитарного сознания, присущий XX веку, – это шизофренический феномен. Лучше всего это понял Джордж Оруэлл. Его концепт двоемыслия (double-thinking), который он вводит в романе «1984», т. е. такого положения вещей, когда человек говорит или думает одно, а подразумевает противоположное, есть не что иное как квинтэссенция схизисного характера тоталитарного мышления (как выразил это Оруэлл в романе «Скотный двор»: «Все звери равны, но одни звери более равны, чем другие»). Шизофрения – отказ от реальности – состоит в отказе от семиотического осмысления вещей и знаков, в трансгрессивной позиции по отношению ко всему семиотическому. Парадоксально при этом, что семиотика как наука о знаках и знаковых системах актуализировалась именно в XX веке. Но это парадокс чисто внешний. Когда знаки стали исчезать, потребовалось их обосновать, когда граница между знаками и не-знаками обострилась, понадобилось понять, что такое знаковые системы. Во многом семиотика, структурализм, логический позитивизм, математическая логика, кибернетика были также рационалистическим заслоном против шизофрении, попыткой при помощи пусть логического, но все-таки позитивистски (причем обостренно позитивистски) окрашенного научного мышления противопоставить логику шизофреническому мифотворчеству. Попытки эти были неудачными. Они оборачивались своей противоположной стороной: на оборотной стороне панлогицизма зияла иррационалистическая шизофреническая дыра. Это было ясно уже из «Логико-философского трактата» Витгенштейна, где панлогическое мышление объявляется неспособным решать важнейшие жизненные проблемы, ответ на которые – мистическое молчание, своеобразная метафизическая кататония. Деятельность Венского логического кружка, унаследовавшего идеи раннего Витгенштейна, в основе которой лежала попытка построить идеальный язык и защититься от шизофренической метафизики, увенчалась тем, что Гёдель доказал теорему о неполноте дедуктивных систем, которая резко ограничивала сферу применения логического дедуктивного мышления. Принцип верификационизма сменился попперовским принципом фальсификационизма. Поппер, наследник Венских идей, считал, что проверкой истинности теории является, в сущности, ее ложность – это уже фактически схизоподобный принцип. Развитие математики и математической логики привели к созданию интуиционизма и многозначных логик. Так или иначе, но к ближе к концу второй половины XX века вместе с кризисом так называемого «модернистского» мышления и с приходом постмодернизма шизофреническая направленность культуры стала себя исчерпывать. На смену культурной шизофрении пришла постшизофрения, т. е., в сущности, произошла актуализация шизотипического начала в культуре. Для постшизофрении как нового переходного постмодернистского культурного проекта были нехарактерны та катастрофичность и болезненность, которые присущи модернистскому шизофреническому мышлению. Отчаянные поиски границ реальности, отказ от которой знаменует шизофренический психоз, сменился тезисом о том, что все реальности равноправны. Апофеозом этого в логике была так называемая семантика возможных миров, разновидность модальной логики, зародившаяся в конце 1960-х годов. Она выдвинула тезис о том, что действительный мир – лишь один из возможных миров. Этим тезисом был снят болезненный поиск границ реального мира. Если миров много, то существовать в том или ином мире, психотическом или каком-то другом, не так страшно. Неслучайно, что к этому же периоду были приурочены психоделические опыты Грофа, который при помощи ЛСД прививал пациентам шизофреническое состояние сознания, которое, по его представлениям, излечивало их от душевных травм путем погружения в перинатальные и трансперсональные грезы. Излечивали ли эти эксперименты или нет, но трансперсональная психология оказала неоценимую услугу XX веку в том, что показала «нестрашность» психотического состояния, во многом укротила его. В настоящее время широкое распространение концепта «виртуальные реальности» еще более усилило тенденцию к нестрашному, а то и увеселительному путешествию в психозоподобные миры. Распространение персональных компьютеров с виртуальными играми окончательно дезавуировало миф об ужасе психотического. Если в настоящее время считается, что каждый сотый человек на земле – шизофреник, то можно смело предположить, что каждый десятый страдает в той или иной мере шизотипическим расстройством личности, а среди людей, работающих в сфере культуры, пожалуй, каждый третий. Большой шизофренический проект культуры XX века можно считать завершенным. В сущности, вполне в духе XX века – представить себе, что все мы шизофреники и пребываем в состоянии бреда воздействия. Если исходить из этой посылки, то реальность вообще не нужна. Она, может быть, была когда-то, в XIX веке. А потом исчезла, распалась на элементарные частицы. Но кто или что на нас воздействует, если нет реальности? Мы сами и воздействуем, ведь наш разум расколот. Но откуда тогда берется содержание бреда? «Убей свою жену и детей!» Но никакой жены и никаких детей нет – это тоже часть бреда, так что убивать некого! Получается порочный круг – человек бредит ни о чем. Он – элементарная частица, которая бредит об элементарной частице. Но у элементарных частиц нет ни сознания, ни бессознательного, как же они могут бредить? Значит, никакого бреда не существует! Нам только кажется, что мы бредим. На самом деле мы живем – никто на нас не воздействует и никто нас не преследует. Это все нам только казалось. Но XX век, слава Богу кончился. Мы вновь здоровые нормальные люди. Вот она, реальность: вот ручка, вот бумага, вот сознание, вот бессознательное. Все в порядке. Ура! Мы отказались от своего бреда, мы отказались от своего творчества. Мы счастливы, как булгаковский Шарик после операции: «Свезло нам!» Глава третья. Согласованный бред Что самое главное в бреде воздействия? Психотик ненавидит свою психику и поэтому экстраецирует ее наружу в виде странных объектов (тезис Биона). Таким образом, фрагменты психики бредящего психотика становятся его реальностью. Вот это и есть самое главное в бреде воздействия. Что представляет собой бредовая реальность, сотканная из фрагментов психики? Ведь сами фрагменты психики сотканы из фрагментов реальности, которые психика вобрала в себя в то время, когда психотик был еще «здоровым». Но рассуждать так – все равно что утверждать, что еда и фекалии – одно и то же. Нет, переваренные фрагменты психики психотика искажены до неузнаваемости, это, так сказать, его ментальные фекалии. Они неприятны и грязны. Это продукты психотического бессознательного. Но это так, если исходить из фрейдовской модели индивидуального бессознательного как некой свалки отходов. Если же исходить из юнговской модели коллективного бессознательного, то будет совсем другая картина. Коллективное бессознательное – это архетипы. В определенном смысле можно сказать, что фрейдовское бессознательное – это природа, а юнговское – это культура. Но ни у Фрейда, ни у Юнга не было законченной модели бреда. Если исходить из нашей синтетической модели бессознательного как двух зеркал, отражающихся друг в друге, то картина будет такая. При «нормальном» функционировании мышления малое и большое зеркала будут находиться в гармонии – что-то от природы, чтото от культуры. Все хорошо, все довольны. Но когда начинается бред, коллективное бессознательное подавляет индивидуальное. Бред – это огромное кривое зеркало. Странные объекты – это осколки архетипов, с ними «договориться» очень трудно. Какие маневры здесь может предпринять патологическая психика? Во-первых, она может идти до конца и начать измельчать осколки, превращая их в ментальную труху. Но это путь однозначно гибельный – путь к психической смерти, например, кататонии. Второй путь состоит в том, чтобы из этих ментальных осколков создавать химерические соединения – «полужуравль и полукот». Это более продуктивный путь? Почему? Можно предположить, что когда родилось «первобытное сознание», оно было бредящим, реальность представлялась ему виде причудливых химерических «полужуравлей и полукотов». «Первобытное сознание» не разделяло внутреннего и внешнего. Это был, так сказать, первичный бред. Сущность этого бреда заключается в том, что человек пытается совладать с «мыслями», т. е. думать (это тоже тезис Биона). Для этого он собирает осколки странных объектов в химерические соединения. Иногда получалось неудачно, и эти констелляции отбраковывались. Но иногда получалось удачно, и человек начинал замечать, что он не один, что есть другие люди. Они начинают бредить вместе, т. е. как бы «разговаривать». У них появляется арбитрарный язык. Они начинают отличать «подлинное» от «вымышленного», хотя делают это, конечно, не так, как это делаем мы, современные люди. Они, например, убеждены, что мертвецы обитают где-то рядом и их надо ублажать, иначе они вернутся и наделают зла. Мы привыкли думать про себя, что мы – разумные существа и в состоянии, в частности, отличать внутреннее от внешнего и подлинное от вымышленного. Но где гарантии, что мы проводим эти различия правильно? Таких гарантий нет. Бред продолжается. Только со временем он приобретает более утонченный характер. XX век, конечно, много «испортил». Особенно кино, квантовая физика и психоанализ. Мы стали вновь уважать безумие. Если бы в XIX веке обнаружили сочинения Хайдеггера и Делёза, то их сочли бы бредом сумасшедших. А мы читаем, конспектируем, восхищаемся. Но, конечно, повторять вслед за Кальдероном, что вся жизнь – только бред, банально. Но это не хуже, чем повторять за Гегелем, что все действительное разумно. Ничего оно не разумно. К чему же мы приходим? Я думаю, что все мы живем в состоянии согласованного бреда . Мы договорились одно считать нормальным, а другое – безумным. Например, «Мальчик съел мороженое» – это нормально, а «Вбегает мертвый господин» – это безумие. Ну и что же дальше? Дальше появляется какой-то умник и говорит, что «Мальчик съел мороженое» – это не нормально, а бездарно, а «Вбегает мертвый господин» – это не безумно, а гениально. В этом вся апология безумия в XX веке. И Хайдеггер, и Делёз занимают почетные места в первом ряду. А те, кто считает это безумием, и пикнуть не смеют – сочтут ретроградами. К этому все привыкли и поэтому не замечают другого, гораздо более страшного зла. На смену безобидной теперь шизофрении приходит органика. Грубый и неуравновешенный алкоголик дядя Вася, которому вообще нет дела ни до Делёза, ни до Хайдеггера. Органики, заметим, – это 99 процентов всего человечества. Они прут на нас со своим грубым бессловесным бредом. Теперь рассмотрим подробно понятие согласованного бреда. Что это такое? В чем главное отличие бреда от «нормальной» жизни? Не так-то легко ответить на этот вопрос. Можно попробовать сказать так: в нормальной жизни соблюдаются законы логики и физики – коровы не летают, животные не разговаривают, 2×2=4. В бреду коровы летают, животные разговаривают, дважды два равно круглому квадрату. Допустим, кто-то говорит мне: «Я слышал, как моя кошка разговаривала с соседским котом». Я отвечаю: «Очень смешно». Он: «Да нет, я серьезно, сам сначала не поверил. Но они правда разговаривали». – «На каком же языке?» – «Как на каком? Разумеется, на кошачьем!» Здесь я вспоминаю реальный эпизод. Мой друг-шизофреник рассказывал мне о посещении своих знакомых: «Я им сразу сказал, что они – фашисты, и они начали меня бить. И Вовка меня бил, и его жена Танька меня била, и их кошка меня била». – «А как она тебя била?» – «А она меня царапала». И он вдруг показал исцарапанные в кровь руки. Как же мне отнестись к заявлению моего друга, что кошки разговаривали на кошачьем языке? Конечно, это бред! Скоро его положили в больницу. И все стало ясно, как Божий день. Бред он и есть бред. Кошки не разговаривают. Но это так в мире взрослых. У детей куклы, животные и даже неодушевленные предметы разговаривают. Про это детям читают сказки и показывают мультфильмы. Это безобидный согласованный детский бред. Но для детей многое в поведении взрослых тоже представляется бредом. Вспомнил анекдот о том, как мальчик подсмотрел половой акт родителей и сказал: «И эти люди запрещают мне ковырять в носу!» Для этого мальчика поведение взрослых было поведением сумасшедших. Но все же мне могут возразить, что согласованный бред – это не настоящий бред, что мы все отличаем внутреннее от внешнего и подлинное от вымышленного. Так ли это? Я нахожусь внутри своего дома. Мой дом находится внутри Москвы. Москва находится внутри России. Очень хорошо. Значит, Москва находится снаружи меня. А разве мой дом не внутри Москвы? Значит находясь в своем доме, я тем самым нахожусь внутри Москвы? Но если выхожу из дома, то оказываюсь снаружи дома, но опять-таки внутри Москвы. Вот я и запутался. Как-то мы были в Ялте и видели там памятник – кому бы вы думали? – даме с собачкой. Это почище разговора кошек. Нам только кажется, что мы можем отличать внутреннее от внешнего и подлинное от вымышленного. Эта иллюзия – часть нашего согласованного бреда. Во времена Брежнева, чтобы сажать диссидентов в сумасшедшие дома, специально придумали диагноз «вялотекущая шизофрения», который можно поставить каждому человеку. Каковы же параметры согласованного бреда? Прежде всего то, что он носит социальный характер. Когда заключили пакт Молотова – Риббентропа, Гитлер стал «хорошим». Но «самым хорошим» был Сталин. Потом его разоблачил Хрущев. И Сталин стал «плохим, но не очень». Когда стал править Брежнев, все над ним смеялись, рассказывали про него много анекдотов и совсем его не боялись. Перестройку тоже восприняли как нечто комическое, как некий каприз маразмирующей власти. Что еще характерно для согласованного бреда? То, что он – неизлечим! Нет таких нейролептиков, которые позволили бы людям смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами. На самом деле мир полон загадок. И возможно, мой приятель действительно слышал разговор двух кошек на кошачьем языке. Одна из важнейших целей этой книги – попытка вывести самого себя из согласованного бреда. Подумываю начать с изучения кошачьего языка. Теперь необходимо выяснить, как связан согласованный бред с бессознательной наррацией. Представим себе, что социум, порождающий согласованный бред, – это такая огромная психика, которая – в духе Биона – ненавидит себя и окружающую реальность. Эта гигантская психика галлюцинирует, создавая вокруг себя огромные странные объекты. Например, города, линии высоковольтных передач, сеть автомобильных и железных дорог. И в этом согласованном бреду живут маленькие странные объектики – люди в городах, машины, снующие по дорогам, и поезда, идущие туда-сюда строго по расписанию. Что же такое с этой точки зрения согласованная бессознательная наррация? Это наррация о странных объектах. Как же она выглядит? Да обыкновенно. Вот едет поезд Москва – Магадан, набитый пассажирами. Они едят курицу, рассказывают друг другу анекдоты. Или спят, или курят. И вот весь мир едет в поезде и есть курицу. А если не едут в поезде, то смотрят по телевизору сериалы и пьют пиво. Вот это вот и есть бессознательная наррация. И это уже не безобидная шизофрения. Это другой – социальный – психоз под названием «Норма» (возможно, в смысле Владимира Сорокина). Бессознательная наррация согласованного бреда – это как вид на мир с высоты скоростного самолета. Внизу все крошечное, отдельных людей не видать. Но и внутри самолета тоже согласованный бред. «Пристегните ремни». «Курить запрещено в течение всего полета». Вроде бы все это логично. Но логика эта почему-то страшна. Наверное потому, что самолет может разбиться. Поэтому спустимся лучше на грешную землю, попьем пивка, посмотрим телевизор. Но заблуждением было бы думать, что согласованный миф – это удел быдла. Даже самая интеллектуальная книга навязывает свой согласованный бред. Кто бредит Хайдеггером, кто Делёзом, кто Витгенштейном. Как же вырваться из согласованного бреда? Для этого надо придумать свой индивидуальный бред, т. е. стать шизофреником. Именно не притвориться неумело сумасшедшим, как бухгалтер Берлага, а стать им на самом деле, как титулярный советник Поприщин. Надо изо дня в день, неделя за неделей воспитывать в себе шизофрению. Чтобы стать единственным нормальным человеком на Земле. Для этого надо отказаться от речевых штампов, от демагогического вранья и обыденных ритуалов, не ходить на работу, не пить пива, не смотреть телевизор. Надо перестать различать внутреннее и внешнее, подлинное и вымышленное. Одним словом, жить в режиме новой модели реальности. Надо пожертвовать нормой, надо стать сознательным сумасшедшим, каким был, например, Гурджиев. Никого не узнавать, ни с кем не здороваться, рыдать на свадьбах и смеяться на похоронах. Посвятить себя построению своей осознанной бессознательной наррации. Стать одновременно субъектом и объектом своего индивидуального бреда воздействия. Быть своим собственным черным монахом. На первых порах будет трудно: жена уйдет к другому, дети откажутся от тебя, друзья и знакомые отвернутся. I Однажды странствуя среди долины дикой, Незапно был объят я скорбию великой И тяжким бременем подавлен и согбен, Как тот, кто на суде в убийстве уличен. Потупя голову, в тоске ломая руки, Я в воплях изливал души пронзенной муки И горько повторял, метаясь как больной: «Что делать буду я? Что станется со мной?» II И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно. Уныние мое всем было непонятно. При детях и жене сначала я был тих И мысли мрачные хотел таить от них; Но скорбь час от часу меня стесняла боле; И сердце наконец раскрыл я поневоле. «О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! — Сказал я, – ведайте: моя душа полна Тоской и ужасом, мучительное бремя Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время: Наш город пламени и ветрам обречен; Он в угли и золу вдруг будет обращен, И мы погибнем все, коль не успеем вскоре Обресть убежище; а где? о горе, горе!» III Мои домашние в смущение пришли И здравый ум во мне расстроенным почли. Но думали, что ночь и сна покой целебный Охолодят во мне болезни жар враждебный. Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал И ни на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставя ложе. Они пришли ко мне; на их вопрос я то же, Что прежде, говорил. Тут ближние мои, Не доверяя мне, за должное почли Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем Меня на правый путь и бранью и презреньем Старались обратить. Но я, не внемля им, Все плакал и вздыхал, унынием тесним. И наконец они от крика утомились И от меня, махнув рукою, отступились, Как от безумного, чья речь и дикий плач Докучны и кому суровый нужен врач. IV Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая И взоры вкруг себя со страхом обращая, Как узник, из тюрьмы замысливший побег, Иль путник, до дождя спешащий на ночлег. Духовный труженик – влача свою веригу, Я встретил юношу, читающего книгу. Он тихо поднял взор – и вопросил меня, О чем, бродя один, так горько плачу я? И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный: Я осужден на смерть и позван в суд загробный — И вот о чем крушусь: к суду я не готов, И смерть меня страшит». «Коль жребий твой таков, — Он возразил, – и ты так жалок в самом деле, Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?» И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?» Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь?» — Сказал мне юноша, даль указуя перстом. Я оком стал глядеть болезненно-отверстым, Как от бельма врачом избавленный слепец. «Я вижу некий свет», – сказал я наконец. «Иди ж, – он продолжал, – держись сего ты света; Пусть будет он тебе единственная мета, Пока ты тесных врат спасенья не достиг, Ступай!» – И я бежать пустился в тот же миг. V Побег мой произвел в семье моей тревогу, И дети и жена кричали мне с порогу, Чтоб воротился я скорее. Крики их На площадь привлекли приятелей моих; Один бранил меня, другой моей супруге Советы подавал, иной жалел о друге, Кто поносил меня, кто на смех подымал, Кто силой воротить соседям предлагал; Иные уж за мной гнались; но я тем боле Спешил перебежать городовое поле, Дабы скорей узреть – оставя те места, Спасенья верный путь и тесные врата. Шизофреник противопоставляет свой индивидуальный бред социальному согласованному бреду, свою индивидуальную бессознательную наррацию – согласованной бессознательной наррации, свои индивидуальные странные объекты – социальным странным объектам. Шизофреник пишет свою книгу на никому не понятном языке. Ее никто никогда не прочитает. И он сам тоже не может ее прочитать. Он думает, что это не книга, а что это он жизнью живет. А он живет против жизни, исчерпывает социальную энтропию и накапливает никому не ведомую информацию. Непонятно при этом, что он ест, спит ли он вообще, где и с кем живет. Но это не важно. Он может внешне жить, как все, – пить пиво, смотреть телевизор и спать с женой. Он может быть академиком, иметь много учеников и регулярно читать публичные лекции. И никто-никто не догадывается, что на самом деле он сумасшедший и что все это его совершенно не касается. Но через много лет ему может надоесть быть сумасшедшим, он захочет вновь отведать согласованного бреда – построить капитализм в отдельно взятой стране, позвать всех своих друзей и рассказать им, как долго он их разыгрывал, и т. п. Но так можно придумывать и придумывать без конца. Все равно всё идет, как идет. Из одного согласованного бреда можно попасть только в другой согласованный бред. Шизофрении не существует. Одна из самых легких форм психопатологии – это так называемые идеи отношения. Это еще не бред. Просто человек слишком озабочен тем, как он выглядит, что о нем думают другие. Ему от этого очень неуютно. В учении Гурджиева это называется «внутренним учитыванием». Оно происходит от обыкновенного эгоизма. Человек слишком много носится с собой, поэтому ему так важно, как к нему относятся другие. Чтобы от этого избавиться, надо постараться забыть о себе и думать о других, т. е. практиковать внешнее учитывание16. Это, конечно, выглядит слишком плоско и нравоучительно: если думаешь о себе, ты плохой и тебе самому от этого плохо; если думаешь о других, молодец – и тебе хорошо, и другим польза. У Гурджиева и его учеников это выглядит не так примитивно, но смысл именно в этом. На самом деле идеи отношения – не такая уж и безобидная вещь. Человек все время озабочен вопросами: что думает о нем жена? а брат? а коллеги по работе, а прохожие на улицах? В этой точке идеи отношения перерастают в так называемый сенситивный бред отношения, характерный для параноиков. Однажды мой ученик пришел делать доклад на конференцию, и ему стало казаться, что все присутствующие на него смотрят и только и ждут, чтобы он срезался. Тогда он, пока другие делали доклады, полностью переписал свой и выступил так удачно, что всех просто изумил. Но потом ему стало казаться, что председательствующий на конференции профессор недоволен и завидует ему. Всю ночь он не спал. И ему стало казаться, что все против него сговорились и готовы устроить ему какую-то пакость. Идеи отношения, таким образом, минуя бред, перешли в идеи преследования. Здесь можно обратиться к понятию согласованной шизофрении , когда развитие болезни идет, как будто больной выучил учебник психиатрии. Отчего так бывает? Блейлер писал, что могут быть талантливые шизофреники, а могут быть и бездарные. Согласованный шизофреник – это бездарный душевнобольной. У него болезнь протекает, «как у всех». Бездарный шизофреник хуже здорового нормотика. Тот, по крайней мере, может выполнять какую-то работу, быть инженером или бухгалтером. А от шизофреника всегда ждут, что он будет гений. Это романтическое представление о безумии было посеяно Ломброзо и впитало в себя культурный опыт XX века. Если ты шизофреник, то, будь добр, пиши картины не хуже Ван Гога или музыку на уровне Шостаковича. Но он для этого слишком правильный больной. Он лекарства принимает регулярно. Какой уж тут Ван Гог! Да он и в обыденной жизни бесполезен. И таких будет все больше и больше, потому что шизофрения как большой культурный проект осталась в XX веке. И вообще это 16 Николл М. Психологические комментарии к учению Гурджиева и Успенского. М., 2003. предрассудок, что раз гений, значит, непременно душевнобольной. Может быть, только короткий период это и было так. Двадцатый век еще не показал себя. Непонятно, что это такое в культурном отношении, какие там будут доминанты, какие болезни. Ясно, по крайней мере, что все больше оборотов набирает компьютерная аддикция, своеобразный «психоз вдвоем с компьютером», где компьютер выступает как индуктор чего-то вроде бреда воздействия. Послушав многих людей, убеждаешься, что, если бы можно было, они бы вообще влезли в компьютер и ночевали бы там и видели электронные сны. Как это лечить, непонятно. Человек полностью аутизируется. Ведь по компьютеру можно заказать книги, еду, лекарства, все, что угодно. Отними у такого человека компьютер, и у него начнется ломка. Он ведь уже не может нормально общаться с живыми людьми, забыл, как это делается. Но это еще не самое страшное. В конце концов, и алкоголиков, и наркоманов лечат, если они сами этого хотят. Страшнее всего – органический психоз. Мы его почти не видим. Это психоз людей из глухих деревень, где нет никаких компьютеров и даже телевизоров, и телефон, может, на всю деревню один в сельсовете. У этих людей почти нет шизо-. Их психика складывается мозаически как смесь истерика, циклоида и эпилептоида. Они крайне нестабильны. Грубы, склонны к алкоголизму, насилию и инцесту. В больших городах из таких людей формируются низшие звенья бандитских сообществ, так называемые «братки», для которых убить человека – что плюнуть. Таких людей становится все больше и больше. Почему? Потому что человеческая раса портится, города заполняются низами национальных меньшинств. Постепенно они могут вытеснить коренное городское население. У них свой согласованный бред. Психика этих людей почти не изучена. Когда я занимался этим вопросом, то практически никакой литературы не нашел. И немудрено. Ведь эти люди никогда не обращаются за помощью к психиатрам. Согласованный шизофренический процесс напоминает классический художественный нарратив, например, драму или даже, скорее, трагедию. Бред отношения – экспозиция, бред преследования – завязка, бред воздействия – кульминация, бред величия – трагическая развязка. Но эта «сознательная» поверхностная наррация представляет шизофрению с точки зрения здорового homo narrativus. На самом деле шизофренический бред происходит симультанно. В центре так или иначе бред воздействия, а от него кругами расходятся отношение, преследование и величие. Бессознательная наррация также симультанна. Это звучит как парадокс – наррация ведь предполагает некое развертывание во времени, т. е. сукцессию. Но мы говорим о бессознательной наррации, где нет разграничения внутреннего и внешнего, реального и вымышленного, слова и вещи, высказывания о событии и самого события. Это «инкорпорирующая» наррация. Однако если бы не было бессознательной наррации, то не было бы и «сознательной» обычной сукцессивной наррации. Недаром Лакан подчеркивал, что бессознательное структурировано как язык. А язык тоже нечто симультанное, но без него не может существовать сукцессивная речь. Согласованная «правильная» шизофрения – это речь. Настоящая подлинная шизофрения – это язык. Этот язык можно изучать, но применительно к шизофрении самим словом «язык» следует пользоваться с большой осторожностью. Прежде всего потому, что в этом «языке» практически нет означающего, плана выражения, денотативной сферы. Ведь мы только условно отождествляем бред с речью. На самом деле бредящий может вообще ничего не говорить. Он просто что-то видит или слышит, или осязает, чего с точки зрения стоящего рядом «нормального человека» не существует. Шизофреник в своем бреду оперирует чистыми смыслами. Мы не можем себе представить, чтобы вещь была одновременно словом, а предложение – событием, а шизофреник может, потому что в нашем смысле там нет ни вещи, ни слова, он просто галлюцинирует. Второй особенностью шизофренического «языка», производной от первой, является потеря арбитрарности. Если для шизофреника слово «стол» и вещь «стол» – это одно и то же, то они не могут быть не похожими друг на друга, как они непохожи для нас с вами. Тем более что в шизофреническом бреду стол может быть тем же самым, что очки или социализм. Нельзя сказать: стул – это социализм. Но можно сказать: этот больной думает, что стул – это социализм. Именно вследствие этих особенностей шизофренического «языка» бессознательная наррация является симультанной. Шизофреническое предложение «Вбегает мертвый господин» с синтаксической точки зрения вполне стандартно, но с семантической точки зрения – дефектно. Во-первых, мертвецы не бегают, во-вторых, их не называют господами, это обезмодаленные трупы. Как в мистерии Введенского «Кругом возможно Бог»: Мужчина пахнущий могилою, уж не барон, не генерал, ни князь, ни граф, ни комиссар, ни Красной армии боец… Итак, «Вбегает мертвый господин» – это не предложение «нормальной речи». Это шизофреническая бессознательная наррация. Когда мальчик ест мороженое, то это сукцессивное действие, но когда вбегает мертвый господин – это симультанность именно потому, что «так не бывает», это можно только представить себе в воображении, т. е. мгновенно. «Бессознательное сознание» острого психотика – это «Вбегает мертвый господин» в десятой степени, отраженный в бесконечных осколках разбитого зеркала Тролля, которыми запорошены глаза шизофреника. Поэтому он и видит не так, как мы. Он видит бесконечное многообразие мельчайших отраженных друг в друге осколков. Если вспомнить картины шизофреника Босха, то можно приблизительно представить то, о чем здесь говорится. Эти осколки могут, правда, связываться в химерические констелляции «полужуравлей-полукотов», тогда это будет похоже на полотна Дали, – констелляции, где перемешано внутреннее или внешнее, как на картинах Магритта, или «подлинное» (документальное) и вымышленное, как в фильме Сокурова «Скорбное бесчувствие». Почему потеря ориентации между внутренним и внешним является столь фундаментальной для всякой психопатологии? Для психотика внутреннее выступает как внешнее. Для невротика – внешнее как внутреннее, он все «принимает слишком близко к сердцу». Что кроется за оппозицией внутреннего и внешнего? Положение плода внутри матери и болезненный выход наружу при рождении. Отношение внутреннего и внешнего связано также с проблемой психотического языка, элементы которого по своему происхождению являются чем-то внутренним, так как они идут «из головы», но при психозе воспринимаются как внешние, как «вещи», странные объекты. Психотическое пространство представляет собой лабиринт, из которого нет выхода. Это блестяще показано Линчем в финале последней серии «Твин Пикс», когда агент Купер мечется между красными шторами, где внешнее и внутреннее окончательно путаются. Почему же диалектика внутреннего и внешнего так важна? Только ли потому, что утроба, дом, комната – это ощущение безопасности? А гроб? А клаустрофобия? Между внутренним и внешним находится медиативная область, которую открыл Дональд Винникотт применительно к детской психологии и назвал ее «переходными объектами» – кусочек одеяла, кукла, любая игрушка. Отчасти этот объект принадлежит внешнему миру. Но он также тесно связан с внутренним душевным миром ребенка и поэтому опосредует опасный переход из внутреннего во внешнее. Вероятно, первым переходным объектом является материнская грудь (хотя я не помню, чтобы Винникотт писал об этом). Но грудь (здесь мы уже переходим в область метапсихологии Мелани Кляйн) расщепляется на «хорошую» и «плохую». Хорошая грудь – это «внутренняя» и «бессознательная», плохая – «внешняя» и «сознательная» (впрочем, Мелани Кляйн об этом не писала). Сосание груди – это первая наррация в жизни человека. Но эта наррация осложняется перипетиями параноидно-шизоидной позиции, которая в определенном смысле представляет собой не что иное как борьбу внешнего и внутреннего. Ребенок может галлюцинаторно пожирать плохую грудь, раздроблять ее на мелкие части внутри себя, потому что она преследовала его. Это матрица антинаррации будущего психотического поведения. Что значит антинаррация? Любая наррация направлена на завершение, на исчерпание энтропии. Антинаррация ориентирована на патологическое разрушение. С точки зрения Мелани Кляйн параноидно-шизоидная позиция является выражением младенческого инстинкта смерти. На нашем языке функция борьбы между инстинктами жизни и смерти заключается в диалектике внутреннего и внешнего. Психотик ненавидит свое тело и галлюцинаторно может вообще лишить его внутренностей. Отсюда концепт тела без органов, придуманный психотиком Антоненом Арто. В сущности, бред воздействия – результат патологической динамики внутреннего и внешнего. Как показал впервые Вильгельм Райх, шизофреник теряет связь со своим телом. Его тело отчуждается и превращается в воздействующую на него силу. Воздействие не обязательно носит негативный характер, оно может быть аранжировано мегаломанически, как это показал Чехов в рассказе «Черный монах». Чаще всего оно амбивалентно, как в случае пациентки Райха, страдавшей бредом воздействия, который описан им в последней главе книги «Анализ характера». По-видимому, диалектика внутреннего и внешнего является выражением фундаментальной амбивалентности мышления шизофреника и человека в целом. Эта амбивалентность обусловлена арбитрарностью нашего языка: слова не похожи на вещи, а предложения – на события17. Эта особенность делает человека совершенно уникальным видом на Земле. Самое интересное, что, когда человек стал мыслить абстрактно, эта арбитрарность исчезла. В самом деле, слова «капитализм» или «экзистенция» ни похожи, ни не похожи на капитализм и экзистенцию. Вот это и есть высшее достижение человеческого разума. При этом характерно, что абстрактные слова освобождены не только от арбитрарности, но и от диалектики внутреннего и внешнего. Именно в абстрактном мышлении, столь опасно близком к шизоидному мудрствованию, человеческая культура создает свои наиболее фундаментальные ценности. Шизофреник думает «вещами», а не словами. Но эти «вещи» совершенно противоположны нашим обычным предметам, денотатам. Это «вещи» – смыслы. Шизофренический мир кажется абсурдным, бессмысленным. Но это не так. На самом деле, кроме чистых смыслов, у психотика-шизофреника ничего и не остается. Именно потому, что предложение «Вбегает мертвый господин» ничему не соответствует в «реальном мире», оно является сугубо семантическим. Что же означает это предложение? В кататонической аранжировке оно может обозначать внутреннюю борьбу обездвиженности и крайнего возбуждения. В гебефренической аранжировке оно может обозначать глумливую дурашливость. Но что оно означает в контексте самой мистерии «Кругом возможно Бог»? Кто такой этот мертвый господин, который в конце поэмы вбегает и «молча удаляет время»? Очевидно, что это и есть Господь Бог, мертвый Бог Ницше и Хайдеггера. Что нам дает этот пример? Он раскрывает особую прагматику шизофренического мира, главная особенность которого состоит в том, что в возможных мирах шизофреника отсутствует то, что мы называем действительным миром. Для него как раз наш действительный мир не существует, а все остальные возможные миры в равной мере становятся действительными. Шизофреник оперирует многозначными логиками18. Эта особенность напрямую связана с диалектикой внутреннего и внешнего, которая была проанализирована нами выше. Для «нормального человека» внешний действительный мир – один. Внутренних воображаемых миров множество, но они мыслятся как ненастоящие, виртуальные. В мире же психотикашизофреника внутреннее становится внешним, поэтому он переносит множество возможных миров в свою действительность, которая становится таким образом на несколько порядков богаче, чем действительность «нормального человека». На логическом уровне это 17 См.: Руднев В. Введение в шизореальность. М., 2011. 18 Подробнее см. первую главу книги: Руднев В. Диалог с безумием. М., 2005. соответствует тому, что в множестве шизофренических девиртуализированных миров не действует закон исключенного третьего: «Я такой человек, как все, и я не такой человек, как все (пример Блейлера). В сущности, в этой амбивалентности нет ничего причудливого. Если этой фразе предпослать модальный контекст, ее сможет произнести любой человек: «В определенном смысле я такой же человек, как все, но в другом смысле я не такой человек, как все». Однако речь психотика не знает модальностей. Он не пользуется пропозициональными установками, не говорит: «Мне кажется, что…», «Я думаю, что…». Он всегда уверен в том, что он говорит и делает, даже если ничего не говорит и не делает, а просто молча лежит на койке. Категории истинного и ложного чужды шизофреническому мышлению. Высказывание «Вбегает мертвый господин» не может быть ни истинным, ни ложным. Оно выражает чистую семантику. Что значит чистая семантика без категорий истинного и ложного? На языке homo normalis она соответствует категории вымышленного. Когда Пушкин пишет «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова», никому не приходит в голову, что здесь описано событие, когда-либо имевшее место. В сущности, восприятие художественного дискурса – не меньшая загадка, чем шизофреническое мышление. Мы с удовольствием читаем истории о никогда не происходивших событиях. Если вдуматься, это абсурд, какой-то непонятный самообман. И мы еще после этого удивляемся особенностям шизофренического бреда («И эти люди запрещают мне ковырять в носу!»). Либо мы сами шизофреники, либо шизофрении действительно не существует. Я думаю, и то и другое отчасти верно. Здесь важно, что обычные люди оперируют категориями «так бывает» и «так не бывает». «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» – «так бывает», а «Вбегает мертвый господин» – «так не бывает». Но, вообще говоря, мы на самом деле не знаем, как бывает и как не бывает. Для человека XIX века самолет и телефон, не говоря уж об Интернете – это из области «так не бывает». Для первобытного человека живой мертвец – это из области «так бывает». Поэтому для мифологического сознания категория вымышленного была бы непонятной. Для шизофреника она тоже непонятна. Для шизофреника нет ничего невозможного, так как он живет в сфере невозможного с точки зрения обычных людей. Квантовую физику изобрела группа гениальных шизофреников, для которых тоже не было ничего невозможного. Язык квантовой физики элиминирует категории истинного и ложного, подлинного и вымышленного, внутреннего и внешнего. В этом смысле кризис научного мышления конца XX – начала XXI века возник из-за того, что шизофрения перестала быть актуальной как большой культурный проект. Следствием девиртуализации, онтологизации возможных миров в шизофреническом мире является заселение его странными химерическими объектами, а также дубликатами слов и вещей. В своем мире поэтому шизофреник может встретить самого себя, как в стихотворении Блока «Двойник»: Однажды в октябрьском тумане Я брёл, вспоминая напев. (О, миг непродажных лобзаний! О, ласки некупленных дев!) И вот – в непроглядном тумане Возник позабытый напев. И стала мне молодость сниться, И ты, как живая, и ты… И стал я мечтой уноситься От ветра, дождя, темноты… (Так ранняя молодость снится. А ты-то, вернёшься ли ты?) Вдруг вижу – из ночи туманной, Шатаясь, подходит ко мне Стареющий юноша (странно, Не снился ли мне он во сне?), Выходит из ночи туманной И прямо подходит ко мне. И шепчет: «Устал я шататься, Промозглым туманом дышать, В чужих зеркалах отражаться И женщин чужих целовать…». И стало мне странным казаться, Что я его встречу опять… Вдруг – он улыбнулся нахально, — И нет близ меня никого… Знаком этот образ печальный, И где-то я видел его… Быть может, себя самого Я встретил на глади зеркальной? Он может со своим двойником вести нескончаемые споры, как в «Школе для дураков» Саши Соколова. Этот двойник может отождествляться с дьявольской силой при бреде воздействия. Райх в указанной выше последней главе книги «Анализа характера» отмечал, что во внутреннем мире homo normalis существуют как божественное, так и дьявольское начало. В шизофреническом мире они поляризуются и, как правило, дьявольское начало становится преследующим и воздействующим. Так или иначе, опустошенный шизофреником действительный мир заменяется онтологизированными возможными мирами. Поэтому в онтологическом плане шизофреник богаче «здорового» человека. Но он ведет себя с вымышленными с нашей точки зрения персонажами своего мира так, как будто они являются реальными, т. е. не зависят от его воли. В определенном смысле это можно назвать синдромом Дориана Грея, так как его портрет приобретает вторичную реальность, а сам Дориан Грей становится «вымышленным». И действительно, если кто и является вымышленным в шизофреническом мире, так это сам шизофреник. Он страдает тем, что Рональд Лэйнг назвал «онтологической неуверенностью»19. Он чувствует свою пустоту, мертвенность, ненастоящесть. Такова плата за онтологизацию возможных миров при шизофрении. Между Я шизофреника и фантастическим миром онтологизированных странных объектов осуществляется связь за счет «пенетративных», по выражению А. С. Сосланда20, элементов, например, электрического тока или «лучей», как в бредовой системе Шребера. Эти лучи могут напрямую связывать человека с Богом, с которым шизофреник может существовать «на равной ноге», в то время как связь с обычными людьми редуцируется или вовсе утрачивается. Почему шизофреник не может общаться со «здоровыми»? Потому что у них нет общего языка. Обычный человек видит обычные вещи, которые не видит шизофреник. Шизофреник видит и слышит необычные вещи, которые не видит обычный человек. Что же это за необычные вещи? Бион назвал их странными объектами. Мы дополнили бионовский концептуальный аппарат терминами «странные факты», «странные концепты», «странные 19 Лэнг Р. Расколотое Я: Антипсихиатрия. М.: Белый кролик, 1995. 20 Сосланд А. С. Что годится для бреда? // Московский психотерапевтический журнал. 2001. № 1. теории» и «странные люди»21. Пример странного факта – «Вбегает мертвый господин», пример странного концепта – тело без органов, пример странной теории – квантовая механика, пример странного человека – Людвиг Витгенштейн. При этом важно понимать, что подобные сущности пребывают в «странном пространстве» за пределами противоположности внутреннего и внешнего. Пример такого шизофренического пространства трудно привести. Его можно описать дескриптивно. Оно находится ни здесь, ни там, ни нигде, оно трансгрессивно обычному пространству. Так в сериале Линча «Твин Пикс» есть подчеркнуто обычные пространства – кафе Нормы или кабинет шерифа, а есть подчеркнуто странные – «Черный Вигвам», где в красных психотических шторах путается агент Купер. Это пространство Ниоткуда и Никуда. Например, непонятно, откуда вбегает мертвый господин и куда он вбегает. Возможно, это какое-то особое пространство между физической жизнью и психической смертью. Таким же странным является и шизофреническое время. Это ни сейчас, ни тогда, ни нигде, как пишет Саша Соколов в «Школе для дураков»: Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое. Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда – череда дней. Никакой череды дней нет, дни приходят когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. Все это нагромождение причудливостей определяет тот факт, что шизофреник неуловим для обычного человека. Мы видим сумашедшего, который нелепо жестикулирует, разговаривает сам с собой, бьется в судорогах. Но то, что мы видим, – это просто поломанный механизм. Чтобы понять психотика, надо самому стать психотиком хотя бы на время. Поскольку у каждого человека есть психотическая часть, то это в принципе возможно. Но для этого необходимо также обладать эмпатией опытного психотерапевта. Еще раз зададимся вопросом: что такое шизофрения? Можно рискнуть и сказать так: шизофрения – это такое положение вещей, когда человек перестает быть самим собой. Но что значит перестать быть самим собой? Я думаю, это очень важный и сложный вопрос. Являюсь ли я, Вадим Руднев, самим собой? Вроде бы да, в том смысле, что я Вадим Руднев. Но что бы значило для меня не быть самим собой? Например, я точно бы перестал быть самим собой, если бы потерял способность писать книги. Значит ли это, что для меня быть самим собой – это значит писать книги по философии и психологии? В определенном смысле да. Но значит ли это, что если я перестану писать книги (перестану быть самим собой), то я превращусь в шизофреника? Какие философско-психологические признаки шизофрении мы наметили выше? 1. Неразграничение внутреннего и внешнего. 2. Неразграничение действительного и вымышленного. 3. Онтологизация возможных миров. Разграничиваю ли я внутреннее и внешнее? Не являюсь ли я телом без органов? Я ведь никогда не видел своих внутренних органов. Я просто привык думать, что они у меня есть, как у всех людей. Вероятно, это и есть согласованный бред. Все люди, если они не психотики, находятся в состоянии согласованного бреда. Это значит, они верят во что-то, что не дают труда себе проверить. Например, что есть внутреннее и есть внешнее. Но я всеми силами пытаюсь вырваться из своего согласованного бреда. Я допускаю, например, что все люди – вымышленные персонажи или галлюцинирующие галлюцинации и реальности не существует. Но это все похоже на интеллектуальные уловки. Например, если бы мы не знали слова «реальность», то у нас не было бы очередной философской проблемы, может быть, 21 Руднев В. Странные объекты: Феноменология психотического мышления. М., 2014. самой важной. Тогда я задаю себе следующий вопрос: разграничиваю ли я действительное и вымышленное? Ну, я твердо уверен, что князь Андрей Болконский – это вымышленный персонаж, а Лев Толстой – реальный человек. Но вот Даниил Андреев в «Розе мира» полагает, что Андрей Болконский такой же человек, как и Лев Толстой. Допустим, что Даниил Андреев – шизофреник, но это не мешает ему быть умным и порядочным человеком. Но вот если бы я встретил Андрея Болконского, что бы я подумал? Наверное, что я сошел с ума. Но если бы я встретил Бетховена, я подумал бы то же самое. В чем же отличие вымышленного персонажа от реального человека? Непонятно. Я задаю себе третий вопрос: ощущаю ли я на себе феномен онтологизации возможных миров. В сущности, это тот же Андрей Болконский. Я не могу себя заставить быть шизофреником! Но бред и галлюцинации, т. е. все то, на чем зиждутся перечисленные три признака шизофрении, вовсе не обязательны для того, чтобы быть шизофреником. Например, существует «простая шизофрения», без бреда и галлюцинаций. Если вспомнить «Случай Эллен Вест», описанный Л. Бинсвангером, то весь психоз этой девушки заключался в том, что она одновременно хотела есть и хотела похудеть22. Следовательно, необходимо ввести четвертый признак шизофрении. Его можно назвать принципом противоречия: для шизофреника не работает принцип исключенного третьего, его логика паранепротиворечива. Очень хороший пример приводит Лэйнг в «Расколотом Я», когда его пациентка девушка Джулия говорит о себе в третьем лице: «Этот ребенок мертв и не мертв». Почему для психотика-шизофреника возможно одновременно быть мертвым и не мертвым? Отчасти вследствие того, что он мертв психически и не мертв физически. Но, с другой стороны, это второе следствие из третьего признака шизофрении, а именно онтологизации возможных миров. И здесь не подойдут оговорки вроде «в определенном смысле». Есть два возможных мира – один мертвый, другой живой, оба они могут сосуществовать в одном человеке; такова логика шизофреника. Конечно, и здесь можно повернуть в сторону согласованного бреда. Так Тургенев сказал в финале «Отцов и детей» про Павла Петровича Кирсанова: «Да он и был мертвец!» Но это метафора, а шизофренический мир не знает метафор, это мир буквального – вбегает мертвый господин! Такое антиметафорическое шизофреническое мышление пошло от Иисуса Христа, который навязал людям психологию, носившую психотический характер23. Он проповедовал, что внутреннее важнее внешнего. По его логике, гораздо хуже согрешить «в сердце своем», чем во внешней реальности. То есть Он внутреннее поставил на место внешнего – это психотическая логика (но также и логика новой модели реальности)24. Отсюда же принцип «Царствие Божие внутри вас», который Его учеников шокировал. Учение Христа – это шизофренизация человека, но не в том согласованном режиме, в котором человек пребывал до Него. А после Него для отцов церкви это становилось нормой. Отсюда бредовое высказывание Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно». Конечно, верить можно только в абсурд. Глупо верить в очевидные вещи. Абсурд – третье следствие шизофренического принципа онтологизации возможных миров: раз все возможное становится действительным, то самое существенное, что абсурд тоже действителен. Новый Тертуллиан мог бы сказать: «Да здравствует круглый черный квадрат!» Экзистенциальная основа любого бреда состоит в том, что с человеком происходит то, 22 Бинсвангер Л . Случай Эллен Вест // Экзистенциальная психология / Под ред. Р. Мея. Экзистенция: Новое измерение психиатрии и психологии / Под ред. Р. Мея, Э. Энджела, Г. Элленбергера. М.: Апрель-Пресс – Эксмо, 2001. 23 Подробно см.: Руднев В. Иисус Христос и философия обыденного языка. М.: Аграф, 2013. 24 Ср. анализ предложения «За окном больно» в кн.: Руднев В. Новая модель реальности. М.: Дело, 2015. что с ним не происходит. То, что с ним происходит, в то же самое время с ним не происходит. Ситуация бреда в самом основании включена в фундаментальную двойственность. Человек убежден, что с ним что-то происходит (на него все обращают внимание, его преследуют и т. д.). В то же время мы, наблюдающие за ним, убеждены, что с ним как раз этого не происходит (на него никто не обращает внимания, его никто не преследует и т. д.). Если рассматривать эту двойственность с позиций бинарной логики, то она неразрешима. Либо с ним это происходит, либо нет, tertium non datur. Бинарная логика, т. е. логика истинного и ложного, как это ни парадоксально, глубоко субъективна. С его точки зрения с ним что-то происходит, с нашей – нет. Что если подняться над этой субъективностью, отменив закон исключенного третьего? Тогда получится следующее: с ним это происходит, и с ним этого не происходит. Обе точки зрения в равной мере имеют право на существование. Это будет такой мир, где события одновременно могут происходить и не происходить. Говоря таким образом, мы отказываемся от фундаментальности категорий истинного и ложного и переходим на позицию новой модели реальности, где главными категориями являются наррация и смысл. Основной вопрос наррации: что будет дальше? Основной вопрос смысла: что это значит? В этом плане «сумасшедший» гораздо ближе к новой модели реальности, чем «нормальный». Потому что сумасшедшего прежде всего интересует не истинно ли это или ложно, а что с ним будет дальше и что это для него значит. Истина и ложь как логические операторы ему совершенно безразличны. Безумец сам пребывает в Истине (об этом с разных позиций писали Отто Ранк и Фуко)25. Истина окутывает безумного человека со всех сторон – он просто не понимает, что такое ложь. Вот почему шизофреники – чрезвычайно правдивые люди. Итак, на меня все обращают внимание. Что же будет дальше и что же это значит? Возможно, я в чем-то провинился перед людьми, а возможно, я – такая значительная личность, что все поневоле обращают на меня внимание. (Возможно, впрочем, и то, и другое.) Первый путь размышления ведет к бреду преследования, второй – к мегаломании. Логика «нормального» человека здесь будет противоположной: «Вот всю жизнь работаю – и хоть бы кто-нибудь обратил на меня внимание!» Нормальный человек отличается от безумца тем, что он живет в мире, управляемом законом исключенного третьего: либо с мной что-то происходит, либо нет. И даже не важно, что именно со мной происходит, а важно то, на самом деле это происходит или нет. Если это происходит не на самом деле, например, во сне или при просмотре сериала, то на это вообще не имеет смысла обращать внимание. Такая позиция в корне чужда безумцу. Ему по большому счету все равно, идет ли он по улице, смотрит сериал или спит. В любом случае везде речь идет про него . Именно поэтому категория подлинного и вымышленного, которая производна от категории истинного и ложного, теряет для него смысл. Если в сериале все происходит не так, как ему нравится, он может вмешаться и попытаться устранить мешающего ему персонажа. Чем в этом плане маркирован бред воздействия? Прежде всего своей наивысшей экзистенциальной напряженностью. Человека к чему-то принуждает сверхъестественная сила, и он понимает, что бороться с ней бесполезно. Можно лишь как-то ее обмануть, например, вырезать у себя на груди ножом крест, как это сделала пациентка Райха. Так или иначе, бредящему никогда не придет в голову усомниться в истинности или ложности того, что с ним происходит. Поэтому наиболее оптимальная стратегия при психотерапии бредящего шизофреника – это экзистенциально принять его бред и попытаться подорвать его изнутри общими усилиями, – например, вместе бороться против угрожающей силы26. Вообще говоря, если человек бредит, значит, он решает какую-то важную 25 См. также статью: Руднев В. Истина и безумие // В. Руднев Философия языка и семиотика безумия. М..: Территория будущего, 2007. 26 Такая стратегия описана в статье: Волков П. Рессентимент, резиньяция и психоз // П. Волков. жизненную проблему, и ему следует реально помогать в этом, а не мешать. Когда в «Твин Пиксе» Линча бизнесмен Бенжамен Хорн разоряется, он сходит с ума и начинает бредить, что он – генерал Ли, воюющий с северянами. Когда его близкие помогают ему одолеть генерала Гранта и Юг побеждает, Бен Хорн приходит в себя. Любой нарратив должен быть рассказан. Любой бред должен прийти к своему завершению. Тогда можно думать, что делать дальше. Что является экзистенциальной основой происходящего с человеком в «нормальной» ситуации, которую мы называем согласованным бредом? Тот факт, что человек пребывает в уверенности, что то, что с ним происходит, происходит на самом деле (не в кино, не во сне, не в бреду). Почему же мы все-таки эту ситуацию называем согласованным бредом? Потому ли, что человеку только кажется, что с ним что-то происходит, в то время как он спит или играет второстепенную роль в каком-то заштатном сериале? Если так, то что же отличает согласованный бред от подлинного бреда? Во-первых, чисто количественный фактор. Психически больных на два порядка меньше, чем здоровых. Во-вторых, согласованный бред на то и согласованный, что он разделяется многими людьми, в то время как подлинный бред индивидуален. Логической основой согласованного бреда здорового человека является его убежденность в том, что одно истинно, а противоположное ложно. Эта убежденность ничем не обоснована. Когда человек считает истинным, что он идет по улице, то на самом деле он может быть уверенным только в том, что он так считает. Означает ли это, что если человек идет по улице, то, возможно, он не идет по улице? Мы не знаем этого . Но как же так! Вот я сейчас сижу за компьютером и пишу книгу «Логика бреда». Я это точно знаю. Вот это и есть согласованный бред. Мы договорились считать, что если мы что-то делаем, видим, слышим или осязаем, то это так и есть. Мы согласовали свой бред для того, чтобы справляться с жизнью. Скорее всего, мы это сделали в процессе нашей эволюции постепенно. Человек появился на свет с шизофреническим геном и первоначально был безумен. Но так жить было очень трудно. Постепенно люди заключили нечто вроде общественного договора, что считать безумным, а что нормальным. Так родился согласованный бред, а вместе с ним иллюзия понимания того, что истинно и что ложно. Конечно, сначала люди не понимали отличия истинного от ложного и подлинного от вымышленного, так как их язык был к этому не приспособлен. Высказывание о реальности совпадало с реальностью, как писал А. Ф. Лосев. Думаю, что одновременно с этим первобытный человек не различал также внутреннее и внешнее, а это означает, что он пребывал в том состоянии, которое мы сейчас называем психотическим. Но самое удивительное, что противопоставление внутреннего и внешнего является такой же конвенцией, как и противопоставление истинного и ложного. Оппозиция внутреннего и внешнего – важнейшая часть согласованного бреда. А как на самом деле? Но что значит – на самом деле? Когда мы говорим «на самом деле», мы каждый раз впадаем в иллюзию того, что мы понимаем, что истинно и что ложно. Но истина и ложь суть категории согласованного бреда. Течет река, шумит ветер, идет дождь. Если нет никого, кто бы мог это засвидетельствовать, то это ни истинно, ни ложно. Просто течет река, просто шумит ветер, просто идет дождь. Но в том-то и дело, что такое положение вещей невозможно. Если некому засвидетельствовать, что река течет, то ни о какой реке не может вообще идти речи. Человек сам себе придумал реальность, в которой текут реки, шумит ветер и идет дождь. Поэтому говорить «на самом деле» о чем бы то ни было бессмысленно. Итак, человек не знает, что с ним происходит, и никогда не узнает. Чтобы пробиться к Истине, надо устранить оппозицию истинного и ложного, т. е. выйти за рамки согласованного бреда. Это вполне возможно, потому что в каждом «нормальном» человеке генетически заложена маленькая шизофреническая искорка, которая позволят ему не быть Многообразие человеческих миров. М.: Аграф, 2000. С. 456–504. полным рабом согласованного бреда, рабом «истинного» и «ложного». Только благодаря этой искорке люди читают стихи, поют песни и смотрят фильмы, что с точки зрения оппозиции истинного и ложного – совершенно бессмысленные вещи. Человеческая культура находится за пределами «истинного» и «ложного». В сущности, она и есть новая модель реальности. Нерелевантность категорий истинного и ложного в условиях подлинного бреда влечет за собой его предельную семантизированность. Если в согласованном бреду «нормальной жизни» что-то имеет значение, а что-то нет, то в условиях подлинного бреда значение имеет всё, все наполнено смыслом. Чтобы попытаться понять это положение вещей, напомним, как формируется бред в парадигме Биона. Ненавидимые и непереносимые психотиком мысли экстраецируются им наружу в виде бессвязных кусочков, странных объектов. Здесь важно подчеркнуть тот феномен, который Бион называет «атакой на связи»27. Нормальные, естественные для здоровой психики связи между объектами, будь то дерево и ветка или подлежащее и сказуемое, психотиком безжалостно раздробляются, и в осадок этой психотической галлюцинаторной деятельности (иногда, впрочем, психотик может крушить или разрывать на части реальные вещи) выпадают бессвязные фрагменты. Потом в отчаянной попытке создать из этих фрагментов нечто связное психотик творит химерические констелляции («полужуравлей-полукотов»). Именно из таких химерических констелляций и состоит психотическая «картина мира». Ясно, что подобная картина мира просто не может опираться на категории истинного и ложного, потому что все слишком исковеркано. То, что остается у этих констелляций, – смыслы, причем не старые, допсихотические, а новые, нам совершенно непонятные смыслы. Такими смыслами и оперирует психотическое мышление. Тотальная осмысленность господствует при любом виде бреда. Если это бред отношения, то все вещи-факты-события начинают обращать внимание на человека, наблюдать за ним. Это не обязательно пассажиры в метро или персонажи из телевизора. Это может быть костюм, чайник, очки или уже раздробленные химерические странные объекты, о которых мы писали только что. Различие между одушевленным и неодушевленным пропадает. Предметы могут разговаривать, а люди застывать, как статуи. При бреде преследования в качестве преследующих объектов могут выступать те же химерические констелляции, подобные которым мы видим на картинах Дали. Это могут быть и шахматные фигуры, как в «Защите Лужина». Это может быть все что угодно: носовые платки, пепельницы, социализм, Томас Манн, глаголы, частицы, буквы. При бреде воздействия происходит то же самое, только в усиленном галлюцинаторном режиме. Одного филолога-шизофреника преследовала «двойная сегментация стихотворной речи», которая принуждала его писать стихи. Огромное количество объектов может быть задействовано при бреде величия. Мегаломан при помощи механизма экстраективной идентификации отождествляет себя или апроприирует себе практически все что угодно. Далее приводим красноречивое описание бреда величия пациентки Юнга, портнихи, из его книги «Психология dementia praecox», изданной в 1907 году: 5. Лорелея: владетельница мира – выражает величайшую печаль, потому что мир так испорчен – ведь этот титул для других есть величайшее счастье обычно эти личности чрезвычайно мучаются – которые, я почти хотела бы сказать, имеют несчастье быть владетелями мира – Лорелея есть высочайшее изображение жизни – мир не может указать на более высокие воспоминания – на более высокое благоговение – это подобно памятнику – например, песня ведь говорит: я не знаю, что это означает – ведь так часто случается, что титул владетеля мира совершенно непонятен – что люди говорят, что они не знают, что это означает, это ведь большое несчастье – я ведь устанавливаю 27 Бион У. Нападение на связь // Идеи У. Р. Биона в современной психоаналитической практике: Сборникнаучных трудов / Под ред. А. В. Литвинова, А. Н. Харитонова. М., 2008. С. 149–167. величайший серебряный остров – это очень старая песня, настолько старая, что даже заглавие ее стало неизвестно – это печаль. Когда пациентка говорит: «Я – Лорелея», то это, как видно из вышеприведенного анализа, есть слияние путем неуклюжей аналогии: люди не знают, что означают слова «владетельница мира» – это печально; песня Гейне* говорит: «Я не знаю» и т. д., поэтому пациентка – Лорелея. Видно, что это совершенно точно соответствует типу вышеприведенного примера с сосной. 6. Корона (стереотип: «Я – корона»): высшее благо жизни, которого можно достигнуть – те, которые совершают высшее, достигают короны – высшее жизненное счастье и земное благо – величайшее земное богатство – все это заработано – есть и ленивые люди, всегда остаются бедными – высшая небесная картина – высшее Божество – Мария, Матерь Божия – главный ключ и ключ в небесах, которым прекращают отношения – я сама видела, как задвинули засов ключ необходим для непоколебимой справедливости – титул – Императрица, владетельница мира – высшее заслуженное дворянство. «Корона» снова является аналогией к «высшей точке», но выражает оттенок заслуги и награды. Награда же дается не только на земле, в виде высшего жизненного счастья (богатство, коронование, выслуженное дворянство), но она обретается и на небе, открывающемся пациентке при помощи ключа, и где она даже становится царицей небесной. Это она, ввиду своих заслуг, считает «непоколебимой справедливостью». Наивный отрывок сновидения, несколько напоминающий «вознесение Ганимеда на небо». 7. Главный ключ (стереотип: «Я – главный ключ»): главный ключ есть ключ от дома – я не главный ключ, а дом – дом принадлежит мне – да, я – главный ключ – я устанавливаю, что главный ключ – мое имущество – итак, это складной домовой ключ – ключ, снова открывающий все двери – итак, он заключает в себе и дом – это замыкающий камень свода – монополия – Колокол Шиллера. Пациентка подразумевает тут отмычку, которую имеют врачи. Стереотипом «Я – главный ключ» она разрешает комплекс своего заключения. Здесь мы особенно хорошо видим, как неясны ее представления, а потому и ее слова; то она сама главный ключ, то она лишь «устанавливает» его, то она дом, то он ей принадлежит. Этот ключ, все отпирающий и освобождающий ее, также дает повод к аналогии с небесным ключом, открывающим ей двери к блаженству. 8. Владетельница мира (стереотип: «Я – тройная владетельница мира»). Гранд-отель – жизнь в отеле – омнибус – театральное представление – комедия – парк – экипаж – извозчик – трамвай – уличное движение – дома – вокзал пароход – железная дорога – почта – телеграф – национальный праздник музыка – лавки – библиотека – государство – письма – монограммы – открытки гондолы – депутат – большие дела – выплаты – господа – карета – негр на козлах – флаги – одноконный экипаж – брак – павильон – школьное I дело фабрика банкнот – величайший серебряный остров мира – золото – драгоценные камни – жемчуга – кольца – бриллианты – банк – центральный двор – кредитное учреждение – вилла – рабочие и горничные – ковры – занавеси – зеркала и т. д. В подлинном бреду нет ничего незначимого. Если из-за угла выехала машина, то это значит, что она следит за мной. Если в окне стоит красный цветок в горшке, то это сигнал, но если не стоит, то это тоже сигнал. Нет такой вещи или факта, которые бы ничего не значили. Весь «окружающий мир», а скорее, то, во что его превратила психика шизофреника, вписан в особую, только ему понятную, химерическую систему. Почему это так? С экзистенциальной точки зрения потому, что, за исключением мегаломании, бред – это нечто, что всегда наполнено страхом и ужасом. А когда человек находится в плену у страха и ужаса, он везде ищет их источник, но не находит его, потому что источник находился в его психике, которой уже фактически нет – она распалась на бессвязные обрывки, из которых он построил химерические констелляции. Поэтому в них, в этих таинственных смыслах, он ищет причину своего ужаса. Это похоже на некую семантическую свалку, в которой психотик лихорадочно роется, пытаясь воссоздать утраченный мир. Он начинает эти кусочки из свалки собирать как попало, пытаясь расшифровать таинственное послание, которое зашифровала для него его новая реальность. В сущности, это весьма осмысленная деятельность, потому что дешифровка посланий от мира с точки зрения новой модели реальности – самая главная цель человеческой жизни. Но попытки осмыслить осколки собственной психики приводят к еще большей дезинтеграции, так как абсурд наводит все больший и больший ужас (если опять-таки это не бред величия). В результате либо психотику удается кристаллизовать эти химеры и создать из них фантастическую бредовую реальность, либо наступает двигательное возбуждение или, наоборот, обездвиженность, то есть кататония, самая загадочная форма шизофрении. Если попытаться сформулировать в двух словах, чем мир шизофреника отличается от мира «здорового человека», то можно сказать так: мир первого состоит из раздробленных объектов и их химерических констелляций, тогда как мир второго – из целостных объектов и их естественных сочетаний. Но это так только в идеале, поскольку нет ни чистых шизофреников, ни полностью психически здоровых людей. Для того, чтобы могла сформироваться истинно здоровая психика, ребенку в его развитии нужно преодолеть слишком много препятствий. Сначала параноидно-шизоидная стадия – стадия частичных (будущих раздробленных) объектов. Если ребенок не преодолевает ее, он потом может стать шизофреником. Далее следует депрессивная позиция, на которой формируются целостные объекты. Если ребенку не удается ее преодолеть, он в будущем может заболеть маниакально-депрессивным психозом. Далее идет анальная стадия, на которой формируется компульсивный невроз, и генитальная стадия, на которой формируется истерия. Пройти все эти позиции и стадии, не зафиксировавшись ни на одной из них, очень маловероятно. Что такое депрессивная позиция в соответствии с взглядами Мелани Кляйн? Это такое положение вещей, когда формируется целостный образ матери как значимого объекта. Но плата за формирование целостного объекта матери заключается в том, что она видится как утраченный объект – поэтому позиция и называется депрессивной. Почему ребенок утрачивает обретенный целостный объект? Потому что, когда мать уходит, он думает, что она ушла навсегда и никогда не вернется. Депрессивная позиция оставляет в психике человека, даже прошедшего ее благополучно, неизгладимый след. Поэтому взрослый «здоровый» человек, имеющий дело с целостными объектами, всегда боится их потерять. И он действительно их утрачивает, так как он живет в мире, где господствует нарастание энтропии, в соответствии со вторым началом термодинамики. Что значит в плане семантики, что человек живет в мире утраченных объектов? Прежде всего то, что мы, «здоровые люди», живем не среди вещей, а среди воспоминаний об утраченных вещах. Об этом писал Давид Самойлов: Утраченное мне дороже, Чем обретенное. Оно Так безмятежно, так погоже, Но прожитому не равно. Хотел мне дать забвенье, Боже, И дал мне чувство рубежа Преодоленного. Но все же Томится и болит душа. Читатели заметили, что я все время ставлю слова «здоровый» и «нормальный» применительно к человеческой психике в кавычки. Я это делаю потому, что любой человек (если он не психотик) всегда в той или иной мере невротик. Это не означает (вернее, не всегда означает), что человек страдает истерией или навязчивостями. Человек является невротиком в экзистенциальном смысле. В противоположность психотику невротик внешнее ставит на место внутреннего, т. е. он интериоризирует внешние объекты. Для нас важен не сам внешний мир, а то, как он отражен в нашей психике. Нам важны не сами вещи, а наши образы утраченных вещей. Таким образом, экзистенциальной основой невротической личности является то, что она живет в прошлом, а не в настоящем. Да в настоящем жить и невозможно, его не существует, оно – неуловимая точка. А что значит жить прошлым? Это значит жить не в мире денотаций, а в мире коннотаций. А коннотации – это и есть интериоризированные воспоминания о вещах и событиях. Данный феномен является еще одной причиной того, что мы с легкостью воспринимаем художественный вымысел, поскольку он так же, как и «реальный» опыт невротика, находится в прошлом, а, в сущности, трудно определить, что было в прошлом, а чего не было. Именно потому реальность невротиков – «здоровых людей» – неподлинна, иллюзорна. Для психотика же прошлого вообще не существует, поскольку оно раздроблено его психикой. Психотик живет после Апокалипсиса, т. е. после того, как действие второго начала термодинамики завершилось, так как разрушать уже нечего. Если угодно, психотик живет в мире, где действует несуществующее третье начало термодинамики, равное минуспервому началу (закону сохранения энергии), суть которого заключается в том, что из раздробленных фрагментов психики создаются искусственные химерические констелляции. Но это уже не настоящая материя, не настоящие события, не настоящие вещи. Шизофренический мир не способен развиваться. Это мир минус-вечности. Возникает вопрос, что же такое обыденная реальность вещей и событий, в которой мы, как нам кажется, живем, ходим на работу, строим города, воспитываем детей. Эта «реальность» и есть согласованный бред, в котором мы пребываем, потому что не так легко стать сумасшедшим, пользователем подлинного бреда. Шизофреников всего 1 % на Земле. Если человек прошел параноидно-шизоидную позицию, он обречен пребывать в согласованном бреду иллюзорной реальности. Но именно этот 1 % человечества всегда строил здание фундаментальной культуры, на которой паразитируют остальные 99 %. Глава четвертая. «Зеркало» Андрея Тарковского В чем принципиальное отличие подлинного бреда от согласованного бреда «нормальной жизни»? Например, чем отличается бред отношения от того, что школа Гурджиева называет «внутренним учитыванием», когда человек постоянно озабочен тем, что о нем думают другие? (Например, красивая женщина вошла в комнату, все на нее обратили внимание, и она заметила это и сказала себе: «Все на меня обратили внимание!») Можно сказать, что в случае бреда человеку только кажется , что на него все обращают внимание, а в случае обычной жизни на человека на самом деле все обращают внимание. Но мы выше уже показали, что эти «кажется» и «на самом деле» ничего не стоят. Тогда что же получается? «На меня все обращают внимание» (кажется; бред). – «На меня все обращают внимание» (на самом деле; нормальная жизнь). Если убрать слова в скобках, то различия между бредом и нормой никакого не будет. Тем более что при бреде отношения человек имеет дело еще с целостными объектами, а не с химерическим констелляциями. Тогда возникает вопрос: почему мы это положение вещей называем согласованным бредом? Потому что играется определенная языковая игра: «обращают внимание – не обращают внимания». Выбирается какой-то «отрезок реальности» и нарративизируется. Но почему мы думаем, что реальность состоит из «отрезков»? Реальность, если она вообще есть, есть нечто целостное и огромное, что и вообразить-то невозможно. Потому что для этого надо представить себе не только, кто вошел в комнату и кто обратил на него внимание, но и то, как они все были одеты, и какая мебель была в комнате, и что в этот момент творилось в соседней комнате, и в соседней квартире, и во всем городе, и во всем государстве, и на всей планете, и во всех галактиках, и во всех возможных мирах. Ясно, что это невозможно. Но почему наличие такой невозможности и выделение «отрезков» мы понимаем как бред? Ну, вошел кто-то в комнату, ну, обратили на него внимание или нет… Мы называем это положение вещей согласованным бредом, потому что не существует «на самом деле». Для того чтобы мы имели право сказать «на самом деле», мы должны обладать способностью описывать всю реальность, а это невозможно. Когда «кто-то вошел в комнату», «кто-то прослезился» или «кому-то набили морду», или кто-то прочитал роман «Три мушкетера», то это не «отрезки реальности», потому что реальность по своей природе холистична. Вот если бы мы имели возможность сказать: «Он прочитал роман «Три мушкетера», а в этот момент в соседней комнате… в соседней квартире… в соседнем доме… во всем городе… во всех возможных мирах», – мы бы действительно описали временной срез реальности. А если мы говорим: «Он вошел в комнату, и на него кто-то обратил внимание», то это не реальность, это беллетристика. Потому что верифицировать или фальсифицировать тот факт, что он на самом деле вошел в комнату, можно только одновременно верифицировав или фальсифицировав все остальные факты и события, произошедшие в этот момент соседней комнате, в соседней квартире… и во всех возможных мирах. А это невозможно. Значит, «истина» и «ложь» – иллюзии. Это положение вещей мы и называем согласованным бредом. В чем же все-таки отличие согласованного бреда от подлинного? Получается, ни в чем. Наше деление бреда на согласованный и подлинный – условность. Согласованный бред – разновидность подлинного, т. е. все люди в той или иной мере сумасшедшие. Или наоборот. Подлинный бред – разновидность согласованного, т. е. все люди здоровые. По-видимому, оба подхода отчасти справедливы, отчасти нет. Что же из этого следует? Что не стоит делить людей на нормальных и сумасшедших. Как мы уже неоднократно заявляли, шизофрении не существует. А что же существует? Существует языковая игра в шизофрению. В безумие. В определенном смысле все сумасшедшие – симулянты, как бухгалтер Берлага и его товарищи по палате. Лэйнг красочно описывал в книге «Расколотое Я», как шизофреники в палате спокойно занимаются своими делами, но как только входит врач, они принимают нелепые пользы и начинают играть в сумасшедших. Но мне могут возразить, приведя объективные показатели: уплощение аффекта, галлюцинации… бред. Но давайте согласуем наш бред как-нибудь по-другому. Давайте поделим всех людей на шахматистов и всех остальных, и шахматистов будем сажать в сумасшедшие дома. Или не шахматистов, а, например, часовщиков. Или проституток. То, что выбор произволен, показал еще Фуко в книге «История безумия в классическую эпоху». Так что же нам теперь делать с этой проблемой? А в чем, собственно, проблема? Я, честно говоря, никакой проблемы, не вижу. А вы видите? Каковы закономерности бессознательной бредовой наррации? Прежде всего она подчиняется логике частичных объектов и логике проективной идентификации. Что значит логика частичных объектов? Если логика целостных объектов – это обычная бинарная логика (дождь идет – не дождь не идет), то логика частичных объектов является паранепротиворечивой (дождь идет, и дождь не идет). Дело в том, что целостность «дождь» в затопленном бессознательными констелляциями мышлении психотика не может существовать. Что такое дождь для психотика? Это могут быть разрозненные дождинки, они же слезы на его щеках. Психотик не отделяет себя от мира, так как потерял собственную субъективность. Можно также сказать, что мышление бредящего больного индетерминистично и поэтому во многом похоже на движение элементарных частиц в микромире, где нет субъекта и объекта, поэтому некому оценить, что то, что происходит и не происходит, противоречиво с точки зрения логики макромира. Бион писал, что психика острого шизофреника измельчается в мелкий песок, который поэтому не может подчиняться детерминистским законам больших объектов. Здесь господствует нарративная анархия. Как же здесь проявляется логика проективной идентификации? Дело в том, что в мире психотика нет хороших объектов-контейнеров, в которые он бы мог поместить свою боль. Все контейнеры для него закрыты, они посылают ему его дождинки-слезинки бумерангом обратно. И ускоренные этим обратным движением они бомбардируют остатки его психики, превращая его боль и страх в «безымянный ужас», по выражению Биона. Следствием этого является временна́я беспорядочность бессознательной бредовой наррации и ее нарочитая бессмысленность. Мы можем наблюдать это на примере фильма Тарковского «Зеркало», где идут один за другим на первый взгляд совершенно лишенные смысла и какой-либо осмысленной последовательности эпизоды, никак или почти никак не связанные друг с другом. Так, эпизод исцеления заикающегося юноши женщиной-психотерапевтом – пролог к фильму – как будто вообще не имеет отношения к дальнейшему действию. Потом идет эпизод, в котором мать сидит на изгороди, и к ней подходит прохожий, и между ними происходит какой-то бесполезный и ненужный разговор, потом прохожий уходит, чтобы никогда больше не появиться в фильме. Зачем дан этот эпизод с точки зрения поверхностной «сознательной» нарративной логики – совершенно непонятно. Далее следует эпизод в типографии, где мать думает, что пропустила страшную опечатку (очевидно, вместо «Сталин» – «Сралин»). Этот эпизод заканчивается совершено непонятной и нелогичной истерикой подруги матери Лизы, которая сравнивает ее (совершенно как будто безосновательно) с Марьей Тимофеевной Лебядкиной. Далее следует эпизод бытового разговора героя и его жены – совершенно беспредметного. Потом появляется неизвестно откуда взявшаяся дама и заставляет сына героя Игната читать письмо Чаадаева Пушкину. Далее следует никак не связанный действием эпизод с контуженным военруком. И так продолжается весь фильм. Тем не менее, если принять законы бессознательной наррации, «Зеркало» воспринимается нами как супершедевр. И шедевром представляется каждый его эпизод и каждый кадр. В чем тут дело? В том, что диегезис фильма построен не из целостных объектов, а из психотических осколков травмированной памяти героя. Чем же она травмирована? Можно сказать так: психотической тотальной неуспешностью его жизни. Обратим внимание на то, что каждый из перечисленных эпизодов (кроме пролога – исцеления заикающегося юноши) представляет собой неуспешный речевой акт, патологическую неудачную проективную идентификацию. Уже само появление прохожего – «коммуникативная неудача», потому что он приходит вместо ожидаемого отца. Попытка прохожего соблазнить мать неудачна. Попытка матери найти страшную опечатку тоже неудачна. Разговор между героем и женой свидетельствует только о том, что они давно перестали понимать друг друга. В эпизоде с чтением письма Пушкина мальчик явно не понимает того, что он читает. Дальше появляется его бабушка (постаревшая мать героя), и он не узнает ее, а она его. Тем не менее, если вчувствоваться в логику этого бессознательного нарратива, то можно будет понять каждый его эпизод как осмысленный и связанный с другими эпизодами. Что же конкретно происходит в этом фильме? Начнем с пролога. Исцеление заикающегося юноши женщиной-психотерапевтом есть не что иное как инициация человека к жизни. В конце эпизода юноша отчетливо произносит слова: «Я могу говорить». Человек – говорящее животное. Поэтому происходит как бы второе рождение этого юноши как полноценного человека. Отметим, что этот эпизод дан как просматриваемый Игнатом (сыном главного героя) по телевизору, т. е. это в определенном смысле его инициация. Телевизионный экран – разновидность зеркала в широком смысле. Таким образом, в этом эпизоде происходит подключение Игната к зеркалу его индивидуального бессознательного, которое, по словам Лакана, «структурировано как язык». Поэтому так важна тема говорения. Эта первая инициация, посвящение в индивидуальное бессознательное, рифмуется со второй инициацией, эпизодом, в котором Игнат запинающимся голосом (отсылка к заикающемуся юноше из пролога) читает письмо Пушкина Чаадаеву о судьбах России. Здесь происходит подключение Игната к большому зеркалу коллективного бессознательного – метаисторической проблематике фильма Тарковского. Таким образом бессознательное Игната полностью укомплектовывается28. 28 Понимание бессознательного как направленных друга на друга малого «индивидуального» зеркала и большого коллективного зеркала содержится в нашей книге «Новая модель бессознательного» (М.: Гнозис, 2012). Два этих эпизода успешной инициации Игната к жизни контрастируют с эпизодом неуспешной инициации к смерти его отца Алексея в детстве (Алексея в детстве играет тот же актер, что и Игната), когда мать приводит его в лесную «избушку без окон без дверей» (эквивалент «лесного мужского дома» в архаическом обряде инициации) к «бабе Яге» (по Проппу олицетворяющей смерть), богатой женщине, которой мать хочет продать серьги. Прежде чем получить деньги, она должна совершить обряд отрубания головы петуха, что она и делает, но после этого они с сыном в ужасе уходят, не взяв денег. Таким образом, герой не проходит инициацию к смерти. Но не проходит он и инициации к жизни, субститутом которой является эпизод с прохожим. В чем смысл этого эпизода? Прохожий пытается соблазнить мать на глазах спящих в гамаке ее маленьких детей. Это ничто иное как вариант фрейдовской первосцены (основы будущего эдипова комплекса), когда маленький ребенок в полусне наблюдает секс родителей, который он понимает как насилие отца над матерью, откуда и рождается его Эдипова ненависть к отцу. Но соблазнения не происходит, и вместо отца выступает незнакомый мужчина, т. е. герой не проходит и эту инициацию. Следовательно, можно сделать вывод, что в определенном смысле главного героя «Зеркала» не существует (поэтому мы его и не видим в фильме). Этот ребенок так и не родился. Он остался фантазмом, нарциссическим расширением матери, которая мистическим образом родила сразу внука Игната. Недаром в финале фильма старуха-мать идет по лесу с маленьким сыном. Подключая метаисторический контекст фильма, можно сказать, что это история о нерожденном Спасителе (России?). Эта гипотеза дешифрует финал эпизода в типографии, когда подруга матери Лиза называет ее Марьей Тимофеевной Лебядкиной. Кто такая Лебядкина в «Бесах» Достоевского? По реконструкции русского поэта-символиста Вячеслава Иванова, это Богородица Мать Сыра Земля, которая не может родить Спасителя, так как окружена бесами. Недаром завершение эпизода происходит под музыку Перголези «Stabat mater dolorosa» («Стояла Мать скорбящая»). Бесы в данном случае – Сталин и другие представители империи зла, большевистского ада (эпизод заканчивается тем, что Лиза, кривляясь, произносит: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутилась в сумрачном лесу» (начало дантовского «Ада»). Тема Лебядкиных и бесов закрепляется тем, что Лиза – имя одной из героинь романа Достоевского, а Игнатом зовут самого капитана Лебядкина, брата Марии Тимофеевны. Мы убеждаемся, что кажущийся на уровне наивной «сознательной» феноменологии бессвязным фильм Тарковского представляет собой связный нарратив о структуре бессознательного. Полное бессознательное содержит в себе информацию обо всех возможных мирах всех человеческих существ (а возможно, не только человеческих), или, выражаясь языком современной квантовой физики, оно содержит информацию обо всем мультиверсе. Однако сознание конкретного человека отфильтровывает из этого бесконечного множества возможных миров один возможный мир и называет его действительным миром. Это и есть то, что мы обозначаем как согласованный бред. В противоположность ему подлинный бред психически больного человека – это бессознательная наррация, т. е. наррация, затопленная полным бессознательным. Когда на психотика обрушивается полное бессознательное и затопляет его психику до краев, его психика, естественно, не справляется с этим. Бессознательная наррация обо всех возможных мирах сразу, обо всем мультиверсе, – это все равно, что карта, равная отображаемой ей реальности, она невозможна. Но поскольку у психотика почти полностью редуцировано сознание, оно не может выполнить функцию фильтра, выделяющего «действительный мир» из бессознательного мультиверса. Все возможные миры, таким образом, обрушиваются на психотика целиком. Что происходит дальше, как с этим справляется его психика? Сначала он при помощи механизма проективной идентификации пытается отбросить все это в контейнер (в «мать» или в «психоаналитика»). Если это не получается – а это не получается, так как не существует такого контейнера, который мог бы вместить в себя весь мультиверс, – то развивается то, что мы называем подлинным бредом. Психика острого шизофреника яростно дробит свалившийся на нее бессознательный материал как попало на осколки, смешивая элементы и части констелляций из различных возможных миров, а не выстраивая один «действительный мир», как это делает «здоровая» психика. Вот почему бред, как правило, выглядит фантастичным. Что такое фантастическое? Это дизъюнктивный синтез фрагментов различных возможных миров. Именно это и представляет собой подлинный бред острого шизофреника. Его кажущийся алогизм – следствие того, что в нем присутствует иная логика, чем в согласованном бреде, во многом противоположная. В согласованном бреде нашей так называемой «реальности» господствует фундаментальный закон рефлексивности: а=а. В подлинном бреде он сменяется на закон гиперрефлексивности: а=а=b=c…= бесконечность. Поэтому, как в «Зеркале», мать – это одновременно жена и бабушка, а сын – это и отец, и внук. По этой же причине бредящий может говорить на нескольких языках сразу: Желуди // и это называется по-французски Au Maltraitage // ТАБАК (я тебя так хорошо видел) // Если на каждой линии что-нибудь написано, тогда хорошо! «Теперь ischt albi elfi grad. Другой Hü. Hü. Htist ümme no hä! // Союз каторжных: Burghölzli (пациент называет больницу, где он, очевидно, содержится «союзом каторжных», т. е. тюрьмой. – В. Р.) // Ischt nänig à pres le Manger 29. Что такое в этом плане галлюцинация? Это осколок из нескольких возможных миров, онтологизированный, но не до конца, поскольку галлюцинация есть чистый смысл, у нее нет плана выражения. Но то, что мы в нашем согласованном бреде воспринимаем как план выражения, или сферу денотатов, носит в значительной степени условный характер. Я договорился с самим собой и с другими, что я, Вадим Руднев, живу в Москве на такой-то улице, в такой-то квартире. Но в других возможных мирах полного бессознательного мультиверса я могу жить в других городах и на других улицах под другими именами или вообще не жить нигде. Галлюцинаторный бред позволяет приоткрыть дверь сразу в несколько возможных миров. Теоретически возможно такое состояние бессознательного, когда оно раскрывается полностью, и человек воспринимает весь мультиверс сразу. Обычно это возникает под влиянием психоактивных веществ, но вполне возможно, что и шизофренику открывается весь спектр возможных миров, только не существует языка, который мог бы описать все это бесконечное многообразие. Так или иначе, бредово-галлюцинаторная картина мира гораздо богаче той, которая предстает в согласованном бреде и которую вслед за Чарльзом Тартом мы можем назвать согласованной реальностью. Можно предположить, что эта согласованная реальность не только чрезвычайно узка, но что она разная для разных личностей. Если бы у всего человечества была одна согласованная реальность на всех, то это означало бы, что мы все хорошо понимаем друг друга, а это не так. Согласованный бред – это в первую очередь бред, а лишь во вторую – согласованный. Можно более или менее одинаково понимать, что такое чайник или письменный стол, но невозможно одинаково понимать, что такое, например, постструктурализм. Известно, что «разрушенные» психотики в определенном смысле лучше понимают друг друга, чем «здоровые» люди, потому что язык подлинного бреда гораздо более универсален и свободен. Он свободен от согласованной реальности. Выше мы употребили словосочетание «полное бессознательное», но подробно не раскрыли его значения. Что это такое? Означает ли полное бессознательное то, что мы называем новой моделью бессознательного, т. е. взаимное отражение малого зеркала индивидуального бессознательного и большого зеркала коллективного бессознательного? Скорее, это отражение всех малых зеркал индивидуального бессознательного в огромном зеркале коллективного. Допустим, что так, но означает ли это, что полное бессознательное – это синоним мультиверса, всего множества возможных миров? Здесь кроется некоторое 29 Блейлер Э. Руководство по психиатрии. М., 1993. С. 305. противоречие. Из чего формируются возможные миры? Вроде бы из нашего повседневного опыта. В одном возможном мире я сижу в комнате, в другом гуляю по улице, в третьем сплю и т. д. Но тогда получается, что множество возможных миров – это сумма согласованных бредов нашего повседневного опыта. Но мы не можем себе представить, чтобы бессознательное включало в себя согласованные бреды. Что-то не так в наших рассуждениях. Возможно ли представить, что множество возможных миров включает в себя и миры подлинного бреда? Ответив на этот вопрос положительно, нам придется сразу задать новый вопрос: что это такое – возможный мир подлинного бреда? Мы можем высказать следующее предположение: мультиверс состоит не из множества возможных миров в традиционном понимании этого логико-философского термина, но из порождающих моделей возможных миров. Мы можем заложить в эту мультиверсную порождающую модель все элементы вселенной и комбинировать их каким угодно образом. Это будут бесконечные множества, куда войдут и традиционные возможные миры, и «невозможные возможные миры» (термин Хинтикки), т. е. также и миры подлинного бреда. По-видимому, такое положение вещей и будет соответствовать тому, что мы навали полным бессознательным. Здесь будут существовать и обычные положения вещей типа «Идет дождь», и безумные типа «Вбегает мертвый господин», и все, что только возможно и невозможно. Но что необходимо, чтобы такая порождающая модель действительно могла существовать? Бессознательное и есть такая порождающая модель, которая порождает самое себя. Мы можем сказать: «Вначале было бессознательное». Бессознательное – это и есть Бог, бесконечное множество возможных и невозможных миров. Реальность, таким образом, – это подлинный бред Бога. В этом смысле никакого мира Бог не создавал – все, чем мы жили и живем (и, видимо, будем жить всегда), – это бесконечно продолжающийся Бред Божества, его бессознательная наррация. У этой бессознательной наррации нет не только конца, но и начала, поэтому не в начале было бессознательное, а всегда было, есть и будет только бессознательное. Откуда же тогда появился наш согласованный бред, если мы – лишь частички божественного подлинного бреда? Я думаю, это получилось случайно. Просто бессознательное порождающее устройство породило, условно говоря, не только «Вбегает мертвый господин», но и «Идет дождь». Проект человечества появился в результате произвольного встряхивания бессознательного калейдоскопа. В этом смысле наши согласованные бреды только кажутся согласованными. На самом деле они суть случайные частички подлинного бреда. И сознание – это случайная частичка бессознательного, узенькая щель в нем, из которой мы, как нам кажется, видим наш действительный мир. На самом деле мы видим случайные констелляции бессознательных частичек. Это и есть наш «действительный мир». Но если рассуждать так, то нас самих не существует. Мы лишь галлюцинации Бога. Но ведь в определенном смысле бессознательное – это тоже галлюцинация, поскольку у него нет плана выражения, денотативной сферы. Поэтому можно сказать, что бессознательного тоже не существует. И Бог – это такая же галлюцинирующая галлюцинация, как мы сами. Но мы не сможем пробиться сквозь свой согласованный бред и доказать самим себе, что мы не существуем. На это способны лишь безумцы, да и то, вероятно, не все. Здесь встает другой важный вопрос: возможно ли существование индивидуального бессознательного без подключения его к коллективному, – одно малое зеркало без большого? Если есть только малое зеркало, то что оно отражает? С точки зрения метапсихологии Фрейда оно отражает вытесненные «плохие» констелляции. А что это такое – плохие вытесненные констелляции, и почему они вытесняются? Можно предположить, что это маленькие частички подлинного бреда, прорвавшиеся в согласованный бред. Например, человек увидел, условно говоря, как «вбегает мертвый господин». Этот эпизод и вытеснился в индивидуальное бессознательное. Что же происходит потом? По Фрейду, в определенный момент происходит возвращение вытесненного, и у человека образуется симптом. Чем нас не устраивает эта модель? Тем, что в ней индивидуальное бессознательное представляет собой что-то вроде помойки, кладбища осколков подлинного бреда. Когда человек сходит с ума, все эти осколки вылезают наружу и он ими бредит, т. е. подлинный бред с этой точки зрения представляет собой какие-то отбросы. Мне кажется, что это не так. Потому что если принять эту точку зрения, подлинный бред не имеет никакой креативной силы и ценности. Во-вторых, как можно из отбросов построить бессознательную наррацию? И наконец, такая модель подразумевает, что бессознательное существует один на один с самим собой, вне всякого диалога с другим. По моему мнению, индивидуальное бессознательное не может существовать без коллективного. Именно подключение к коллективному бессознательному придает подлинному бреду его креативность. Ведь коллективное бессознательное есть не что иное, как вся полнота человеческой культуры. Таким образом, культуру мы можем определить как подлинный бред всего человечества. Но как можно говорить, что культура – это бред? Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. Где здесь подлинный бред? Но не будем подходить к понятию бреда слишком примитивно – что это всегда какой-то хаос, словесная окрошка. Пушкин говорил: «Поэзии священный бред». Строки «Я помню чудное мгновенье…» являются подлинным бредом в том смысле, что они рождены подключением индивидуального бессознательного к коллективному и поэтому принадлежат культуре. Как происходит такое подключение? Человек встретил женщину и потом эту индивидуальную встречу подключил к коллективному бессознательному, к теме женщины вообще. Ведь это стихотворение почти не имеет никакого отношения к его реальному прототипу, о котором Пушкин написал непристойные строки в письме: «Вчера с Божьей помощью выеб Керн». Стихотворение посвящено архетипу встречи с возлюбленной. И в этом смысле оно принадлежит коллективному бессознательному, т. е. культуре. Что нужно, чтобы высказывание стало архетипическим? Может ли фраза «Идет дождь» стать архетипическим высказыванием, т. е. элементом подлинного бреда? Представим себе, как человек идет по улице, светит солнце, а он говорит: «Идет дождь». Он бредит. Но причем здесь коллективное бессознательное? А откуда же он взял, что идет дождь? Он взял «Идет дождь» из коллективного бессознательного. Почему именно дождь? Существует ли архетип дождя? Архетипом может быть любое слово, если оно взято не из конкретной ситуации, а из культурного контекста. Что такое дождь в культуре? Это – Дождь. Почему этот человек бредил о дожде? Дождь – это очищение и залог плодородия. Может быть, этот человек хотел иметь ребенка от любимой женщины. Чем было бы «Зеркало» Тарковского без подключения к коллективному бессознательному? Рассказом неизвестно кого неизвестно о чем. Личными воспоминаниями режиссера. Именно на пересечении индивидуального и коллективного выстраивается уникальный дискурс этого фильма: личная судьба его героев в контексте исторической судьбы России. Но и коллективное бессознательное не может существовать без индивидуального. Что такое коллективное бессознательное, взятое само по себе? Абстрактная система архетипов. Если бы большое зеркало не отражалось в малом, культура была бы невозможна. Как можно представить себе то же «Зеркало» Тарковского в виде одного лишь коллективного бессознательного? Это была бы абстрактная риторическая фигура, рассказ о судьбе России, ничего не значащий без личных судеб героев. Но существует все же единственный тип индивидуального бессознательного, который не подключен к коллективному. Это бессознательное органического психопата, у которого начисто отсутствует элемент шизо-. Такой человек живет вне фундаментального культурного дискурса. Его индивидуальная наррация подобна внутреннему монологу идиота Бенджи из первой части «Шума и ярости» Фолкнера. Чем характеризуется подобный дискурс с отсутствующим шизо-? Регистрацией бессмысленных реакций на «внешний мир». Как мы уже писали выше, органиков на Земле становится все больше и больше. Происходит отключение индивидов от коллективного бессознательного, а, стало быть, редукция бессознательного в целом. Это грозит превращением человечества в бессмысленное стадо. Можно ли рассматривать бред как разновидность «индивидуального языка» (private language), который понимает только тот, кто им пользуется, и который, по Витгенштейну, невозможен? Допустим, я сошел с ума и говорю своей жене: «Мо куан лу!», подразумевая под этим «Я тебя люблю!» Что при этом происходит? Я хочу этими словами выразить ей свою любовь, но я хочу это сделать так, как этого никто до меня не делал, чтобы выйти из согласованного бреда в подлинный. (Может быть, потому, что я помню размышления Умберто Эко об «Имени розы».) Но ведь дело в том, что моя жена не поймет, что я хочу сказать словами «Мо куан лу». Допустим, я буду произносить это высказывание с особой нежностью, при этом обнимая ее и несколько раз повторяя «Мо куан лу! Мо куан лу!» И, может быть, она даже в конце концов поймет, что я хочу сказать. (Неплохо бы провести такой эксперимент.) Вспоминается советский фильм «Где находится нофелет?» (имеется в виду «телефон»). Это слово герой произносит, чтобы познакомиться на улице с девушкой. В конец фильма он говорит их девушке, с которой каждый день ездил в одном троллейбусе на работу, долго не замечая ее, и она сразу понимает, что это объяснение в любви. Допустим, моя жена поймет мои слова «Мо куан лу!» и в ответ тоже скажет мне: «Мо куан лу!» Но тогда это уже не будет индивидуальный язык. Это, скорее, будет психоз вдвоем. Но вопрос не в этом. Является ли высказывание «Мо куан лу!» просто переводом высказывания «Я тебя люблю!» на психотический язык или же оно не являются переводом, а выражают некое психотическое состояние любви, в корне отличающееся от состояния любви в рамках согласованного бреда? В чем отличие психотической любви от любви нормальной? И является ли именно психотическая любовь подлинной любовью? Что значит подлинная любовь? Это когда любимый человек для меня гораздо важнее меня самого, я готов за него отдать жизнь. Но обязательно ли для этого быть сумасшедшим? Можно ли сказать, что человек, находящийся в состоянии острого психоза, сам не понимает того, что он говорит и чувствует? С этой точки зрения можно предположить, что он употребляет какие-то неведомые ему самому слова, чтобы передать какие-то неведомые ему самому ощущения. Тогда как можно утверждать, что если я психотик и произношу слова «Мо куан лу!», то они вообще переводимы на обычный непсихотический язык? Что вообще такое психотическое переживание? Оно обычно причудливо, фантастично. Например, судья Шрёбер был убежден в том, что ему необходимо превратиться в женщину и вступить в интимные отношения с Богом. Можно ли по аналогии с индивидуальным языком назвать подобные психотические переживания индивидуальными переживаниями, подразумевая под этим, что их никто, кроме данного психотика, пережить не в состоянии? В таком случае, когда мы хотим понять бред, мы заранее обрекаем себя на неудачу. Но предположим, что человек говорит: «Меня преследуют инопланетяне» или «Я Наполеон!». В определенном смысле эти высказывания понятны. Выражают ли он в таком случае индивидуальные переживания? Ведь многих людей «преследуют инопланетяне». Это такой вполне стереотипный и социально обусловленный бред. Значит, можно сказать, что в некоторых случаях в подлинном бреду имеются элементы согласованного. В каком-то смысле бред преследования инопланетянами является согласованным, раз он присущ многим людям, и тогда наше представление о том, что психотический бред всегда является подлинным, есть некое преувеличение. Можно тогда случае сказать, что психическая норма и безумие представляют собой не полярную противоположность, а скорее континуум, на одной стороне которого (ближайшей к норме) будут идеи отношения («На меня все обращают внимание!»), а на другой стороне бред величия («Я – Наполеон!»), потому что в обычной жизни возможно, что все обращают на человека внимание, например, если он (или она) популярная кинозвезда, но Наполеоном никакой человек быть не может. Но что если мы судим о реальности слишком примитивно? Что если бред величия является выражением одного из мультиверсных миров, в котором этот человек действительно был Наполеоном? Может быть, люди, которых мы называем сумасшедшими, живут в других срезах реальности? Здесь сбивает с толку тот факт, что душевнобольные, как правило, очень страдают от своего состояния (для бреда величия это, впрочем, как раз нехарактерно). Но, во-первых, страдают почти все люди, а во-вторых, возможно, безумцы страдают просто потому, что никто не может разделить их страдания. Например, если бы все люди, которых «преследуют инопланетяне», объединились, им бы стало жить гораздо легче. Глава пятая. Подлинный бред Возникновение подлинного бреда представляется правомерным описать как прорыв Реального (по Лакану) в символическую цепочку бреда согласованного. Реальное – один из важнейших и не до конца понятных концептов «французского Фрейда». Насколько нам известно, он нигде не дает четкого определения того, что такое Реальное. Да это, повидимому, и невозможно, поскольку оно по большому счету несимволизируемо. Приведем фрагмент книги интерпретатора Лакана Виктора Мазина, где понятие Реального объяснено сравнительно ясно. Лакан выводит понятие «реальное» из гетерологии Батая, в которой речь идет о неассимилируемом, отбросах, остатках, о том, что всегда находится за пределами человеческого знания. Лакан определяет реальное как остаток, а потом и как невозможное. Реальное – своего рода несимволизируемый остаток, то, что остается невысказанным. Реальное невозможно. Его невозможно вообразить. Его невозможно символизировать. Реальное травматично. Если символическое – цепочки дифференцированных дискретных означающих, то реальное недифференцировано. Реальное – не реальность. Реальность конструируется за счет воображаемых иллюзий и структур символического. И все же встреча с реальным возможна: нечто не включенное в символическую структуру при психозах может вернуться в галлюцинации 30. В фильме Дэвида Линча «Малхолланд драйв» есть поразительный эпизод такой встречи с Реальным. Двое обедают в кафе, и один рассказывает другому о своем видении монстра, которое явилось ему «ни во сне, ни наяву», что, по Биону, является одним из основных признаков психоза, когда человек «не может ни заснуть, ни проснуться». Далее он ведет своего друга за угол кафе, где из-за угла действительно появляется этот монстр (в исследованиях этого фильма его принято называть Человек-Овца), при виде которого герой умирает. Образ Реального также дан в финале сериала Линча «Твин Пикс», где агент Купер бродит в лабиринтах «Черного Вигвама», где внутреннее переходит во внешнее (что также является признаком психотического мышления31). Квинтэссенцией Реального в «Твин Пиксе» является сексуальный монстр Боб, который вселяется в Лиланда Палмера и принуждает его изнасиловать и убить свою дочь Лору. После выхода агента Купера из Черного Вигвама Боб вселяется в него. Реальное – это, конечно, вбегающий мертвый господин в «Кругом возможно Бог» Александра Введенского или мертвая старуха (ср. «пиковая дама») из повести Даниила Хармса. В русской литературе наиболее впечатляюще 30 Мазин В. Введение в Лакана. М.: Прагматика культуры, 2004. С. 136. 31 Подробно об этом см.: Руднев В. Странные объекты: Феноменология психотического мышления. М.: Академический проект, 2014. работает с Реальным Владимир Сорокин (см. его ранние рассказы «Кисет», «Свободный урок», «Деловое предложение», «Обелиск», «Заседание завкома», а также романы «Норма», «Роман» и «Месяц в Дахау»). Здесь, как правило, в ложный согласованный бред советского дискурса врывается подлинный бред Реального. Проиллюстрируем это появление Реального цитатой из рассказа «Заседание завкома»: Минуту все молчали. Потом Клоков вздохнул, вобрал голову в плечи: – Вообще-то у меня, то есть у нас… ну, в общем, есть одно предложение. Насчет Пискунова. Правда… я не знаю, как оно… ну… как… В общем, поймут ли меня, то есть нас, правильно… – А вы не бойтесь, – ободрил его милиционер, пряча платок, – если оно деловое, конкретное, так сказать, значит, поймут. И одобрят. Клоков посмотрел на Звягинцеву. Она ответила понимающим взглядом. – Ну, в общем, мы предлагаем… – Клоков рассматривал свои руки, – в общем, мы… Все выжидающе смотрели на него. Он облизал губы, поднял голову и выдохнул: – Ну, в общем, есть предложение расстрелять Пискунова. В зале повисла тишина. Милиционер усердно почесал висок и усмехнулся: – Ну-у-у… товарищи… что вы глупости говорите. При чем тут расстрелять… Собравшиеся неуверенно переглянулись. Милиционер засмеялся громче, встал, поднял футляр и, посмеиваясь, пошел к выходу. Все провожали его внимательными взглядами. Возле самой двери он остановился, повернулся и, сдвинув фуражку на затылок, быстро заговорил: – Я тебе, Пискунов, посоветовал бы побольше классической, хорошей музыки слушать. Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Прокофьев, опять же. Музыка знаешь как человека облагораживает? А главное, делает его чище и сознательней. Ты вот, кроме выпивки да танцев, ничего не знаешь, поэтому и работать не хочется. А ты сходи в консерваторию хоть разок, орган послушай. Сразу поймешь многое… – Он помолчал немного, потом вздохнул и продолжал: – А вы, товарищи, вместо того чтоб время вот таким образом терять и заседать впустую, лучше б организовали при заводе клуб любителей классической музыки. Тогда б и молодежь при деле была, и прогулов да пьянства убавилось… Я б распространился еще, да на репетицию опаздываю, так что извините… Он вышел за дверь. Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась и милиционер ворвался в зал с диким, нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, он резко остановился, бросил футляр на пол и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела. – Про… про… прорубоно… прорубоно… – ревел он, тряся головой и широко открывая рот. Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови. – Прорубоно… прорубоно… – захрипела она низким грудным голосом. Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со всего маха ударился лицом о стол. – Прорубоно… про… прорубоно… – произнес он, ворочаясь на столе. Урган покачал головой и забормотал быстро-быстро, едва успевая проговаривать слова: – Ну, если говорить там о технологии прорубоно, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней так и прорубоно местного масштаба у нас не обеспечивается фондами и сырьем по-разному по сварочному а наличными не выдают и агитируют за самофинансирование… Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала. В партере он заворочался и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на зытылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом: – Прорубоно! Прорубоно! Прорубоно! Пискунов и Черногаев спрыгнули со сцены и, имитируя странные движения друг друга, засеменили к входной двери. Приблизившись к неподвижно лежащей уборщице, они взяли ее за ноги и поволокли по проходу к сцене. – Прорубоно! Прорубоно! – хрипло ревел милиционер. Он изогнулся назад еще сильнее, красное лицо его смотрело в потолок зала, тело дрожало. Пискунов с Черногаевым подволокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену. Звягинцева отняла руки от своего окровавленного лица, сильно наклонилась вперед и подошла к лежащей на полу уборщице. Урган тоже подошел к уборщице, бормоча: – Если говорить о технологии прорубоно, граждане десятники, они никогда не ставили высоковольтных опор и добавляли битумные окислители, когда процесс шлифования необходим для наших ответственных дел и решений, и странное чередование узлов сальника и механопровода… Черногаев, Пискунов, Звягинцева и Урган подняли уборщицу с пола и перенесли на стол. Старухин приподнял свое разбитое, посиневшее лицо. Прорубоно , – четко произнес он распухшими губами. Симакова отпустила Хохлова и, не переставая пронзительно выкрикивать, подошла к столу. Хохлов опустился на колени, коснулся лбом пола и стал подгребать руками к лицу разлившиеся по полу рвотные массы. Черногаев, Пискунов, Звягинцева, Урган, Старухин и Симакова окружили лежащую на столе уборщицу и принялись сдирать с нее одежду. Уборщица очнулась и тихо забормотала: – Та и прорубо … так-то и прорубо… – Прорубоно! Прорубоно! – кричала Симакова. – Прорубоно … – хрипела Звягинцева. – Но прорубоно по технически проверенным и экономически обоснованным правилам намазывания валов… – бормотал Урган. – Прорубоно! – ревел милиционер. Вскоре вся одежда была содрана с тела уборщицы. – Эта… ота-та… – бормотала она, лежа на столе. – Пробо! Пробо! Пробо! – закричала Симакова. Уборщицу перевернули спиной кверху и прижали к столу. – Пробо … ота-то… – захрипела уборщица. – Пробойно! Пробойно! – заревел милиционер. Пискунов и Черногаев, приседая и делая кистями рук быстрые вращательные движения, спрыгнули со сцены, подняли лежащий у ног милиционера футляр, поднесли и положили его на край сиены. – Пробойное! Пробойное! – ревел милиционер. Пискунов и Черногаев открыли футляр. Внутри он был разделен пополам деревянной перегородкой. В одной половине лежала кувалда и несколько коротких металлических труб; другая половина была доверху заполнена червями, шевелящимися в коричневато-зеленой слизи. Из-под массы червей выглядывали останки полусгнившей плоти. Черногаев взял кувалду, Пискунов забрал трубы. Труб было пять. – Прободело! Прободело! – заревел милиционер и затрясся сильнее. – Патрубки, патрубки пробойные общечеловеческие ГОСТ 652/58 по неучтенному, – забормотал Урган, вместе со всеми прижимая тело уборщицы к столу. – Длина четыреста двадцать миллиметров, диаметр сорок два миллиметра, толщина стенок три миллиметра, фаска 3 ×5. Пискунов поднес трубы к столу и свалил их на пол. – Прободело… так-то и проб… – бормотала уборщица. Пискунов взял одну трубу и приставил ее заостренным концом к спине уборшицы. – Убойно! Убойно! – заревел милиционер. – Убойно! Убойно! – подхватила Симакова. – Убойно… убойно… – повторял Старухин. – Убойно… – хрипела Звягинцева. Пискунов держал трубу, схватив ее двумя руками. Черногаев стал бить кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял вторую трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил по торцу трубы кувалдой. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял третью трубу и приставил к спине уборшицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял четвертую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял пятую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. – Вытягоно… вытягоно… – забормотал Хохлов в кучку сгребенных им рвотных масс. – Вытягоно! Вытягоно! – закричала Симакова и схватилась обеими руками за торчащую из спины уборшицы трубу. Старухин стал помогать Симаковой, и вдвоем они вытянули трубу. – Вытягоно! Вытягоно! – ревел милиционер. Старухин и Симакова вытянули вторую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули третью трубу и бросили на пол. Пискунов и Черногаев вытянули четвертую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули пятую трубу и бросили на пол. Из-под тела уборщицы обильно потекла кровь. – Сливо! Сливо! – закричала Симакова. Быстро стекая по красному сукну, кровь разливалась на полу тремя большими лужами. Хохлов пополз на коленях к раскрытому футляру. – Нашпиго! Набиво! – заревел милиционер. – Напихо червие! – Напихо червие! – закричала Симакова, и все, кроме милиционера и лежащего в партере Клокова, двинулись к футляру. – Напихо червие , – повторял Старухин. – Напихо… – Напихо в соответствии с технологическими картами произведенное на государственной основе и сделано малое после экономического расчета по третьему кварталу, – бормотал Урган. Каждый из подошедших зачерпнул пригоршню червей из футляра и понес к столу. Подойдя к трупу уборщицы, они стали закладывать червей в отверстия в ее спине. Как только они закончили, милиционер перестал выгибаться и реветь, достал из кармана платок и стал тщательно вытирать мокрое от пота лицо. Выделенные нами бессмысленные слова являются самой сердцевиной Реального. На самом деле они не бессмысленны. В них угадывается некая общая протосемантика – вырубать, вытягивать, сливать, шпиговать. Это те средства, при помощи которых Реальное прорывается в разорванную цепочку символического порядка. Можно сказать, что Реальное – это неуместная высшая реальность подлинного бреда. Представим себе человека с выпущенным наружу кишками. Картина реальна, но неуместна и страшна – это и есть Реальное, которое также можно представить как вывернутое наизнанку бессознательное. В Реальном психотик познает Истину с большой буквы, недоступную нормальному человеку. В книге «Истина и реальность» Отто Ранк писал: С истиной жить невозможно. Для жизни человеку нужны иллюзии, не только внешние иллюзии, такие как искусство, религия, философия, наука и любовь, но внутренние иллюзии, которые обуславливают внешние. Чем больше человек может принимать реальность за истину, видимость за сущность, тем он более стабилен, приспособлен и счастлив. В тот момент, когда мы начинаем искать истину, мы разрушаем реальность и наши с ней отношения. Из сформулированной мною концепции вырастает парадоксальное, но более глубокое понимание сути невроза. Если человек тем более «нормален», чем более он способен принимать видимость реальности за истину, т. е. чем более успешно он может вытеснять, смещать, отрицать, рационализировать, драматизировать и обманывать себя и других, отсюда следует, что страдание невротику причиняет не болезненная реальность, а болезненная истина, которая уже затем делает невыносимой реальность 32. Примерно так об этом писал и Фуко в «Истории безумия». Он говорил, что, «впадая в безумие, человек впадает в свою истину, – что является способом целиком быть этой истиной. Но равным образом и утратить ее»33. Но что такое истина? Когда Пилат задал этот вопрос Христу, Он ничего не ответил, потому что считал неуместным римскому прокуратору повторять слова, сказанные Им ранее: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14: 6). Что значили слова Иисуса? Если рассматривать Его как воплощение Самости, к которой мы можем только стремиться (как считал Юнг), и если мы должны стремиться жить, как Христос, подражать Ему (как полагал Фома Кемпийский), то мы можем только пытаться приближаться к истине, но никогда не узнаем ее до конца. Познание истины есть в определенном смысле главная цель человеческой жизни. Но этот смысл невыразим. Сравним одну из важнейших максим «Логико-философского трактата»: решение проблемы жизни заключается в исчезновении этой проблемы. (Не это ли причина того, что люди, которым стал ясен Смысл жизни после долгих сомнений, все-таки не могли сказать, в чем этот Смысл состоит?) Можно сказать, и, как мне кажется, это будет наиболее корректной постановкой вопроса, что, подобно тому как по Канту пространство и время суть априорные категории чувственности, истина есть априорная категория интеллектуальности. Подобно тому как в ноуменальном мире вещей в себе нет пространства и времени, точно так же там нет и истины. Христос часто повторял: «Истинно, истинно, говорю…». Но Он был наполовину живым человеком, который обращался к живым людям, стоящим несопоставимо ниже его по уровню сознательности, поэтому «Истинно, истинно говорю…» с Его стороны было чем-то вроде властного принуждения. Мишель Фуко писал, что «истина принадлежит этому миру. В нем она производится путем многочисленных принуждений. И в нем она имеет в своем распоряжении многочисленные эффекты власти»34. На уровне сознательности, понимаемой по Гурджиеву, никакой истины нет: «Если бы человек, чей внутренний мир состоит из противоречий, вдруг ощутил бы все эти противоречия одновременно внутри себя, если бы он вдруг почувствовал, что он любит все, что ненавидит, и ненавидит все, что любит; обманывает, когда говорит правду, и говорит правду, когда обманывает; и если бы он мог почувствовать позор и ужас всего этого, то такое состояние можно было бы назвать „совестью“»35. 32 Ранк О. Травма рождения. М.: Аграф 2004. С. 274–275. 33 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 127. 34 Фуко М. Воля к истине, цит. по: Можейко М. А. Истина // Постмодернизм: Энциклопедия. Минск, 2001. С. 342. 35 Успенский П. Д. Поиски чудесного. М., 2003. С. 356. По Гурджиеву, совесть и сознательность – это практически одно и то же. Их различие сугубо интенсиональное: совесть находится в эмоциональном центре, а сознательность в интеллектуальном. Человек не в состоянии справиться с тотальной текучестью и противоречивостью подлинного ноуменального положения вещей, поэтому он и оперирует понятиями истинного и ложного. С противоречиями подлинной ноуменальности может справиться только шизофреник, для которого возможно высказывание «Я такой же человек, как и вы, и я не такой человек, как вы» (известный пример Э. Блейлера) или «Вбегает мертвый господин». Поэт и мыслитель Антонен Арто, который был шизофреником, придумал концепт «тело без органов», который затем развили Делёз и Гваттари в своем шизоанализе . Понять этот концепт на уровне разграничения истинного и ложного невозможно. Он имеет практически такой же статус, как круглый квадрат. Истинность и ложность даны нам в нашем языке, сквозь который мы смотрим на реальность. Только на уровне речевой деятельности в рамках согласованного бреда человек пользуется этими понятиями. Но они являются такой же иллюзией нашего сознания, оперирующего знаками (именно сознания, а не бессознательного, в котором нет знаков и, стало быть, нет и истины и лжи), как пространство и время в кантовском понимании. Киркегор писал, что «истина мыслится как форма психического состояния личности, т. е. она в принципе субъективна. Можно даже сказать, что в нашем феноменальном мире подлинно истинным является только одно – тот факт, что мы что-то говорим, но не то, о чем и как мы говорим»36. Человека в этом смысле можно определить не столько как мыслящее, сколько как говорящее животное. Перефразируя знаменитые слова Декарта, можно сказать: «Я говорю, следовательно я существую». (Впервые, насколько я знаю, человека как говорящее животное определил Лакан.) Но человек говорит, ориентируясь на иллюзию истинности и ложности. Понять же, что истинность и ложность – это иллюзии, оставаясь в рамках языка (а другого способа изложения мыслей у нас нет), будет противоречиво, так как мы будем говорить об иллюзии истины, находясь в самой этой иллюзии и пользуясь ею, поскольку мы говорим . Тем не менее мы предпримем эту попытку. Вообще говоря, с точки зрения логической семантики доказать, что истина – это иллюзия, не так сложно. В 1892 году Готлоб Фреге опубликовал до сих пор не превзойденную работу «Смысл и денотат». Хотя ее не раз сурово критиковали, причем «свои», логики (в первую очередь Рудольф Карнап и Майкл Даммит), однако Фреге устоял. Смысл его работы был такой. Любое предложение в изъявительном наклонении имеет всего два значения, денотата (Bedeutung, это слово переводят и как значение, и как денотат) – истина и ложь. Возьмем предложение «Джон говорит, что Майкл сейчас идет по улице». Если это предложение соответствует реальности, то оно имеет денотат «истинно», если не соответствует, то оно имеет денотат «ложно». Однако это предложение делится на две части: слова Джона о Майкле и тот факт, что он эти слова говорит. Часть предложения, в которой отражен факт, что он их говорит («Джон говорит, что…»), логики назвали пропозициональной установкой (термин Рассела), а слова Джона «Майкл сейчас идет по улице» – содержанием пропозициональной установки, или косвенным контекстом (термин самого Фреге). Так вот Фреге доказал, что косвенный контекст предложения не имеет истинностного значения, т. е. не является ни истиной, ни ложью. Истинностным значением (денотатом) обладает только тот факт, что Джон нечто сказал. Денотатом же косвенного контекста «Майкл сейчас идет по улице» является, по Фреге, его смысл, т. е. высказанное в нем суждение. Итак, как мы и говорили выше, можно более или менее уверенно говорить об истинности самого факта нашего говорения, а не его содержания. Однако есть предложения без пропозициональных установок, которые в школьной грамматике называются простыми предложениями. Просто «Майкл сейчас идет по улице». Но кто говорит, что Майкл сейчас идет по улице? И, если поставить вопрос шире, кто 36 Фуко М. Воля к истине, цит. по: Можейко М. А. Истина // Постмодернизм: Энциклопедия. Минск, 2001. С. 342. за ним наблюдает? Если за Майклом никто не наблюдает, то значение этого предложения не является истиной или ложью. Всегда есть наблюдатель, всегда есть говорящий, т. е. всегда имеется латентная пропозициональная установка. Этот шаг был сделан Джоном Россом и Анной Вежбицкой. Они сформулировали перформативную гипотезу, в соответствии с которой любое предложение является скрытым перформативом. Понятие перформатива ввел английский философ Джон Остин в книге «Как производить действия при помощи слов?» Остин заметил, что есть такие предложения, которые являются одновременно действиями, т. е. частью реальности, на них вообще не распространяется семантика Фреге. Например: «Объявляю вас мужем и женой», «Поздравляю тебя!» «Обещаю никогда этого не делать!» Эти предложения не являются истинными или ложными, они не отражают реальность, а производят в ней определенные действия. И вот Росс и Вежбицка (неявно исходя из предпосылки, что истинным может быть только факт, что человек что-то говорит, но не то, что он говорит) выдвинули гипотезу, в соответствии с которой каждому предложению скрыто предпослана особая пропозициональная установка. Вежбицка формулирует ее так: «Желая, чтобы ты знал об этом, я говорю: …»37. Итак, если принять перформативную гипотезу, то все, что мы говорим, не является ни истинным, ни ложным. Культура XX в. предельно расшатала понятие истины. Постмодернизм его очень сильно деконструировал и обесценил. «В современной философии постмодерна проблема И<стины> является практически неартикулируемой, поскольку в качестве единственной и предельной предметности в постмодернизме выступает текст, рассматриваемый в качестве самодостаточной реальности вне соотнесения с внеязыковой реальностью «означаемого»38. Я понимаю этот тезис с позиций новой модели реальности39. Предложение, якобы описывающее реальность, поскольку оно является скрытым перформативом, просто совпадает с тем фрагментом реальности, который оно, как нам кажется, описывает, т. е. тот факт, что Майкл сейчас идет по улице – это и есть предложение «Майкл сейчас идет по улице», потому что если никто не говорит, что Майкл идет по улице, наблюдая за ним, то эта реальность не существует, как не существует элементарных частиц вне их наблюдения, в соответствии с расширенным пониманием принципа неопределенности Гейзенберга. А. М. Пятигорский такую позицию назвал обзервативной, т. е. наблюдающей философией. Представим себе, что Майкл сейчас идет по улице. И при этом мы не употребляем никаких слов. Это невозможно, потому что мы придумали реальность, а не реальность придумала нас. В соответствии с этим в рамках новой модели реальности мы говорим, что реальность – это наррация. Вот Майкл идет по улице. Реальность рассказывает нам об этом. Но зачем она рассказывает об этом? Если Майкл просто идет по улице, это никому не интересно, а если это никому не интересно, то этого факта просто не существует. А если он все-таки существует, то только потому, что это кому-то интересно: «Куда идет Майкл? Откуда он идет? Какие у него планы? Что будет дальше?» Выделенный курсивом вопрос – это основной вопрос, который мы задаем, когда читаем книги, смотрим фильмы и так далее. Это основной вопрос нарративной онтологии. Мы понимаем наррацию предельно широко. Мы считаем нарративной и фортепианную сонату Бетховена, и матерную речь алкоголика под окном. По нашему мнению, даже самая абстрактная картина (например, «Черный квадрат» Малевича) тоже нам о чем-то рассказывает. О чем же нам рассказывает «Черный квадрат»? Что будет дальше? Очевидно, смерть, черная дыра смерти. 37 Вежбицка А . Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 251. 38 Можейко М. А. Истина // Постмодернизм: Энциклопедия. Минск, 2001. С. 342. 39 Руднев В. Новая модель реальности. М.: Дело, 2015. Но если любая часть реальности нарративна и описывается предложениями, которые не являются ни истинными, ни ложными, то стирается грань между реальностью и вымыслом. Если все предложения языка лишены истинностного значения, то это равносильно тому, что высказывания о реальности (которые сами, как мы показали, являются фрагментами реальности), вымышленные предложения и бред сумасшедшего ничем не отличаются друг от друга – они все не имеют к истине никакого отношения. Между тем, выше мы цитировали Ранка и Фуко, которые писали, что нормальные люди живут в иллюзии, а безумцы пребывают в истине, что как будто теперь противоречит нашим соображениям. Попробуем разобраться во всем этом. Я полагаю, что все виды речевой деятельности представляют собой некий текучий континуум, а не противопоставлены четко друг другу. Возьмем предложение «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная несчастлива по-своему». Имеет ли это высказывание отношение к истине? С точки зрения обычной онтологии имеет. Но ведь оно является первой фразой «Анны Карениной», огромной вымышленной наррации. В то же время это предложение само по себе не является вымыслом, его можно представить как некую моральную сентенцию. Но его можно представить и как бредовое высказывание. Например, один человек говорит другому: «Какая прекрасная погода!» Другой отвечает: «Все счастливые семьи похожи друг на друга…» – «Что ты имеешь в виду?» – «Я имею в виду, что меня преследуют инопланетяне». Подобно тому как значение любого слова меняется в зависимости от контекста, точно так же в зависимости от контекста меняется значение любого высказывания. «Значение есть употребление» (Витгеншейн). Бытовой дискурс, вымышленный дискурс и бредовый дискурс – это разные языковые игры (формы жизни). Но безумец тем отличается от нормального человека, что способен играть в разные языковые игры одновременно. Когда он говорит: «Все счастливые семьи похожи друг на друга», то непонятно, что он имеет в виду – цитату из «Анны Карениной», моральную сентенцию или же он просто не знает сам, что говорит. Я думаю, что и то, и другое, и третье. Мы, нормальные люди, живем лишь в одном из множества возможных миров, который мы называем действительным миром. Безумец живет в мультиверсе. Если и есть какой-то смысл в понятии истины, то она имеет форму дизъюнктивного синтеза (термин Делёза): или и первое, или и второе, или и третье. В этом смысле безумец пребывает в истине, как электрон в квантовой суперпозиции, зависший перед осуществлением одной из возможностей своей траектории. Нормальный человек осуществляет всегда одну из возможностей в точке бифуркации или полифуркации. Безумец выбирает сразу все возможности. Это и есть подлинный бред. Только во всей совокупности контекстов можно понять речь безумца. Поэтому когда мы говорим о бреде как о бессознательной наррации, мы исходим из того, что в бессознательном все протоязыковые игры существуют одновременно. В этом смысле художественное произведение ближе к безумию, потому что оно также может реализовать сразу несколько контекстов. Так, упомянутое начало «Анны Карениной» является одновременно и моральной сентенцией, и прологом ко всей наррации, которая из него вылупливается, как из яйца. Но художественный дискурс ближе к бреду еще и потому, что он не обременен иллюзиями истинностных значений. Мы читаем про Анну Каренину и Вронского, зная, что их никогда не существовало на свете, что лишь помогает нашему сугубо нарративному интересу: что с ними будет дальше? Но не стоит при этом напрочь отрицать значение концепта истины, вернее, иллюзии истины в нарративном дискурсе. Это все равно что сказать, что черного и белого не существует. Может, объективно их и не существует, но они помогают нам ориентироваться в пространстве. Любая наррация является игрой между истиной и ложью, правдой и надувательством. Ольга Фрейденберг писала: «Мы говорим: „Он сказал, что…“; античный человек говорил: „Он сказал, как будто…“… то, о чем повествует или с чем сравнивается, одинаково не достоверно («кажется»). Картина сравнения или рассказа повествующего не есть нечто подлинное, а только… „фикция“… Рассказ – это то, чего нет в действительности, это ее подобие, заведомый вымысел40. Глава шестая. Когда бессознательное говорит Меня всегда поражала странная наивность Лакана в его суждениях о бессознательном как о языке («Бессознательное структурировано как язык») и дискурсе («Бессознательное есть дискурс Другого»). Сейчас я понял простую вещь: само бессознательное конечно, ноумен, вещь в себе, нечто анарративное и внесемиотичное и поэтому непознаваемое подобно сновидению, как показал Норман Малкольм книге «Dreaming» 1958 г., которую я перевел на русский язык и недавно развил его теорию в тексте «Новая модель сновидения»41. Мы не можем исследовать анарративное, ноуменальное. Когда психоаналитики думают, что они исследуют бессознательное, они исследуют на самом деле явленный феномен бессознательного. Первый шаг в ином направлении был сделан Фрейдом в книге «Психопатология обыденной жизни», где он исследовал ошибочные действия (оговорки, описки, забывания слов) как прорвавшиеся наружу клочки бессознательного. В отличие от «Толкования сновидений», где Фрейд думает, что изучает сны, а на самом деле исследует свидетельства о снах (в сущности, «Толкование сновидений» – это гениальная книга о поэтике и феноменологии квазисновиденческого нарратива), «Психопатология обыденной жизни» является гораздо более честной книгой, так как там изучаются спонтанные прорывы бессознательного и именно там формируется виртуозная психоаналитическая техника Фрейда. Что касается Лакана, то, по-видимому, он имел в виду, что именно феноменологически бессознательное являет себя как язык речь и говорит как дискурс Другого. Я предложил в 2011 г. иную модель бессознательного как систему зеркал, направленных друг на друга42. Зеркало – это вырожденный семиотический объект, его «знаки» – лишь кажущиеся отражения, поэтому моя модель ближе к ноуменальному подлинному бессознательному, тем более что зеркала в моей модели направлены друг на друга, что создает эффект бесконечности (бессознательное как бесконечные множества рассматривал в своей замечательной книге Игнасио Матте Бланко43). Но есть случай, когда бессознательное говорит не клочками, как в ошибочных действиях невротика, а действительно полным дискурсом. Это вывернутое наружу бессознательное психотика, которое говорит дискурсом Другого, особенно в бреде воздействия. Чтобы нащупать, что такое бессознательное психотика, воспользуемся бытовым выражением «бессознательное состояние». Это как бы состояние, при котором человек находится в своем бессознательном. Он не «помнит себя» (тоже очень важное бытовое выражение), т. е. у него в данный момент отсутствует собственное Я. Речь может, например, идти о сильном опьянении. Что делает человек, когда он сильно пьян? Он ведет себя подобно психотику. Он может либо просто оцепенеть, заснуть, и это состояние будет подобно кататонии. Он может начать глупо хихикать, неумно шутить, кривляться, приставать к женщинам, т. е. вести себя гебефренически. Но он может вести себя подобно параноидному психотику – кого-то обличать, проявлять агрессивность или, наоборот, испуг и т. д. Вот у этого человека, не помнящего себя, бессознательное будет как бы вывернуто наружу. Все вытесненные в его обычное «трезвое» бессознательное комплексы – сексуальный, властный, 40 Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1978. С. 465. 41 Малкольм Н. Состояние сна. Руднев В. Новая модель сновидения. М.: Академический проект, 2014. 42 Руднев В. Новая модель бессознательного. М.: Гнозис, 2012. 43 Matte Blanko I. Unconscious as Infinite Sets: An Essay in Bi-logic. L, 1979. любой другой – как раз в таком состоянии вылезут, и ему уже некуда и нечего будет вытеснять, у него не будет в этом состоянии цензуры и сопротивления, – в том смысле, в каком употребляют эти термины психоаналитики. Об этом человеке можно одновременно сказать, что он отказался от реальности, если под реальностью понимать общественные нормы и запреты, он не тестирует реальность, но одновременно он переполнен Реальным, он переполнен своим Оно, которое и есть синоним лакановского Реального. У этого человека на данный период как бы отсутствует сознательное. Приведем клинический пример из книги Рыбальского: Больной Т. Г., 38 лет. Диагноз: шизофрения, приступообразно-прогредиентная форма. Алкогольный делирий. <…> Перед последним поступлением 2 дня пил. В состоянии похмелья появилась тревога. Вечером внезапно увидел, что маленькая кукла-матрешка, стоявшая на телевизоре, начала плясать. Плясала она не на одном месте, а по кругу – по краям телевизора. При этом размахивала руками, кивала головой. Видел это четко, удивился, «нутром понимая, что этого быть не может». Включил свет, подошел ближе, убедился, что кукла стоит, как обычно, на телевизоре. Выключил свет и лег на кушетку. При взгляде на телевизор вновь увидел, что кукла пляшет, опять включил свет – кукла стояла на месте. Так повторялось несколько раз. <…> С целью уснуть съел горсть циклодола и запил вином, проснувшись, услышал, что в квартире этажом выше сговариваются его арестовать. Понял, что организована «группа захвата». Из репродуктора услышал переговоры членов этой группы. Говорили о нем, ругали, сговаривались, как захватить. Считал, что в комнате установлена подслушивающая аппаратура и что за ним все время следят. На следующий день чувствовал себя плохо. Взглянув в окно, увидел циркачей: мужчину и женщину, которые ездили на одноколесном велосипеде. Вечером вновь услышал угрожающие голоса. Повторил прием циклодола с вином. Немного поспал. Проснувшись, вновь услышал голоса. На этот раз вторая «группа захвата» сговаривалась его убить. Обсуждали детали. Решил «живым не даваться» и порезал себе горло бритвой. Была значительная кровопотеря, но жизненно важные органы не повреждены. В хирургическом отделении продолжал слышать враждебные сговаривающиеся голоса, был страх. Через сутки все прошло 44. Как можно охарактеризовать действия этого человека, находящегося в «бессознательном состоянии»? Что характеризует его бессознательное как бессознательное психотика? Он галлюцинирует, т. е. у него имеет место экстраекция. Против чего он защищается и что означает танцующая кукла, мы не знаем. Но ясно, что он от чего-то защищается и не при помощи вытеснения или проекции, а при помощи галлюцинации. На секунды приходя в сознание, он удивляется галлюцинаторному поведению куклы. Бессознательное удивляться не способно. Затем он испытывает бред преследования. Шум наверху является свидетельством того, что его хотят арестовать. Этот проникающий пенетративный (термин А. Сосланда) шум чрезвычайно характерен. Это как бы прорывающиеся квазисемиотические лучи Реального. Ощущает ли этот человек чувство вины? Нет, только страх. Бессознательное не ощущает вину, стыд, резиньяцию, любовь. Только негативные эмоции. Нельзя сказать «Он ее бессознательно любит», но можно сказать «Он ее бессознательно ненавидит». Почему любовь предполагает сознание и непсихотическое состояние? Потому что любовь предполагает интроекцию, принятие чегото в себя, в бессознательное, а для психотика эти перемещения невозможны. Психотик не может переживать депрессивную печаль по утраченному объекту любви, потому что в бессознательном психотика нет целостных объектов (как показала Мелани Кляйн). Это еще одна характерная черта бессознательного психотика – отсутствие целостных объектов. Потому что, как мы уж писали в этой книге, ненавидеть можно «всех», любить же можно только конкретных людей. Все эти персекуторные масоны, КГБ, «группа захвата» из 44 Рыбальский И. М. Иллюзии и галлюцинации. Баку, 1983. С. 245. примера Рыбальского – семиотически трансгрессивны, их не видно и не слышно, – нет, может быть, галлюцинаторно слышно, но чаще они передают свои послания из приемника, по телевизору, при помощи электрических лучей и т. д. Это трансгрессивные пенетративные каналы параноидного бессознательного. Почему эти каналы так важны? В силу их семиотической неопределенности. Никто никогда не наблюдал глазами или слухом электрический ток. Обыватель не понимает, как происходит вещание по радио или телевидению. Считывание информации о себе из газеты происходит тоже своеобразным способом. Считывается ведь то, чего с точки зрения здравого смысла нет. Психотик «читает» между строк, как герой фильма «Игры разума» («Beautiful mind»). Задумаемся теперь над словами Лакана о том, что «бессознательное структурировано как язык». Мы представили образ бессознательного психотика как некоторое состояние после языка. Но похоже ли бессознательное психотика на бессознательное невротика? Во многом они должны быть антиподами друг друга. Как же структурировано бессознательное психотика, и структурировано ли оно вообще как-нибудь? И можно ли сказать, что бред – это и есть бессознательное психотика? Тогда что же является аналогией бессознательного невротика? Очевидно, сон. Но психотики тоже видят сны. Или нет, не видят? Короче, оно структурировано как язык, но язык невротика и язык психотика структурированы поразному. В центре языка невротика, безусловно, лежит собственное Я, его эгоцентрическая позиция, и, как считал Эмиль Бенвенист (с которым, кажется, Лакан был знаком), язык вообще вертится вокруг Я. Я – это его главная ось и опора. Как же язык вертится вокруг Я? Это не язык, а речь вертится вокруг Я. Речь начинается с говорящего. Я – это тот, кто говорит «Я». Поэтому если нет Я, то нет и речи о речи. А кто говорит в речи психотика? В речи психотика говорит Оно . Да это, по-видимому, единственный вывод, который можно сделать из развития структурной лингвистики и психоанализа: в речи психотика говорящим является не Я, ведь Собственное Я утрачено, зато полностью господствует Оно . Как же говорит Оно, какова структура его речи? Это бессознательный и, значит, безличный дискурс. Стемнело. Смеркается. «Идет дождь, но я так не считаю». А как же наш психотик Блейлера в первой главе нашей книги говорил «Я такой же человек, как все» и «Я не такой человек, как все»? Это Оно говорит: «Ты такой же человек как все, ты не такой человек, как все». Оно выполняет роль пропозициональной установки, вернее, пресуппозиции. «Это не Я говорю, это Оно говорит вместо меня», – как бы хочет сказать психотик. Как любил писать Витегншетейн: «Скажи „Мне тепло“, чувствуя при этом „Мне холодно“», так и психотику хочется сказать: «Скажи, что ты такой же человек, как все, имея в виду, что ты не такой человек, как все». Что ему нашептывает Оно? Какие языковые структуры? Что входит в категорию безличности, которая, как можно предположить, должна тут играть немаловажную роль? Безличность – это прежде всего третье лицо единственного числа и средний род. Смеркалось. Оно смеркалось. В речи психотика нет больше оппозиции женского и мужского. Я мог наблюдать много случаев, когда психотик говорил о маме, имея в виду папу, или говорил о сестре, имея в виду дедушку. Он мог бы даже сказать: «Я пошло гулять. Мое Оно отправилось на прогулку». В начале третьего тома своих семинаров Лакан говорит удивительную вещь: «Психотик не знает языка, на котором говорит»45, потому что он говорит на языке бессознательного. Бред психотика – это единственная ситуация, когда бессознательное говорит. О чем же оно говорит? Что это за язык? Это язык желания. Бессознательное говорит о скрытом желании. Это открыл Фред на основе изучения сновидения. Если рассматривать «Толкование сновидений» как трактат по поэтике квазисновиденческого нарратива, то можно сказать, что желание – это глубинная тема сновиденческого дискурса в том значении, которое придано этому слову в генеративной поэтике А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова. 45 Лакан Ж . Семинары. Книга 3. Психозы. (1955/1956). М.: Гнозис/Логос, 2014. С. 20. Можно ли сказать, что исполнение желания – это глубинная бессознательная тема любого бреда? В бреде отношения, наиболее приближенном к согласованному бреду, бредящий явно бессознательно желает, чтобы на него обращали внимание, потому он только об этом и говорит. Здесь этот критерий работает на 100 %. А вот если взять бред преследования, неужели человеку бессознательно хочется, чтобы его преследовали? Если это паранойяльный бред, то да. Почему же параноику бессознательно хочется, чтобы против него устраивали заговоры, преследовали инопланетяне, масоны или КГБ? Потому что это укрепляет его Эго, работает на его инфляцию. То же можно сказать и о бреде величия, а также о бреде воздействия, если он аранжирован идеями величия, как бред Коврина в рассказе Чехова «Черный монах». То же можно сказать и о бреде судьи Шребера, который мечтал превратиться в женщину, готовую к соитию, чтобы удовлетворить Бога. Но в этом случае желание выходит на поверхность, бессознательное становится на место сознательного. Шребер был настоящим психотиком. Именно он изобрел «базовый язык», которому так много уделяет внимания Лакан в семинарах «Психозы». Что такое базовый язык? Как показал, в частности, Т. Кроу, шизофрения – это болезнь языка, порча языка, злоупотребление языком. Что первично: аффект (эмоция) или язык? Об этом раздумывали еще философы и ученые конца XIX в. В частности, был спор между Дарвином и Уильямом Джеймсом. Дарвин считал, что эмоция первична, а язык вторичен. Уильям Джеймс был убежден, что язык (там шла речь о языке тела, о жестах и мимике, но это все равно невербальная семиотика ) первичен, а эмоция (аффект) является реакцией на языковой раздражитель. В отличие от Дарвина Джеймс исходил из диалогической модели языка. По Дарвину ситуация такая: «Я испытываю боль и потом уже кричу „Ай, как больно!“». Или вижу что-то приятное, и у меня появляется счастливый смех или слова «Ах, как хорошо!». Джеймс же считал, что ситуацию надо рассматривать более широко. Сначала я испытываю какой-то семиотический стимул, потом появляется эмоциональная реакция. Бред – это прежде всего измененный трансгрессивный, диссоциированный язык. Говорить, что измененный язык бреда вторичен по сравнению с эмоциональными и интеллектуальными причинами его возникновения – все равно что говорить, что при нормальном творчестве, например, в литературе, первичны образы, а слова и предложения вторичны. Эта точка зрения была, как кажется, навсегда в серьезной науке отброшена формалистами (прежде всего в «Теории прозы» Шкловского). Только отсталая и идеологически ангажированная советская наука продолжала утверждать, что в литературе важнее и фундаментальнее образы. Также и советская психиатрия утверждала применительно к психозу практически аналогичное тому, что вульгарное социологическое литературоведение – применительно к литературе. Но сам факт изменений в языке при бреде, слава Богу, признается не только Лаканом, но и советской школой. Так, автор монографии «Бред», вышедшей, впрочем, уже после перестройки, в 1993 году, М. И. Рыбальский пишет, что к объективным признакам бреда можно отнести, в частности, следующие: «Подозрение в особом смысле и значении каждого вопроса, реплик, высказываний врача, выдерживание длительной паузы меду вопросом врача и своим ответом, нередко отказ от ответа на вопросы (даже элементарные, например, о возрасте; разные, а иногда противоречивые по содержанию ответы на один и тот же вопрос; особенности мышления и речи (витиеватость высказываний), склонность к паралогическим повторениям, употребление неологизмов – использование известных слов в ином, необычном смысле, соединение нескольких слов в одно, применение несуществующих слов и словосочетаний, а также символических выражений; особенности письма и рисунков – измененный вычурный почерк, нелепое расположение письма – писание столбцами, в разных направлениях, разными чернилами, цветными карандашами, бредовое шифрованное содержание писем; непонятные рисунки, иногда бредовые пояснения к ним, гротесковые, абсурдные высказывания»46. Когда мы сомневаемся в том, что психическая болезнь – это болезнь языка (т. е. не только выражающаяся в порче и злоупотреблении языком, но произошедшая в результате злоупотреблении языком по отношению к субъекту, будущему шизофренику, со стороны шизофеногенного окружения), мы представляем себе язык по-структуралистски, как некую аутистическую систему иерархически упорядоченных уровней – язык по Ф. де Соссюру и Л. Ельмслеву. Но если представить себе язык так, как представляли его себе поздний Витгенштейн и аналитические философы, представители теории речевых актов, Дж. Остин, Дж. Серль и их последователи, как представляет его себе автор позднейшей коммуникативной концепции «языкового существования» Борис Гаспаров, то нам многое станет яснее и многие сомнения отпадут. Если язык – это не абстрактная система уровней, а нечто живое, система «коммуникативных фрагментов», то становится понятным, как осмысленный таким образом язык может вызывать психическое заболевание. Когда Грегори Бейтсон формировал свою концепцию двойного послания, лингвистика была уже постструктуралистской, уже были сформулированы идеи позднего Витгенштейна и Остина, главная книга которого называется «Как производить действия при помощи слов?» Здесь в одном уже названии явственно содержится посылка, соответствующая лингвистическому релятивизму, гипотезе лингвистической относительности. Язык формирует реальность, а не наоборот. От того, как говорят с младенцем (говорят в самом широком смысле: кормление и пеленание – это тоже «разговор», как правило, сопровождающийся словами, которые, как считается, младенец еще не понимает), зависит, каким он будет психически. В первый год жизни ему могут «наговорить» шизофрению, во второе полугодие первого года – на «депрессивной позиции» (по Мелани Кляйн) – маниакально-депрессивный психоз. Потом, если он проходит эти стадии, он все больше крепнет, и психоз грозит ему все меньше. Но когда его начинают слишком рьяно приучать к туалету (тоже, между прочим, при помощи языка), он может потом заболеть обсессивнокомпульсивным неврозом. А если его ругают на более поздней стадии за то, что он мочится в постель, это может впоследствии привести к истерии. Как ни крути, а любое психическое заболевание, невроз или психоз, зависит от того, как с ребенком общаются в первые годы его жизни. Удовлетворяет ли такой панлингвистический, пансемиотический взгляд здравому смыслу? Что же такое бред с точки зрения здравого смысла? Это некоторое расстройство интеллекта, в результате которого появляются ложные представления, нелепые с точки зрения здравого смысла, но для больного обладающие непоколебимой степенью достоверности (в общем случае). Вследствие этого расстройства сознания, в общем, до сих пор непонятного по своей природе, появляются искажения в речевой деятельности, деформация речи вплоть до полного ее перерождения в бредовый «базовый» язык, совершенно недоступный пониманию. Вот примерно так рисует картину бреда обыденный здравый смысл: расстройство сознания – а изменения языка суть следствия расстройства сознания. Но что же такое сознание? Из чего оно состоит? Это память, интеллектуальные способности, т. е. способности отличать действительное от вымышленного, плохое (для субъекта) от хорошего, полезное от вредного, правое от левого, большое от малого, высокое от низкого, свое от чужого, ориентация в пространстве и во времени, понимание того, что может быть, и того, что невозможно, и т. д. Это способность к некоторым мыслительным действиям – чтению, письму, счету, к высказыванию суждений и выведению умозаключений из этих суждений. Теперь спросим себя: возможно ли все это вне языка, помимо языка? Что такое память, как не существующие в сознании слова и предложения, блоки предложений о прошлом? Что такое способность отличать действительное от вымышленного? Можно ли отличить 46 Рыбальский И. М. Бред. М., 1993. С. 140. действительное от вымышленного, не обладая языком? Допустим, перед человеком стоит чашка, а рядом на картине нарисована такая же чашка. Что позволяет ему отличить подлинную чашку от нарисованной? Как мы вообще представляем себе этот процесс отличия подлинного от вымышленного? Допустим, ребенок или какой-то недоразвитый субъект отличается плохой или еще не сформировавшейся способностью отличать подлинное от мнимого. Как мы будем обучать его этой способности? Мы поставим перед ним чашку и рисунок или цветную фотографию, изображающую чашку, и скажем ему: «Вот, смотри, какая из этих двух чашек настоящая, а какая ненастоящая?» Что должен будет сделать субъект? Он должен будет ответить на вопрос, сказать, что вот эта чашка настоящая, а эта нарисованная. Это будет ответ нормального человека. Но для того, чтобы такая ситуация была возможна, необходимы речевые действия. А что может ответить на вопрос об отличии настоящей чашки от нарисованной или сфотографированной психически больной человек? Он может сказать: «Обе чашки настоящие» или «Это не чашки, это рука Всевышнего отечество спасла». Или он может сказать: «Нет, я не чашка, я нарисован на другой картинке». В любом случае и нормальный ответ, и ответ психически больного будет подразумевать какие-то речевые действия. Но в первом случае это будет правильное с точки зрения здравого смысла использование языка, а во втором случае – испорченное. Ведь никто не говорит в нормальной жизни, что обе чашки – и фарфоровая, и нарисованная – настоящие. Но можно возразить: дело не в том, что он говорит, а в том, что за этим стоит искаженное мышление, невозможность определить, что настоящее, а что – мнимое. Ну и в чем состоит эта способность? Она кроется в сфере значений. Чашка, нарисованная или сфотографированная на бумаге, и чашка, сделанная из фарфора, – это вещи . Вещи существуют помимо языка. Значения, денотаты – отдельно, а то, что их обозначает, знаки, – отдельно. Но здесь мы опять приходим к путанице. Вещи, конечно, существуют. Но они существуют только потому, что мы можем сказать, что они существуют. И чашка, и фарфор, и фотография, и бумага, и «вещи», и «существует» – все это слова. Могут ли существовать вещи помимо слов? Как же это можно себе представить, что существует чашка, но не существует слова «чашка» и не существует слова «существует»? Я не представляю, как бы это было возможно. Мы просто зачарованы мнимой автономностью вещей, которые мы сами сделали и которым сами дали названия. Ну а если взять чистый бред воздействия, например, тот, который изображен в «Черном человеке» Есенина? Почему герою этого стихотворения бессознательно хочется, чтобы черный человек говорил ему гадости? Потому что черный человек – это сам герой, его отколовшийся архетип, Тень, вестник смерти. Можно ли сказать, что Александр Введенский в психотической мистерии «Кругом возможно Бог» и в других стихотворениях не понимал, того языка, на котором он говорил? «Вбегает мертвый господин и молча удаляет время». «Обнародуй нам, отец, что такое есть Потец». Введенский признавался, что его прежде всего интересуют три темы: время, Бог и смерть. Мертвый господин, убивающий время, – это и есть Бог, а Потец – символ смерти отца, «пиздец». Вообще бессознательная наррация подлинного бреда, если ее рассматривать как дискурс об истине, – это всегда дискурс о смерти. Гегель говорил, что человек должен добровольно принять свою смерть, а Хайдеггер подчеркивал, что обычно люди этой темы избегают. Психотик честен. В конце «Черного человека» герой разбивает зеркало (разбитое зеркало – символ смерти), он убивает черного человека, этот своеобразный портрет Дориана Грея, и тем самым убивает себя. Но почему же психотик, говоря на языке, которого сам не знает, при этом пользуется и обычном языком? Потому что параноидный психотик не может быть только психотиком. Если бы он был только психотиком, он бы умер или застыл, как кататоник. Но психоз – это, как правило, компромисс между болезнью и здоровьем, между психотической и непсихотической частями личности, по Биону, или двойная бухгалтерия, по Блейлеру. Мы бы никогда ничего не поняли в «Розе мира» Даниила Андреева или в «Капитализме и шизофрении» Делёза и Гваттари, если бы они говорили только на «базовом» языке. Что такое шизоанализ? Это апология желающей машины. Мы подходим к тому, с чего начали, – к желанию. Делёз и Гваттари вывели желание из бессознательного. Можно сказать, что шизоанализ – апология шизофрении, то есть психотическая философия. И что авторы говорят на языке, которого сами не понимают. Я, например, уверен, что Делёз бы не смог объяснить, что такое тело без органов, пользуясь обыденным языком. Сила шизоанализа – в его революционности. Недаром он вдохновлен парижской весной 1968 года. В чем вообще сила бреда, сила психоза? В раскрытии, обнажении бессознательного и в бескомпромиссности фигуры шизофреника, или шизика, как его называли Делёз и Гваттари. Шизик Витгенштейн был бескомпромиссно честен, он всю жизнь прожил в режиме «дня без вранья» (так называется рассказ Виктории Токаревой). Почему же здоровые люди так часто врут? Должно быть, это обратная интеллектуальной априорной категории согласованного бреда. Разберемся в этом подробнее. Если принять перформативную гипотезу, то ложь – такая же иллюзия, как и истина. («Я говорю тебе, чтобы ты знал: я Наполеон».) Содержание пропозициональной установки лишено значения истинности. Но психологически это не так. Никто не поверит человеку, что он Наполеон (бред величия), что он разговаривает с Богом (бред воздействия), что его преследуют инопланетяне (бред преследования) или что все вокруг обращают на него внимание (бред отношения). Между тем именно шизофреники в состоянии подлинного бреда всегда говорят правду. Одного мегаломана, как рассказывает Рональд Лэйнг в книге «Расколотое Я», проверили на детекторе лжи. Он сказал: «Я не Наполеон». Детектор лжи зафиксировал, что он лжет. Другое дело, что согласованный бред, т. е. обыденный дискурс, научный, религиозный и, конечно, художественный – это сплошная ложь. Гурджиев говорил, что человек всегда лжет потому, что не может знать правды, а его ученик П. Д. Успенский писал, что психология – это наука, изучающая ложь. С точки зрения новой модели реальности правды и лжи не существует. Они имеют только сюжетообразующую функцию. Есть такой анекдот: «Вы знаете, я сегодня ехал на пятом номере по Мясницкой и вижу – по улице идет… кто бы думали? Бетховен!» – «Врите больше, пятый номер по Мясницкой не ходит». В нарративной онтологии важно не то, сказал человек правду или ложь, а то, что будет дальше. Как любил повторять Лакан, означающее отсылает не к означаемому, а к другим означающим. Допустим, муж приходит поздно домой и на законный вопрос жены, почему он пришел так поздно, отвечает, что засиделся на работе, в то время как на самом деле он был у любовницы. Он сказал ложь, и, возможно, они оба понимают это. Но в обычаях согласованного бреда – закрывать на ложь глаза. Поэтому жена может сказать ему: «Ты, наверно, очень устал, иди скорее ужинать!» Правда колет глаза – она разрушает согласованный бред. А если муж на вопрос жены, где он был, скажет, что он был у любовницы и спал с ней, а жена ему на это скажет: «Ты знаешь, я тебе тоже изменяю»? Тогда это будет секундарный выход из согласованного бреда и возможность перехода в бред подлинный, энтропийный хаос «истины». «Я тебе тоже изменяю». Но человек ничего не может изменить по своей воле. Это очень хорошо показано в фильме Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Жена в состоянии, близком к подлинному бреду (они в этот момент курили травку), рассказала мужу, что хотела изменить ему с красивым морским офицером. Это произвело на мужа такое сильное впечатление, что он в отместку решил изменить жене с проституткой, но не смог. Человек не может изменить свою судьбу по своей воле. У Кирилла Серебренникова есть фильм «Измена». Муж женщины-кардиолога изменяет ей с женой ее будущего любовника (которому она это говорит, когда тот приходит к ней на прием). Происходит следующий диалог кардиолога и будущего любовника, лежащего на кушетке: «Жалобы есть? – Нет. – У меня сердце болит. – Почему? – Муж изменяет. – Сочувствую. – Он изменяет мне с вашей женой». Что происходит дальше? Жена будущего любовника, которая спит с мужем женщины-кардиолога (будущей любовницы своего будущего любовника), и ее будущий любовник наблюдают, как жена будущего любовника и муж женщины-кардиолога (будущей любовницы ее будущего любовника) занимаются любовью голыми на балконе, падают и разбиваются насмерть. После этого оказывается, что у женщины-кардиолога и ее (теперь уже не будущего) любовника был еще один муж и, соответственно, у ее любовника была еще одна жена в прошлом. Кончается все очень плохо. Важно не то, что кто-то изменил кому-то, а то, что происходит дальше благодаря этому. Психологически врать легче и даже порой правильнее. Или вообще ничего не говорить, как у Александра Галича: У лошади был грудная жаба, Но лошадь, как известно, не овца. И лошадь на парады выезжала, И маршалу об этом ни словца. А маршал бедный мучился от рака, Но тоже на парады выезжал. Он мучился от рака, и однако Он лошади об этом не сказал. Говорить правду в условиях согласованного бреда нелепо. Вспомним нелепое поведение Пьера Безухова, не обученного правилам согласованного бреда на вечере Анны Павловны Шерер в первой главе «Войны и мира», когда он на полном серьезе попытался вступить в дискуссию со светским лгунами, и сравним его поведение с поведением князя Василия Курагина, который полностью владел искусством светского вранья: – Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? – сказала Анна Павловна. – Вы весь вечер у меня, надеюсь? – А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, – сказал князь. – Дочь заедет за мной и повезет меня. – Я думала, что нынешний праздник отменен, Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d’artifice commencent à devenir insipides. – Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, – сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили. Можно сказать, что в мире согласованного бреда иллюзия лжи гораздо более фундаментальна, чем иллюзия истины. Но почему? Потому что нарративная онтология строится по законам художественного дискурса. Глава седьмая. Психозы, неврозы и согласованный бред Он [Фрейд] сказал <…> примерно следующее: нечто такое, что было отвергнуто изнутри, появляется вновь, но уже вовне. Но может оказаться так, что нечто первичное в бытии субъекта не проходит символизации и тем самым оказывается не вытеснено, а отвергнуто. (Жак Лакан. Психозы.) До сих пор в нашей книге мы рассматривали только психозы и противопоставляли им «норму», слово, которое мы брали в кавычки, поскольку относились к ней с некоторым пренебрежением как к чему-то сомнительному, чего, возможно и не существует вовсе. На самом деле подлинной нормы и не существует. «Нормальный человек… – это просто благополучный психоз, психоз, хорошо приведенный в гармоническое соответствие с опытом»47. Мы обращаемся к неврозам, которые и есть эта «норма». С одной лишь важной оговоркой: есть острые неврозы, а есть «неврозы характера», т. е. хронические неврозы, растянувшиеся на всю жизнь. Они и есть «норма». Диалектику такой нормы мы подробно проанализировали в главе «Нормальная жизнь» нашей книги «Диалог с безумием», к которой мы и отсылаем читателя48. Механизм образования острых неврозов и психозов во многом противоположный, что можно видеть из приведенной выше в качестве эпиграфа к этой главе цитаты из Лакана. В обоих случаях имеет место соотношение внутреннего и внешнего. Но при неврозе внешние впечатления переносятся внутрь из реальности (инроецируются), затем они вытесняются в бессознательное и оттуда при помощи механизма «возвращения вытесненного» (важнейший термин Фрейда) отправляются обратно вовне в виде невротического симптома. При психозах происходит обратное: некие внутренние невыносимые психические содержания проецируются вовне в виде бреда и галлюцинаций, «странных объектов» Биона 49. Чрезвычайно важно, как подчеркивает Лакан, что при психозах психические констелляции не вытесняются, а отвергаются, то есть превращаются в асемиотическое Реальное. Совсем иное происходит при острых неврозах. Невротические симптомы семиотичны. При истерии процесс семиозиса переходит на собственное тело субъекта. У истеричного отнимаются руки и ноги, он не может говорить. У него какие-то парезы, онемения членов или, наоборот, истошный крик и плач. И все это имеет определенное значение: «Обратите на меня внимание», «Помогите мне». Об этом писал Томас Сас 50. Или при истерической конверсии невралгия лицевого нерва становится индексальным метонимическим знаком ранее полученной пощечины. Таким образом, искажение семиозиса происходит по двум направлениям. Первое – это перенесение его на собственное тело, второе – иконизация, вернее, индексация знаков. При обсессивно-компульсивном неврозе предметы деиконизируются – конвенциализируются или индексируются. В чем особенность мышления обсессивно-компульсивного человека? В том, что он все время видит во всем знаки: благоприятные или неблагоприятные. Мир полон примет. Полное ведро или пустое – это значит: можно идти или нельзя. Семиотика обсессивно-компульсивной личности носит деонтический характер, существует в режиме «можно», «нельзя» или «должно», в то время как истерическая семиотика существует в аксиологическом режиме «хорошо», «плохо», «безразлично». Семиотика обсессивнокомпульсивного сознания имеет много вещей, но мало значений. В сущности, все сводится к двум значениям: «благоприятно» и «неблагоприятно». Оба типа неврозов связаны с избеганием осуществления желания, но обсессивно-компульсивный это делает напрямую, путем механизма защиты изоляции аффекта (как установил Фрейд в работе «Торможение, симптом и страх»), в то время как истерический механизм защиты – вытеснение – работает в режиме наращивания аффекта. При этом обсессивный изолирует из вещи в событие (пустое ведро – никуда не пойду), а истерик вытесняет из события в вещь (дали по лицу – невралгия лицевого нерва). При этом характерно, что событие обсессивно-компульсивного – это минуссобытие, а вещь истерика – это квази-вещь. В этом их родство и противоположность депрессивной антисемиотике, где редуцируются как вещи, так и события. При переходе в шизофрению все знаковые системы распадаются, при параноидной 47 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1968). М.: Гнозис/Логос, 2002. С. 250. 48 Руднев В. Диалог с безумием. М.: Аграф, 2005. 49 Подробно о соотношении внутреннего и внешнего см. в главе «Внутри и снаружи» нашей книги: Руднев В. Странные объекты: Феноменология психотического мышления. М.: Академический проект, 2014. 50 Сас Т. Миф душевной болезни. М.: Академический проект, 2010. шизофрении нет ни знаков, ни вещей, одни голые смыслы, в этом и состоит пресловутый отказ психотика от реальности. Смыслы возникают из ничего, как при бредовогаллюцинаторном комплексе, когда субъект (переставший в точном смысле быть субъектом, так как нормальный субъект – это субъект знаковый) видит и слышит то, чего нет, и разговаривает на языке, который не имеет для окружающих никакого значения. При паранойе смыслообразование отталкивается от вещей, пусть не имея с ними ничего общего, при параноидной шизофрении вещи уже не нужны. Промежуточный случай, когда шизофреник с параноидным (уже не паранойяльным!) бредом преследования вычитывает из газет, выслушивает из сообщений по радио и высматривает из телевидения некие угрожающие послания о себе, имеет переходный характер в семиотическом смысле, как имеет переходный характер феномен иллюзии в галлюцинаторном мышлении. Когда параноик говорит, что жена за этим столом занималась любовью с соперником, он все же видит реальный стол и отталкивается от него. При параноидном бреде нет даже тех наводящих фраз или вещей, от которых можно отталкиваться. Этих фраз и вещей вообще может не быть, они уже не нужны. Преследователь возникает из ничего, из воздуха: голос в акустической галлюцинации, призрак в визуальной галлюцинации и т. д. Знаковая система шизофренику не нужна. Вернее, не нужна знаковая система, строящаяся на внешних знаконосителях. В этом хоть и набившая оскомину, но все же остающаяся верной аналогия между психозом и сновидением. Там тоже нет знаконосителей во внешней сновидцу системе вещей. Там тоже знаковые системы плетутся из неведомых субстанций. Таким образом, верным остается тезис о том, что в сновидении каждую ночь человек временно погружается в полное безумие. В случае обыкновенного вранья, даже если предположить, что сам говорящий верит в то, что он говорит, он отсылает нас к какому-то возможному миру, в котором его выказывание в принципе могло бы быть истинным. В случае бредово-галлюцинаторного высказывания отсылка к такому миру невозможна, если мы, скажем, в принципе не верим, что инопланетяне существуют. Бредовое высказывание встраивается в целостную бредовую концепцию, или бредовую систему; обыденное вранье встраивается в обыденный мир как его возможный вариант. В этом смысле бредовое высказывание ближе художественному высказыванию, в котором знаки также не подкреплены реальными денотатами. «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». В этом случае художественное высказывание не есть ложь, потому что оно не встраивается в систему высказываний об обыденном мире, но встраивается в систему художественного мира, где все или большинство высказываний лишены денотатов, так как за пределами художественного мира «Пиковой дамы», если судить его с точки зрения обыденного мира, на самом деле не существует ни Нарумова, ни Германна, ни старухи графини, ни Лизы, ни графа Сен-Жермена. В этом близость бредового высказывания художественному высказыванию и близость бреда в целом художественному творчеству, о чем неоднократно писали психиатры. Различие при этом только в том, что для писателя, который не является безумным, мир обыденности и мир художественного дискурса четко разделяются, и он понимает, что говорит о несуществующих вещах. В случае бреда имеет место убежденность в реальности того, о чем говорится, если об этом вообще говорится. Не может быть бреда, в реальности которого пациент сомневается. Неврозы в отличие от психозов встроены в согласованный бред. Более того, они и составляют стержень и сущность согласованного бреда. В чем суть согласованного бреда? В том, что люди «договорились» называть определенные вещи определенными именами, в то время как эти имена к этим вещам определенно не имеют никакого отношения. Они ими не являются. Человеческий язык – вот источник согласованного бреда. Я вижу кошку. Но что же здесь бредового? То, что этот набор звуков к кошке не имеет никакого отношения. Кошка сама по себе, а слово «кошка» само по себе. Такую реальность мы называем шизотической, в противоположность шизофренической реальности. Культура, построенная на конвенциональном языке, – это то, что отличает животное от человека. Любая культура – это шизокультура. Потому что человека от других животных отличает именно «шизо». «Шизо» – это возможность конвенционального языка. Например, охотиться на дикого зверя можно, только имея примитивные навыки конвенционального языка. А что это значит? Это значит, в первую очередь, что важна не добыча, а сама охота. В определенном смысле примитивный человек заблуждается, когда думает, что посредством охоты он добывает себе пищу. Пища тут не главное. Этим действием он запечатлевает себя как человека. «Обходи справа, обходи слева, а я пойду по центру». Но эти слова не похожи на реальность, т. е. они и не могут быть похожи на реальность. Ведь это только слова! Но слова воздействуют на реальность. Охотник действительно убивает зверя. Но как при помощи слов можно убить зверя? Только галлюцинаторно. В этом смысле мы говорим, что человек живет в шизореальности. Само копье убьет зверя не потому, что оно сделано руками человека, а потому, что оно сделано руками говорящего человека. Палка в руке обезьяны – это действительно палка. Копье в руке охотника – это шизо-копье. Потому что слово «копье», которым он называет копье, не похоже на то, что он называет копьем. Палка в руках обезьяны – она и есть палка. Но когда первый человек спросил второго: «Что ты держишь в руке?» и тот ответил: «Я держу копье», то оба они беседовали, находясь в шизореальности. Почему же непохожесть знака на денотат делает происходящее шизотическим? Вспомним доказательство существования внешнего мира, предложенное Муром. Он поднимал поочередно то правую, то левую руку и говорил: «Я знаю, что это рука». Он так делал потому, что слово «рука» не похоже на саму руку. Его неудача заключалась в том, что он не до конца проработал шизотичность самого жеста поднятия руки. Его доказательство существования внешнего мира было шагом вперед, но оно не стало доказательством шизотичности мира. Мур оставался в рамках предубеждения, что реальность – это реальность, а культура – это культура. Витгенштейн в трактате «О достоверности» сделал шаг вперед, сказав: наше знание о том, что это наша рука, есть некоторая конвенция, через которую невозможно перешагнуть, иначе мы все сойдем с ума. Мысль была очень глубокая, но поскольку Витгенштейн действительно боялся сойти с ума, он тоже не пошел дальше и не сказал, что такие непреодолимые условия исходят из фундаментальной шизотической установки. Осознание условности того, что человек знает, что у него есть рука и что это его рука, еще не является фактом подлинной реальности. Где же начинается шизопоэтика и что служит ее основанием? То, что слово «рука» не похоже на саму руку и что поэтому «Я знаю, что это моя рука» ничем не отличается от «соотношения неопределенностей» Гейзенберга или каких-то других сложнейших физических законов. Но почему арбитрарность знака – само появление арбитрарного знака – означала шизотизацию всего остального? Допустим, человек говорит: «Это копье», а другой человек ему возражает: «Это не копье, это небольшая кошка». На каком основании мы считаем второго (если он не шутит) сумасшедшим? На том, что «копье» на самом деле означает копье, а не кошку. Вспомним полемику между аналитическими философами, обсуждавшими вымышленную реальность fiction. Один их них говорил, что Шерлок Холмс никогда не существовал, поэтому фраза «Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит» ложна и даже бессмысленна. Другой философ ему возражал, что в таком случае одинаково бессмысленными и ложными будут фразы «Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит» и «Шерлок Холмс жил на Парк лейн», но это не так. Значит, в мире рассказов Конан Дойла Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит. Но тот ученый, который утверждал противоположное, не был сумасшедшим, он просто исходил из наивной установки, что никакого вымышленного мира не существует, что это просто слова, не похожие на реальность, и поэтому все равно, где жил Шерлок Холмс, если на самом деле он нигде не жил. Вот так и человек, который говорит на копье, что это кошка, гораздо умнее того, который называет это копьем, потому, что копье и кошка – это просто слова и они одинаково вымышленные, одинаково непохожи на то, что они якобы означают. Привычка называть копье копьем, а кошку кошкой – это все равно что привычка читать на ночь любовные романы. Одни предпочитают любовные романы, другие – детективы51. Каждый невротик видит кошку по-разному. Истерик умилится кошке, будет ее звать: «Кыс-кыс-кыс! Какая красивая кошечка! Ах ты моя хорошая!», и тут же потеряет к ней всякий интерес. Компульсивный больной вначале точно определит цвет кошки (уже не черная ли?) и убедится, что она не перебежит ему дорогу. Для депрессивного кошка либо вообще не будет представлять никакого интереса, если ему совсем плохо, или, если ему не так уж плохо, он, наоборот, может взять ее к себе. «Я вижу кошку. Я ничего не вижу, если нет меня. А когда появился Я, то я стал видеть шизо-кошку через призму своего языка, и то уже не кошка, но часть культуры ». Человек только тогда стал Homo sapiens, когда он стал Homo Shizophrenicus. Согласно гипотезе Т. Кроу, у высшего животного произошла генная мутация, в результате которой возник язык как способ называть вещи совершенно произвольными именами 52. Произошел раскол между природой и культурой. Вместо природы появились реальность как агломерат странных объектов и культура как система странных объектов. Почему «кошка» странный объект? Потому что она на меня странно смотрит, она пытается вступить со мной во взаимодействие. (Когда кошка мне подмигивает, как Передонову, то это уже шизофрения.) Вместе с языком и реальностью появилась возможность наррации, которая загадывала человеку загадки. «Я видел кошку». – «А что такое „кошка“?» – «Это такая странная хрень, которая на меня смотрела, потом подошла ко мне и стала мурчать. Я назвал ее Муркой». Но если бы, как в стихотворении Маршака, человек назвал бы кошку кошкой, то культура не возникла бы. Кошка сама по себе не имеет к человеку никакого отношения, так же как волк или слон. Но, превратившись в странные шизообъекты, кошка, волк и слон стали частью культуры как системы странных объектов, а точнее ее субсистемы, которую мы назвали «животным царством». Что такое культура? Это система вещей, которые мы навали произвольными именами. Культура – это наш коллективный согласованный бред, архетипический по своей основе, так как он производен от системы тотемизма. Мы умеем играть в разные языковые игры: говорить о погоде, читать лекции, делать свои дела в заранее отведенном для этого месте, крыть крышу, писать книги, работать на токарном станке, водить машину, переходить улицу на зеленый свет, смотреть сериалы по телевизору. Все это виды согласованного бреда. Согласованный – да! Но почему же бред? Что такое бред? Бред происходит от слова «брести». Это когда человек бредет куда-то, сам не зная куда, и вдруг видит кошку: «Ничего себе, это же кошка!» Или когда Репин увидел бурлаков, он сказал: «Ничего себе, это же бурлаки!». Он увидел бурлаков как странные объекты и написал картину «Бурлаки на Волге», которая представляет собой бред. Изможденные люди тащат за собой корабль. Мне кажется, что это совершенно бредовое зрелище53. Но ведь деятельность человека по большей части разумна. Он моет руки перед едой, после еды жена моет его посуду. Перед сном он читает книгу, утром чистит зубы, делает зарядку, а потом… отправляет в газовую камеру пару сотен евреев. А какая альтернатива культуре? Только подлинный несогласованный индивидуальный бред! У сумасшедшего судьи Даниэля Шребера, который написал о себе замечательные мемуары, время от времени происходило то, что он называл чудом воя . Вот как описывает и интерпретирует чудо воя Лакан: Состоит оно в том, что он не может удержаться от продолжительного крика, 51 Руднев В. Введение в шизореальность. М., 2011. 52 Crow Т. Is schizophrenia the price that Homo sapiens pays for language? // Schizophrenia Research. 1997. V. 28. 53 Руднев В. Новая модель шизофрении. М.: Аграф, 2012. приступ которого настолько силен, что будь у него что-нибудь в этот момент во рту, отмечает судья, он вынужден был бы это выплюнуть. Ему приходится сдерживаться, чтобы это не произошло на людях, что удается далеко не всегда. Явление поразительное, если рассматривать этот крик как крайнюю, максимально редуцированную границ у двигательного участия ротовых органов речи. Представьте себе речь, соединенную с голосовой функцией, абсолютно лишенной значения, но содержащую в себе в то же время все значения, какие только возможны. <…> Вой – это всего-навсего означающее в чистом виде 54. Можно сказать, что чудо воя судьи Шребера выражает безальтернативную бредовую истину. Истина шизофреника тотальна и транслингвистична. Это не значит, что шизофреник должен превратиться в животное. Шребер был очень умным, наблюдательным и гуманным человеком. Он написал великолепную книгу. Но без чуда воя, этого тотального означающего, картина его бреда была бы не полна, как теорема Гёделя. Подлинный бред может пробуждать совесть, сознательность и, стало быть, Истину. Обратимся к бреду героя рассказа Достоевского «Господин Прохарчин»: Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, потом накупить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь нечего, причем погоревать тут же о золовке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубли серебром и, тряхнув головою, говорит ему: «Денежки-с! Их не будет, и каши не будет-с, – сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает, – а у меня, сударь, семеро-с». Тут лысый человечек, тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпенку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семен Иванович. Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять всё возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число семерых и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было золовок к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался… рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка, – иначе господин Зимовейкин, – находился уже там, встретил Семена Ивановича, страшно захлопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. Так же как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки; 54 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы. М., 2014. С. 186–187. так же как и тогда, вынесло Семена Ивановича вместе с пьянчужкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович видел всё так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кой-кого. Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел с своего возвышения. Другой – тот самый дюжий парень, от которого герой наш приобрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном ватном халатишке, отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь, с молочником и с четверкой в руках, сквозь толпу, до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, – представилась так, как была тогда – в лаптишках, с костылем, с плетеной котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились после тщетных усилий понять; но баба не унималась, всё кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд-людской, около нее бывший, ни на чужое несчастие, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший народ. Наконец господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас; ибо видел ясно, что всё это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет. И действительно, тут же недалеко от него взмостился на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь божий народ на Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик – тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его, подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и – проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, – и уложили в постель. Вот что пишет по этому поводу В. Н. Топоров: «Эти четыре „видения“, где образы горя неизбежно соединяются с темой денег, личной вины, понимаемой уже расширительно (строго говоря, виноват Прохарчин был только перед обманутым им извозчиком), ужаса , воплощенном в охватывающем героя со всех сторон пожаре , где должно сгореть низкое и постыдное прошлое Прохарчина, пробуждают его совесть . Беда и горе бедных людей, явившиеся Прохарчину в болезненных грезах, были перенесены им на самого себя, так сказать, интериоризированы в собственное сознание, чтобы разбудить совесть страдании. Сочувствие к чужому несчастью и, следовательно, выйти на тот путь, который приведет к людям, навсегда разрушив изолированность и отчужденность. Это мыслимое новое состояние должно было обозначать возврат к подлинно человеческому (в отличие от псевдокоммуникаций сожителей Прохарчина) и, следовательно, к подлинному бытию55. Вдумаемся еще раз в важнейшую для нас фразу Лакана: «Нормальный человек… – это просто благополучный психоз, психоз, хорошо приведенный в гармоническое соответствие с опытом». Не следует ли из этой фразы, что психоз не только более фундаментален, чем норма, но что он и есть подлинная норма, что норма – это просто «согласованный психоз», что для человека «нормальнее» быть психотиком? Как это можно понять и проинтерпретировать? Прежде всего в свете гипотезы Кроу. Пока у человека не появился шизофренический ген и он не стал стал употреблять арбитрарный язык, он, скорее, был органиком (в сущности, животным), т. е. его психическая конституция сочетала в себе три компонента: эпилептоидный, циклоидный и истерический. Все эти три компонента (радикала) давали грубый и неустойчивый в эмоциональном отношении «характер»56. Однако не следует думать, что с появлением шизо-, т. е. человека разумного, его язык автоматически стал арбитрарным. По реконструкции А. Ф. Лосева, это был некий язык-протореальность, в котором субъект и объект были слиты, явление не отличалось от сущности, целое – от части, идеология его была мифологией и «все решительно и целиком присутствовало или, по крайней мере, могло присутствовать во всем »57. Другими словами, это был некий протоязык бессознательного «мышления». Первобытный человек являлся полуоргаником-полушизофреником, но это было не отклонение от нормы, а норма той эпохи. Почему же человек и дальше не мог жить с этой нормой? Очевидно, для того, чтобы строить культуру, а также в силу экстракорпорального развития (термин Карла Поппера) ему понадобилось понятие реальности. Язык начал постепенно демифологизироваться. Когда появился современный номинативно-аккузативный строй с четким отделением субъекта от объекта, тогда и появилось понятие (шизо) реальности, и именно с этого момента можно говорить об арбитрарности языка. С этого момента психоз человека как вида пришел «в гармоническое соответствие с опытом». Вместе в реальностью появилась иллюзия истины и лжи, которой, ясное дело, не было в архаическом языке и мифе. Эта «норма» и стала господствовать на протяжении культуры вплоть до начала XX в. Суть этой «нормы» в одном слове можно описать так: человек стал лживым, потому что язык нужен не для того, чтобы прояснять вещи, а для того, чтобы затемнять их: «Речь маскирует мысль. И так, что по внешней форме этой маскировки нельзя заключить о форме замаскированной мысли; поскольку внешняя форма маскировки вовсе не имеет целью выявить форму тела. Молчаливые сделки для понимания разговорной речи чрезмерно усложнены»58. Почему так произошло, что люди стали делить себя на нормальных и ненормальных? Очевидно, из-за фундаментального разделения труда на механический и интеллектуальный. Люди механического склада оставались по преимуществу органиками с незначительным шизокомпонентом, позволявшим им кое-как пользоваться языком. Это было «нормальное» подавляющее большинство. Люди интеллектуального склада были шизоидами и «здоровыми 55 Топоров В. Н . «Господин Прохарчин»: Попытка истолкования // В. Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 144. 56 Подробный анализ органического характера см в книге: Волков П. Многообразие человеческих миров. М.: Аграф, 2000. 57 Лосев А. Ф. О пропозициональных функциях древнейших лексических структур // А. Ф. Лосев. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1982. 58 Витгенштейн Л. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. шизофрениками» (по выражению профессора М. Е. Бурно). Они занимались построением фундаментальной культуры. Так было до конца XIX в., когда благодаря развитию физики «исчезла материя», традиционной реальности был нанесен непоправимый урон, шизофрения стала модной и актуализировался неомифологизм. Но обо всем этом мы писали выше. Читатель может заметить, что понятие нормы вызывает у нас раздражение. Почему? Потому что «нормальные люди» ничего или почти ничего не сделали для развития фундаментальной культуры. Но значит ли это, что для того, чтобы развивать культуру, надо находиться в остром шизофреническом психозе? Нет, скорее, в состоянии, близком подлинному бреду: Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен; Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, Людской чуждается молвы, К ногам народного кумира Не клонит гордой головы; Бежит он, дикий и суровый, И звуков и смятенья полн, На берега пустынных волн, В широкошумные дубровы… Миф от том, что Пушкин был гармоничным циклоидом, был развеян нами в книге «Реальность как ошибка»59. Пушкин был шизофреником, и даже не здоровым: он сочетал в себе тяжелый маниакально-депрессивный радикал, был параноиком ревности, истериком и шизоидом (см. об этом статью «Пушкин» в энциклопедии А. В. Шувалова60). Нормальный человек, по Людвигу Бинсвангеру, «безмятежно живет среди вещей». Это никак не применимо к Пушкину. Это применимо к homo normalis (как презрительно называл Вильгельм Райх «нормальных людей»). К людям, которые ходят на работу, пьют пиво, смотрят телевизор и рожают детей, к людям, которые находятся в состоянии согласованного бреда и которыми поэтому легко можно манипулировать. Их удел – поддерживать жизнь в ее биологическом аспекте. Шизофренический проект завершился к концу XX века. Последней апологией шизофреника был «Анти-Эдип» Делёза и Гваттари. В начале XXI века homo normalis, снабженный помимо телевизора мобильником и интернетом, созданными для него последними шизофрениками, все больше превращается в органика. Это не может не вызывать закономерной тревоги. Кризис гуманитарной культуры начала нашего века – основание для этой тревоги. Предвидя возражения читателей, которых возмутит то, что мы назвали Пушкина 59 Руднев В. Реальность как ошибка. М.: Гнозис, 2011. 60 Шувалов А. В . Безумные грани таланта: Энциклопедия патографий. М.: АСТ – Астрель – ЛЮКС, 2004. шизофреником, спешу оговориться. Конечно, у Пушкина не было такого психического заболевания, которое Блейлер в 1911 г. назвал шизофренией, у него была шизофреническая (полифоническая, в терминах М. Е. Бурно и его школы) болезнь, сутью которой является то, что психика состоит из мозаики различных радикалов. В случае Пушкина это были циклоидный маниакально-депрессивный, шизоидный, паранойяльный, обсессивнокомпульсивный и истерический радикалы. Я вспоминаю, как одна знаменитая ученая дама прочитала в книге «Энциклопедия патографий» А. В. Шувалова статью «Пушкин» и была потрясена, какой это был ужасный и больной на голову человек: тяжелый меланхолик, со сверхценными идеями ревности (почти бредом) после женитьбы: «Беспричинная ревность уже в ту пору свила себе гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствие или когда он удалялся в свой кабинет. Граф В. А. Соллогуб писал, что Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему»61. Шизоидная углубленность (как писал профессор Минц) позволила Пушкину написать такие глубокие тексты, как каменноостровский цикл, «Маленькие трагедии», «Пиковую даму», «Медного всадника». Я могу поверить в то, что сангвиник написал «Капитанскую дочку», но не могу поверить в то, что сангвиник написал «Пиковую даму» с ее магией чисел. Судите сами: Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если, – думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, – что, если старая графиня откроет мне свою тайну! – или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, – пожалуй, сделаться ее любовником, – но на это все требуется время – а ей восемьдесят семь лет, – она может умереть через неделю , – через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит , усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!» Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка , семерка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз – не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка ». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза . Тройка, семерка, туз – преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну , – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. <…> Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..». Известно, что Пушкин был чрезвычайно суеверным человеком (как все обссесивнокомпульсивные). Когда после восстания декабристов он поехал из Михайловского в Петербург, дорогу перебежал заяц – и он вернулся обратно. Гадалка-немка предсказала ему, что его убьет человек с белой головой (Weisskopf). Так и случилось – это был блондин Жорж Дантес. Синявский в книге «Прогулки с Пушкиным», где он фактически отождествил Пушкина с Хлестаковым, увидел Пушкина как истерика. Благодаря Р. О. Якобсону, описавшему и проанализировавшему статуарный миф Пушкина, мы можем обратить внимание на названия трех его произведений: «Медный всадник» «Золотой петушок» и «Каменный гость». Их 61 Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М.: Правда, 1990. Т. 2. С. 196. основа – неживое в живом, схизис. Диагностированный шизофреник Гоголь по этой же модели построил заглавие своего бессмертного произведения – «Мертвые души». А вот Пушкин по Ю. М. Лотману. Маленькая книжечка «Роман в стихах А. С. Пушкина „Евгений Онегин“: Пособие для слушателей спецкурса» (Тарту, 1976 (я был одним из этих слушателей), тираж 100 экз. (сейчас она, конечно, переиздана): И публикация текста частями, и то, что по ходу создания романа менялся автор, менялся читатель, менялась эпоха, были в значительной мере обстоятельствами, внешними по отношению к первоначальному замыслу Пушкина. Определенные особенности романа сложились стихийно и только впоследствии были осмыслены поэтом как сознательный принцип. Однако очень скоро то, что порой появлялось случайно, сделалось осознанной конструктивной идеей. Тем более это стало справедливо для тех поколений читателей, которые знакомились с «Евгением Онегиным» уже не по отдельным выпускам и сразу же смотрели на него как на оконченный текст. В ходе растянувшейся на семь лет работы в текст романа вкрадывались противоречия и несогласованности. Так, в XXXI строфе третьей главы Пушкин писал: «Письмо Татьяны предо мною; / Его я свято берегу…». Но в восьмой главе письмо Татьяны находится в архиве Онегина, а не Пушкина: «Та, от которой он хранит / Письмо, где сердце говорит…». Но есть и более значимые противоречия. В третьей главе (XXVI строфа) о Татьяне говорится: «Она по-русски плохо знала <…> И выражалася с трудом / На языке своем родном…». А в IV строфе пятой главы – хрестоматийно известная характеристика: «Татьяна (русская душою…)». <…> Количество таких противоречий настолько велико, что трудно отнести их на счет случайных недосмотров. Более того, сам автор категорически высказался против такого понимания. <…> Противоречия в тексте главы не укрылись от взора автора. Однако здесь произошла весьма странная вещь: Пушкин не только не принял мер к устранению их, но, как бы опасаясь, что читатели пройдут мимо этой особенности текста, специально обратил на нее внимание: «…Я кончил первую главу: / Пересмотрел всё это строго; / Противоречий очень много, / Но их исправить не хочу…» (VI, 30). Заключительный стих способен вызвать истинное недоумение: почему же все-таки автор, видя противоречия, не только не хочет исправить их, но даже специально обращает на них внимание читателей? Это можно объяснить только одним: каково бы ни было происхождение тех или иных противоречий в тексте, они уже перестали рассматриваться Пушкиным как оплошности и недостатки, а сделались конструктивным элементом, структурным показателем художественного мира романа в стихах». Если бы противоречия в тексте «Онегина» сводились только к последствиям быстрой эволюции автора, Пушкин, вероятно, не усомнился бы в необходимости переработать текст романа, придав ему единство, соответствующее его окончательной позиции. Однако в ходе работы над «Евгением Онегиным» у автора сложилась творческая концепция, с точки зрения которой противоречие в тексте представляло ценность как таковое. Только внутренне противоречивый текст воспринимался как адекватный действительности. Такой подход подразумевал не только подчеркивание черт литературной организации в отдельных частях текста, но и контрастное противопоставление взаимно несовместимых принципов 62. Говоря на языке психиатрии, в пушкинском «Онегине» заложен схизис как момент построения художественного текста: Чей взор, волнуя вдохновенье, Умильной лаской наградил 62 Лотман Ю. М. Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Пособие для слушателей спецкурса. Тарту, 1976. С. 43–45. Твое задумчивое пенье? Кого твой стих боготворил? И, други, никого, ей-богу! Любви безумную тревогу Я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал Горячку рифм: он тем удвоил Поэзии священный бред, Петрарке шествуя вослед, А муки сердца успокоил. До сих пор, рассуждая о согласованном и подлинном бреде, мы неявно исходили из предпосылки, в соответствии с которой согласованный бред может быть только хроническим, а подлинный бред – по преимуществу острым. Мы должны подчеркнуть, что оба этих концепта (согласованный и подлинный бред) мы употребляем не в клиническом психиатрическом смысле (там таких понятий и нет), а в культурно-философском. Согласованный бред и подлинный бред – это языковые игры, осуществляющиеся по определенным правилам, но правила согласованного бреда формируются традицией, а правила подлинного бреда – самим бредящим. Подобно тому как возможен острый невроз и невроз характера, растянутый на всю жизнь, согласованный бред может быть и острым, и хроническим. Что, в сущности, такое согласованный бред? Это жизнь по правилам жизни. Это любая языковая игра, например, игра в шахматы. Почему мы называем игру в шахматы согласованным бредом? Потому что это совокупность искусственных правил, система означающих без означаемых. Но утренний завтрак – это тоже согласованный бред. Человек завтракает не потому, что он голоден, а потому что по утрам принято завтракать. Основатель лечебного голодания Поль Брегг полагал, что завтрак надо сначала заработать физическим трудом. Брегг пытался рассогласовать бред о слишком обильном и калорийном питании. Он рассказывал историю о том, как богатые люди путешествовали на корабле, употребляя слишком много пищи и спиртных напитков, и концу круиза многие из них просто умерли. Когда шахматная партия протекает ровно, это согласованный хронический бред. Когда противник неожиданно ставит вам мат в три хода, это острый согласованный бред. Но когда вы в ярости сметаете шахматные фигуры с доски, это уже проявление подлинного острого бреда. Когда завтрак протекает нормально, то это согласованный хронический бред, но если человек поперхнулся яблоком и чуть не умер, это острый согласованный бред. Я знал одного ученого, которого пригласили в престижный университет на почетное место профессора. Но оказалось, что у него не хватает ваковских публикаций, и тогда ему предложили временно место доцента. Этот человек был такого высокого мнения о себе, что с возмущением отказался. Это был случай острого согласованного нарциссического бреда с элементами величия. В литературе часто изображаются случаи острого согласованного бреда. Когда чиновник Червяков чихнул на лысину генералу, а потом стал каждый день стал приходить просить у него прощения и, когда генералу это надоело, он его выгнал, и Червяков от ужаса умер, то это был острый компульсивный согласованный бред. А бывает ли в человеческой жизни небред? Ученик учит урок. Профессор читает лекцию. Обыватель смотрит телевизор. Все эти языковые игры представляют собой согласованный бред. Почему? Кальдерон писал в драме «Жизнь есть сон»: В мире, где мы обитаем, Жизнь до того странна, Что сну подобна она. И, если верно рассудим, Жизнь только снится людям, Пока не проснутся от сна. Снится, что он король, королю, И живет он, повелевая, Разрешая и управляя, Думая: «Славу не разделю», Но славу вручает он ветру-вралю. И славу его потом проверьте, В пепле смерти ее измерьте! Кто ж захочет взойти на трон, Зная, что должен проснуться он Только во сне смерти? Снится богатому, что богатеет, Хитростью наживая злато, Снится бедному, что всегда-то Он и бедствует и потеет; Снится кому-то, что все умеет, Снится кому-то, что всех превышает, Снится кому-то, что всех унижает. И каждый в мире собой обольщен, И каждый только лишь видит сон, И никто об этом не знает. Мне же снится, что много лет Я в железные цепи закован, А раньше снилось, что, очарован, Видел я свободу и свет. Что это жизнь? Это только бред. Что это жизнь? Это только стон, Это бешенство, это циклон, И лучшие дни страшны, Потому что сны – это только сны, И вся жизнь – это сон. Шекспир писал, что жизнь – это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, но лишенная всякого смыла. Человек, сознательно созидающий смысл, самосовершенствующийся, живущий против жизни, не думающий о себе, встречается крайне редко, потому что такая жизнь обычно превращается в хронический подлинный бред. Например, «Четвертый путь», учение Гурджиева и его последователей, представляет собой типичный хронический подлинный бред с фантастическими космогоническими представлениями о Луче Творения или о том, что Земля является пищей для Луны. Многие произведения философии представляют собой не что иное, как хронический подлинный нарративный бред. Например, когда участники Венского кружка логического позитивизма прочитали в 1927 г. «Бытие и время» Хайдеггера, они оценили это текст как бред. Только Витгенштейн осадил их, сказав, что нельзя называть бредом произведение только потому, что человек в нем совершенно по-иному мыслит. Многие страницы «Анти-Эдипа» Делёза и Гваттари воспринимаются как подлинный хронический бред: Оно [ça ]63функционирует повсюду, иногда без остановок, иногда с перерывами. Оно дышит, оно греет, оно ест. Оно испражняется, оно целует. Но какое заблуждение 63 Игра на значении слова ça – «это», которое использовалось для перевода фрейдовского Es («Оно», «id»). говорить о нем как о чем-то одном и определенном [le ça ]. Повсюду – машины, и вовсе не метафорически: машины машин, с их стыковками, соединениями. Одна машина-орган подключена к другой машине-источнику: одна испускает поток, другая его срезает. Грудь – это машина, которая производит молоко, а рот – машина, состыкованная с ней. Рот больного анорексией колеблется между машиной для еды, анальной машиной, машиной для говорения, машиной для дыхания (приступ астмы ). Вот так мы все оказываемся бриколерами; у каждого свои маленькие машины. Машина-орган для машины-энергии, и повсюду – потоки и их срезы. У судьи Шребера солнечные лучи в заднице. Солнечный анус. И будьте уверены в том, что это работает. <…> Продолжение прогулки шизика [le schizo ], когда герои Беккета решают выйти на улицу. Вначале нужно увидеть, что их изменчивая походка сама является сложнейшей машиной. А затем велосипед – в каком отношении машина велосипед-рожок находится к машине мать-анус? «Говорить о велосипедах и рожках – какое отдохновение. К несчастью, речь не об этом, а о той, что произвела меня на свет, посредством дыры в своем заду, если память мне не изменяет». Часто думают, что Эдип – это просто, это данность. Но ничего подобного: Эдип предполагает фантастическое подавление желающих машин. Но для чего, с какой целью оно осуществляется? В самом ли деле необходимо и желательно ему подчиняться? И с чем? Что положить в эдипов треугольник, чем его образовывать? Рожок велосипеда и зад матери – как, они подойдут? Нет ли более важных вопросов? Если есть результат, то какая машина может его произвести? А если есть машина, то для чего она может понадобиться? Например, определите по геометрическому описанию подставки для ножей способ ее использования. Или пусть перед вами завершенная машина, образованная из шести камней в правом кармане моего пальто (карман, который отпускает камни ), пяти в правом кармане моих брюк, пяти в левом кармане моих брюк (передаточные карманы ), последнего кармана пальто, принимающего… 64. Жизнь многих великих людей представляет собой хронический подлинный бред, например, жизнь Бетховена после того, как он оглох и жил почти что только во внутреннем мире своей музыки. Это хорошо показал в стихотворении «Бетховен» Георгий Шенгели: То кожаный панцирь и меч костяной самурая, То чашка саксонская в мелких фиалках у края, То пыльный псалтырь, пропитавшийся тьмою часовен, — И вот к антиквару дряхлеющий входит Бетховен. Чем жить старику? Наделила судьба глухотою, И бешеный рот ослабел над беззубой десною, И весь позвоночник ломотой бессонной изглодан, — Быть может, хоть перстень французу проезжему продан? Он входит, он видит: в углу, в кисее паутины Пылятся его же (опять они здесь) клавесины. Давно не играл! На прилавок отброшена шляпа, И в желтые клавиши падает львиная лапа. Глаза в потолок, опустившийся плоскостью темной, Глаза в синеву, где кидается ветер огромный, И, точно от молний, мохнатые брови нахмуря, Глядит он, а в сердце летит и безумствует буря. 64 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 26– 27. Но ящик сырой отзывается шторму икотой, Семь клавиш удару ответствуют мертвой немотой, И ржавые струны в провалы, в пустоты молчанья, Ослабнув, бросают хромое свое дребезжанье. Хозяин к ушам прижимает испуганно руки, Учтивостью жертвуя, лишь бы не резали звуки; Мальчишка от хохота рот до ушей разевает, — Бетховен не видит, Бетховен не слышит – играет! Томас Манн в романе «Доктор Фаустус», опираясь на свидетельства современников великого композитора, нарисовал поразительную картину того, как Бетховен творит в состоянии острого подлинного бреда: Кречмар рассказал нам страшную историю, которая глубоко запечатлела в наших сердцах тягость этой борьбы и образ великого страдальца. Это было в разгар лета 1819 г., в Мёдлинге, когда Бетховен, работая над мессой, приходил в отчаяние оттого, что каждая часть становилась длиннее, чем он предполагал поначалу; тем самым срок окончания работы, назначенный на март месяц следующего года и приуроченный к посвящению эрцгерцога Рудольфа в сан архиепископа Ольмюцского, явно не мог быть выдержан. Два его друга и адепта, заглянув под вечер в мёдлингский дом, узнали, что утром сбежали кухарка и горничная маэстро, так как прошедшей ночью произошла дикая сцена, пробудившая всех и вся в доме. Маэстро работал до глубокой ночи над Credo, Credo с фугой, и не вспомнил об ужине, стоявшем на плите; в конце концов девушек, тщетно дожидавшихся на кухне, сморило сном. Когда в первом часу ночи маэстро почувствовал голод, он нашел их обеих спящими, кушанье же пересушенным, подгоревшим и впал в ярость, тем менее пощадившую уснувший дом, что сам он не мог слышать своих криков. «Неужто вы не могли подождать меня какой-нибудь час?» – без умолку гремел он. Но тут речь шла не о часе, а о пяти, шести часах, и разобидевшиеся девушки чуть свет убежали из дому, бросив на произвол судьбы своего буйного хозяина, который ничего не ел уже со вчерашнего обеда. Так, ничем не подкрепившись, он и работал в своей комнате над Credo, Credo с фугой. Молодые люди слышали сквозь запертую дверь, как он работает. Глухой пел, выл, топал ногами, трудясь над своим Credo, и слушать это было так ужасно, что у них кровь застыла в жилах. В миг, когда они, потрясенные до глубины души, уже собрались удалиться, дверь вдруг распахнулась – в ней, точно в раме, стоял Бетховен. Но как он выглядел? Ужасно! Растерзанная одежда, черты лица до того искаженные, что страшно было смотреть. На них уставились его вслушивающиеся глаза со взором смятенным и отсутствующим; казалось, он только что вышел из смертного боя с целым сонмом злых духов контрапункта. Сначала он нечленораздельно что-то бормотал, а затем стал бранчливо жаловаться на развал в доме – все его бросили, он голодает. Молодые люди пытались его успокоить, один помог привести в порядок одежду, другой помчался в ресторацию и принес готовый обед… Месса была закончена лишь три года спустя. Мы ее не знали и только в этот вечер о ней услышали. Но кто же станет отрицать, что поучительно и слышать о великом? Правда, многое зависит от того, как о нем говорят. Когда мы шли домой с лекции Венделя Кречмара, нам казалось, что сейчас мы слышали мессу собственными ушами; этой иллюзии немало способствовал и образ измученного бессонной ночью, изголодавшегося композитора в рамке двери, который он так ярко обрисовал. Для того, чтобы увидеть безбредовую жизнь, надо выйти на луг, посмотреть, как растут полевые цветы, как по степи бежит стая сайгаков, а по небу летят птицы. Нам такая жизнь недоступна. Но зато мы можем слушать Девятую симфонию, читать «Волшебную гору» и смотреть на картины Ван Гога . Глава восьмая. Сознания не существует Сегодня я хочу поговорить о человеке как агломерате диссоциированных субличностей и, может быть, в дальнейшем о культуре как о системе диссоциированных субинституций. Мы уже заметили (да это и очевидно), что языковых игр, форм жизни, видов согласованного бреда невероятное множество. И гораздо менее очевидно, что подлинный бред представляет собой, возможно, некое единство. Во всяком случае ясно, что видов подлинного бреда гораздо меньше, чем видов согласованного бреда. Впервые в XX в. о множественности Я заговорил Гурджиев, а потом писали его ученики (прежде всего П. Д. Успенский и Морис Николл). (Писали ли об этом раньше, мне неизвестно, так как я по преимуществу занимаюсь XX веком.) По Гурджиеву, человеку только кажется, что он целостность, а на самом деле он представляет собой агломерат множества маленьких Я, которые часто ничего не знают друг о друге (или делают вид, что не знают), при этом один делает или думает одно, другой другое, а третий третье. Именно поэтому, в частности, бессмысленно говорить об истине и лжи как о чем-то реальном. Один человек во мне говорит правду, другой в это же время врет, третий просто напевает какую-то песенку или читает про себя стихи. Слово «диссоциация» означает расщепление, т. е. (как подошел к этому со своих позиций Гурджиев) каждый человек – шизофреник, но не в том смысле, в каком говорят о шизофрении и диссоциированном расстройстве личности психиатры. Что такое агломерат диссоциированных субличностей? Это некое скопище внутри одного человека множества Я. Я все-таки предпочитаю говорить о субличностях, потому что хотя Я с гурджиевской точки зрения иллюзия, и я согласен с этим, все-таки на уровне философии обыденного языка Я – это нечто в определенном смысле реальное, поскольку мы все время употребляем это слово в речи65. Довольно близко (как ни странно, потому что Гурджиев и Успенский очень не любил психоанализ, очевидно, видя в нем своего более удачливого соперника) к этому подошел Фрейд во второй теории психического аппарата (Я, Оно и Сверх-Я) и также спустя много десятилетий Эрик Берн, разделивший человека на Взрослого, соответствующего фрейдовскому Я, Ребенка, соответствующего фрейдовскому Оно, и Родителя, соответствующего Сверх-Я. Во многом близко к этому учение Лакана о Большом Другом и Маленьком Другом, а также разграничение им регистров Воображаемого, Символического и Реального, но оно для наших целей слишком сложно, поэтому мы не будем его касаться в этом разделе. Представим себе обыкновенного человека, находящегося в состоянии согласованного бреда, или, скорее, агломерата множества согласованных бредов. Каждый вид согласованного бреда согласован только внутри себя, каждая языковая игра имеет правила внутри себя, но когда они сталкиваются, они рассогласуются и образуют хаотический агломерат, чего человек, как правило, не замечает. Гурджиев и его ученики говорят о множественности Я как о некой догме, поскольку они обращаются к своим адептам, которые приняли Систему Четвертого Пути (или Работу), потому, в соответствии с их учением, человек должен осознать свою множественность, чтобы в будущем достичь какого-то единства: Некоторые из эго в нас очень опасны, и им никогда нельзя позволять говорить через нас или называть себя «Я». Это легко сказать, но трудно сделать. Одни – опасны по одной причине, другие – по другой. Давайте возьмем подозрительные «я» как пример крайней опасности. Эти «я» являются одними из самых опасных в нас. Они обладают удивительной способностью привязывать человека к своему влиянию. Их воздействие заключается в том, что они трансформируют вещи или соединяют их другим образом. Они проявляются очень 65 Rowan J. Subpersonalities: The People inside us. L.—N. Y., 1991. Советую читателю ознакомиться с этой интереснейшей книгой о субличностях. коварно в Интеллектуальном Центре. Подозрительные «я» переставляют факты так, чтобы они соответствовали их центральной теории – т. е. соответствовали природе подозрения. Они изменяют расположение вещей в памяти и мыслях таким образом, что одно подкрепляет и подтверждает другое. Так они выстраивают организованную ментальную систему – систему лжи, а не правды. В эмоциональном центре они вызывают свои собственные характерные для них чувства, отличающиеся от ревности, зависти, мстительности или ненависти, и приносят любопытное возбуждение, как все разрушительные эмоции. Воздействие подозрительных «я» таково, что они распространяются как закваска во всех направлениях внутри нас и приводят вещества ума и эмоций в состояние, похожее на свертывание. Они также воздействуют на двигательный центр, провоцируя осторожность, странную сдержанность телодвижений и т. д. Подозрение опускает все на более низкий уровень и поэтому оно тесно связано с «хулой на Духа Святого», которая упоминается в Евангелиях, что подразумевает тот случай, когда человек видит самое худшее во всех и во всем. Если вы будете наблюдать их в действии, то заметите, что подозрительные «я» любят разговоры шепотом. Идея Работы состоит в том, чтобы создать одно большое Наблюдающее «я», которое стоит вне Личности и фотографирует все «я» в Личности. Чем больше снимков вы сделаете, тем сильнее станет Наблюдающее «я» и тем больше будет у вас шансов перейти в новую жизнь, свободную от принуждения и привычек старой жизни. Но помимо того, что делать снимки вообще очень трудно, во всяком случае, в начале, со временем становится ясно, что некоторые «я» исключительно сложно сфотографировать. Причина в их гипнотической власти над нами. Помните, что все «я» специализированы – т. е. они все разных видов. У каждого из них свои предпочтения. Одно «я» любит одно, другое «я» – другое. Этому нравится говорить или делать одно, а тому – другое и т. д. Некоторые из этих «я» привлекают нас сильнее других. Их внутренняя гипнотизирующая сила больше. Это касается, в частности, подозрительных «я». Эти «я», присутствующие в каждом из нас, могут играть очень маленькую роль, а могут принять огромные размеры. Это одни из самых субъективных «я», и они могут использовать аргументирующую способность формирующего центра в своих интересах, так что человек начинает жить во внутреннем мире своего собственного вымысла, который совершенно отличается от объективного мира или реальной ситуации. Каждое «я» создает, так сказать, свой маленький кратковременный мир, в котором мы оказываемся, как только отождествляемся с этим «я», но подозрительные «я», если мы соглашаемся с ними и питаем их своей волей, оккупируют все пространство внутренней жизни и превращают его в постоянный мир ада. Работать над собой – это значит войти в новый способ жизни – сознательной жизни внутри самого себя вместо механической жизни. Это значит работать против своих механических реакций на все и т. д. Работа над собой – это просто Работа над собой. Она начинается, когда вы наблюдаете себя и начинаете видеть разные «я» в себе, которые жили за ваш счет и держали вас в рабстве всю вашу жизнь. Но все это невозможно, если вы воображаете, что являетесь одним человеком 66. Я никого ничему не учу. Я просто хочу поразмыслить о том, почему человек диссоциирован, откуда это взялось и как действует. Допустим, человек едет на машине и занят правилами дорожного движения, но другая субличность в нем думает не о дорожном движении, а о том, что он голоден или что хорошо бы наконец выспаться, а третья о том, как вчера отлично поиграли в покер, а четвертая о том, что надо наконец поставить Владимира Васильевича на место, а пятая о том, что его жена самая лучшая на свете женщина, а шестая о том, что хорошо бы поближе познакомиться с Клавдией Ивановной, и так далее. Иногда субличности вступают между собой в спор. Человек обращается к самому себе и говорит: «А ты думаешь, что это так просто?» А другая субличность отвечает первой: «Ничего я не 66 Николл М. Психологические комментарии к учению Гурджиева и Успенского. В 2 т. М., 2003. С. 238. думаю!» А первая: «Нет, думаешь, я же вижу!» Потом он говорит: «Да к кому же я все время обращаюсь, ведь я же один!» Потом он снова забывает, что он один, и говорит себе: «Ты бы лучше следил за движением!» А третья субличность думает о том, что неплохо бы выпить хорошего вина. А четвертая думает, что статья, которую он послал в журнал, совершенно сырая, и редактор заставит ее переделывать. Наверное, поэтому человек, когда едет на машине, так часто отвлекается и попадает в катастрофы. В соответствии с гипотезой Кроу (я думаю, что она давно доказана и подтверждена его учениками и последователями, просто я не слежу за литературой), у первобытного прачеловека произошла генная мутация и у него появился шизоидный радикал, который и сделал его Человеком Разумным. Разумный человек придумал культуру как систему диссоциированных субинституций, таких же диссоциированных, как он сам. Например, есть система уличного движения, и есть система минималистской музыки, и есть система стоматологических клиник, и есть система семейных отношений. Таких систем очень много – это профессии: адвокаты, врачи, военные финансисты, физики, литературоведы, футболисты. Их невероятное множество, и все они внутри себя строго продуманы, но тем не менее они все время наезжают друг на друга. Футболист может быть хорошим художником и в то же время учиться на философском факультете. Домохозяйка смотрит телевизор, одновременно она гладит и думает о неверности своего мужа. Система культуры все время перекрещивается с агломератом диссоциированных субличностей. Вот так мы все живем, а кто-то не выдерживает и сходит с ума, потому что, в сущности, так жить очень трудно, почти невозможно. Тогда человек попадает в состояние подлинного бреда. Подлинный бред – это вовсе не обязательно клинический бред острого патентованного шизофреника, например, Передонова. Федор Сологуб в «Мелком бесе» показал развернутый шизофренический бред Передонова, будто списанный с учебника психиатрии (что, конечно, не так), как… согласованный. Уже в самом начале повествования Передонов характеризуется всеми негативными признаками шизофренического расстройства: он подавлен, угрюм, на лице его выражение тупости и скуки, которое сменяется механическим мертвенным выражением в конце романа, говорит он со злобой, его охватывают страх и ужас, для него характерны тоска, тупость, равнодушие, отрывистый инфернальный хохот, неожиданно и немотивированно сменяющий тупое настроение: «Лицо у Передонова оставалось тупым и не выражало ничего. Механически, как на неживом, прыгали на его носу золотые очки и короткие волосы на его голове». Передонов обсессивен, анален, все время подчеркивается его грязность, и все вокруг его окружающее грязно – улицы, женщины. Он ненавидит чистеньких гимназистов, питая к ним некое угрюмое садистическое вожделение. Он нарциссичен – равнодушен ко всему, что не относится к его личности. Он не принимал никакого участия в чужих делах, не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими выгодами и удовольствиями. Передонов – эротоман, думает, что все женщины в него влюблены и хотят выйти за него замуж. Он садист – любит, чтобы пороли гимназистов. Постепенно от бреда отношения он переходит к бреду отравления и преследования, далее к галлюцинациям: мелким визуальным (недотыкомка), характерным для алкогольного делирия (он все время напивается), слуховым и обонятельным. Для Передонова характерны нарциссическая грандиозность и мегаломания: он думает, что, когда станет инспектором благодаря покровительству княгини, все будут его уважать и восхищаться им. У Передонова все вызывает страх и отвращение («гадость», пакость» – его любимые слова). Проследим развитие болезни Передонова последовательно по тексту. Недотыкомка бегала под стульями и по углам и повизгивала. Она была грязная, вонючая, противная, страшная. (Галлюцинация сочетается с обессивным началом – восприятие галлюцинаторного объекта как грязного.) Передонов боится черной книги, боится ходить по определенной стороне улицы, он перевешивает в сортир то портрет Пушкина, то портрет Мицкевича. Наряжаться, чиститься мыться. На все это нужно время и труд; а мысль о труде наводила на Передонова тоску и страх. Хорошо бы ничего не делать, есть, пить, спать да и только! <…> Только сравнить: безумный, грубый, грязный Передонов – и веселая, светлая, нарядная, благоуханная Людмилочка. В сущности, Передонов окончательно сходит с ума оттого, что влюбляется в слишком чистого телом и душой Сашу Пыльникова, которого он хочет уличить в том, что тот девочка, и высечь. Садизм – это ведь вид извращения, а значит вид извращенного сексуального наслаждения. Передонов совершает обссесивные обряды заговора, граничащие с бредом, он «чурается»: Передонов закружился на месте, плевал во все стороны и бормотал: – Чур-чурашки, чурки-болвашки, буки-букашки, веди-таракашки. Чур меня. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перчур-расчур. На лице его изображалось строгое внимание, как при совершении важного обряда. И после этого необходимого действия он почувствовал себя в безопасности от рутиловского наваждения. Обсессия сменяется у Передонова бредом отношения, отравления и преследования, причем эти бредовые идеи идут у него вперемежку: Передонов так же внезапно перестал смеяться и угрюмо сказал, тихо, почти шепотом: – Донесет, мерзавка. – Ничего не донесет, нечего доносить, – убеждал Рутилов. – Или отравит, – боязливо шептал Передонов. <…> Передонов угрюмо взглянул на нее, и сказал сердито: – Нюхаю, не подсыпано ли яду. – Да что ты, Ардальон Борисыч! – испуганно сказала Варвара. – Господь с тобой. С чего ты это выдумал? – Омегу набуровила! – ворчал он. – Что мне за корысть травить тебя, – убеждала Варвара, – полно тебе петрушку валять. Передонов еще долго нюхал, наконец успокоился и сказал: – Уж если яд, так тяжелый запах непременно услышишь, только поближе нюхнуть, в самый пар. <…> «Еще подсыплет чего-нибудь», – подумал он. <…> Мурин громко крикнул: – Пли! И прицелился в Передонова кием. Передонов крикнул от страха, и присел. В его голове мелькнула глупая мысль, что Мурин хочет его застрелить. <…> А еще на кухне подсыплют ему яду, – Варя со злости подкупит кухарку. Верига подвинул Передонову ящик с сигарами. Передонов побоялся взять и отказался. Тоскливо было на душе у Передонова. Володин все не пристроен. Смотри за ним в оба, не снюхался бы с Варварою. <…> У нее есть родня в Петербурге: напишет, и, пожалуй навредит. <…> Таких цветов, вспомнил Передонов, много в их саду. И какое у них страшное название. Может быть, они ядовиты. Вот, возьмет их Варвара, нарвет целый пук, заварит вместо чаю и отравит его, – потом уж когда бумага придет, – отравит, чтоб подменить его Володиным. Может быть, они уже условились. Недаром же он знает, как называется этот цветок. <…> «Еще отравят, – подумал он. – Отравить-то всегда легче, – сам выпьешь, и не заметишь, яд сладкий бывает, а домой приедешь, и ноги протянешь». Передонову кажется, что все над ним смеются: «Надо мной смеетесь? – спросил он. Ему чудится, что сама природа за ним наблюдает: А вокруг спустилась ночь, тихая, шуршащая зловещими подходами и пошептами. <…> В глубине двора подозрительно шептались о чем-то деревья рутиловского сада. Передонов уже начал бояться? что, пока он тут стоит, на него нападут и ограбят, а то так и убьют. Он прижался к самой стене, в тень, чтобы его не видели, и робко ждал. <…> Все предметы за тьмою странно и неожиданно таились, словно в них просыпалась иная, ночная жизнь, непонятная для человека и враждебная ему. Передонов тихо шел по улицам и бормотал: «Ничего не выследишь. Не на худое иду. Я, брат, о пользе службы забочусь. Так-то». <…> Во рву на улице, в траве под забором, может быть, кто-нибудь прячется, вдруг выскочат и укокошат. И тоскливо стало Передонову. Передонов болезненно боится полицейских – городовых и жандармов, так как ему кажется, что на него донесут из-за того, что он у себя в доме держит Писарева (не забудем, что этот безумный монстр – учитель русского языка и литературы!): – А Наташка-то наша, – сообщила Варвара, – от нас прямо к жандармскому поступила. Передонов вздрогнул, и лицо его выразило ужас. <…> На углу двух улиц он встретил жандармского штаб-офицера. Неприятная встреча! <…> В воротах, распахнутых настежь, попался Передонову городовой, – встреча, наводившая в последние дни на него уныние. У Передонова начинается мегаломания: – Господин инспектор второго ранга Рубанской губернии, – бормотал он себе под нос, – его высокородие статский советник Передонов. Вот как! Знай наших! Его Превосходительство директор народных училищ Рубанской губернии, действительный статский советник Передонов. Шапки долой! В отставку подавайте! Я вас подтяну! Лицо у Передонова сделалось надменным: он получал уже в своем скудном воображении долю власти. Паранойяльный бред у Передонова, постепенно преходящий в экстраективный шизофренический бред преследования с галлюцинациями, построен на идее, что его сожительница Варвара хочет подменить его Володиным: Передонов не любил размышлять. В первую минуту он всегда верил тому, что ему скажут. Так поверил он и влюбленности Володина в Варвару. Он думал: вот окрутят с Варварой, а там как поедут на инспекторское место, отравят его в дороге ерлами [ерлы – кушанье, которое предложил ему Володин, род кутьи. – В. Р. ], и подменят Володиным: его похоронят как Володина, а Володин будет инспектором. Ловко придумали! Постепенно Передонов начинает терять тестирование реальности, он переходит из паранойяльной стадии в параноидную: …Чувства его служили ему еще хуже. И мало-помалу вся действительность заволакивалась перед ним дымкой противных и злых иллюзий. Начинается галлюцинирование: Одно странное обстоятельство смутило его. Откуда-то прибежала удивительная тварь неопределенных очертаний, – маленькая, серая, юркая недотыкомка. Она посмеивалась, и дрожала, и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала, убегала под дверь или под шкап, а через минуту появлялась снова, и дрожала, и дразнилась, – серая, безликая, юркая. <…> Он взял распечатанную колоду, которая только однажды была в употреблении, и принялся перебирать карты, словно отыскивая в них что-то. Лица у фигур ему не понравились: глазастые такие. В последнее время за игрою ему все казалось, что карты ухмыляются, как Варвара. Даже какая-нибудь шестерка являла нахальный вид и непристойно вихлялась. Передонов собрал все карты, какие были, и остриями ножниц проколол глаза фигурам, чтобы они не подсматривали. <…> Все хохотали, а Передонов оставался угрюм и молчалив. Ему казалось, что ослепленные фигуры кривляются, ухмыляются и подмигивают ему зияющими дырками в своих глазах. <…> пиковая дама даже зубами скрипела, очевидно, злобясь на то, что ее ослепили. Визуальные галлюцинации начинают идти вперемежку со слуховыми: Смех – тихий смешок, хихиканье да шептанье девиц Рутиловых звучали в ушах Передонова, разрастаясь порою до пределов необычайных, – точно прямо в лицо ему смеялись лукавые девы, чтобы рассмешить-погубить его. <…> Порою, меж клубами ладанного дыма, являлась недотыкомка, дымная, синеватая, глазки блестели огоньками, она с легким звяканьем носилась иногда по воздуху, но недолго, а все больше каталась в ногах у прихожан, издевалась над Передоновым и навязчиво мучила. Экстраективная действительность вконец побеждает Передонова, вся реальность – это уже бредово-галлюцинаторная псевдореальность психотика: Уже Передонов был весь во власти диких представлений. Призраки заслонили от него мир. Глаза его, безумные, тупые, блуждали, не останавливаясь на предметах, словно ему всегда хотелось заглянуть дальше их, по ту сторону предметного мира… <…> Ветка на дереве зашевелилась, съежилась, почернела, закаркала и полетела вдаль. Передонов дрогнул, дико крикнул и побежал домой. <…> Дверь в переднюю казалась Передонову особенно подозрительною. Она не затворялась плотно. Щель между ее половинами намекала на что-то, таящееся вне. Не валет ли там подсматривает? Чей-то глаз сверкал, злой и острый. <…> Кот следил повсюду за Передоновым широко-зелеными глазами. Иногда он подмигивал, иногда страшно мяукал. Видно было сразу, что он хочет подловить в чем-то Передонова, да только не может и потому злится. Передонов отплевывался от него, но кот не отставал. <…> Передонов ворчал: Напустили темени, а к чему? <…> Когда Передоновы возвращались из-под венца, солнце заходило, а небо все было в огне и золоте. Но не нравилось это Передонову. Он бормотал: – Наляпали золота кусками, аж отваливается. Где это видано, чтобы столько тратить! Здесь примечателен неопределенно-личный оборот. Когда хотят сказать, что какие-то одушевленные силы действуют тайно и в злонамеренных целях, употребляют неопределенно-личные конструкции. (Ср.: «Ну вот, опять по телевизору ничего хорошего не показывают». «Ну, теперь опять будут душить свободу!») Так и Передонов воспринимает естественные природные явления как вражеские козни какой-то одушевленной дьявольской силы, от которой он уже не может «зачураться», поскольку психотическое в его сознании победило. На примере Передонова (а этот пример чрезвычайно типичен для клинической практики) мы видим, что клинический подход не помогает нам выявить, что такое подлинный бред. Попробуем подойти к делу с логико-семантической точки зрения. Мы помним, что в соответствии с принятой нами перформативной гипотезой любая пропозиция превращается в косвенный контекст и поэтому лишается истинностного значения. Я говорю, что это береза. Или в более разговорном ключе: «Говорю же тебе, что это береза». – «А я тебе говорю, что это не береза, а осина». Тогда мы можем пойти еще дальше. Если любой косвенный контекст лишен истинностного значения, то, стало быть, истинностного значения лишены и логические законы и даже самый фундаментальный из них закон тождества (рефлексивности): «А равно А». – «А я говорю тебе, что А не равно А». Возможно, если мы будем в состоянии представить себе мир, в котором А не равно А, то это и будет мир подлинного бреда. Что это может означать, что А не равно А? Стол – это не стол. Дом – это не дом. Моя жена – это не моя жена. Вадим Руднев – это не Вадим Руднев. Я – это не Я. Мы можем вполне представить себе человека, который говорит: «Я это не я, а кто-то другой». Это называется деперсонализацией. При деперсонализации человек себя чувствует кем-то другим, а не самим собой. Я не Вадим Руднев, а Фридрих Ницше. Но что такое Вадим Руднев, и что такое Фридрих Ницше? Вадим Руднев – это человек, проживший определенную жизнь и написавший определенные книги. Фридрих Ницше – это человек, проживший совсем другую жизнь и написавший совсем другие книги. Есть ли что-то общее между Вадимом Рудневым и Фридрихом Ницше, какое-то основание для их отождествления? Есть. Они оба философы. Но я, Вадим Руднев, могу сказать: «Я не философ Вадим Руднев, а философ Фридрих Ницше, но философ – это не философ». Тогда у нас остается по крайней мере еще одно основание для их отождествления, которое состоит в том, что и Вадим Руднев, и Фридрих Ницше – люди. Но я могу пойти еще дальше и сказать: «Я не Вадим Руднев, я Фридрих Ницше, но Фридрих Ницше – не человек, а дерево. Я – дерево Фридрих Ницше». Все эти рассуждения напоминают по меньшей мере три философских концепции. Две из них мы затрагивали выше. Первая, построенная на реконструкциях А. Ф. Лосева, состоит в том, что в мифологическом мире первобытного человека все равно всему. А идея, в соответствии с которой психотическое бредовое мышление регрессирует к первобытному мифологическому мышлению, – это азбука психоанализа. В этом смысле Я может быть кем угодно. Как в ирландском стихотворении: вихрь в далеком море Я волны бьются в берег Я гром прибоя это Я бык утеса это Я капля росная это Я я прекрасный это Я вепрь могучий это Я он в заливе это Я озеро в долине это Я слово бога это Я пламя песни это Я возглавляю войско Я бог главы горящей Я67. Или как в стихотворении современного поэта-концептуалиста Владимира Друка: иванов – я петров – я сидоров – я так точно – тоже я к сожалению – я видимо – я видимо-невидимо – я патефонов – я мегафонов – я стереомагнитофонов – я цветотелевизоров – я <…> там, где не вы – я там, где не я – я песня последняя песня бескрайняя я – як-истребитель я – член профосоюза и мною гордится страна <…> и везувий – я и вергилий – я и василий – я68. (Не будем забывать, кстати, что все это продолжение разговора о диссоциированных субличностях.) Можно ли представить себе, что я чувствую себя всем на свете? Можно ли представить себе, что я чувствую себя круглым квадратом? Чувствовать себя можно всем, чем угодно. Вторая концепция довольно близка к первой. Это концепция бессознательного как бесконечных множеств Игнасио Матте Бланко, в соответствии с которой на уровне бессознательного, так же как и в мифологическом мышлении, все равно всему. А поскольку тот факт, что у психотика на место сознательного становится бессознательное, тоже азбука психоанализа, то эта идея тоже работает. Третий подход – наиболее утонченный. Он принадлежит основателю семантики возможных миров Лейбницу. Мы изложим его подход так, как его интерпретирует Жиль Делёз в своих «Лекциях о Лейбнице»: Лейбниц исходит из того, что всякая истинная пропозиция является аналитической, т. е. подобной «А равно А». Он называет это «принципом достаточного основания». Принцип достаточного основания может выражаться так: что бы ни происходило с 67 Поэзия Ирландии. М.: Худ. литература, 1988. С. 23. 68 Друк В. Коммутатор. М.: ИМА-пресс, 1991. С. 42. субъектом, какими бы ни были детерминации пространства и времени, отношения события, необходимо, чтобы то, что происходит, то есть то, что мы говорим о нем как истину, необходимо, чтобы все, что говорится о субъекте, содержалось в понятии субъекта. <…> Возьмем примеры самого Лейбница: «ЦЕЗАРЬ ПЕРЕШЕЛ РУБИКОН». Это пропозиция. Она истинная, или же у нас есть серьезные основания предполагать что она истинная. Другая пропозиция: «АДАМ СОГРЕШИЛ». Вот в высшей степени истинная пропозиция. Что вы тем самым имеете в виду? Вы видите, что все эти пропозиции, избранные Лейбницем в качестве основополагающих примеров, суть пропозиции событийные, и он задает себе нелегкую работу. Лейбниц собирается сказать нам следующее: поскольку эта пропозиция истинная, то необходимо – хотите вы этого или нет, – чтобы предикат «перейти Рубикон», если пропозиция истинная (а она ведь истинная! ), чтобы этот предикат содержался в понятии Цезаря. Не в самом Цезаре, а в понятии Цезаря. Понятие субъекта содержит все, что с субъектом происходит, т. е. все, что говорится о субъекте как истинное. «Адам согрешил» в некий момент принадлежит к понятию Адама. «Перейти Рубикон» принадлежит к понятию Цезаря. <…> Если вы сказали, в соответствии с принципом достаточного основания, что то, что происходит с каким-то субъектом, и то, что касается его лично, – стало быть, то, что вы атрибутируете ему как истинное: «иметь голубые глаза», «переходить Рубикон и т. д. – принадлежит к понятию субъекта и вы не можете остановиться, необходимо сказать, что этот субъект содержит весь мир. <…> Лейбниц выражается в такой форме: понятие субъекта выражает тотальность мира. Его собственное «перейти Рубикон» растягивается до бесконечности назад и вперед из-за двойной игры причин и следствий. Но тогда – пора поговорить о нас. Независимо от того, что с нами происходит, и от важности того, что с нами происходит, необходимо сказать, что в каждом понятии субъекта содержится или выражается тотальность мира. То есть каждый из вас, да и я – все выражают тотальность мира. Совсем как Цезарь. Ни больше ни меньше. Это усложняется. Почему? Большая опасность, если каждое индивидуальное понятие, если каждое понятие субъекта выражает тотальность мира, то это значит, что существует лишь один субъект, субъект универсальный, а вы, я, Цезарь – всего лишь видимости этого универсального субъекта. Можно было бы сказать: вот, существует один-единственный субъект, который выражает мир. <…> Всякая индивидуальная субстанция подобна всему миру и подобна зеркалу Бога или всей вселенной, какую каждая индивидуальная субстанция выражает на свой лад: это немного напоминает то, что один и тот же город по-разному предстает в зависимости от разного положения того, кто на него смотрит. Итак, вселенная некоторым образом приумножается столько раз, сколько существует субстанций, а слава Бога точно так же приумножается через столько же различных представлений о его [нрзб.]». <…> Итак, Лейбниц создает странный логический концепт несовозможности. На уровне возможности некой вещи недостаточно, чтобы она была только возможной, чтобы существовать; еще необходимо знать, с чем она совозможна. Если Адам-негрешник и возможен сам по себе, то он несовозможен с существующим миром. Адам мог бы и не грешить, да-да, но лишь при условии существования другого мира. <…> Адамнегрешник – часть другого мира. Адам-негрешник мог бы быть возможным, но этот мир не был выбран. Адам [очевидно, Адам-негрешник. – В. Р. ] несовозможен с существующим миром. Он совозможен только с другми возможными мирами, которые не пробились к существованию 69. Если рассматривать Лейбница в интерпретации Делёза, то получается, что если одна 69 Делёз Ж. Лекции о Лейбнице. 1980; 1986/87. М.: Ad Margimem Press, 2015. С. 24, 28–29, 32. пропозиция содержит в себе весь мир и все другие пропозиции тоже содержат в себе весь мир, то пропозиции «Адам согрешил» и «Цезарь перешел Рубикон» друг от друга почти ничем не отличаются – они обе отражают тотальность мира. Если брать множество возможных миров, в одном из которых Адам не согрешил, а Цезарь не перешел Рубикон, то можно сказать, что в этой сверхтотальности Цезарь согрешил, а Адам перешел Рубикон, и это будет одно и то же. Мультиверсный подход в современной квантовой физике идет еще дальше. В нем все возможные миры являются действительными. В современной философии примерно такой же точки зрения придерживается Дэвид Льюис. Что же в свете сказанного означает пропозиция «Я говорю, что А не равно А»? Оба мира действительны: и тот, в котором А равно А, и тот, в котором А не равно А (Хинтикка такой мир называл невозможным возможным миром). Первый мир, где А равно А, мы можем назвать миром согласованного бреда, а второй мир, где А не равно А, миром подлинного бреда. Надо сказать, что и сам Делёз говорит о безумности и галлюцинаторности взглядов Лейбница, но говорит об этом не без восхищения. Представить себе, как можно жить в мире подлинного бреда, где А не равно А, очень трудно. Ведь если А не равно А и Б не равно Б, то при этом может быть, что А равно Б (например, что Вадим Руднев – это Фридрих Ницше). Но, похоже, это и есть мир подлинного бреда в логическом смысле. А в этическом? Или, лучше сказать, в экзистенциальном? Мир подлинного бреда – это мир, несовозможный самому себе. (Или это, скорее, множество невозможных миров, несовозможных друг другу.) Бог смотрит на созданный им мир (созданный, конечно, в подлинном бреду) сверху и видит сразу все возможности и несовозможности. Это характерный взгляд сверху, который Людвиг Бинсвангер назвал экстравагантным: Экстравагантность шизоидной и шизофренической личности… коренится в чрезмерных высотах решения, которые превосходят ширину опыта. <…> их манера «заходить слишком далеко» <…> Они влезают на одну определенную ступеньку «приставной лестницы человеческих проблем» и остаются там 70. Что такое мир по Лейбницу, где события, совозможны друг другу и каждый индивид отражает всю тотальность мира? Дядя Вася смотрит телевизор – классический пример согласованного бреда. Но если дядя Вася смотрит сразу все каналы, то мы можем сказать, что у него подлинный бред. Однако по Лейбницу один канал и содержит в себе все каналы, всю тотальность телевидения. Тогда похоже, что согласованный бред – это фикция, то представление, в соответствии с которым мир состоит из вещей и событий. На самом деле мир согласованного бреда состоит не из вещей и событий, а из слов и предложений. Нет никаких событий. Адам согрешил, Цезарь перешел Рубикон – это предложения, совозможные миру согласованного бреда. Но за ними ничего не стоит. Никаких событий. Безумный Бог создал не мир, он написал школьное сочинение на тему сотворения мира, которое Он выдал за сотворенный мир. В этом сочинении, где полно грамматических ошибок и слишком мало смысла, все существует сразу: Адам согрешил и или Адам не согрешил, Адам перешел Рубикон и или Адам не перешел Рубикон. Здесь господствует дизъюнктивный синтез. Человек, который думает, что он выбрал один телевизионный канал, на самом деле смотрит сразу все каналы, на которых показывают одно и то же. Разница между согласованным бредом дяди Васи и подлинным бредом Борхеса состоит в том, что Борхес понимает, что он смотрит все каналы сразу, и они представляются ему одной тотальностью множества несовозможных каналов. На одном канале пляшущие человечки исполняют танец живота. На другом Штирлиц дрючит Мюллера на плохом немецком языке. На третьем (это канал «Культура») Артуро Тосканини, невероятно фальшивя, исполняет Двенадцатую симфонию Бетховена. 70 Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. М.: Наука, 1999. С. 297. Почему нам кажется, что согласованный бред – это фикция? Во многом потому же, почему фикцией является «художественный реализм». Иван Иванович вошел в комнату и подумал: «Хорошо бы сейчас выпить водки». Это предложение лишь кажется реалистическим. На самом деле это мультиверсный бред, потому что мы не можем (с точки зрения согласованного бреда) знать, что подумал Иван Иванович. Художественный реализм, как его понимало советское литературоведение, – это просто наиболее утонченная разновидность мистического реализма. Но есть предложения, которые кажутся вполне реалистическими. «Я вижу, как моя жена входит в комнату». Если мы докажем, что это предложение выражает мистический опыт, то мы совершим революцию в философии. Я вижу, как моя жена входит в комнату. Я это я (Вадим Руднев). Моя жена – это моя жена (Татьяна Михайлова). Комната – это комната, где я нахожусь, когда моя жена в нее входит. Я могу видеть, как она входит, я ведь не Борхес. Но дело в том, что это предложение как пропозиция, относящаяся к согласованному бреду художественного реализма, ничего не говорит, она совершенно бессмысленна. Миллионы людей могут сказать: «Я вижу, как моя жена входит в комнату», но это совершенно бессмысленная фраза. Для того, чтобы она стала осмысленной, надо подключить мультиверсную идеологию. И тогда ни один экземпляр этой пропозиции не будет подобен другому. Делёз доказывал, что мир существует на пересечении различий и повторений71, т. е. на пересечении согласованного и подлинного бреда. Но согласованный бред – это фикция, потому что повторения невозможны. Вспомним, что по Лакану всякое означающее отсылает не к означаемому, а к другим означающим. Я вижу, как моя жена входит в комнату. Я вижу, как моя жена входит в комнату в красном платье. Я вижу как моя жена входит в комнату с автоматом Калашникова в руках. Я вижу, как моя жена входит в комнату, но я не узнаю ее. Я вижу, как моя жена входит в комнату, но в этот момент я умираю. У меня столько жен, сколько раз они входят в комнату. Если я не замечаю этого, мне пора сменить обстановку. Сумасшедший повторяет: «Моя жена входит в комнату. Моя жена входит в комнату. Моя жена входит в комнату». Персеверация выражает бессмысленную немультиверсность согласованного бреда. Если нет несовоможных миров, то все дозволено. Сумасшедший смотрит всегда один и тот же канал, на котором повторяется один и тот же кадр: как его жена входит в комнату. Когда его жена входит в комнату, она видит, что он спит в кресле и ему снится, как она входит в комнату, а он спит и не видит этого. «В полдневный жар в долине Дагестана…». Предположим, что согласованный бред – это действительно фикция и существуют лишь разные степени подлинного бреда. Из этого следует довольно неприятная для психолога (не бехивиориста) вещь, а именно: понятие сознания (как функции согласованного бреда) не имеет смысла, имеет же смысл говорить лишь о различных областях бессознательного. Действительно, если нам только кажется, что в обычной жизни мы сознательно пользуемся различными языковыми играми: соблюдаем правила дорожного движения, играем в шахматы, объясняемся в любви, – то это все различные формы подлинного бреда, т. е. проявления бессознательного. Рассмотрим каждый из этих примеров. Вот мы переходим улицу на зеленый цвет светофора. Действуем ли мы сознательно? Нет, мы это делаем бессознательно, «инстинктивно». Игра в шахматы предполагает развитый интеллект (мы не против понятия «интеллект»). Но перебор возможных ходов и комбинаций (шахматы – отличный пример мультиверсного мышления) – это действия не сознания, а мышления (а мы не против понятия «мышления») и происходит бессознательно. У больших шахматистов перебор 71 Делёз Ж. Различие и повторение. М.: Наука, 1997. вариантов происходит за кратчайшее время почти мгновенно (а это возможно только бессознательно). Объяснение в любви – это результат напряженного эмоционального состояния (а мы не против и понятия «эмоция»). Но когда человек говорит женщине «Я тебя люблю», сознание здесь не играет никакой роли. Это очень хорошо показал Толстой: как фальшиво объясняется в любви Пьер Безухов навязанной ему невесте Элен Курагиной и как искренне сбивчиво пытается свататься Константин Левин к Кити Щербацкой (у Толстого сбивчивость, невнятность речи – всегда признак ее подлинности)72: Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала. – Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал… что это от вас зависит… Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся. – Что это от вас зависит, – повторил он. – Я хотел сказать… я хотел сказать… Я за этим приехал… – что… быть моею женой! – проговорил он, не зная сам, что говорил; но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее. Мы готовы согласиться с гурджиевским делением психики на три центра: интеллектуальный (игра в шахматы), эмоциональный (объяснение в любви) и механический (переход улицы на зеленый свет). Мне кажется, ни Гурджиев, ни его ученики не употребляли термин «сознание». Другое дело – сознательность, но об этом ниже. Из всех книг про сознание, которые я прочитал, на меня произвела впечатление лишь одна: «Символ и сознание» М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского. Но в этой в книге можно заменить слово «сознание» словом «бессознательное», и от этого она только выиграет. Например, ключевые понятия «работа сознания» и «сфера сознания» можно заменить на «работа бессознательного» и «сфера бессознательного». Впрочем, авторы, особенно в первой диалогической версии книги73, работают с древнеиндийской метатеорией сознания, а в этой традиции, скорее всего, термины структурируются совершенно по-другому. Я действительно с трудом понимаю, что такое сознание. «Сознание его работало четко». Это имеется в виду мышление. «Он потерял сознание». Просто он упал в обморок, имеется в виду прежде всего эмоция. «Сознание должно было подсказать вам правильное решение». Имеется в виду бессознательное. Термин «психика» кажется мне осмысленным, термин «сознание» – нет. Бессознательное есть функция психики и тела74. Написав книгу «Новая модель бессознательного», я могу сказать, что знаю о нем меньше, чем до написания этой книги. Витгенштейн написал книгу «Логико-философский трактат» и в конце советовал читателю отбросить все, что там написано: «Мои Пропозиции для того, кто понял меня, в конце концов истолковываются как усвоение их бессмысленности, – когда он с их помощью – через них – над ними взберется за их пределы. (Он будет должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взберется по ней наверх). Он должен преодолеть эти Пропозиции, тогда он увидит Мир правильно»75. По сути, «Трактат» – это собрание связанных афоризмов, которые являются либо развитием логических тавтологий и поэтому, исходя из доктрины самого «Трактата», асемантичны, либо это метафизические утверждения и, стало быть, в соответствии с той же доктриной тоже бессмысленны. Надо понять их, увидеть то, что они показывают своей 72 Руднев В. Поэтика деформированного слова («Война и мир» и «Анна Каренина») // Даугава. 1988. № 10. С. 107–111. 73 Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. системам. Т. 5. Тарту, 1971. Три беседы о метатеории сознания // Труды по знаковым 74 Руднев В. Бессознательное как тело // В. Руднев. Реальность как ошибка. М.: Гнозис, 2011. 75 Витгенштейн Л. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. С. 218. структурой, и отбросить их. Неправы те, которые удивляются: «Как же Витгенштейн утверждает, что надо говорить только естественнонаучные пропозиции, а сам наговорил столько метафизики!» Он и наговорил ее для того, чтобы было что выбрасывать. В этом смысле путь Витгенштейна – сугубо дзэнский и этот афоризм в весьма дзэнском духе. А дзэн-буддизм презирает сознание и является апологией бессознательного. «Кто хочет меня понять, тот должен понять, что я осел». Лестница организует модель мира по вертикали, это одновременно и путь наверх, путь познания, и возможность сорваться вниз, в пучину зла. По лестнице спускался с небес Шакъямуни. Лестница – символ креста и крестных мук, а также символ ступенчатости познания. С лестницы обычно срываются, возмечтав подняться на ней на небеса или на Луну, как это случается во многих фольклорных текстах. Мотив отбрасывания ненужной лестницы, кроме того, – дерзко-дзэнский, вызывающий, он говорит: обратной дороги нет, мы уже достигли совершенства, а то, при помощи чего мы его достигли, этот черновик, – нам более не нужен (ср. понятие экстравагантности Бинсвангера в цитате в прошлом разделе этой книги). В соответствии с этим Р. Карнап предлагал так и поступать читателям с «Трактатом» – прочитать его и выбросить. Что же такое тогда бессознательное, если мы отказываемся от понятия сознания? Это слово (всего лишь слово, но, может быть, самое важное для нас), в семантику которого входят следующие компоненты. 1. Бессознательное – психосоматическая система, обеспечивающая человеческую деятельность как в режиме согласованного бреда (если таковой вообще существует), т. е. в обычных языковых играх, так и в режиме творчества. Можно сказать, что соматическая часть бессознательного обеспечивает режим обыденных языковых игр, а психическая часть бессознательного – режим творческой деятельности. То, что тело всегда вместе с бессознательным, можно проиллюстрировать притчей о сороконожке, которая могла передвигать ножками только бессознательно. Когда же она задумалась о том, как она передвигает ножками, то стала не в состоянии ими передвигать. Мы пользуемся своим телом бессознательно. Скрипач бессознательно играет на скрипке. Баба бессознательно доит корову. Но даже если допустить, что бессознательное находится в психике, то все равно оно находится в крошечных нейронах-тельцах. Так же и язык. Язык тоже находится на этих телесных микроносителях. Получается, что чистого бестелесного сознания в этом смысле вообще нет. В этом смысле любая ошибка бессознательна. И тогда получается, что любая ошибка телесна, когда одного принимают за другого в комедии ошибок, т. е. одно тело принимают за другое тело. Сказать, таким образом, что все бессознательно, равносильно тому, что сказать, что вся реальность – это ошибка. Что, в сущности, такое бессознательное? Его на самом деле не существует в том смысле, в каком существуют сердце, печень, поджелудочная железа и т. д. Бессознательное – это наше представление о том, как работает некая часть психики, как считали психоаналитики, или как работает некая часть тела. Мы говорим, что бессознательное находится в теле. Надо бы добавить – где-то в теле. Но в какой именно части тела? Очевидно, при разных заболеваниях в разных частях. У депрессивного это рот (оральность), у обсессивного, понятное дело, зад, у истеричного – гениталии. Речевая деятельность невозможна без тела. Речь всегда – это тело, речь человека, который находится в теле. Речь артикулируется. Бессознательное – это посредник между языком и телом. Что такое вообще бессознательное? Это когда мы что-то делаем, не понимая, чего мы делаем, когда человек отрывает, например, руку от огня. Бессознательны акты теории перформативов. Вот председатель, вместо того чтобы сказать «Объявляю заседание открытым», говорит «Объявляю заседание закрытым» (пример Дж. Остина). Это бессознательная ошибка как будто из «Психопалогии обыденной жизни». Да, она бессознательна, но как она связана с телесностью? Так ведь это его тело говорит «Объявляю…». Тело бессознательно артикулирует то, что ему уже наплевать на все и он хочет закрыть заседание. Здесь кроется какое-то зерно соотношения бессознательного и телесности. Вот он говорит «Объявляю заседание закрытым». Он зевает, почесывается – производит бессознательные манипуляции с телом. 2. Бессознательное нарративно. Соматическая часть бессознательного говорит: «Поверни налево!» «Открой холодильник!» «Остерегайся злой собаки!» «Пора обедать!» «Что-то спать хочется», «Этого мужика я завалю одной левой», «Какая красивая тетка!» «Много будешь знать – скоро состаришься». Психическая часть бессознательного говорит: «Финал Девятой симфонии Бетховена представляет собой дизъюнктивный синтез различных музыкальных жанров»; «Отче наш, сущий на небесах, да святится Имя Твое»; «Я вождь земных царей и царь Ассаргадон»; «Его любимые художники – Эль Греко и Магритт»; «Я так тебя люблю, что готов отдать свою жизнь за тебя». 3. Бессознательное говорит (см. также пункт 2). Возможно, бессознательное не столько структурировано как язык, сколько формирует сам язык, поэтому очень вероятно, что появление человеческого языка есть следствие появления бессознательного. 4. Бессознательное семиотически неопределенно. Этот тезис как будто противоречит пунктам 2 и 3. Как бессознательное может говорить, если оно семиотически неопределенно? Очевидно, как сновидение или вербальная галлюцинация. Как и последние, бессознательное может быть представлено как странный объект76. Как же бессознательное формирует язык и речевую деятельность? Очевидно, при помощи бессознательной наррации (см. ниже). 5. Бессознательное формирует желания. Если психоанализ Фрейда полагал, что бессознательное существует в режиме принципа удовольствия, а сознание – в режиме принципа реальности, то с упразднением понятия сознания мы должны констатировать, что человек продолжает всю жизнь пребывать в режиме принципа удовольствия, а принцип реальности – это такая же фикция, как сознание и согласованный бред. Об этом прежде всего говорит универсальность аксиологической модальности, которая пронизывает все остальные модальности: «Иди в магазин (а то будет плохо!)», «Не притрагивайся огню, а то будет плохо!», «Посмотри этот фильм – и будет хорошо». 6. Бессознательное может быть индивидуальным и коллективным. Фрейд связывал индивидуальное бессознательное прежде всего с вытеснением плохих содержаний из сознания. Но если сознание – фикция, то вытеснять не из чего. Бессознательное индивидуальное – хранилище микросцен, влияющих на дальнейшее поведение человека (см. ниже главу «Микросцены»). Коллективное бессознательное является проводником архетипов. Причем, как показали исследования учеников Юнга, архетипом может быть практически любой объект. В целом можно сказать, что коллективное бессознательное – это культура как система странных объектов, а индивидуальное – это реальность как агломерат странных объектов. В определенном смысле можно также сказать, что индивидуальное бессознательное – это бессознательное невротика, а коллективное – психотика. 7. Полное бессознательное является синтезом индивидуального и коллективного бессознательного. В новой модели бессознательного полное бессознательное представлено как система, состоящая из большого и малого зеркал (коллективного и индивидуального бессознательного), взаимно отражающих друга друга. По-видимому, это и есть то, что мы привыкли называть реальностью. Означает ли сказанное в предыдущих разделах, что все, что мы говорим и делаем, исходит из бессознательного и (в более заостренной форме) что все это говорит и делает наше бессознательное? Приведем первый попавшийся пример. Муж: «Пойдем в кино?» Жена: «Пойдем». Пример не совсем удачный в том смысле, что кино a prioi тесно связано с бессознательным. Кино, как заметили еще в начале XX в., похоже на галлюцинацию, его главное свойство, по Славою Жижеку, – формирование желания. Чем примитивнее кино, тем больше оно работает 76 Подробно эта проблема обсуждается в кн.: Руднев В . Странные объекты: Феноменология психотического мышления. М.: Академический проект, 2014. на согласованный бред, чем утонченней – тем активнее оно работает на бред подлинный. Еще раз хочу подчеркнуть, что слово «бред» постепенно в этой книге стало употребляться совсем не в том значении, как оно употребляется в клинической практике. Бред – это, скорее, синоним жизни в духе Кальдерона: «Что это жизнь? Это только бред». Тем не менее, если сознания не существует, получается, что именно бессознательное говорит: «Пойдем в кино», а другое бессознательное ему отвечает: «Пойдем». Здесь прежде всего вызывает сомнение пункт, в соответствии с которым бессознательное не определено с семиотической точки зрения, что в нем нет ни знаков, ни денотатов, а есть только чистые смыслы. Как же мы тогда говорим, что полное бессознательное – это и есть реальность? За 30 лет работы я сформировал три модели реальности: 1) это сложнейшая семиотическая система; 2) это поток галлюцинаций (странных объектов); 3) это зашифрованная наррация. Если бессознательное говорит «Пойдем в кино (посмотрим, как там коллективное бессознательное)», то это больше подходит к «галлюцинаторной модели». Но она ведет к онтологическому нигилизму77 и поэтому нам в данном случае не подходит. Если бессознательное говорит в духе первой модели, то это не бессознательное, поскольку бессознательное – не семиотическая система. Остается «новая модель реальности», нарративная онтология. Реальность – это система зашифрованых нарраций. Итак, бессознательное мужа говорит бессознательному жены: «Пойдем в кино?», и бессознательное жены соглашается. Что здесь зашифровано? Раз мы этот пример придумали, то надо придумать к нему и контекст, поскольку «означающее отсылает к другим означающим» (не будем забывать этот тезис Лакана). Контекст первый: бессознательное мужа очень устало от работы и хочет развеяться. Так Витгенштейн после напряженных лекций больше всего хотел пойти в кино: После лекций Витгенштейн всегда бывал в изнеможении. Он также испытывал чувство отвращения: он был недоволен и тем, что он говорил, и самим собой. Очень часто сразу же после окончания занятий он шел в кино. Как только его слушатели со своими стульями направлялись к выходу, он умоляюще смотрел на кого-нибудь из своих друзей и тихо говорил: «Пойдем в кино?» По пути в кинотеатр Витгенштейн обычно покупал булочку с изюмом или кусок пирога с мясом и ел их во время сеанса. Он любил сидеть в первых рядах, так, чтобы экран занимал все поле зрения. Это было необходимо ему для того, чтобы полностью отрешиться от мыслей о лекции и избавиться от чувства отвращения. Однажды он прошептал мне: «Это действует, как душ». Во время фильма он был собран и не отвлекался. Он сидел, сильно подавшись вперед, и почти не отрывал глаз от экрана. Он не комментировал происходящее и не любил, когда это делали его спутники. Витгенштейн хотел полностью погрузиться в фильм, сколь бы заурядным и неестественным он ни был, чтобы голова хотя бы на время освободилась от мыслей, которые преследовали его и не давали покоя 78. Контекст два. Муж и жена давно не были в кино. Если они смотрят фильмы, то по телевизору или на DVD. В этом контексте фраза меняет свой смысл: «Мы будем смотреть фильм на большом экране, зайдем в буфет, выпьем кофе или пива, посмотрим на людей, сменим обстановку». Контекст три: «Пойдем в кино и посмотрим „Меланхолию“ фон Триера?» В этом контексте бессознательное предлагает не расслабляться, а, наоборот, напрячься, потому что фильм Триера обещает быть сложным и трагическим. 77 Руднев В. Новая модель шизофрении. М.: Аграф, 2012. 78 Малкольм Н. Витгенштейн: Личные воспоминания // Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель / Сост. В. Руднев. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 89. Но как же все-таки мы поступим с проблемой семиотической неопределенности? Эти люди не спят, не галлюцинируют, у них не бред на двоих. Они просто обыкновенные интеллигентные люди. В соответствии с учением Гурджиева, с которым я то соглашаюсь, то спорю, мы все спим, даже когда нам кажется, что мы бодрствуем. Если мы спим в гурджиевском смысле, то мы находимся в полной власти бессознательного со всей его семиотической неопределенностью. Но ведь мы можем и проснуться. Гурджиевское учение допускает такой вариант. Проснувшийся человек обладает тем, что Гурджиев называет сознательностью и что не имеет никакого отношения к «сознанию». Сознательность, если перевести термин Гурджиева на наш язык, – это результат высшей деятельности бессознательного. Для того, чтобы стать сознательным в гурджиевском смысле, человек должен проделать огромную Работу со своим бессознательным. Он должен жить даже не против жизни, а по ту сторону жизни. Человек может только приближаться к тому, чтобы быть сознательным. В нашей культуре полностью сознательностью обладал только Иисус Христос и, возможно, некоторые святые. Глава девятая. Микросцены Бессознательное является хранилищем микросцен. Что такое микросцена? Это расширение фрейдовского понятия первосцены (или первичной сцены), когда ребенок наблюдает за половым актом родителей. Микросцена – это эпизод, не обязательно, но, как правило, связанный с переживанием или претерпеванием насилия, оставляющий неизгладимый след в жизни человека, чаще негативный, но иногда позитивный. Вот простой пример негативной микросцены. У пациента началась гипертония. Он пошел к кардиологу в платную поликлинику, рассчитывая на квалифицированную медицинскую помощь. Кардиолог, пикнический веселый мужчина, сказал ему: «Только не вздумайте принимать холодный душ (дело было летом, в жару. – В. Р. ), от этого у вас может быть инфаркт или инсульт». Надо сказать, что этот пациент принимал холодный душ уже несколько лет подряд, каждый день, в любое время года. Тогда кардиолог широко улыбнулся и промолвил: «Ну, если вы такой спортивный, тогда, конечно, принимайте». Но что сказано, то сказано. С тех пор этот человек, принимая холодный душ, почти каждый раз тревожно думал, что вот сейчас его «хватит кондрашка». Пример позитивной микросцены: однажды ночью я прослушал «Тридцать три вариации на вальс Диабелли» Бетховена и во время слушания придумал модальную логику пространства79. С тех пор это произведение связано у меня с «острой креативностью». Приведем цитату из статьи Фрейда «Из истории одного детского невроза» (так называемый случай Человека-Волка), где детально описана первосцена. Возвращающаяся депрессия заменяла тогдашний припадок лихорадки и слабости; пятый час был временем или наибольшего повышения температуры, или наблюденного коитуса, если оба срока вообще не совпадали. Вероятно, именно вследствие этой болезни он находился в комнате родителей. Эта подтвержденная непосредственной традицией болезнь заставляет нас перенести это событие на лето и вместе с тем предположить, что ребенку, родившемуся на рождество, могло быть n+½ года. Он спал, следовательно, в комнате своих родителей в своей кроватке и проснулся, вследствие повышающейся температуры, после обеда, может быть около пяти часов, отмеченных позже депрессией. Это согласуется с предположением о том, что это происходило в жаркий летний день, если допустить, что родители, полураздетые, прилегли отдохнуть после обеда. Когда он проснулся, он стал свидетелем трижды повторенного коитуса a tergo, мог при этом видеть гениталии матери и пенис отца и понял значение происходящего. Наконец, он помешал общению родителей, и позже будет сказано, каким именно образом. В сущности, 79 Руднев В. Морфология реальности. М., 1996. ничего необыкновенного нет в этом, и не производит впечатления дикой фантазии тот факт, что молодая, несколько лет тому назад поженившаяся супружеская пара после после обеденного сна в жаркую летнюю пору предается нежному общению и не обращает при этом внимания на присутствие полуторагодовалого спящего в своей кровати ребенка 80. Теперь приведем пример микросцены из жизни маленького Бетховена, по-видимому, сильно повлиявшей на его дальнейшую жизнь и особенности творчества. Иоганн Бетховен обратился к другу покойного своего отца, престарелому придворному органисту Ван-дер-Эдену, который взял на себя бесплатное обучение восьмилетнего Людвига игре на клавесине. Его в скором времени сменил новый учитель, актер Тобиас Пфейфер, служивший в боннской оперно-драматической труппе. Веселый собутыльник Иоганна поселился в доме Бетховенов. Пфейфер был, несомненно, человеком одаренным, хотя и не без склонности к фиглярству. Он пел, играл на гобое и флейте, был драматическим и оперным актером, свистал, подражая пению птиц, показывал фокусы. Постоянные скандалы, попойки, непристойное поведение не давали ему надолго удержаться в какой-нибудь театральной труппе. Кочуя с места на место, он так и погиб в неизвестности. Этот «учитель» применял довольно своеобразные педагогические методы. Являясь с Иоганном ночью из питейного заведения, он внезапно вспоминал, что еще не занимался с Людвигом. Маленького музыканта поднимали с кровати и, не вполне еще проснувшегося, плачущего, сажали за клавесин. Пьяный отец поощрял подобные «уроки», длившиеся иногда до утра 81. Приведем также беллетризованную реконструкцию этой микросцены Б. Кремневым, автором биографии Бетховена в серии «Жизнь замечательных людей». Вошедший – средних лет мужчина, статный, с красивым, но изрядно помятым лицом, старательно и твердо чеканя шаг, – так ходят сильно подвыпившие люди, – направился к постели. Подойдя к ней, он сдернул одеяло. Но мальчик продолжал лежать с плотно закрытыми глазами, только крепкие пальцы рук впились в край кровати. Тогда мужчина запустил свою пятерню в шевелюру мальчугана и стянул его с постели. Не выпуская волос, он протащил мальчишку к клавесину, стоявшему в углу комнаты. Малыш был чуть повыше инструмента. Он молчал, исподлобья поглядывая на мужчину. Тот кивнул головой. Мальчик нагнулся и пододвинул к клавесину маленькую скамеечку. Затем выпрямился и все так же, не говоря ни слова, взобрался на нее. Теперь его руки доставали до клавиатуры. Мужчина подошел к окну и забарабанил по стеклу. Вскоре в комнате появился еще один человек, тоже основательно выпивший. Он уселся на стул рядом с клавесином, раскурил трубку и взмахнул платком. Мальчик заиграл. Урок музыки Людвига Бетховена, сына Иоганна ван Бетховена, тенориста придворной капеллы курфюрста кельнского, начался. Он продлится до утра, пока развалившийся в кресле отец не проспится, а его собутыльник и товарищ по капелле, посреди ночи приведенный из кабака для обучения сына, не устанет. Все это время Людвиг будет, стоя в одной рубашке на скамейке и задыхаясь от табачного дыма, повторять гаммы и упражнения 82. Нас могут упрекнуть в том, что мы используем художественную реконструкцию, но ведь и Фрейд никогда не видел того, как маленький Человек-Волк наблюдал за коитусом 80 Фрейд З. Из истории одного детского невроза // Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. Киев, 1996. С. 156–239. 81 Альшванг А. Бетховен. М.: Музыка, 1965. С. 85. 82 Кремнев Б. Бетховен. М.: Молодая гвардия, 1961. С. 6–7. родителей. Порой дети, пережившие насилие, становятся диссоциативными личностями, т. е. людьми с множественной психологической конституцией, сильными субличностными отпечатками. Так, в Бетховене были будто бы как минимум три разных человека: первый – восторженный меланхолик, второй – замкнуто-углубленный шизоид и третий – напряженный социопат, известный своими анекдотическими выходками 83. И тот, и другой, и третий Бетховен писали каждый свою музыку. Условно говоря, Бетховен-меланхолик – Лунную сонату, Бетховен-шизоид – Пятую симфонию, Бетховен-социопат – рондо «Ярость по поводу утерянного гроша». В фильме «Гражданин Кейн» Орсон Уэллс проводит через все повествование тайну «розового бутона» – последние слова, слетевшие с уст умирающего героя. Розовый бутон был нарисован на его детских санках, с ним связаны слова, что на санках надо кататься, а не бить ими человека: маленький герой ударил санками человека, который оторвал его от родителей и впоследствии стал его первым менеджером. Микросцены большей или меньшей значимости пронизывают всю жизнь человека. У каждого своя судьба, и она складывается из мельчайших «энграмм», кусочков, квантов, «карточек» из прошлого и будущего. Я хочу сказать примерно то же, что показал Том Тыквер в фильме «Беги, Лола, беги», когда она бежит, кого-то встречает, и вдруг показываются моментальные снимки будущего этого человека. Это и есть микросцены. Согласно теории Фрейда, мы вытесняем неприятные микросцены в бессознательное, откуда они выходят путем возвращения вытесненного. Мы считаем теорию вытеснения неверной, так как деление на бессознательное и сознание не выдерживает критики. Мы что-то помним, чего-то не помним, – я, например, убежден, что свое детское ночное обучение музыке двумя пьяными негодяями Бетховен помнил всю жизнь. Наш язык, согласно воззрениям автора лингвистики языкового существования Б. М. Гаспарова, построен так, что микросцены всегда к нашим услугам: Развиваемый в этой книге подход к языку исходит не из структурной регулярности языка как основного принципа, на который могли бы наслаиваться, в качестве вторичного фактора, идиосинкретичные аспекты языкового употребления, – а, напротив, из самого этого употребления во всей его идиосинкретичности, разрозненности и никогда не повторяющейся текучести. Мы будем рассматривать те явления, которые возникают на поверхности повседневного употребления языка, не в качестве «внешней» синкретизации и контаминации глубинных структурных закономерностей, но в качестве первичного феномена, в котором непосредственно отражена самая суть нашего обращения с языком – так сказать, «естественное состояние» языка в условиях языкового существования говорящих. Соответственно, представление о языке как об определенным образом организованном устройстве приобретает в этой перспективе вторичный и подчиненный характер. Место рационального отображения языка в нашем языковом опыте и выполняемые им специфические функции в нашей языковой деятельности выявляются лишь в его отношении к первичному феномену, определяющему языковое существование, – к массиву амальгамированного в памяти языкового опыта 84. Когда-то, на заре перестроечного постмодернизма, Аверинцев сказал: «Мы живем в эпоху, когда все слова уже сказаны. Поэтому в наше время распространены микросценыцитаты. В известном советском фильме «Служили два товарища» есть такой эпизод. Герои, вырвавшись на тачанке от махновцев, попадают к своим, красным. Но у них нет документов, а в тачанке обнаружено белогвардейское обмундирование. Комиссар, молодая женщина в кожанке (Алла Демидова), во время допроса вдруг говорит усталым голосом: «Ужасно болит 83 Гипотеза о диссоциативности личности Бетховена подсказана нам психиатром Екатериной Базаровой. 84 Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ: Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 69. голова. Расстрелять»… Однажды в конце марта 1990 г. я с моей будущей женой первый раз гулял по Москве, и она, щурясь на мартовское солнце, сказала: «Ужасно болит голова». – «Расстрелять», – машинально откликнулся я. – «Как? Вы это помните? Тогда я согласна!» – «Согласны с чем?», – спросил я. Мы говорили обо всем сразу. «Я согласна выйти за вас замуж». Я думаю, это был довольно редкий образец позитивной микросцены, равно значимой для двоих человек. Действительно, роль цитат и реминисценций в шизотипическом осколочном мышлении людей конца XX в. огромна (вероятно, она была также очень большой и в эпоху Серебряного века, судя по художественным текстам; да, наверное, и в пушкинскую эпоху тоже; да, наверно, и всегда в культуре). Мы в детстве все время обменивались цитатами из любимых фильмов – «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы, «Двенадцати стульев», «Белого солнца пустыни», «Семнадцати мгновений весны». Например, когда кто-то делал нечто неловкое и ему это ставили в вину, он спрашивал: «А часовню тоже я развалил?» Большую роль в пополнении цитатного запаса сыграла появившаяся после перестройки телереклама. Она не рекламировала товары – товаров просто не существовало, – она рассказывала истории, удовлетворяя нарративный голод. Реклама выполняла функцию отсутствующей массовой нарративной культуры и фольклора. Ее смотрели, как когда-то смотрели интермедии в старинном балете. Люди, которые, с одной стороны, не знали, чем они завтра будут кормить детей, а с другой стороны, привыкшие слушать бесконечные речи Брежнева и отчасти Горбачева, лишь изредка, раз в два года (в начале 1990-х) перебиваемые достаточно увлекательными политическими спектаклями, шедшими в прямом эфире, были приятно удивлены, когда на них обрушились и постепенно стали частью их телевизионного быта забавные анекдоты про графа Суворова и Петра I (Российская история – банк «Империал»), а затем про удачливых Галину Ивановну и Леню Голубкова. В любом сообщении есть денотат и сигнификат, то, о чем говорится, и то, как об этом говорится. В любой обычной рекламе эти два аспекта знакообразования неразрывно связаны. От того, как сказано об этом , зависит, купят ли это . В русской телерекламе сигнификат резко превышает денотат, как подавляет что . История рассказывается не для того, чтобы купили, а для того, чтобы было забавно смотреть. Это была в принципе ситуация нездоровая, невротическая. Лакан в свое время сформулировал закон, в соответствии с которым преобладание в сообщении как над что (означающего над означаемым) является признаком симптоматической, нездоровой речи85. Если человек ясно и четко высказывает свою мысль, то это признак душевного здоровья, если же он мямлит, или чересчур многословен, или, наоборот, не может связать двух слов, мнется и запинается, то это первый признак душевного неблагополучия, признак того, что, как говорил один доктор, его «пора класть». Многословная, велеречивая русская реклама, с длинными затейливыми сюжетами, когда смотреть интересно, но порой просто невозможно понять, что, собственно, здесь рекламируется – это и есть признак невротической ситуации. Говорение и показ прикрывают «симптом» – в данном случае отсутствие того, о чем говорится и что показывается. Функция нормальной рекламы, как считал Бодрийяр, состоит в том, что она должна соблазнять на покупку. Речь должна провоцировать действие: рекламщики рекламируют – обыватели покупают. У нас было не так и остается совершенно не так. Наш принцип, сформулированный современным российским рекламным критиком, звучал следующим образом: «Реклама – все, продукт – ничто»86. По-видимому, здесь сыграл роль также принцип своеобразного социокультурного 85 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. 86 Шухмин В. Кукумария, или реклама – все, продукт – ничто // Реклама и жизнь. 2000. № 2. С. 17. контраста. В советской идеологической инфраструктуре литература, изящная словесность, которая в принципе должна развлекать, была чрезвычайно сильно денотативно нагружена, в ней, наоборот, что преобладало над как – литература должна была учить жить, формировать положительные идеалы, в общем, делать все что угодно, но не развлекать (это распространялось даже на традиционно развлекательные жанры – комедию и уголовный детектив). В этой ситуации оскомины от указующего дидактического советского дискурса создание рекламного текста было парадоксально осознано как создание дискурса, в принципе освобожденного от этого идеологического, денотативного бремени, т. е. реклама стала играть роль художественного текста, изящной словесности, и так по инерции продолжается и до сих пор. С другой стороны, в ситуации патологического дискурса, отражающего патологическое положение вещей в общественной жизни, нарративность как универсальное средство от всех болезней была выбрана совершенно правильно. Рассказывание историй, по-видимому, всегда носило ярко выраженный психотерапевтический характер. Художественный текст, особенно в таких своих примитивных модусах, как городские фольклорные жанры, – частушка и анекдот, – не полностью уводил от реальности, не отрицал ее (это слишком сильное, психотическое средство), а выполнял медиативную, посредническую функцию, примирял реальность с вымыслом. Обладая важнейшими чертами фольклорного и мифологического сознания, русская реклама стала активно выполнять фольклорную, мифообразующую роль в российской культуре. Поэтому к рекламе как к художественному тексту стали предъявляться прежде всего эстетические критерии. Она оценивалась сама по себе. Речь провоцирует не действия – речь провоцирует речь. В этом смысле главная функция российской рекламы – примерно та, какая была раньше у анекдота. Реклама была, как фольклор. Ее цитировали, пересказывали, переиначивали. В этом плане неслучайно, что с самого начала «зарождения капитализма в России» реклама носила аутистический, инфантильный характер, т. е. была обращена на самое себя. Рекламировались банки и приватизационные фонды – толклась вода в ступе. Такая реклама в прагматическом смысле была никому не нужна, она была такой же пустышкой, как и сами ваучеры, лопающиеся банки и рушащиеся финансовые пирамиды. Леня Голубков стал национальным героем, несмотря на то, что все понимали цену этим пирамидам. Просто было забавно, что разворачивается какая-то история. Вот Галина Ивановна куда-то пошла, в следующей серии она купила стулья. Потом вышла замуж. Логика здесь точно такая же, как логика развития телесериала. И как раньше, при советской власти, цитировали анекдоты про Василия Ивановича, Брежнева и Штирлица, так стали цитировать рекламные слоганы. После удачного показа рекламы банка «Империал», где Суворов стучал ложкой по тарелке и говорил «Ждем-с», вся Россия стала говорить «ждем-с». И, как в удачном анекдоте, этот лозунг стал прочно ассоциироваться с логикой политической ситуации. Ждали лучшего, перемен, быстрого благополучия. Ситуация рождественского поста в этом смысле удачно обыгрывалась как нечто преходящее, после чего наступит счастливое «разговление» (как говорил мой покойный друг Володя Шухмин). Именно это коннотативное (т. е. ассоциативное, противоположное денотативному) рекламное мышление, которое, подобно удачной частушке или крепкому анекдоту, подхватывало злобу дня, но не при помощи что, а посредством как, было и остается самым удачным и сильным в российской рекламе. Я думаю, что любой эпизод жизни – это микросцена и бессознательная наррация. К примеру, как бессознательная наррация может рассматриваться поход в магазин за продуктами: каждый день или раз в три дня я иду в один и тот же магазин и покупаю один и те же продукты. А как микросцена? Человек просыпается, встает, надевает тапочки, идет в туалет, умывается, чистит зубы, завтракает, выходит из дома, садится в метро и едет на работу. Здесь можно ввести понятие согласованной микросцены . То, что я только что привел, – это цепочка согласованных микросцен. Но в любой согласованной микросцене всегда таится маленькая подлинная микросцена. Какое-то различие. Какая-то сингулярность. Например, я вышел из дома 22 марта 2015 г. и вижу – идет снег! Но ведь суть понятия микросцены в том, что она оставляет какой-то след в будущем. Вот я сейчас сижу в кафе, как Хемингуэй, и пишу этот раздел – таким образом, я реализую литературную микросцену – писатель работает в кафе. Раньше я так никогда не делал. Но если это микросцена, то она должна как-то аукнутся в будущем. Это просто: когда не пишется, пойди в кафе, выпей пива – и дело пойдет. «Откупори шампанского бутылку / Иль перечти „Женитьбу Фигаро“». Но неужели все элементы реальности (придумаем им какое-нибудь слово, «нарратемы», например) – это всё микросцены? Вспомним лейбницевские монады. Микросцена – это монада, равная всему миру. Я ем ростбиф, за окном идет снег – и это отражает все возможные миры. А при чем здесь бред? Очень просто. Есть согласованные микросцены и подлинные микросцены (например, эпизод «Ужасно болит голова»). Но подлинный бред – это что-то неповторимое. Я сижу в кафе и пишу что-то неповторимое, чего раньше никогда не писал. Это позитивная микросцена. Потом я ее вспомню. Позитивная микросцена обладает большим психотерапевтическим зарядом. Согласно теории, которую я сейчас пытаюсь раскрутить, каждое предложение речевой деятельности – это диалектика повторяющегося и неповторимого. Хомский писал: «Нормальное использование языка носит новаторский характер в том смысле, что многое из того, что мы говорим в ходе нормального использования языка, является совершенно новым, а не повторением чего-либо слышанного раньше, и даже не является чем-то „подобным“ по „модели“ тем предложениям и текстам, которые мы слышали в прошлом»87. Я сижу в кафе. Я много раз сидел в кафе. Это нарратема и монада, которая отражает весь мир. Я сижу в кафе, а Цезарь тем временем перешел Рубикон. Что здесь может быть общего? Я сижу в кафе. Ребенок плачет. В консерватории исполняют Девятую симфонию Бетховена. Кажется, ничего общего. Ну как же ничего общего, если все это происходит в Москве. Но я сейчас не об этом. Я утверждаю, что каждый элемент реальности является микросценой, тем, что влияет на дальнейшую жизнь человека – негативно, позитивно или амбивалентно. Идет снег. «Снег идет, снег идет, / Снег идет, и все в смятеньи: / Убеленный пешеход, / Удивленные растенья, / Перекрестка поворот…». Любое означающее отсылает к другим означающим. А вот интересно, бывает ли так, что означающее по-простому отсылает к означаемому? Что бы на это сказал Лакан? Идет снег – это предложение. Идет снег – это факт реальности. Предложение «Идет снег» отражает факт: идет снег. Но это ранний Витгенштейн. А как по-нашему? Перформативная гипотеза. «Я говорю тебе, чтобы ты знал: идет снег (поздняя Вежбицкая). А кому я говорю, что идет снег? Сам себе и говорю. А зачем? Затем, что снег в конце марта – это необычно. Ну ладно, а если я вышел на улицу в середине января и увидел, что идет снег? «Зимы ждала, ждала природа. / Снег выпал только в январе». Но ведь не у всех же шизотипическое мышление. Думаю, что имплицитно у всех. Хорошо. Возьмем какого-нибудь злобного органика-эпилетоида. Он выходит из дому и думает: «Опять, блин, снегу навалили, задолбал, блин, уже этот снег». Это уже что-то от Передонова. В каждом шизофренике сидит органик. Обратное неверно. Итак, «Идет снег» – это цитата, микросцена и нарратема. Каждая фраза цепляется за другую. Снег вызывает ассоциацию, например, с дождем. «Льет дождь, он хлынул с час назад. / Кипит деревьев парусина. / Льет дождь. На даче спят два сына, / Как только в раннем детстве спят». Здесь надо бы углубиться в проблему раннего Витгенштейна о том, что само слово ничего не значит. Что оно приобретает значение лишь в контексте пропозиции. Монада – это не слово, а пропозиция. Но вот он снег, это слово, оно хрустит, как снег (к вопросу об арбитарности знака). Разве у самого слова нет значения? Я повторяю: «Снег. Снег. Снег». Может ли слово само по себе быть цитатой, микросценой и нарратемой? Возьмем любое слово, например, «или». Конечно, оно нарративно: «Или давай деньги, или получай пулю в лоб». Ученик Витгештейна Морис Друри стал психиатром и написал книгу «Опасность слов», – слов, не пропозиций! В чем же опасность слов? Я ему говорю: 87 Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1972. С. 23. «Сволочь!» Это микросцена. Но это пропозиция. Пора вернуться к бреду. Мир не существует независимо от субъектов, которые его охватывают; мир существует лишь охваченный субъектами. Да. Но тогда основополагающей проблемой становится проблема взаимоотношения субъектов, так как объективность и реальность мира неукоснительно совпадают с отношениями субъектов88. Другими словами, мы узнаем о мире, когда выясняем наши отношения друг с другом. В подлинном бреде это невозможно. Как писалось в традиционных советских анамнезах, больной недоступен. И нам его мир действительно недоступен. Мы можем только смотреть на него с разных сторон, как бы ощупывать его. Я велел своему слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не понял меня. Тогда я сам пошел, запряг коня и поехал. Впереди тревожно звучали трубы. У ворот он спросил меня: – Куда вы едете? – Не знаю сам, – ответил я, – но только прочь отсюда! но только прочь отсюда! только бы прочь отсюда! Лишь так достигну я своей цели. – Вы знаете свою цель? – спросил он. – Да! – ответил я. – Прочь отсюда! Вот моя цель. Этот текст Кафки представляет собой подлинный бред, монаду без окон без дверей, его нельзя понять. Более того, его и не нужно понимать. В него можно попытаться влезть, но как можно влезть туда, где нет дверей и окон? Это подлинная недоступность. И у всего Кафки нет почти ни слова согласованного бреда. Так вот, этот текст недоступен, потому что его царство не от мира сего. Он живет вне жизни, даже не по ту сторону жизни (это гурджиевская «сознательность»), а вне жизни, вне ее ценностей и забот. Застывший или буйный кататоник – он тоже недоступен. Но это не значит, что он превратился в животное или в статую, как в фильме Бунюэля «Золотой век»89. У него внутри бурная жизнь. Это может быть преследование или воздействие, как у индейца вождя Бромдена из романа Кена Киза «Над кукушкиным гнездом», который отчасти симулирует свою кататонию. Отчасти сумасшедшие все симулируют, чтобы их оставили в покое. На своей лекции в Школе нового кино режиссер Артур Артакисян показал такую фотографию: ката-тоник, даже каталептик, застыл в нелепой позе, и на него спокойно и осуждающе смотрит стоящая рядом женщина-врач. Почему она его осуждает? Потому что он стал монадой без окон и дверей. Его здесь нет, он недоступен для ее «психиатрической власти» (выражение Фуко из одноименной книги его лекций). Поэтому кататоником быть выгодно. Что такое подлинный бред? Это индивидуальный язык Витгенштейна, private language. Допустим, судья Шребер пишет в своих мемуарах, что он временами хотел бы превратиться в женщину, готовую к совокуплению, к соитию с Богом. Этот бред только кажется более или менее понятным. На самом деле он совершенно непонятен. Для бреда вообще характерна категория превращения. Вот герой Кафки превратился в насекомое. Как можно это себе представить? Я иногда пробовал себе представить, что превратился в своего кота. Мне сразу становилось страшно, что я весь заключен в его маленькой черепной коробке. Чем ближе подлинный бред к реальности, к обыденным языковым играм, тем больше в нем согласованности. «Все на меня обращают внимание». А. Г. говорил мне: «На меня все обращают внимание, как можно так жить?» На него действительно все обращают внимание, потому что он самый известный в России телеведущий. Наверное, это и правда неприятно, когда на тебя все глазеют. Это, на первый взгляд полная противоположность недоступности подлинного бреда, полная транспарентность, монада, у которой, кроме дверей и окон, ничего 88 Делёз Ж. Лекции о Лейбнице. М.: Ad Marginem, 2015. С. 51. 89 См. об этом фильме соответствующую статью в книге: Руднев В. Энциклопедический словарь безумия. М.: Гнозис, 2013. нет. Но это только видимость. Кто знает, что у него творится внутри? И в этом смысле это подлинный бред, так как для подлинного бреда всегда важна категория жертвы. А. Г. – жертва толпы. Одно из ключевых положений системы Шребера, который вступал в чрезвычайно тесные и запутанные отношения с Богом, заключалось в том, что Бог очень плохо разбирается в человеческих делах, в частности, не понимает человеческого языка. Шребер был посредником между Богом и людьми. В сущности, в его системе, которая была настолько сложной, что ее невозможно подвести под какую бы то ни было классификацию, основной мегаломанический компонент заключался в том, что Шребер считал себя единственным человеком, оставшимся в живых для того, чтобы вести переговоры с Богом, тогда как все другие люди были мертвы. Он должен был спасти человечество. Для этого ему было необходимо превратиться в женщину (т. е. пожертвовать своей идентичностью), чтобы стать женой Бога (в этом, собственно, и был своеобразный элемент величия). Второй характерный момент системы Шребера заключался в том, что его тело, как и тело стандартного мегаломана, становится равным вселенной. Это замечает Канетти, говоря о бредовых пространственных перемещениях Шребера: В космосе, как и в вечности, он чувствует себя как дома. Некоторые созвездия и отдельные звезды: Кассиопея, Вега, Капелла, Плеяды – ему особенно по душе, он говорит о них так, как будто это автобусные остановки за углом. <…> Его зачаровывает величина пространства, он хочет быть таким же огромным, покрыть его целиком. <…> О своем теле Шребер пишет так, как будто это мировое тело 90. Сравним также представления о конкретных перволюдях, например, о Пуруше и ПаньГу, макрокосмические тела которых расчленялись , приносясь таким образом в жертву миру, в основу его творения. В. Н. Топоров пишет: Мегаломанический сюжет с телом, отождествляемым со всеми великими людьми и всей вселенной, является проигрыванием сюжета первотворения, и, соответственно, мегаломаническое равное всей вселенной «грандиозное тело» – это тело первочеловека, из которого творится макрокосм, тело, которое отдается в жертву сотворяемому миру и из которого, собственно, мир и творится 91. Отзвуки идей жертвенности, соотносимых с диалектикой величия и преследования, видятся в юнговских материалах. Фрагмент, где большую роль играет идея расчленения тела, мы находим в описании случая слабоумной портнихи: Я имею честь быть фон Стюарт – когда я однажды это затронула, доктор Б. сказал: ей ведь отрубили голову <…> это опять-таки величайшая в мире трагедия – наше высшее Божество на небе, римский господин St. (собственное имя пациентки) высказался с проявлением сильнейшего горя и негодования, вследствие отвратительного смысла мира, где ищут смерти невинных людей – моя старшая сестра должна была так невинно приехать сюда, чтобы умереть – после этого я видела ее голову с римским Божеством на небе – ведь отвратительно, что всегда является такой мир, ищущий смерти невинных людей – С. вызвала во мне чахотку – когда я увидела ее лежащей на похоронной колеснице <…> и Мария Стюарт тоже была такой же несчастной, которой пришлось умереть невинно 92. Монада означает «один». «Ты царь, живи один…». В чем смысл этой пушкинской строки? Если царь не будет жить один, то его просто разорвут на куски. Вспомним рассказ Кортасара «Менады», где это ритуальное разрывание на куски претерпевает дирижер в конце 90 Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. С. 465. 91 Топоров В. Н. Первочеловек // Мифы народов мира. Т. 2. М., 2000. С. 300. 92 Юнг К. Г. Работы по психиатрии. М.: Академический проект, 2000. С. 144. концерта. Архаический царь – табу, к нему нельзя прикасаться и т. д. Одним из самых ярких примеров такого сковывания святого властелина церемониалом табу является образ жизни японского микадо в прошлых столетиях. В одном описании, которому свыше двухсот лет, сообщается: «Микадо думает, что прикоснуться ногами к земле не соответствует его достоинству и святости; если он хочет куда-нибудь пойти, то его должен кто-нибудь нести на плечах. Но еще менее ему пристойно выставить свою святую личность на открытый воздух, и солнце не удостаивается чести сиять над его головой. Каждой части его тела приписывается такая святость, что ни его волосы на голове, ни его борода не могут быть острижены, а ногти не могут быть срезаны. Но чтобы он не был очень грязным, его моют по ночам, когда он спит; говорят, что то, что удаляют с его тела в таком состоянии сна, можно понимать только как кражу, а такого рода кража не умаляет его достоинства и святости. Еще в более древние времена он должен был каждое утро в течение нескольких часов сидеть на троне с царской короной на голове, но сидеть он должен был как статуя, не двигая руками, ногами, головой или глазами; только таким образом, по их верованиям, он может удержать мир и спокойствие в царстве. Если он, к несчастью, повернется в ту или другую сторону или в течение некоторого времени обратит свой взор только на часть царства, то наступят война, голод, пожары, чума или какое-нибудь другое большое бедствие и опустошат страну» 93. Мегаломан всегда жертва. Он не может сказать: «Я – сэр Уинстон Черчилль», но он может сказать: «Я – Джон Кеннеди». Любой великий писатель – жертва своих читателей. Они хотят интроецировать все написанное им, сожрать его, разорвать на куски. «А они жрут, жрут», – говорит Писатель в «Сталкере» Тарковского. Здесь происходит, так сказать, обратная проективная идентификация. В качестве психотика выступает толпа, а генийжертва – в качестве фрагментированного странного объекта. Отсюда можно сделать вывод, что гений и толпа – одно целое. Гений – это эквивалент невыносимой психики для толпы. Они тоже хотят в определенном смысле стать такими, как он, но не могут. Но тогда хотя бы кусок оторвать и съесть. Пушкин спрашивал в стихотворении «Мирская власть», зачем приставлена стража к Христову распятию. Да чтобы не разорвали на куски! Вместо заключения. Любить, думать… Если Лейбниц, по мнению Делёза, считал, что мир не существует без субъекта, то можно сказать, что Лейбниц, помимо прочего, предвосхитил принцип неопределенности Гейзенберга. Реальность существует, только если за ней кто-то наблюдает, и от того, кто наблюдает, от того, какое у него настроение, мужчина он или женщина, ребенок или взрослый, сытый или голодный, реальность меняется. В XX в. А. М. Пятигорский назвал это «обзервативной философией». Однако, по Лейбницу, существуют «несводимые множества субъектов». Это, например, означает, что мир взрослого не похож на мир ребенка, мир ребенка не похож на мир другого ребенка, мир ребенка, когда он играет, не похож на мир ребенка, когда он ест. В общем, по Витгенштейну, «Мир счастливого – это другой Мир, по сравнению с Миром несчастливого» . Все множества миров оплетаются микросценами. У каждого свои микросцены. Но есть люди, у которых есть общие микросцены. Например, это зрители, которые слушали один и тот же концерт или одну и ту же лекцию. Я помню, как кто-то после лекции известного философа растерянно сказал: «Как же мы теперь будем жить!» Им казалось, что теперь можно жить только в мире этой лекции. Но они, конечно, понимали, что придется идти домой, ужинать, ложиться спать, а на следующий день уже не будет никакой лекции и придется жить обычной жизнью. Когда человек влюбляется, он думает, что без этой девушки он не сможет жить. Чаще всего это проходит, но бывает, что и остается на всю жизнь. 93 Фрейд З. Тотем и табу. М., 1998. С. 38. Тютчев писал: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Но мысль – это то же самое, что предложение. Нельзя мыслить, не обладая аппаратом мысли, а аппарат мысли возникает как механизм преодоления фрустрации, и мысль возникает при отсутствии вещи (Бион). Если бы вещи всегда были рядом, человек никогда не научился бы думать. В этом просто не было бы необходимости. «Я ее люблю, потому что боюсь ее потерять (Фрейд), как боялся потерять маму, когда она куда-то уходила». Если бы мама всегда была рядом, он так бы и не научился говорить. И любить. Ненавидеть можно без слов, а любить – нет. Как можно ненавидеть без слов? Ну просто дал ему в зубы и убежал. А любовь требует мысли. Так вот, существуют несводимые множества субъектов. Они существуют в несовозможных множествах миров. Адам, который согрешил, никогда не знал Цезаря, который перешел Рубикон. И Цезарь никогда не слышал об Адаме и Еве. И многие люди живут так, как будто на свете не существует других людей. Например, Жиль Делёз и Уилфред Бион жили примерно в одно и то же время, но ни тот, ни другой ничего друг о друге не знали. Притом, что их книги выходили примерно в одно и то же время. Наверно, они были друг другу не нужны. Но мне нужны они оба, хотя они мыслили совершенно поразному. И, возможно, Бион вообще не понял бы ни слова в том, о чем написан «Анти-Эдип» Делёза и Гваттари, хотя в некоторых местах там речь идет о близких ему вещах и авторы неоднократно и с симпатией ссылаются на Мелани Кляйн, у которой Бион проходил анализ. Что я хочу сказать? Прежде всего, что тогда, в 1970-е годы, гениальных людей было так много, что они могли позволить себе не знать друг друга. Но я хочу сказать не только это. Когда люди узнают друг друга, они могут начать любить друг друга, становиться нужными другу другу. И в этом случае будет меньше «несводимых множеств субъектов». Несколько лет назад мы спорили с Максимом Сухановым и Владимиром Мирзоевым о том, что спасет Россию. Володя считал, что Россию спасет культура. А мы с Максимом считали, что Россию спасет любовь. Если все люди полюбят друг друга, Россия будет спасена. Но для того, чтобы любить, нужно уметь думать. А у нас теперь слишком мало людей, которые умеют думать. «У нас» – я имею в виду во всем мире. Мирзоев считал и до сих пор продолжает считать, что если детей правильно воспитывать, то через несколько поколений Россия будет спасена. Я давно не разговаривал с Максимом на эту тему и при случае обязательно спрошу, что он сейчас, весной 2015 года, думает об этом. Надо ли вообще спасать Россию? Я теперь считаю такую постановку вопроса глупой. И как будто вижу перед собой пронзительные глаза Гурджиева, поблескивающее пенсне П. Д. Успенского и лучезарную улыбку Мориса Николла. И как будто они говорят мне: «Правильно, милый, спасать надо не Россию, а себя». Не в том смысле, что спасать свою шкуру, сваливать за границу и т. д. Надо спасать себя в евангельском смысле, т. е. пытаться изменить свой ум (метанойя – это именно изменение ума). Но это сможет сделать только тот, кто сам этого захочет. Нельзя никого спасти силком. А себя тем более. Просто жить, как живется. Просто жить, думать, любить. Что касается логики бреда, которой посвящена эта книга, то ее формула такая: A = B = C=D=E=F=G=H=…=X=Y=Z=∞