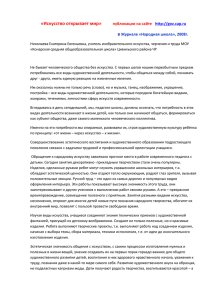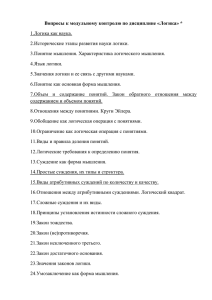Логика красоты и красота логики
реклама

Логика красоты и красота логики Первая значительная книга пишется человеком всю предыдущую жизнь и поэтому в ней как магическом зеркале отображается эта жизнь и накопленный до того багаж культуры. «Логика красоты» – это наиболее часто упоминаемая в учебниках работа Николая Круковского. С момента выхода это и наиболее критиковавшаяся его работа, правда вся критика принадлежала его столичным конкурентам и носила отнюдь не научный, а чисто идеологический характер. А потому эта самая упоминаемая работа заодно и наименее известная – она не переиздавалась, страшно сказать, полвека. Если кто и отозвался о ней соответственно ее масштабу, то это Лосев – она есть в его библиотеке. Но один такой отклик гениального и трагического философа стоит всего остального – клеветы, опалы, отторжения официоза и т.п. Поэтому интересно, а чем же так разозлил молодой тогда автор довольно объемного труда – 450 страниц – московских и прочих товарищей, стучащих на машинках и скрипящих столичными перьями. Ответ может показаться сегодня странным: он пошел в русле общемирового мэйнстрима и потому одним из первых начал говорить и о формуле красоты и об особой логике эстетического – сейчас бы сказали «эстетической герменевтике». Ну и что здесь крамольного, спросите вы? А то, что тогда в прокрустовом ложе советских догм все это относилось к формализму, а формализм к модернизму, а модернизм – чуть ли не враждебному идеализму, антикоммунизму и прочая и прочая ахинея. Собрать бы весь этот бред в одно ведро, да предъявлять более некому: иных уж нет, а те, что кричали громче всех – те далече. И они как раз первыми отреклись от того, в чем так догматически клялись тогда. Бог им судья. А Круковскому отрекаться не от чего, и краснеть не придется – это все еще блестящая и свежая книга. Мне всегда хотелось сделать из нее выжимку, чтобы выбросить непременных поклоны и множественные цитаты и оставить ее красивую суть: тогда бы она просто сияла как алмаз мысли. Суд истории говорит: перед нами одна из первых и исключительно глубоких работ советского периода на стыке логики и аксиологии. Мы привыкли относить логику к гносеологическому арсеналу философии, что понятно. Но уже у Гегеля значение его Большой и Малой Логик шире просто гносеологического понимания – здесь предъявлен универсализм метода. Гегель говорит, и не раз, что сфера эстетического хоть и содержит в себе потенциал познания, но он не доводит это до столь примитивного понимания, до которого довели его трактовку в нашей науке. Гегель не Баумгартен, чтобы считать эстетическое не более чем «смутным познанием», ему понятно, что роль эстетического – регулятивная и иррациональная, а гносеологический элемент в ней не относится к сущностным ее характеристикам. Другое дело культура, опыт, концентрирующий в себе уже познанное. Но между познанием и пониманием, исследованием и трансляцией познанного – дистанция огромного размера. И если переводить это в контекст «обществоведческой мысли» советского периода, эстетику сначала не допускали вообще, а потом полудопустили, но только под присмотром гносеологии – как второсортное познание. Но требовать от искусства только этого – получится «любите книгу, источник знания». А между тем спор физиков и лириков показал, что даже в нашем идеологизированном мире многое тогда изменилось. Отсюда столь неожиданное сочетание в названии – логика (аппарат гносеологии) и красота (эстетическое). Парадоксальный афоризм, но в духе времени, где «чувство стало мыслящим, а разум – крылатым». Поскольку я дизайнер, я хорошо помню потоки статей и книг начала 60-х, типа «Формы и формулы», «Может ли машина быть произведением искусства», «Проверим алгеброй гармонию», «Теория информации и эстетическое восприятие» и в том же духе. Они меня интриговали и будоражили, особенно в сочетании с тем фантастическим духом, который порождался и реальностью космических полетов и потоками светлой фантастики. А потому выбор автором названия мне не кажется сегодня каким-то особенным, он был соткан из воздуха той эпохи. Но мое детское и студенческое восприятие – это одно, а реальность состояния гуманитарной науки в тот момент – это совсем другое. В контексте 1960-х, во втором послесталинском десятилетии, где частично произошло обрушение примитивно-догматического «железного занавеса» 2 сталинской науки и идеологии, начинающему ученому- общественнику сориентироваться было очень нелегко. С одной стороны было понятно, что необходима модернизация обществоведческого ядра науки в СССР, но с другой – это было предельно опасно. Лавирование на острой кромке между все еще всесильными догматиками при власти и теми, кто понимал необходимость нового, требовали обязательной включенности в определенные столичные группировки. А связи с нужными группами требовалось поддерживать и платить за них немалую плату – отсекать по живому части своих выношенных текстов, чтобы не дразнить руководящих динозавров. Без этого, особенно на «периферии», пытаться говорить, что думаешь, было просто самоубийственно. Стоило, например, системщику Э.Г. Юдину поверить в то, что говорилось с высоких трибун и выступить со своим новым словом просто на собрании, как он тут же оказался за решеткой и после трех лет пребывания там по нелепому обвинению с большим трудом смог вообще устроиться на работу. А Минск, хоть и столица, был именно такой научной периферией и нужных связей в больших столицах наш молодой автор, разумеется, не имел. Поэтому артиллерийский удар «критики» по поводу «Логики красоты» был неизбежен. Я так думаю, что сегодня это следует расценивать как высшую награду и требую вручить автору орден научной смелости. До тюрьмы дело тогда не дошло, но следы плотного пулеметного огня этой критики присутствуют даже в нейтральных современных текстах по истории советской эстетики. Понятно, что пишут их со вторых рук те, кто и всегда, по принципу «Я Пастернака не читал, но осуждаю». И эти – не читали. Так дадим же им эту возможность, наконец. Вдруг уже не осудят. Хотя вряд ли прочитают. Молодой и смелый Круковский вложил в эту книгу такое понимание Гегеля, которое могло возникнуть только у него – томик Гегеля был той книгой, которую он взял, уходя в партизанский отряд. Вот это чувство – восприятие философии на грани жизни и смерти – оно и обостряет данный текст на подсознательном уровне. Чем же интересна сама предложенная логика и почему она в контексте своего времени была нова? Во-первых, применением по отношению к миру эстетических явлений равновеликости объективного и субъективного. 3 Панический ужас, который испытывала вся советская наука при слове «субьект» был навеян еще дореволюционным спором Ленина с Богдановым и последующей зачисткой советской философии в 1930-х до состояния пустыни. Материя – это объективная реальность, и баста! «Кто не материалист, тот против советской власти» – это буквальный текст небезызвестного идеолога т. Невского. Поэтому написать даже в 60-х, что существует какой-то там особый эстетический субъект, а впоследствии еще и развить это понимание до системы субъективных эстетических категорий мог только очень смелый человек. Новизна же этой логики в ее указанной равновесности, а она имеет основой ментальную цикличность: если в первой трети века преобладал объективизм рационального толка, то и результаты были соответствующие: «субъект» рубился под корень: «единица вздор, единица ноль», социологическая эстетика. В нашем времени все наоборот: субъективное и иррациональное «мое мнение» доминирует не только в телевизоре, но и в аксиологии, которая все больше становится вычурной эссеистикой бескультурных и самовлюбленных авторов декаданса. Менталитет же середины века требовал равенства и того и другого, потому, кстати, и расцвела эстетика (и не только у нас), а понятие «гармонии», «гомеостаза», равновесности и т.д. – это наиболее почитаемые тогда понятия во всей науке. Крюковский назвал все своими именами. Ну и получил соответственно – сказал «мяу» раньше больших столичных начальников, – «а низя»! Ежели бы они сказали первыми, тогда изволь, а тут – ну никакой субординации. Кстати, не удивительно, что эта логика поиска привела его от первой работы чисто философского жанра ко второй книге «Кибернетика и законы красоты». Крюковский увидел явную инвариантность эстетического и кибернетического ракурсов. И она состояла все в том же поиске равновесности – гармония и гомеостаз в их динамической ипостаси есть одно и то же по инварианту. Оставался шаг до формулы, их соединяющей. Я как-то писал, что эта «кибернетика» стала первой книгой Крюковского, которую я купил в Минске и прочитал в Харькове, а потом все перечитывал и перечитывал. Мне и до сих пор не все в ней понятно – но я пытаюсь понять. 4 И вообще, следует заметить, что существует «феномен первой книги». Я его по себе знаю: почему-то в этой первой работе всегда вложены все последующие темы, и она потом растет, как дерево, развивая свои части в позднейших работах, пока сил хватает. Я убежден, что как авторы мы вообще пишем одну большую книгу всю свою жизнь, а удачи или неудачи надо оценивать не по частям, а отойдя на историческое расстояние: тогда видно все дерево в целом. Иногда в нем есть пробелы – чего-то автор не успел, но никогда нет лишнего. Конечно, если это вольный автор, как он да я. Например, у Чехова есть такая «протопьеса», в которой все линии и даже прототипы героев будущих пьес уже есть – никудышняя и перегруженная пьеса, известная нам в усеченном виде по фильму «Незаконченная пьеса для механического пианино». Чехов понял, что такой концентрат зрителю воспринять сразу нельзя, поэтому его приходилось потом разбавлять и растягивать во времени. Чехов это понял и потому стал Чеховым, а не Чехонте. Вот и Крюковский, вложивший в первую книгу все накопленное, видимо понял, что разъяснять свое целое теперь придется по частям. Частью стала система эстетических категорий и морфология эстетического, второй частью – его эстетическая антропология в «Человеке прекрасном». А дальше, как ни прискорбно, начинается идиотизм перестройки и людям становится не до науки. Тем не менее, наш автор еще вернется к себе на новом витке восхождения и отрефлектирует свой мир с новых высот в «Философии и культуры». А мы еще вернемся к его первому крупному тексту, как возвращаются к корням. 5