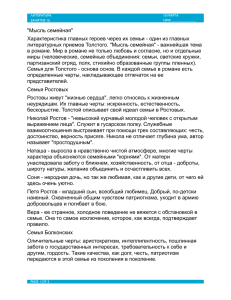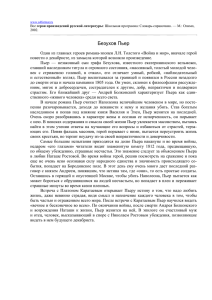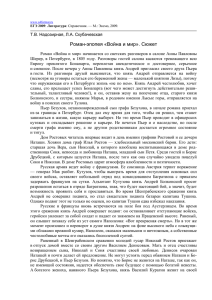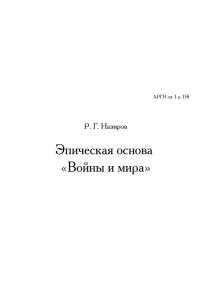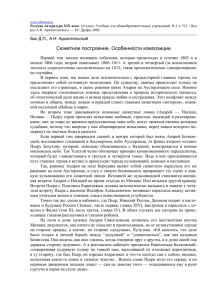эстетическое----нравственное - Белорусский государственный
реклама
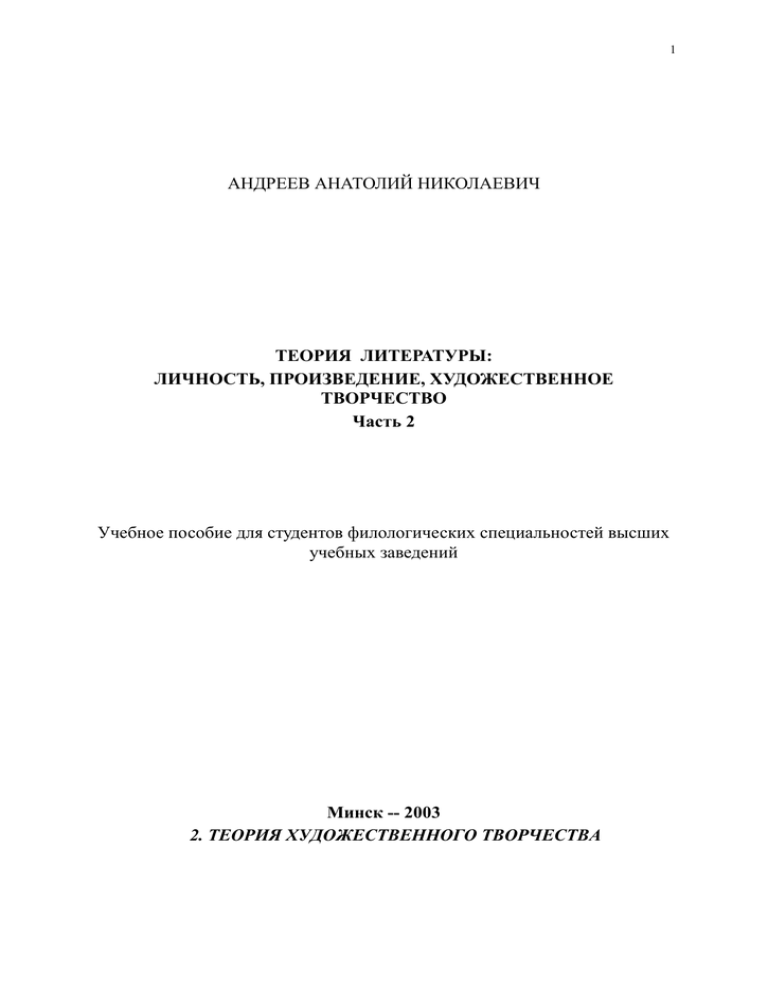
1 АНДРЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: ЛИЧНОСТЬ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО Часть 2 Учебное пособие для студентов филологических специальностей высших учебных заведений Минск -- 2003 2. ТЕОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 2 ГЛАВА 1 ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 1.1. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛИТЕРАТУРА? 1 Базовых мифов о литературе, из которых складывается некое подобие истины, не слишком много. А вот мифологическим вариантам и комбинациям -- несть числа. Поскольку, как следует из названия работы, нас будут интересовать не мифы о литературе, а противостоящий им истинный порядок вещей, необходимо более определённо прояснить отношения мифа к истине и истины к мифу. Прежде всего не согласимся с мифом о мифе, гласящем: миф не имеет ничего общего с истиной. Имеет: миф являет собой отдельную грань или момент истины. Такова реальность. Именно реальность позволяет мифам заслонять истину, и даже претендовать на статус "объективного отношения". Однако -- и тут мы переходим к мифу об истине -- из того, что истина проявляется в мифе, вовсе не следует, что истина сводится к мифам без остатка, что они составляют плоть истины. Как из ста зайцев невозможно составить лошадь, так и из совокупности мифов не сложишь истину. В этом смысле истина в принципе несводима к мифу, и даже противостоит ему. Следовательно, истина заключается в том, что необходимо изучать миф как миф, а истину как истину, имея в виду возможные их взаимоотношения и наличие точек пересечения, где порой истина и миф совпадают до неразличения, а то и тождества ( в определённом, заметим, отношении; в ином отношении -- а истина и есть сопряжение всех мыслимых отношений -- истина и миф неизбежно обнаружат несоизмеримую разницу информационных потенциалов). Итак, миф первый: литература есть способ и инструмент познания человека. В этом своём качестве она полезна, поскольку писатели выступают инженерами человеческих душ, человековедами, способными разобраться в человеке; читатель же, общаясь с подобными "прорабами духа", по выражению А. Вознесенского, извлекает для себя пользу, познавая, благодаря художникам-гуру, себя. В общем плане литературу как форму общественного сознания можно вслед за К. Марксом назвать "способом духовного производства", полезным, конечно, способом. Литература, несомненно, учит, и читать её 3 полезно. Стоит ли в таком случае определение литературы как способа познания человека -- считать мифом? В интересах истины -- стоит, ибо литература не только не сводима в главной своей функции к познанию человека, но и весьма несовершенна в качестве инструмента познания, как будет показано в дальнейшем. Миф второй: литература есть чистое искусство, так сказать, искусство для искусства, а художники слова выступают как "единого прекрасного жрецы" (А.С. Пушкин). Сверхзадача бескорыстного общения с "прекрасным" заключается в том, чтобы получить чистое эстетическое наслаждение. "Польза" искусства, по версии этого мифа, состоит в том, что общение с ним приятно, не более того. Чистое духовное удовольствие не содержит в себе низких утилитарно-прагматических примесей и не может быть, по определению, ни инструментом познания, ни способом преобразования личности. Не будем отрицать очевидное: эстетическая эйфория настолько существенный компонент, сопровождающий "потребление" искусства, что он вполне сопоставим с пользой, которую приносит та же литература как вид искусства. Но абсолютизация момента наслаждения также превращает теорию чистого искусства в миф, поскольку, как минимум, отвергается миф первый. Миф третий. Многим кажется, что литературу вполне достаточно определить как сочетание "приятного с полезным" -- и такое "самодостаточное" определение уже удовлетворительно отражает суть феномена под названием литература. "Всеобщее одобрение принадлежит тому поэту, кто смешивает полезное (utile) с приятным (dulce), равным образом восхищая и наставляя читателя" (Гораций, "Поэтика"). Авторитет предложенной формулы стал настолько непререкаем, что превратил её едва ли не в аксиому, в основополагающий теоретический постулат. Однако сращение двух мифов даёт не истину, как ожидалось, а миф третий, который, конечно, стал содержательнее первых двух, но при этом не перестал быть мифом. Перечисленные мифы остаются таковыми потому, что они только отчасти справедливы. Они не способствуют тому, чтобы поставить литературу в такой контекст, где выявилось бы самое главное, кардинальное свойство литературы, а именно: литература прежде всего и главным образом сформировалась как способ проявления человека, приятный, полезный, но наряду с этим весьма односторонний способ. Это способ поэтизировать своё неумение и нежелание разбираться с собой, действительно познавать себя (то есть объективно отражать человека, а не 4 предлагать своё видение, субъективную модель объекта и переживать по поводу вымышленных совершенств или несовершенств того, что "более реально", чем сама реальность), заниматься самоанализом, беспристрастно мыслить. В связи с этим литература стала способом мифотворчества, способом обожествлять самую заурядную пошлость и глупость. Такое понимание литературы, как мы постараемся доказать, имеет гораздо больше точек соприкосновения с истиной, чем все классические мифы о литературе вместе взятые. 2 Если допустить, что в литературе существуют исключительно свои, внутренние эстетические императивы, наподобие знаменитого нравственного императива, сформулированного Кантом, и на этом основании объявить произведение "вещью в себе", созданной и функционирующей исключительно по матрице императива, тогда мы должны будем возвести собственно художественное, образно-модельное мышление в абсолют. Исходя из того, что абсолют сам по себе есть вещь абсолютно неприемлемая для сознания, оснащенного диалектической технологией (сознания, воспитанного на императивах честного отражения реальности), мы должны признать, что в литературе, способе пусть и весьма несовершенного, "нечестного" отражения человека, "отражается" (точнее - моделируется) весь человек, во всей его сложности, а не только в некой абсолютно "прекрасной" ипостаси. Нельзя, невозможно вынести за скобки всё, что мешает самоосуществиться эстетическому императиву -- хотя бы потому, что сам эстетический императив есть функция сознания, устроенного на иных, внеэстетических, решительно несводимых к эстетической, функциях. В этом всё дело. Вот почему выдающиеся художники всегда тяготели к всеобъемлющему, многостороннему, иначе говоря, философскому осмыслению проблем. Будучи достаточно крупными личностями, они если не понимали, то чувствовали, что подмеченный ещё Аристотелем "мимесис", подражание, в сниженном варианте передразнивание жизни путём образного моделирования, лицедейское кривляние и имитация, куда не вложен труд души, -- такое бездушное образотворчество унизительно для мыслящей личности. Большие художники, в сущности, занимались преодолением искусства -- путём привнесения в производство образов (технология чистого искусства) мысли, смысла, что позволяло передразниванию жизни превращаться в способ обсуждения проблем человека. Только "нечистое искусство", отяжелённое концептуальным 5 подходом, становится больше, чем искусство, а именно: "способом духовного производства человека". Великое искусство -- это преодолённое искусство. Искусство ради искусства -- и это тоже осознавали корифеи художественного слова (Гёте, Пушкин, Л. Толстой и др.) -- есть плод легковесного творчества. Это действительно по-своему заурядная и, что бы там ни говорили, элементарная деятельность, для которой и необходима всего-то эстетическая чуткость. Личностная отдача невелика. Я вовсе не хочу сказать, что природная одарённость в художественном творчестве -- дело десятое. Это первое условие, но явно недостаточное, если речь идёт о феномене вечного, великого искусства. Разумеется, творчество возможно только при наличии врождённого таланта. Тут уж или -- или. Однако "божья искра", не подкреплённая трудом мысли и души, может стать не только способом отметить избранника, но и средством загубить легко доставшийся ему дар. Труд художника -- это, как и всякий человеческий труд, есть главным образом труд мысли, напряжённая работа сознания. Стихийные извержения души, принимающие форму оригинального передразнивания, впечатляют, конечно, как впечатляют эстетически выразительные нерукотворные эскизы натуры: пейзажи, животные, природные явления и т.д. Да и то в той мере, в какой "чистая" эстетика бессознательно соотносится с гуманитарной содержательностью (определяемой наличием той же мысли). Собственно же труда в таком извержении и бессознательном передразнивании кощунственно мало, чтобы всякий зафиксированный и эстетически аранжированный бред, хаос, "нечто" и тому подобные неупорядоченные, неорганизованные сознанием продукты творческого экстаза считать шедеврами. Эстетическая оригинальность и художественный шедевр -- вещи разные. Порядок же, внутреннюю согласованность образам придаёт концепция -- плод ума, интеллекта, ставшего условием творчества и превратившегося в художественное вещество, в неустранимую составляющую модели, в содержательный компонент шедевра. Вот почему чем более художник стремится быть просто художником, тем менее совершенно в художественном отношении всё созданное им. В лучшем случае его творения отмечены печатью гения; для создания же великих произведений нужна ещё и печать человеческого величия. Из сказанного легко сделать вывод, что художники бесконечно много могут дать тем, кто сумел преодолеть собственно художническое видение мира и человека. Ясно, что лучшие теоретики искусства получаются не из 6 тех, кто не умеет творить, а из тех, кто, имея определённые художественные способности, по линии мысли пошёл дальше художников. В научном диалоге с писателем исследователь должен чувствовать не меньше художника, а понимать больше. В противном случае дело ограничится "мерой своего понимания", и результатом окажется тот банальный случай, когда космос гения "не поддаётся" вразумительному истолкованию. Беда, настоящая беда гуманитарных наук заключается в том, что лучшими литературоведами, искусствоведами считаются несостоявшиеся или, что значительно хуже, активно действующие художники. Их насквозь субъективные суждения не разбирающееся в диалектике художественого сознания "общественное мнение", в том числе интеллектуалы, склонны считать наиболее авторитетными, исходящими от специалистов-практиков. А то соображение, что хороший практик -- смерть теоретику, не приходит на ум питающейся мифами деятельной, практически озабоченной "общественности". При всём при том наиболее ценными бывают удивительные концептуальные озарения великих художников (некоторые уже были упомянуты в работе), которые на практике часто действуют вопреки своим же теоретически безупречно сформулированным постулатам. Только приняв во внимание всё сказанное о диалектике художественного сознания, мы сможем без страха, без собственно художнических или собственно интеллектуальных комплексов приблизиться к пониманию того, что такое литература. 3 Обратим внимание на ту особенность художественной литературы, на которую можно обратить внимание только тогда, когда смотришь со стороны, а не изнутри. Что роднит всех героев мировой литературы? То, что все они -- люди идеологические, осуществляющие свою поведенческую стратегию от психики (не от разума), живущие эмоциями, страстями и только во вторую очередь -- рассудком. Отсюда -- трагедии, комедии, драмы, романы, которые замешаны на трагических или драматических конфликтах и т.п. Этим же обстоятельством и обусловлен выбор героев: в подавляющем большинстве это молодые мужчины и женщины, находящиеся в состоянии любви, дружбы, ненависти -- в состоянии высокого эмоционального тонуса. Такие герои идеальны в том смысле, что сосредоточены на состоянии душ; состояние умов (когда в 7 центре внимания писателя находится эволюция сознания) как объект творчества не приводит к большим художественным успехам. Эволюция души (и только потом и только в связи с этим -- эволюция сознания), мир чувственных и эмоциональных отношений -- вот исключительный объект творчества. Там, где кончается чувственнопсихологическое отношение, заканчивается искусство и начинается не образно-интуитивное, синтетическое моделирование, а аналитическое расщепление психологического отношения -- начинается наука. Но высокое, парадоксальное, амбивалентное искусство, как уже было отмечено, интересуется не только страстями, но и эволюцией сознания. Пределом "страстно-рационального" союза является идеология, т.е. такого рода симбиоз, где разум (аналитизм) всегда функционирует на вторых ролях. Чистое, внеидеологическое мышление -- уже объект философии, а не искусства. Вот почему герои литературы -- не мудрецы, не философы, а персонажи с ярко выраженным идеологическим мировоззрением. Однако и философам литература много интересного рассказывает о людях, в основном об их заблуждениях. Ведь в центре внимания литературы -- именно заблуждения людей, поскольку страсти, ослепляющие ум, замкнуты на самих себе, они чужды объективности. Литература с претензией на анализ -- это своего рода сверхлитература. Вот какую маргинальную грань облюбовало высокое искусство: оно начинается там, где мыслитель не просто соединяется, но перетекает в художника. Следует, однако, со всей определённостью подчеркнуть, что союз этот продуктивен (т.е. творчески продуктивен, следовательно, способен рождать образы, какой угодно "глубины" -- но образы) до того трудноуловимого и в то же время принципиально размежёвывающего момента, когда первенство мысли мешает, препятствует созданию образов, прекращает их инициировать. До тех пор, пока мысль инициирует создание образов -- это ещё не мысль; с того момента, как прамысль становится мыслью, она начинает разрушать образы. Хорошая литература -- это плохо выраженная мысль. Хорошо выраженная мысль может быть заурядной публицистикой или замечательной философией (или наоборот) -- но плохой литературой. Конечно, при желании можно привести достаточно оснований, чтобы поспекулировать на тему, где кончается искусство и начинается неискусство, научная философия, и является ли ненаучная философия искусством и т.д. Всё это интересно тому, кто не видит реальных различий между рациональным и чувственно-интуитивным подходами, между 8 двумя языками культуры: образами и понятиями; между двумя антиподами, слитыми в одно целое: психикой и сознанием, на базе которых возникают, соответственно, моделирующий (художественный) и рефлектирующий (абстрактно-логический) типы сознания. В случае, если мы разграничиваем творчески-психологическую инстанцию, которая не может существовать без участия сознания, и собственно сознание, которое специализируется на разрушении (с целью познания, с конструктивной целью) созданного творческим гением -- тогда мы обретаем почву под ногами и небо над головой. Мы начинаем жить в системе координат, где есть верх и низ, мысль и чувство, культура и натура, философия и литература. Мы можем творить -- и быть при этом полноценными мыслителями; мы можем анализировать -- и считать этот "варварский" по отношению к искусству акт высшим проявлением культуры. Мы начинаем иначе мыслить (чувствуем-то мы приблизительно то же самое). Мы преодолели идеологическое пространство культуры, но не утратили способности жить в нём и наслаждаться его совершенством и примитивностью. Итак, мы исходим из того, что взаимодействие психики и сознания - вот истинный объект творчества (субъектом которого выступает также носитель психики и сознания); воспринимая средствами психики и сознания созданное художником, мы, в зависимости от реального преобладания одного из компонентов, воспринимаем творчество под углом зрения либо психики, либо сознания. Разграничить эти сферы и показать их неразрывность -- вот наша задача как исследователей литературы. 4 Казалось бы, "разум -- душа" -- либо избитый сюжет, либо компонент затасканного сюжета едва ли не всей мировой литературы. Уже в бессмертной "Одиссее" мы находим пищу для размышлений в этом направлении: В грудь он ударил себя и сказал раздражённому сердцу: "Сердце, смирись; ты гнуснейшее вытерпеть силу имело В логе циклопа, в то время когда пожирал беспощадно Спутников он злополучных моих, -- и терпенье рассудку Выход из страшной пещеры для нас, погибавших, открыло". Так усмирял он себя, обращаяся к милому сердцу. Милое сердце ему покорилось, и снова терпенье В грудь пролилося его; но ворочался с боку он на бок. Перевод В. Жуковского (выделено мной -- А.А.) 9 Еще пример из литературы героической, где нет психологизма как такового, но уже присутствуют «ум» и «чувства» («Слово о полку Игореве»): Ум князя уступил желанию, и охота отведать Дон великий заслонила ему предзнаменование. (Перевод Д.С. Лихачева) В литературе новейшего времени -- это едва ли не банальный ход. Вот выхваченный пример, намеренно из литературы, далёкой от аналитизма реалистической прозы (диалог Пугачёва и Караваева из поэмы С. Есенина "Пугачёв"): Долгие, долгие тяжкие года Я учил в себе разуму зверя... Знаешь? Люди ведь все со звериной душой, -Тот медведь, тот лиса, та волчица, А жизнь -- это лес большой, Где заря красным всадником мчится. Нужно крепкие, крепкие иметь клыки. Звериное (природное) начало, душа, разум... Но узок круг мыслящих широко. Всё, на что оказались способны писатели всех времён и народов -- это раз за разом воспроизводить миф. Единицы сделали предметом художественного исследования "состав духовности", само взаимодействие психики и сознания и разглядели в этом древнем сюжете саму суть человека. Но и для них разум, хоть он и "умный", мало что понимает, а душа, хоть она и "неразумна" -- чует, томится, предчувствует, предсказывает; в конечном счете, душа всегда в гносеологическом отношении "срамит" разум и оставляет его в дураках. Корифеи мировой литературы в этой сфере -- Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Достоевский, Чехов. Но и они весь арсенал художественного познания (за редчайшими исключениями) ограничили рамками указанной коллизии. Художники банально не замечают глубины. Многие знают, что существуют психика и сознание, душа и разум. Немногие понимают и способны понять разницу между ними. И уж совсем редко кто разбирается в "механизме" их взаимодействия. Почему искусство столь слепо? Писатель уже тем, что он писатель, обречён на специализацию в области диалектики души (но не диалектики сознания). Бессознательное -это действительно бес сознания. Творчеством заправляют бесы сознания (или ангелы души, кому что нравится), поэтому писатели и поэты часто ощущают себя орудиями в чьих-то руках, посредниками, медиумами, но 10 не активными субъектами творчества. "Лишним" в творчестве оказывается начало личностное, иначе говоря -- сознание как таковое. Писатель (таково условие творчества!) не ведает, что творит. Поэтому понять художника означает понять логику его подсознания, т.е. сознания, которое "не знает", что оно сознание. Итак, работа сознания скрыта от самого творца (хотя как таковая она реально наличествует). Каков же механизм творчества, которому подчинён писатель, несмотря на то, что он не ведает о своей зависимости? Будучи убеждённым в своей правоте, абсолютизируя свой жизненный опыт, некритически (бессознательно) относясь к нему, писатель, далее, отбирает такие явления жизни, акцентирует в них такие стороны и организует их в такой порядок (считая при этом, что сознание не участвует в творческом процессе), который иллюстрирует правоту его взгляда на мир. Так замыкается творческий "порочный" круг. Художникидеолог -- это именно тот, кто идеализирует свой порочный круг, свой миф. И это нормально. Истина, если уж и дальше пользоваться метафорой, представляет духовный мир человека как набор порочных кругов-мифов, каждый из которых осознаётся именно как порочный. Однако человек -- вот оно, главное, "дьявольское" наше противоречие -- может существовать только с помощью спасательных порочных кругов -- при этом изо всех сил стремясь к истине, т.е. к самоистреблению. Вот почему искусство, будучи идеологическим по природе (ибо невозможно говорить языком образов и не говорить при этом языком идеологии), всегда в той или иной мере тенденциозно. Подчеркнём: это ни хорошо, ни плохо (или: хорошо в одном отношении, плохо -- в другом). В этом заключена сущность искусства -- вот что главное. Разумеется, существуют разные типы искусства, по-разному относящиеся к идеологическим кругам. Искусство реализма, особенно классического, всё чаще прибегает к открытым финалам, где круги уже перестают "держать" человека и он остаётся "ни с чем". Вдумаемся: трагедия наступает тогда, когда к одному (или нескольким) "кругам" человек добавляет другие, много иных кругов-"истин". Он начинает постигать относительность всего, он умнеет -- в этом и ни в чём другом источник его трагедии. Таков путь искусства, и оно уже давно не говорит ничего принципиально нового о человеке. Оно лишь осовременивает вечные идеологические парадигмы, а потому умудряется быть вечно актуальным, как вечно актуальна жизнь. Таким образом, высокое искусство явно 11 тяготеет к интеллекту, не переходя ту грань, где язык образов сам по себе становится комичен, поскольку перестаёт соответствовать исконным задачам: представлять образы-модели, насыщенные идеологическим подтекстом, но не аналитически их разлагать. Если ориентироваться на личность духовно полноценную, то мы вынуждены констатировать: искусство не может сформировать духовно гармоничный мир человека; его абсолютизация так же губительна, как и крайность противоположная -- отрицание искусства. Путь один: видеть и переживать несовершенство человека, воспроизводимого искусством, становясь тем самым всё более и более совершенным. Человек -- шире и глубже искусства; равным образом он глубже и противостоящей искусству деятельности теоретического (рефлектирующего) сознания. 5 В чём же принципиальная разница между моделирующим и рефлектирующим сознанием, если и то, и другое не отвергают идею порядка, следовательно мыслят (ибо мыслить и означает приводить в определённый порядок)? В сознании художественно-моделирующем компоненты реальности тасуются и воспроизводятся в произвольном, подчинённом субъективной воле творящего художника порядке -- вовсе не в том объективном порядке, в каком они наличествуют в "ничьей" реальности. Вот и вся разница. Исследователей смущает то обстоятельство, что "мимесис" есть как бы жизнь: модель состоит из знакомых компонентов, подчинённых привычной для сознания идее порядка. Однако субъективный и объективный порядок суть разная реальность, требующая разных способов и разных целей её освоения. Вот почему польза от искусства, понимаемая как верное отражение объективного порядка, сильно преувеличена. Искусство относительно полезно, и уж никак не может в этом отношении, отношении познания, соперничать с наукой. Что касается "приятности" искусства, то достигается она за счёт подмены объективного порядка -- субъективным, за счёт создания новой реальности взамен старой, в чём-то не устраивающей творца. Такое художническое "преодоление" реальности есть (с позиций беспристрастного мышления) надувательство и трюк. Приятное переживание виртуальной, несуществующей реальности приносит "катарсис". Искусство по функции своей -- миражи и фантомы сделать более актуальными, нежели действительность -- сближается с наркотиком, служит утешением и духовной забавой, возможно, в чём-то и 12 возвышающей человека. Но оно же и нелестно характеризует человека, малодушно укрывающегося от реальности в искусстве и страшащегося взглянуть правде в глаза. Таким образом, "полезное" в литературе связано с деятельностью рефлектирующего сознания как компонента сознания моделирующего. Всё "приятное" полностью производно от психики, от переживания вожделенных, но реально не существующих моделей. Поэтому закономерность соотношения приятного и полезного такова (если говорить о литературе значительного художественного уровня): чем меньше полезного -- тем больше приятного. Итак, чтобы понять литературу, надо понять человека. Литература сама по себе не объясняет человека, но она даёт великолепный материал для исследования. Искусство в целом есть деятельность психоидеологическая, отсюда и проистекают его плюсы и минусы в хлопотном деле познания мира и приспособления к нему. Искусство замечательно приспосабливает человека к самому себе, в том числе и к собственной познавательной деятельности. В этом смысле оно близкородственно ещё двум великим гибридам культуры: сознанию религиозному и нравственному. Но одна из каверз приспособления состоит в том, что оно выдаёт приспособительные манипуляции за познавательные подвиги, выдаёт желаемое за действительное, моделирующее сознание за рефлектирующее. И в этом отношении литература как самый интеллектуальный вид искусства гораздо более других видов искусств мешает свободному духовному росту личности (помогать начинает только тогда, когда личность перерастает "искусственный" способ освоения мира). Литература в совершенстве говорит только на одном языке культуры: на языке образов. На вопрос почему литература как искусство образотворчества находится в таких сложных взаимоотношениях с искусством мыслить, -- с иным способом освоения реальности? -- мы отвечаем: именно потому, что искусство мыслить есть иной способ освоения действительности, способ объективно познавать её, для чего необходим иной язык культуры -- язык понятий. Великая литература развивает потребность мыслить, а потребность мыслить заставляет критически отнестись к познавательным возможностям литературы. Так литературоцентристская картина мира разваливается, и на её руинах вырабатывается научное отношение к реальности, в том числе и к литературе. 13 1.2. АВТОР (ПИСАТЕЛЬ) КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 1 В проблеме разграничения субъектов речи и субъектов сознания в художественном произведении существует немало путаницы, связанной, в конечном счете, с непроясненностью отношений автор – созданное им произведение. Каково место автора (писателя) в системе повествователь (образ автора) – рассказчик – лирический герой (иначе говоря, в системе выявленных субъектов сознания)? Можно ли рассматривать писателя как полноправный и специфический субъект сознания, реально структурирующий художественное произведение и в этом смысле являющийся литературоведческой категорией? Если можно, то каковы отношения писателя со всеми иными инстанциями-носителями сознания? Реальный автор, писатель, как правило, выносится за скобки сложнейшим образом устроенной системы, называемой художественное произведение. Если его и включают в анализ художественности, то как факультативное, извне приданное звено, как дополнительный источник информации (чаще всего информации иллюстративного характера), но не как элемент структуры произведения. В аналитическом акте всегда намечается и сохраняется (охраняется) оппозиция: писатель – созданный им художественный текст (произведение, пространство, мир и т.д.). Произведение объективируется и дистанцируется от писателя, живет собственной жизнью и не пускает писателя в свою плоть и ткань. Отторгает его как инородное тело. В известном смысле так оно и есть: здравый смысл не позволяет отождествлять невыдуманного писателя и выдуманных им персонажей, воображаемых субъектов сознания. Однако нереальные субъекты сознания в той или иной (всегда разной) степени являются проекцией реально существующего автора, проекцией духовного мира писателя. Можно ли хотя бы в первом приближении материализовать эти интуитивно ощущаемые связи и отношения? Если согласиться с тем, что писатель, носитель определенной системы духовных ценностей, моделирует свои миры исходя из персональных представлений о «добре и зле», то вопрос выявления писательского присутствия в произведении становится делом техники. Начало и первоисточник произведения – сознание и подсознание (духовный симбиоз) писателя. (Разумеется, психика и сознание формируются особенностями той клеточки универсума, где «протекает жизнь» писателя. 14 В этом смысле можно выстроить некую новую систему: реальность (универсум) – автор (писатель) – произведение – читатель – реальность… Но эта «цепочка» не решает обозначенных нами проблем, а выстраивает новый более общий контекст, который не отменяет контекста более локального.) В таком случае все присутствующие в произведении уровни, аспекты, точки зрения – все, что претендует на систему, складывающуюся вокруг главного, генерального субъекта сознания, – восходит к реальному автору, писателю. И в этом смысле писатель становится категорией содержания, которая выражается специфическими стилевыми средствами, - категорией литературоведения. Писатель, с одной стороны, строго оппозиционен сотворенной им модели реальности, а с другой – включен в эту модель (в качестве писателя) как та информационная система, из плоти которой и сотканы виртуальные миры. Если это не так, если произведение можно и нужно рассматривать в отрыве от реального автора, значит необходимо указать на какой-либо иной источник информации, кладезь смыслов, некое семантическое хранилище, где зародилась и сформировалась содержательность произведения. Кроме того, кто-то ведь должен организовать разрозненные субъекты сознания, объединить их в рамках определенной системы ценностей. Кто, если не писатель? Автор, отраженный в конкретном художественном произведении, становится писателем, высшей информационной точкой отсчета, вершиной информационной пирамиды. Он порождает нереальный мир, а мир отражает его, писателя, реальную суть; однако это не является основанием для превращения писателя в полномасштабный персонаж, фантом (все остальные субъекты сознания – персонажи в полном смысле этого слова). Тем не менее, писатель, будем последовательны, отчасти является персонажем, пусть и помимо воли автора. С этим ничего не поделаешь. Это объективный закон творчества. Писатель вынужден становиться писателем, в известном смысле выполнять функции персонажа, представляя себя, – и в этом смысле, в этом отношении он становится литературоведческой категорией. Писатель – это высший субъект сознания, который реализуется, с одной стороны, через упорядоченную совокупность всех иных субъектов сознания (образа автора, повествователя, рассказчика, героя, персонажа, лирического героя), а с другой стороны – через повествование, в том числе и речь персонажей (и в этом смысле он не отличается от иных субъектов сознания). Субъект речи – форма проявления субъекта сознания. Следовательно, первого не бывает без второго, при этом следует 15 учесть, что субъект речи может быть одновременно выражением нескольких субъектов сознания. Это и позволяет писателю быть тогда, когда его как бы нет. За писателем не закреплен определенный, материализующий его и только его стилевой прием. Писатель – это высшая, генеральная и генерирующая функция, которая воплощается «обычными» стилевыми средствами. До сих пор мы говорили о писателе как о компоненте художественной структуры. Однако мы можем изучать личность автора как таковую, безотносительно к ее художественной функциональности. В этом случае мы меняем предмет познания: писатель помогает нам познавать писателя, а не наоборот. Личность творца отражается не только в совокупности созданных им произведений, но и в письмах, документах, биографии. До тех пор, пока мы имеем дело с художественным произведением, мы имеем дело с принципиально неполным писателем. Если же мы ставим целью всестороннее исследование личности писателя, мы изучаем уже не столько произведения, сколько «по кусочкам», из фрагментов воссоздаем мировоззрение пишущего человека. Произведение становится материалом изучения, а писатель – главным содержанием и предметом. Следует иметь в виду подвижность границ исследуемого объекта, возможную (иногда невольную) переакцентировку, вызывающую подмену или размывание предмета изучения. В науках гуманитарных это происходит с такой частотой и регулярностью, что стало уже неотъемлемой характеристикой самих гуманитарных дисциплин. 2 О чем говорит усложнение произведения как некой информационной структуры, взятой в измерении вертикальном (иерархия субъектов сознания) и горизонтальном (совокупность, количество субъектов сознания)? О том, что оно отражает процесс самопознания, идущий вглубь. Для того, чтобы выразить одно целое (все ту же многоуровневую личность, что же еще?), необходима уже система автономных точек зрения, иерархично устроенных и пересекающихся, что дает ощущение бесконечного космоса. Подобное усложнение является выражением художественного прогресса. Дело в том, что содержательность произведения, для описания которой понадобилась категория писатель, раскладывается по спектру: коллективное бессознательное (архетипы) – индивидуальное бессознательное – общественное сознание – личностное сознание. (Каждый сегмент спектра, в свою очередь, легко превращается в спектр: коллективное бессознательное, например, можно дифференцировать по 16 признакам этническим, социальным, половым, возрастным и т.д. Личностное сознание определяется наличием в культуре бесконечных, но разных по глубине, систем духовных ценностей.) Эти пласты и уровни пронизывают друг друга, живут в симбиозе, и по функции они бывают в разной степени структурообразующими, доминантными. Скажем, в фольклоре явно ощутим крен в сторону коллективного бессознательного, которое становится семантическим ядром; в поэзии, которая «должна быть глуповата», также преобладают бессознательные пласты. А вот в произведениях эпических наблюдается уже другая картина. Если сознательное начало структурирует бессознательное, как бы «контролирует» его, то мы имеем дело с художественностью порядка концептуального. Крупная форма, как правило, именно подобного замеса. Однако – и это также можно считать законом художественного творчества – смыслы, сознательно или бессознательно (и неважно, в какой степени осознает это сам творец) тяготеют к определенной системе ценностей, выстраиваются под нее. Бессознательное выстраивается под шкалу, заданную сознанием: вот парадокс или закон творчества. Поэтому художник, даже тогда, когда не отдает себе отчет, не ведает, что творит, импровизирует, -- создает «нечто неожиданное» по жестким семантическим лекалам, по выверенному и принятому внутрь ценностному ориентиру, «образу и подобию». В этом смысле свобода творчества – не более, чем пустой звук. Вот почему одним из критериев эстетической ценности является глубина и плотность смысла, тяготеющего по указанным параметрам (глубине и плотности) к истине, особому смысловому качеству, где любая новая информация обогащает и актуализирует старую, но не отменяет ее. Конечно, в произведении одновременно «живут» и сосуществуют все указанные смысловые пласты, однако художественная ценность его тем выше, чем более гармонично они сбалансированы: вселенские, универсальные архетипы только обогащают личностно ориентированную философию. Художественный прогресс становится вопросом увязывания смыслов, вопросом информационной насыщенности; качество увязывания становится вопросом красоты; качество жизнестойкости смыслов, их совместимости с началом гуманистическим становится вопросом добра. Вот почему выявление содержательного ядра требует ясного понимания, чего же мы ищем, что отражает и в принципе может отражать произведение. А оно отражает и может отражать ментальность личности, сознание во всей его информационной сложности и противоречивости. Произведение изоморфно личности, а личность, не исключено, космосу. 17 Все в одном и одно во всем. Уже один этот научный принцип обрекает литературоведение на обращение к методологии. Следовательно, анализ произведения требует наличия концепции сознания, концепции личности, которая отражается посредством писателя, повествователя, персонажа и т.д. Поскольку сознание литературоведа устроено аналогично писательскому, возможны удивительные сбои и искажения. Представим себе, что мы станем трактовать произведение с позиций того же коллективного или индивидуального бессознательного (при таком «анализе» сознание будет лишь обслуживать иррациональные интенции, будет рабом подсознания). Произойдет эффект варваризации культуры: бессознательное, отраженное в режиме бессознательном, хочется объявить познанием, тогда как в действительности мы имеем дело с продлением бессознательного, абсолютизацией одной из сторон творчества. Дважды бессознательное становится мерилом здравого смысла: так вместо познания рождаются мифы и чудеса. Поэтому литературовед начинается с умения отделять сознательное от бессознательного. Но и тут есть свои «роковые» нюансы. Под анализом, в том числе анализом художественного «целого», всегда подразумевается расчленение, разрушение, акт, противоположный созиданию. И это, разумеется, верно, но верно только с одной стороны. Существует и другая сторона, которая не «замалчивается», конечно, но чаще всего опускается по соображениям, надо полагать, «самоочевидности». Однако не все так просто с «другой стороной», которая определяет специфику первой. Так вот с другой стороны – способность к анализу подразумевает одновременно способность к синтезу, к моделированию того, что расчленяется, к бессознательному творчеству. Это не просто диалектическая посылка в академическом ключе, которая никого ни к чему не обязывает. Из нее следует: тот, кто не видит целого, не сможет его верно, грамотно, научно проанализировать. Некачественный анализ – это следствие; причина же – неумение или неспособность (эти две стороны также связаны диалектически) охватить все уровни целостной модели. Бедность анализа всегда свидетельствует либо о малой информативности, слабой содержательности модели, либо о неумении видеть богатство информационных пластов. Вот почему аналитические кондиции литературоведа напрямую зависят от его воображения, от дара образного мышления – то есть от наличия того, что мешает анализу, плохо с ним вяжется и стыкуется. Хороший писатель не обязательно должен 18 быть хорошим литературоведом; однако хороший обязательно должен быть хорошим писателем. литературовед 1.3. И. НЬЮТОН И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ Все связано со всем. При желании и известной диалектической сноровке можно даже обнаружить связь между И. Ньютоном и современным литературоведением. Однако искусственные умственные потуги в тонком деле постижения гуманитарной ткани всегда компрометируют спекулятивными трюками, угодными конъюнктуре, и субъект исследования (ученого-виртуоза), и объект (в данном случае дерзкое скрещение старой доброй физики с «лирикой», с претендующим на статус науки литературоведением) и, главное, познавательные возможности «лирической науки». Все связано со всем – но это не означает, что можно связать что угодно с чем угодно совершенно произвольно, по своему хотению. Одно дело выявить объективную связь и совсем другое -- «навязать» надуманные отношения, которых нет в природе. Естественная связь великого преобразователя естествознания с великими преобразованиями, происходящими ныне в гуманитарных науках, легко и просто обнаруживается в ключевом звене всякой науки: в методологии. Собственно, характеристике методологии и посвящена данная работа. Какое отношение имеет, скажем, ньютоновская механика к литературе, и вообще к тому, что Маркс назвал «духовное производство человека»? А вот, оказывается, имеет, и самое непосредственное. Механика великолепно характеризует сам рационалистический дух картезианства как некой философской проекции естествознания на ментальность личности и социума. «Механикой», железной логикой продиктован знаменитый категорический постулат: cogito ergo sum: мыслю, следовательно, существую. А если не мыслю?.. Вот я бы не сказал, что литературоведение сегодня мыслит, однако кто решится утверждать, что оно не существует? Более того: отсутствие серьезных фундаментальных концепций стало предпосылкой существования науки о литературе. Такое положение вещей – прямой вызов картезианству с его «механистической» (с вашего позволения – одномерной, малодиалектической) логикой. Вряд 19 ли сам Ньютон согласился бы иметь отношение к литературоведению, к лирике (которое и родилось-то уже после кончины величайшего физика). Однако сказано: все связано со всем. Связь ньютонианства с гуманитарной наукой, и в частности, с литературоведением, -- двоякого рода. Во-первых, механистический стиль научного мышления непосредственным образом сказался на художественном мышлении того времени. Нормативность и рационализм классицизма ни у кого не вызывают сомнения, стали общим местом; это все так – но не в этом дело. Дело в том, что сам дух классицизма, наиболее рациональной из всех известных человечеству художественных систем (за исключением, пожалуй, соцреализма), непосредственно связан со стилем научного мышления эпохи, есть художественный эквивалент этого стиля, если угодно. Основной конфликт в произведениях классицизма – это выдуманный, спланированный, заранее просчитанный конфликт между долгом и страстью, умом и сердцем. Я не хочу сказать, что в реальности такого конфликта нет и в помине; я хочу сказать, что этот конфликт классицизм трактует как условный. Это не предмет для обсуждения, а посильные вариации на тему всесилия долга. Для мыслящих героев классицизма конфликт мог разрешиться и разрешался только в одну сторону: победа долга (то есть здравого смысла) не ставилась под сомнение, не оспаривалась в принципе. А если бы оспаривалась – это был бы не классицизм. Согласно классицизму мир устроен механически, целостность мира можно «разобрать на части»: долг – это долг, страсть – это страсть, они самотождественны и непроницаемы, не могут «смешиваться», как масло и вода, контакт между ними может быть, опять же, чисто внешнего, механического свойства. При таком «устройстве» души психологизма как такового, понимаемого как «диалектика души», как перетекание свойств друг в друга, в классицизме не было и быть не могло. Бинарность (а не единство) противоречий, из которых «смонтирован» внутриличностный конфликт, целиком и полностью укладывается в формулу механистического и дуалистического мировосприятия. Вот характерный пример. Федра (героиня одноименной трагедии Расина), согласившись стать женой царя, не должна была по-женски любить его сына и своего пасынка Ипполита. Императивы долженствования просто не обсуждаются, они заданы apriori некой инстанцией, которая по определению не подотчетна людям (механистически устроенный космос). Но она любит его – и это, опять же, не ее каприз, не «не ведаю, 20 что творю», а своего рода испытание, ниспосланное высшими силами. Чтобы почтенная публика не сомневалась в добродетелях Федры, драматург дает ей наперстницу-служанку, которая постоянно провоцирует бедную Федру, вводит ее в соблазн, артикулирует темные желания несчастной мачехи. Обратим внимание: своеобразное раздвоение души происходит по все той же механической технологии: Федра -- носительница высокоморальных устремлений, ее служанка – коварный бес. Конфликт из внутреннего становится, по сути, внешним, делится на части. Никакие чувства не в силах сломить Федру, и трагедии не происходит – до тех пор, пока она не получает известия о гибели мужа. Только после этого моральные барьеры рухнули, о долге можно забыть – точнее, можно забыть о «том» долге; долг как таковой – абсолютная необходимость блюсти честное имя -- никуда не исчез. Желания стали законны, так сказать разумны: чего хотела женщина, того же теперь хочет и Бог. Чувства перестали противоречить долгу – вот почему Федра может позволить себе следовать логике чувств. Однако известие о смерти мужа оказалось сильно преувеличено. Собственно, он и не погибал, он стался жив. В изменившейся ситуации чувство долга актуализировалось до такой степени, что она оказалась без вины виновата. Все ее действия в ретроспективе оказались преступными, она нарушила повеления «того» долга. Федра поспешила принять желаемое за действительное, опередила события, сунулась поперек Батьки в пекло. Надо было смывать позор. Сделать это эффективно можно было только одним традиционным способом: самоуничтожением. Для Федры выбора не было: как носитель героического сознания она оказалась в трагической ситуации. А герой действует в соответствии с «механистическим» принципом «или – или», он не ведает диалектических компромиссов. Во-вторых, стиль ньютоновского научного мышления сказывается и на литературоведческом, и – шире -- гуманитарном мышлении, моментом (чаще, к сожалению, «частью») которого является литературоведение. «Механистичность» сегодняшнего литературоведения проявляется в том, что оно последовательно именно в механистическом ключе интерпретирует взаимодействие теоретической и исторической составляющих своей дисциплины. Теоретические (методологические) установки не пронизывают в должной мере конкретно-исторических исследований. «Целое» литературоведение архаически делится на две части. Порой возникает подозрение, что именно Ньютон был родоначальником нынешнего 21 метафизического литературоведения, настолько гуманитарное мышление в науке о литературе сопротивляется диалектическим подвижкам (метафизического – и в значении «противостоящего диалектике», и в значении замкнутости на онтологических предпосылках эстетического, так сказать, в стремлении порассуждать обо всем и ни о чем). А теперь более подробно рассмотрим глобальные «части» литературоведения и наметим те принципы взаимоотношений, которые позволяют частям становиться моментом целого, нести на себе качественные признаки целого, строго говоря, изменить свою природу. Почему литературоведение, особенно в том его разделе, который принято называть история литературы, малонаучно и беллетристично? Потому что оно фанатично сосредоточено на отдельном, особенном, исключительном, единичном, совершенно игнорируя в уникальном "след" универсального. Связь отдельного со всеобщим должна интересовать науку литературоведение, а не абсолютизация уникального, превращающая литературоведение в литературу по поводу литературы. Литературоведение уподобляется предмету исследования, беря на вооружение "познавательный" арсенал методов и средств, отличающий именно литературу -- деятельность сознания, противостоящую науке. Врач, исцелись сам. В таком случае позволительно спросить: чем продиктован подобный методологический императив, непонятно на каком основании и по какому праву придающий и диктующий дисциплине черты научности или лишающий её самого статуса научности? Данная проблема настолько не нова и одновременно в такой степени актуальна, что её можно отнести к классическим (или вечным). Добавим, также, что проблема эта никак не может считаться собственно литературоведческой -- уже хотя бы в силу диалектики относительного и абсолютного в познании, а также наличия закона единства знания, обусловленного единством, целостностью мира. По большому счёту, всякая методология, в том числе литературоведческая, являет собой проекцию диалектики как всеобщей и универсальной методологии (также находящейся в постоянном развитии, т.е. подчиняющейся законам, которые сама же и формулирует). Иначе говоря, методология литературоведения и общая научная методология соотносятся как история и теория литературы. Вся мировая философская мысль на протяжении всей истории её развития была занята поиском всеобщего и универсального мирового 22 порядка. Последовательное выявление всеобщих и универсальных связей-законов всегда было главным делом философии, её основным предметом, а накопленные, казалось бы, бесполезные (так как слишком общие, неконкретные) знания постоянно использовались в методологиях конкретных наук. В деле познания мира у философии по сравнению с частными науками есть одно безоговорочное преимущество: она оперирует универсалиями. Оно же, преимущество, и делает философию "никому не нужной" саму по себе, как таковую. А вот использование универсальных законов в частных науках -- это уже как бы другое дело, не имеющее отношения к философии. И все лавры в деле познания мира безраздельно принадлежат "приватным" наукам: физике, химии, литературоведению и т.д. В действительности всё обстоит значительно сложнее. Целостность мира, коротко говоря, выражается ни в чём ином, как в органической связи единичного с универсальным. Невозможно представить себе одно без другого. Универсальные законы всегда присутствуют в единичном феномене, но никогда не исчерпывают его, не сводят одно к другому. Зрелость каждой отдельной науки проявляется в том, насколько относительная суверенность её знания вписывается в общую картину. Надо отыскать свой модус общей, ничьей диалектики. Бесконечное число таких модусов, даже в пределах одной науки, фатально ограничивает человеческое познание, хотя и не делает его невозможным. Это блестяще отражено в диалектике абсолютного и относительного: абсолютная истина есть синтез бесконечного числа истин относительных, а всякая относительная истина есть проявление абсолютной. Скажите после этого, что человек, познавая, не ведает, что творит. Очень даже ведает и не питает иллюзий по поводу своих возможностей объять необъятное. Учитывая каверзы указанной диалектики, легко понять, почему теоретики (в силу специализации) грешат тоской по простоте, по абсолютной сводимости отдельного к общему. Потребность в отыскании абсолютно простой субстанции, не содержащей в себе никаких различий, вроде "апейрона" у Анаксимандра или "атома" у Демокрита, выразилось во многих философских онтологиях. Неистребимое стремление через одно объяснить всё, найти абсолютно простое начало в свою очередь объясняется психической потребностью в мысленной интерференции с миром (или предметом исследования), иначе надо абсолютно оставить надежду на регулируемое разумом приспособление к нему и объявить капитуляцию познания как 23 такового. Тем самым, заметим, расчищается гносеологическое пространство для абсолютизации психических феноменов, субъективного отношения, случайного и единичного, чем так пользуется художественно-модельное (главным образом -приспособительное) освоение мира. Историки литературы часто сопротивляются тоске по простоте (и правильно делают), отвергая пансоциологизм марксизма, панпсихоаналитизм, панструктурализм и проч. Однако сами историки, вольно или невольно, предлагают взамен культ необъяснимого, чуда искусства, попросту говоря -- абсолютизацию неповторимого, не имеющего аналогов. И все же выход из этой гносеологической ловушки наиболее диалектичным умам представляется возможным. Он видится -вернёмся к тому, с чего начали -- в диалектике единичного и общего, конечного и бесконечного, простого и сложного, явления и сущности, момента и целого, а в нашем случае -- истории и теории (методологии) литературы. Диалектически воспитанный ум, верный принципу единства, взаимоперехода и взаимодополнительности противоположностей, не допустит абсолютизации ни одной из них и не станет одну интерпретировать полностью через другую. Если мы допустим такое, нам придётся историю литературы определять как отсутствие теории литературы, и наоборот. Но вот расставить нужные акценты, найти органичные для гуманитарной науки историко-теоретические пропорции -- в этом-то и будет заключаться "ноу-хау" литературоведения. Пока что диалектически гибкая "матрица" литературоведческой методологии, которая называется целостным анализом, ждёт своего часа. Налицо -пауза, разрыв между теоретическими наработками и их проекцией на историко-литературные исследования. 1.4. ЗАЩИТА ШОЛОХОВА 1 Михаила Александровича Шолохова защищать не надо. Он не нуждается ни в чьей защите, как не нуждаются в ней Данте или Л. Толстой. Защищать надо не Шолохова, а право на объективное, непредвзятое исследование темы, имя которой феномен Шолохова. Есть такое явление мировой художественной культуры, и оно будет существовать совершенно независимо от того, нравится это кому-то или 24 нет. Это непреложный факт, и оспаривать его, что называется, себе дороже: тут человек даже не репутацией рискует, а судьбой. Дело не в Шолохове как таковом, а в переоценке ценностей, совершающейся на наших глазах в русской культуре. Еще вчера коммунист и Ленинский лауреат если не укладывался гладенько в достаточно жесткие идеологические нормативы, то как-то счастливо не противоречил им, не в такой степени противоречил, чтобы перейти черту, за которой начинаются уже вражеские козни. Уже сегодня всемирно известный Нобелевский лауреат удачно вписывается в самые «продвинутые» исторические концепции, психоаналитические методики и неомифологические подходы к цивилизации. «Тихий Дон», обнаруживая свой крутой и универсальный характер, заставляет считаться с собой и демократов, и антидемократов, и псевдодемократов любой окраски и квалификации (подразумевается, конечно, что у любителей раскопать «всю правду» о великом романе и его создателе наличествует некий уровень профессиональной вменяемости и приемлемый градус здравого смысла). Шолохов как автор «Тихого Дона» и «Тихий Дон» как романэпопея не укладываются целиком и полностью, без остатка ни в прилагаемый к ним православный аршин, ни в коммунистический, ни в сталинский, ни в антисталинский. У них свой аршин, своя, особенная стать – вот над чем бы задуматься. Сегодня становится уже очевидным, что «Тихий Дон» удивительным образом соответствует самым высоким и, можно сказать, изысканным культурным параметрам. Становится понятным, что разговор о феномене Шолохова невозможно ограничить рамками филологическими, историческими, психологическими или философскими. Как любое крупное явление культуры оно начинает «обрастать» все новыми и новыми гранями, а значит и мифами, легендами, слухами, домыслами. Не хотелось бы сводить разговор о Шолохове к степени соответствия его художественного космоса той или иной идеологической доктрине. Такой подход объективно снижает статус «объекта» исследования, низводя его до функциональности «под заказ». Польза, прагматизм, сиюминутные тактические трюки, с нами, против нас – это все мелкотемье, суета сует. Это не масштаб Шолохова. Надо бы осознать его как знаменательную, эпохально значимую, знаковую, как сейчас принято говорить, фигуру. А для этого необходимо вести разговор в соответствующей задаче системе координат. Не будем льстить себе, однако глупо делать вид, будто этого можно избежать: великая литература требует великих читателей. А великие читатели – это верная методология, 25 подкрепленная чуткостью к вопросам экзистенциальным, философскоэстетическим, да и просто жизненным опытом, здравым смыслом, наконец. О чем писал Шолохов, когда он писал о революции и гражданской войне? Красные и белые его интересовали, конкретный исторический момент как проявление пика исторического развития вообще (легкомысленная инверсия научного коммунизма)? Или это формы проявления некой более важной темы, которая и определила тон, пафос и даже архитектонику романа? Если это так, то что же это за тема такая, перед которой снимают шляпы Восток и Запад, и необольшевики, и даже идеологически не очень ангажированные, а то и дезориентированные? Мне уже приходилось писать о том, что «Тихий Дон» -- самый русский роман, вкладывая в это определение не эмоционально-оценочную, а качественную характеристику. Русскость как бытийность – вот тема Шолохова. Русский – это система отношений с миром и, как всякая национальная система, она складывается из особого рода взаимоотношений между душой и умом, сердцем и разумом – психикой и сознанием, если вести разговор в терминах научно определенных. Шолохов дал ярчайшую модель русскости и через нее прикоснулся к проблеме человека вообще – к проблемам вечным, бытийным, экзистенциальным. Вот в таком ключе, как представляется, следует вести разговор о феномене Шолохова. Сама постановка проблемы в подобном культурологическом ракурсе есть наилучшая – продуктивная и конструктивная – «защита» Шолохова. Он уже давно защитил сам себя. Надо просто понять, как он это сделал. Между прочим, Шолохов заслуживает внимания гораздо более, чем ему изволят оказывать. Просвещенная общественность столиц как-то демонстративно не очень жалует классика, если не сказать отмахивается от него. Как-то не очень он сегодня ко двору. Впрочем, Шолохов тоже не особенно заискивал перед белокаменной, что не помешало ему стать культурной величиной, которую столица обречена почитать. «Слона-то я и не приметил» -- это хорошая мина при плохой, хотя и забавной, игре. Всему свое время – время игнорировать и время почитать. 2 В романе сосуществуют много правд, однако они парадоксальным образом не противоречат Истине, более того, они обогащают ее, находя основу для совмещения. Постараемся более детально и развернуто 26 обозначить тему Шолохова, которую он заключил в метафизическую триаду Красота – Добро – Истина. Начнем с мифа, прилипшего к советскому классику. Вот типичное, можно сказать, расхожее суждение, которое строится на принципе «здесь двух мнений быть не может». Все ясно и прозрачно: ««Тихий Дон» -- это первая мировая война, революция, гражданская война. В России – это эпоха величайшего взрыва народной энергии, который, хотели они этого или не хотели, отметили все сейсмографы земного шара. Это эпоха великих решений и великих дел. И в то же время эпоха громадных противоречий и людских трагедий. …Взгляд Шолохова на эпоху ясен, он исключает возможность разных истолкований: революция должна была свершиться, и в гражданской войне должны были победить те, за кем стояла правда истории, -красные.» (Симонов К.М. Цит. по: Шолохов М.А. Собр. соч. в 8 т. – М., Изд. «Правда», 1980. – С.11. Роман «Тихий Дон» цитируется по этому же изданию; жирным шрифтом выделено мной, курсив автора; в скобках указаны книга, часть и глава – А.А.) А теперь вчитаемся в эпиграфы, взятые из старинных казачьих песен. Сначала эпиграф ко всему роману: «Славная землюшка», «батюшка тихий Дон»… «Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь? Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!» И в старину, задолго до революций, приводилось тиху Дону мутну течи. Так бывало. Правда, бывало и по-иному (эпиграф к Книге третьей): «Как, бывало, ты все быстер бежишь, Ты быстер бежишь, все чистехонек, А теперь ты, Дон, все мутен течешь, Помутился весь сверху донизу.» Всегда, однако, находились те, «за кем стояла правда истории», те, кто мутил воду. Но тихий Дон тек, а казаки пели свои песни. Стоит ли сужать эпопею до «исторического момента», жизнь – до «правды истории»? Нет, не первая мировая война, революция и гражданская война интересовали Шолохова, когда он писал о них. Это была эпоха излома и великих потрясений, когда ярко обозначилось и выявилось…что? Вот то, что выявилось, и составляет тему Шолохова. Его интересовала война и мир, истина и ложь под видом правды. Эпопея – это не великие события сами по себе, а великие события, которые обнажают первородную суть народной жизни. Без нацеленности на суть нагромождение событий тянет всего лишь на глобальный исторический детектив. Не история интересовала Шолохова, а то, что определяет движение истории. Можно бы обозначить эту тему и как «душа народа». Однако кроме того, что это емкая и ни к чему не обязывающая метафора, подразумевается, что 27 «душа» -- материя эфемерная. Нас же эта тема и материя интересуют как содержательность, как смысловое ядро, которое можно и должно структурировать для того, чтобы «поработать» с ним. С нашей точки зрения, следует вести речь о некой бессознательно присутствующей в жизни народа традиции, связывающей поколения, о неявном, потаенном, но безусловно наличествующем порядке, определяющем ментальность народа – об архетипах, иначе сказать. Причем сами архетипы (так сказать, витающая ментальность: «здесь Русью пахнет») также выстроены в порядке соподчинения и сопряжения, увязаны в систему, ничего не говорящую непосвященному, но ясную даже ребенку, носителю этого самого национального духа. Функционально архетипы (слагающие ментальность витальности) подразделяются на главные, коренные, смыслообразующие и менее главные, второстепенные, через которые проявляются главные. Это и есть смысловая канва, структура содержательности обладающих духовным измерением субъектов: и личности, и народа, и романа, и культуры. Любое частное событие вырастает из общей посылки, дополняет и конкретизирует ее, можно сказать, срифмовано с ней, отсюда соразмерность, гармония и «естественность» (вкупе – эстетичность) как бы нерукотворного романа. Вот несколько показательных примеров, поясняющих нашу мысль. Выбор у нас велик, собственно, весь роман. Обратимся к сцене массовой казни красногвардейцев, которая завершается страшной и мучительной казнью Подтелкова (2, 5, ХХХ - ХХХI). Казаки поймали и Мишку Кошевого с Валетом. С последним быстро расправились: с «мужиком» разговор короток. Мишку на первый раз «прижалели». Военно-полевой суд «лечил» заблудшего потомственного казака розгами. «Было у суда в те дни две меры наказания: расстрел и розги». С точки зрения расклада сил в фатально набирающей обороты гражданской войне мы имеем дело с обычным реваншем. Наша взяла – и теперь вы умоетесь кровью. «Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать!» -«высоким страстным голосом выкрикивал» Подтелков. На войне как на войне – с той только разницей, что «вешенские, каргинские, боковские, краснокутские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков…» Свои – своих, брат – брата. Однако этим эпизод не исчерпывается. Сама ситуация жестокого противостояния преподносится не как досадные, прямо говоря, кровавые издержки в процессе исторически обусловленном и необратимом 28 (следовательно, верном). «Господи божа, что делается с людьми!..» -отчаянно восклицает Христоня, отводя в сторону «взбесившегося» Григория Мелехова, готового разорвать «председателя Донского Совнаркома» Подтелкова. В этой ситуации мы имеем дело с чем-то таким, перед чем бледнеет правда «наших и ваших». Есть такая правда, за которую можно убивать других, или нет? «Что делается с людьми» -- это одно видение «темы», и совсем другое: «Советская власть установится по всей России. Вот попомните мои слова!» (Подтелков – фронтовикам, участникам казни; или: «Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходился ты, председатель Донского Совнаркома!»: Мелехов – Подтелкову). Шолохова интересует именно «что делается с людьми», когда они, как им кажется, обретают (или никак не могут обрести) правду. Подтелков – классический герой, фанатично преданный идее. Он за нее и в огонь, и в воду, не пожалеет ни себя, ни других, ни мать, ни отца, ни Россию. Советская власть для России или Россия для советской власти – такой дилеммы для председателя Донского Совнаркома попросту не существует, ибо все, что против советской власти, подлежит уничтожению. В таком черно-белом (или красно-белом) мире жить легко и просто. Кто не с нами – тот против нас. Или друг – или враг. Никакой «середки», никаких полутонов. Ничего нового о человеке, строго говоря, такой тип героя не несет. Сильный, несгибаемый, преданный – потому что одномерный. Его сила вырастает из примитивности – отсюда не очень-то гуманный характер такой силы. Он не «взбесится» от своей правды, не станет, как Григорий, «рыдая, сотрясаясь от рыданий…как собака…хватать ртом снег» и просить смерти у своих, порубав врагов (3, XLV, 282), а будет страстно, «не щадя живота», читать революционную мораль заблудшим фронтовикам. До последней минуты. Строго говоря, ему нечего терять: он ведь не во имя жизни умирает, а во имя идеи. Трагедии попросту неоткуда взяться, если правда выше жизни, не считается с жизнью. На таких героях эпопею не создашь, в лучшем случае – «Как закалялась сталь». Или вот еще красногвардеец, которого с почтением добил Митька Коршунов и шепнул подельнику: «Глянь вот на этого черта – плечо себе до крови надкусил и помер, как волчуга, молчком». Но с людьми «делается» и нечто более интересное. «Один из наиболее бесстрашных красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, Георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый светлоусый парень» -- «ползал в ногах казаков, прижимаясь спекшимися губами к их 29 сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел задушенно и страшно: -- Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое детишков…девочка есть…родимые мои, братцы…» Братцы, разумеется, свирепо избили его, а потом расстреляли. Эта сцена требовала от писателя более глубокого понимания человека, нежели сцена торжествующей, даже поучительной гибели Подтелкова. И дело не только в том, что в «бесстрашном» Георгиевском кавалере вдруг обнаруживается позорная слабость; дело еще и в том, когда и в каких формах слабость эта проявляется. Отчего сломался человек? От страха? Но ведь ясно, что боец с его биографией – из тех фронтовиков, что «вдоволь видели смерть». К страху смерти надо бы добавить пугающую вселенскую абсурдность: принимать смерть от своих, «родимых», «братцев», в домашних, так сказать, условиях. Так или иначе тот факт, что закаленный фронтовик мог сломаться именно в подобных обстоятельствах как-то сразу не вызывает сомнения. «Трое детишков» и «девочка» должны были растопить сердца «братцев». И растопили, потому и убивали кавалера особенно «яростно», сопротивляясь, очевидно, позывам нормальной человеческой жалости. Они злились на бывшего однополчанина еще и за то, что тот вынудил их добивать не только его, врага-красногвардейца (это – святой, хоть и малоприятный долг), но и человеческое в себе, заставил осознать себя как своих главных врагов. Вот этот пласт бессознательного, -- бес сознания, повелевающий людьми и подталкивающий к реальным действиям, поступкам и массовым стихийным акциям, -- постоянно находится в центре внимания писателя. Если это и психологизм, то психологизм особого рода: он растворен в ситуации, не выделен из нее. Ситуация брызжет, сочится жизнью, но никакого психологического анализа нет. Богатые, чреватые глубинными смыслами ситуации (самых разных порядков, связанных по вертикали и горизонтали), – это и есть Шолохов. Это стихия, мощь и как бы сама жизнь. Где тут, интересно, вина писателя? В том, что сказал нам более правды о себе, чем нам бы того хотелось? Так это вина всех гениев, их родовая отметина. Вернемся, однако, к ситуации расправы над красными. Заканчивается она (2, 5, ХХХI) примерной поркой Мишки Кошевого, что понятно и мотивированно в контексте романа, и зачем-то еще поповского сына, Александрова, слывшего «рьяным большевиком». Вот этому самому большевику «спустили штаны, разложили голоштанного на лавке», и всыпали таловыми хворостинами десятка два розог. «Встал Александров, отряхнулся и, собирая штаны, раскланялся на все четыре стороны. Уж 30 больно рад был человек, что не расстреляли, поэтому раскланялся и поблагодарил: -- Спасибо, господа старики! -- Носи на здоровье! – ответил кто-то. И такой дружный гогот прошел по площади, что даже арестованные, сидевшие тут же неподалеку, в сарае, заулыбались». Зачем надо было за компанию пороть сына грачевского попа? Реакция поповича, рьяного большевика, обнажает еще одну закономерность: перед лицом смерти идеи, любые идеи теряют свою значимость и отлетают, словно шелуха. Главное отделяется от неглавного. Поротый благодарит палачей своих, которые в глубине души рады, что можно отделаться публичной символической казнью (хотя «по делу – расстрелять бы»), не брать лишнего греха на душу. И даже арестованные, то есть большевики или им сочувствующие, (которым неизвестно что выпадет: расстрел или розги), «заулыбались». Смех – это проявление жизни, и смех объединяет людей. Все люди сделаны из одного теста. И с ними вполне может «сделаться» так, что победители и побежденные поменяются местами, и тогда уже вторые примутся учить и «лечить» первых, розгами ли, а может, новейшим коммунистическим перевоспитанием. Люди не становятся ни лучше, ни хуже оттого, что они делаются красными или белыми. Они остаются всего лишь людьми. Александров был прежде всего человеком, а уж потом – «рьяным большевиком». Кстати, и Мишка за компанию побыл человеком. Вот почему «безмерно жуткое, потрясающее зрелище», «отвратительнейшая картина уничтожения» заканчивается трагикомическими похоронами Валета. Двое казаков «вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая». После чего разули убиенного Валета («на нем сапоги ишо добрые») и «положили в могилу по-христиански: головой на запад». Однако притаптывать неглубокую могилу (делать дополнительную работу) не стали, отделавшись, как водится, человеколюбивой христианской сентенцией: «Затрубят ангелы на Страшный суд – все он проворней на ноги встанет…» Вот такой трогательной заботой о ближнем безымянных гробокопателей и завершается «картина уничтожения». Но Шолохов не был бы Шолоховым, если бы не придал делам людей некое вечное или, если хотите, философское измерение. Пронзительная лирическая концовка действительно примиряет, и даже более того: дает универсальный рецепт примирения убивающих и убиенных. Поэтически убранная матушкой-природой (всем нам – матушкой, не делящих людей 31 на правых и виноватых: такова позиция повествователя) могила («махонький холмик») Валета вскоре была взята под опеку «стариком», сотворившим божье дело: он «вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма: В годину смуты и разврата Не осудите, братья, брата. Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску». Часовня стала памятником и укором: вот когда началось покаяние и примирение, а вовсе не с развалом системы социализма. И еще: рядом с могилой, «под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни» стала зарождаться новая жизнь; природа, не терпящая пустоты, направила жизнь на круги своя: «положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцевито оперенным крылом». Высшая правда не у красных и не у белых; это вообще не социальная по облику своему правда. Высшая правда за нерассуждающей, но всевластной природой. Потому гимном жизни и красоте завершается «отвратительнейшая картина уничтожения». Таков космос Шолохова, сведенный в одну точку, таков глубинный раскрываемый им архетип. А теперь примерьте к данному фрагменту любезный вам аршин – и вы увидите, что с вами «сделается»: когда обнаружится целый ряд и спектр иных аршинов, иных точек зрения, вам придется либо из лучших побуждений «исправлять», либо страстно «защищать» Шолохова, либо искать достойный его универсальный, всеобъемлющий аршин. И аршин этот, повторим, нужен нам, а не ему. Мера шолоховского эпоса задана им самим, как это происходит в саморазвивающейся природе, не испрашивающей ни у кого права на творчество. Казалось бы, какое отношение имеет избранный нами эпизод к определяющей, магистральной канве романа – перипетиям, рвущим в клочья чуткую и честную душу главного героя, Григория Мелехова? История души человеческой в данном случае стала историей народа, и даже больше: она вместила в себя основополагающие законы жизни. Происходящее с Гришкой – подчеркнем это – не его личные проблемы, это бытие архетипа. «Беспокойный» Григорий (даже сон его -- и тот был «беспокойным»), в душе которого бродили «неоформленные решения» (1, 3, ХХIII), начал 32 свою идейную жизнь задолго до встречи с Гаранжой, и все же именно коваль Андрий Гаранжа «посеял» в его душе и сознании «семена той правды» (2, IV), за которую потом полегли Подтелков со товарищи. Мелехов глубоко пережил эту правду, пришел с ней с фронта на побывку и оказался в казачьей среде, опутанный «сложным тонким ядом лести, почтительности, восхищения» (2, 4, IV). «Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой» (2, 4, IV). «Свои неписаные законы диктует людям жизнь» (1, 3, ХХII). Согласно этим законам есть люди, которые быстро и без хлопот (счастливо?) прибиваются к одной правде и видят особого рода доблесть в том, чтобы служить своей правде раз и навсегда. Служить же своей правде, понятное дело, -- бескомпромиссно воевать с правдами другими. Кто не с нами – тот против нас. Это особый тип личности, особый тип отношения к миру, и неважно, какой правде служит «герой». Просвещенный Листницкий Евгений, вольноопределяющийся Бунчук, свободолюбивый и самостийный Изварин, Подтелков, Мишка Кошевой и даже Митька Коршунов в этом смысле – близнецы-братья. Разумеется, в идейном смысле те же Митька с Мишкой – враги непримиримые, да и в нравственном отношении они несопоставимы, однако их узкая, не от жизни, а от куцего ума идущая правда на одну колодку делана. Это тот случай, когда противоположности сходятся. «Жил Митька птичьей, бездумной жизнью…» «Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими ногами («волчуга!» -- А.А.), было много в нем от звериной этой породы…» «Была для Митьки несложна и пряма жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и он шел по ней полноправным хозяином» (2, 4, VI). Главное, что объединяет непримиримых идеологических противников, – убежденность в своей правоте. Вот эта правда и есть вечный источник войн, эта правда и «мутит» жизнь. «Бычье упорство было во всей сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах…» (4, 8, II). Кстати, в романе очень и очень часто люди уподобляются определенной звериной породе (а в зверях и животных сквозит что-то человеческое). Человек и этой нитью связывается с природой, навсегда несет на себе ее родовую метку. Архетип? Согласно все тем же неписаным законам встречаются в жизни люди, которые совершенно иначе ищут правду. Вообще «правда» в романе – категория неоформленная, она, несомненно, присутствует в жизни, но никому не дается в руки. Хотя – и в этом все дело -- без нее жизни нет. 33 Вспомним забавный эпизод, «случай», «о котором знали лишь Дарья да Пантелей Прокофьевич». Сноха едва не соблазнила «ошалевшего» свекра, проучившего недавно Дарью вожжами за не слишком примерное поведение в отсутствие мужа. Она «припомнила» ту справедливую с точки зрения семейной морали и политики расправу («порядок в курене был водворен»), заявив о своем праве на иную правду: «Мужа – его вон год нету!.. А мне, что ж, с кобелем, что ли? (…) Мне без этого нельзя… Мне казак нужен, а не хочешь – я найду себе, а ты помалкивай!» Озадаченный «Пантелей Прокофьевич все стоял у рыжего бока веялки, жевал бороду и недоуменно и виновато оглядывал мякинник и концы своих латанных чириков. «Неужели на ее стороне правда? Может, мне надо бы было с нею грех принять?» -- оглушенный происшедшим, растерянно думал он в тот миг» (2, 4, III). Правда может вмещать в себя грех, она не тождественна добру; она не то чтобы выше добра, -- она иной природы. Правда становится веществом жизни, самим жизненным составом, тем, что определяет ход и порядок жизни. В какой-то момент измученному думами Григорию стало казаться, что все в жизни просто. Так сказать, правда в том, что правды нет. «Тенью от тучи проклубились те дни, и теперь казались ему его искания зряшными и пустыми. О чем было думать? Зачем металась душа, -- как зафлаженный на облаве волк, -- в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь ему уже казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо биться крепко, не качаясь, -- как в стенке, -- а накал ненависти, твердость даст борьба. Надо только не взнуздывать чувств, дать простор им, как бешенству, -- и все» (3, 6, ХХVIII). Обратим внимание: так думал Григорий, «опаляемый слепой ненавистью» (3, 6, ХХVIII). А думы эти вызрели тогда, «когда зверем скрывался он в кизячьем логове и по-звериному сторожил каждый звук и голос снаружи. Будто и не было за его плечами дней поисков правды, шатаний, переходов и тяжелой внутренней борьбы» (3, 6, ХХVIII). Получается: чем больше зверя в человеке – тем проще, примитивнее его правда. И еще получается: правда – категория гуманистическая, путь к ней лежит через тяжелый труд мысли и души. 34 И еще: после того, как Григорий определился с «правдой», и «ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях» (нет бы солнцем, так ведь месяцем: шлях становится ясным и одновременно неживым, неверным; повествователь не обронил ни одного «пустого», малозначимого сравнения или эпитета, повествователь крепко подумает, прежде чем Григорий ошибется в очередной раз), -- «он чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и решимости, что, помимо воли его, из горла рвался повизгивающий, клокочущий хрип. В нем освободились плененные, затаившиеся чувства» (3, 6, ХХVIII). Конечно, визги и хрипы как реакция на обретенную правду настораживают. Да вскоре выяснится, что и не правда это была вовсе, не та правда, которую искал Григорий. Тут интересно другое: сама зависимость между правдой и состоянием души (палитрой эмоций). Правда, даже иллюзорная, тотчас отзывается ликованием, «приливом сил и решимости», так что ощущение силы можно принять за правоту. И наоборот: не на твоей стороне правда – все валится из рук, человек становится нерешительным. Не в силе Бог, а в правде («кохаемый» народом принцип). Вот в чем все дело. Война как способ силовой регуляции далека от правды по самой сути своей. И Гришка, задумавшийся и «беспокойный», оказался самым решительным противником братоубийственной мясорубки. Разная чуткость к правде – это тоже правда жизни. Характерна реакция твердокаменных большевиков или их лютых противников на невнятные гришкины речи, на его нерешительность, опирающуюся на решимость отыскать правду правд. Ивана Алексеевича, который ничтоже сумняшися сошелся с Григорием в идеологическом поединке, более всего раздражает именно «неоформленность» правды оппонента: «А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизню мутят!» (3, 6, ХХ). Это называется с больной головы на здоровую. В мире, поделенном на врагов и друзей, жить разлюбезное дело. Любо, братцы, любо. А вот жить в мире, где непонятно, на чьей стороне правда, -- это мука для себя самого и опасность для тех, кто уже все понял. Не зря искушенный в диалектике души Штокман ортодоксально внушал «свету Алексеевичу» «нашу классовую правду»: «Уничтожить нужно только матерых (…). А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело! Он опаснее всех остальных, вместе взятых. Ты это учти. Тот разговор, который он вел с тобой в исполкоме, -разговор завтрашнего врага» (3, ХХII). Чем, спрашивается, опаснее и почему завтра он непременно станет врагом? 35 А потому что сомневается и видит относительность классовой правды. «Большая человеческая правда» не отменяет «тьмы низких истин», на каждом шагу присутствующих в жизни и делающих «большую» правду уже не такой большой. Примитивный, а потому самый что ни на есть революционный, Мишка Кошевой в простоте душевной признается: «А вот начался с Гришкой разговор… ить мы с ним – корешки, в школе вместе учились, по девкам бегали, он мне – как брат… а вот начал городить, и до того я озлел, ажник сердце распухло, как арбуз в груде сделалось. Трусится все во мне! Кубыть, отнимает он у меня что-то, самое жалкое. Кубыть, грабит он меня! Так под разговор и зарезать можно. В ней, в этой войне, сватов, братов нету. Начертился – и иди! – Голос Мишки задрожал непереносимой обидой. – Я на него ни за одну отбитую девку так не серчал, как за эти речи. Вот до чего забрало!» (3, 6, ХХ). Мишка прав: Гришка грабит его, отнимает его куцую правду. Для мелкой идеологии, которая рядится в «большую человеческую правду», честные сомнения куда опаснее другой мелкой идеологии. За это «под разговор» и зарезать можно – в качестве самозащиты. Действительно, в этой войне, войне за правду, «братов нету». Петро Мелехов по праву человека, который «начертился», «на свою борозду попал» («С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду»), выговаривает недозревшему брату: «Ты вот – брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня… Правду говорю? – и сам себе ответил: -- Правду. Мутишься ты… Боюсь, переметнешься ты к красным… Ты, Гришатка, до се себя не нашел» (3, 6, II). Однополчанин Чубатый так отреагировал на социалистические настроения качающегося Григория: «Пустое гутаришь. Ты молодой ишо, необъезженный. А вот погоди, умылят тебя дюжей, тогда узнаешь, на чьей делянке правда» (2, 4, IV). Правду по умолчанию разнесли «по делянкам», поделили, при этом кому-то досталось больше правды, а комуто меньше. Разумеется, каждый убежден, что ему-то и достался добрый кусок правды, а вот соседа обнесли, обделили. Кто мутит тихий Дон, жизню и чистую правду? Григорий Мелехов? Возмутитель спокойствия сам обреченно признается: «Все у меня, Наташка, помутилось в голове…» (3, 6, ХLVI). Может быть, он только чисто и прозрачно отражает неписаные законы жизни? Может быть, жизнь мутят как раз те, кто чист в своих помыслах, но не видит дальше своего носа, дальше своей делянки? 36 «Чистехонький» тихий Дон в мгновение ока становится «мутнехоньким», и виноваты в этом именно недалекие правдолюбцы, которым Гришка, ставший «на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их» (3, XX), глаз колет – вот о чем роман, а не о революции и гражданской войне. Григорий именно шатается, мутится, балансирует на грани – и тем самым добывает новое качество правды. Он, казалось бы, слаб и нерешителен – нежизнеспособен, но именно такой тип человека жизнь и Шолохов сделали героем великого романа. В отчаянии, «кутая зипуном голову», Григорий формулирует: «Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет… (Уже не в правде Бог, а в силе: это credo слабого – А.А.) А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался…» (3, 6, ХХI). «Дурную» -- значит двойственную, диалектическую, не перестающую быть правдой, даже если рядом существует правда другая; он искал «одну» на всех, единую правду, вмещающую в себя точки зрения всех делянок сразу. Это очень высокая точка отсчета в культуре. Что делается с душой, если она не находит «дурной» правды, а иной, неуниверсальной, не воспринимает? Душа без правды начинает умирать. Григорий «захворал» «тоской», «сердце пришло в смятению…» (3, 6, XLVI) -- следствие того, что он «мучительно старался разобраться в сумятице мыслей» (2, 5, II). «Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал… В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе…» (3, 6, XLVI). По словам матери, сердце «Гришеньки» «как волчиное исделалось…»; на сердце, думает сам Григорий, «холодновато и пусто…» (3, 6, L). А что делается с душой, если она чует погибель? Она взрывается любовью к жизни, любовью к женщине, ко всему живому. Любовь в таком контексте выступает не просто способом «забыться, водкой ли, бабой ли…»; любовь выступает альтернативой мироустройству, «когда вся жизня похитнулася…» (3, 6, XLVI), когда «неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый…» (3, 6, XLVI). В этом мире, в котором чистая правда мутит жизнь, а дурная, чище чистой, никому не нужна, можно спастись только любовью. Войне противостоит любовь. Война и любовь. Это тоже архетип, а не гришкина «заморока». («Заморока, и все!» -- так прокомментировал ординарец Мелехова Прохор Зыков вновь вспыхнувшую страсть, испепелявшую Григория и Аксинью. «Сызнова склещились… Ну, зараз их и сам черт не растащит!») (3, 6, LXII) Но ведь и в любви, как и в войне, и в мире, есть своя не только сермяжная, но и «дурная» правда. И от «объективной» правды, как и от 37 всякого глубокого проникновения в суть вещей, -- много горя. Этой «шатающейся» правдой невозможно поделиться. Поймут по-своему, то есть не поймут. Наталью волнует прежде всего, как «пьянствовал» Григорий «под Каргинской, как с б… вязался…» (3, 6, XLVI) А что ему дурная правда «сердце точит и кровя пьет», что он «сам себе страшный стал», что «жизня виноватит» -- для нее пустые слова: «Ох, уж ты бы мне зубы не заговаривал! Напаскудил, обвиноватился, а теперь все на войну беду сворачиваешь» (3, 6, XLVI). А ведь все от большой любви, хотела как лучше… Между прочим, этот диалог по фатальному несовмещению правд и степени трагического непонимания напоминает финальное выяснение отношений между Татьяной Лариной и Евгением Онегиным. Каждый прав по-своему – но только у одной правда чистая, как женская слеза, а у другого – дурная, идущая от большого ума и широкой души. Одна права, а другой без вины виноват – вот экзистенциальный сюжет мировой культуры, блестяще разработанный русской литературой. У Аксиньи, разумеется, была своя правда, и ей было что сказать своему любезному. Когда Григорий собрался «пробечь до Татарского», «разузнать, где семья», Аксинья предъявила ему свой набор обвинений (продиктованный, опять же, любовью, чем же еще?): «Не ездий! – просила Аксинья, и в черных провалах ее глазниц начинали горячечно поблескивать глаза. – Значит, тебе семья дороже меня? Дороже? И туда и сюда потягивает? Так ты либо возьми меня к себе, что ли. С Натальей мы как-нибудь уживемся. Ну, ступай! Езжай! Но ко мне больше не являйся! Не приму. Не хочу я так!.. Не хочу! Григорий молча вышел во двор, сел на коня» (3, 6, LXIII). Из «мутного», полнокровного течения романа едва ли возможно выловить чистую и однозначную «мораль», однако один из важнейших смысловых архетипов таков: Григорий искал такую истину, которая позволяла бы торжествовать жизни (если «жизня виноватит» -следовательно, ты в чем-то прав, ибо не ставишь правду идеи со своей «делянки» выше неписаного закона жизни), которая «роднила» бы его «с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром» (4, 8, XVIII). 3 А теперь зададимся вопросом: как связаны между собой линия судьбы Григория Мелехова и разобранная нами сцена уничтожения красногвардейцев? Прежде всего они соотносятся в разных плоскостях. С одной стороны – как «своя», частная, мелковатая правда и правда «дурная», «под крылом 38 которой мог бы посогреться всякий». В контексте судьбы Григория жертвы и палачи, которые на протяжении романа периодически меняются местами, делаются неправы перед лицом мудро-простой жизни. С другой стороны – в эпизоде, как в капле океана, отражена логика романа и логика судьбы главного героя: от частной правды – к другой, «дурной», высшей. Эпизод «работает» на роман, а роман – на эпизод, и один без другого рассматривать некорректно. Так возникают глубина отдельно взятой сцены (условно, конечно, отделенной) и романа в целом. Каждый – подчеркнем: каждый! – эпизод в той или иной степени несет в себе философию романа и одновременно вносит вклад в нее. Именно так, сцена к сцене, архетип к архетипу, вяжется грандиозный роман, в котором воспроизведен сам «ход жизни». Есть очень простой критерий хорошего романа: это произведение, в котором невозможно обозначить тему. Если угодно, хороший роман – это «мутный» роман, ибо он отражает чистоту намерений, ведущую в ад; он всегда на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их; хороший роман – всегда обо всем, и это принципиально. Война и мир – вот гениально угаданная тема хорошего романа, так сказать, формула темы. Интересно отметить в этой связи, что в первом томе «Тихого Дона» нет еще войны за правду, и тихо-мирно уживаются те, кто завтра сделаются непримиримыми врагами. Другая сторона принципиальности: гениальный художник обо всем напишет в определенном ракурсе. В этом, собственно, и заключено искусство романиста, как мы и старались показать. Хорошие романы пахнут жизнью, потрясают экзистенциальным составом. Вот это и есть универсальная тема романа: толкование бытийности. В толковании этой темы и сказывается, собственно, мощь художественного мышления – великолепный дар Шолохова, за который сегодня приходится его, Шолохова, защищать. Такова «дурная» правда (диалектика) жизни. Такова жизнь. Получается, что Шолохов виноват уж тем, что написал гениальный – сложный, «мутно»-противоречивый роман. Ну, никак не удается извлечь из него единственно верную мораль, дающую ощущение силы и решимости куцым мозгам, устроенным на манер сознания, из которого выпирает бессознательное, -- на манер героических Подтелкова, Штокмана или Митьки Коршунова. А очень хочется. С другой стороны, если уж очень хочется, то почему бы не усечь роман, не урезать его, не скукожить до рамок своей амбразуры, своей правды, своей делянки? 39 Нет, господа. Известно, мы читаем роман – а роман читает нас. И тут уж на зеркало неча пенять – нечего заглядывать в гладь и муть «Тихого Дона» с намерением отыскать там глупость или козни. При большом желании, неумении анализировать и привычке обо всем судить по себе, найдешь там сполна и то, и другое. Но Шолохов здесь при чем? Если роман отражает глупость правдоискателей, надо ли защищать роман? Вот почему я не собираюсь выступать в смешной роли адвоката Шолохова и тем самым, вольно или невольно, делать из него подсудимого. Не сомневаюсь: защитников, а еще больше обвинителей, запасшихся правдой со своей делянки, в скором будущем наберется легион: примазаться к громкому имени и сделать себе карьеру (под разговор о правде) – самая современная технология. Есть океан – будет и пена. Пусть плавает. Шолохов уже ответил всем своим будущим хулителям. Шолохов – это всемирное достояние и достойный повод вступить в достойный культурный диалог. Рано или поздно «Тихий Дон», и мутный и чистый, как само течение жизни, станет фактором объединения нравственно и интеллектуально здорового в масштабах мировой культуры. Величайший роман ХХ века нельзя в упор не замечать. Себе дороже. 1.5. ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К СТИХАМ 1 Откровения поэтов хороши и ценны, пожалуй, тем, что их тёмные метафорические "диагнозы" и "прогнозы" служат неплохим материалом для действительно квалифицированного анализа. Однако исключения, подтверждающие правило, случаются и у поэтов. Эпохальная и мужественная формула Пушкина "поэзия, прости Господи, должна быть глуповата" была неоднократно им же развита и дополнена, но сути своей не изменила. В данном случае хотелось бы обратить внимание на те хрестоматийные строки, где в контекст полярных противоречий "волна и камень", "лёд и пламень", Онегин -- Ленский были с умыслом вкраплены "стихи и проза". В чём видится несовместимая природа двух родовых стихий -- лирики и эпоса? Разберём этот простой, но окутанный дурманом мифов, вопрос на примере одного заурядно гениального стихотворения Владимира Маяковского "Хорошее отношение к лошадям". Не станем интриговать читателя рассуждениями о том, с чего именно в этом случае целесообразнее всего начать анализ (ибо непростое это дело -- начало исследования целостной художественной ткани, где нет начала и конца (а если есть, то нет художественности) -- требует сугубо индивидуального, 40 оптимизированного подхода; надо придумать, изобрести, открыть, проторить аналитический зигзаг в космически устроенный образный синтез). Начнём как бы просто: что бы мы ни говорили о целостности художественного произведения, в том числе стиха, в нём всегда наличествуют план содержания и план выражения. Применительно к избранному стихотворению содержательный, семантический аспект включает в себя тип конфликта, воплощённый в ситуации, понимаемой как расстановка персонажей вокруг именно так, а не иначе устроенного конфликта. У конфликта по определению должны быть минимум две стороны. В "Хорошем отношении..." противостоят "я" лирического героя и "сгрудившаяся" толпа. Ситуация дискурсивно разворачивается через события, выстроенные в определённый порядок (иначе сказать -- через сюжет). События эти -- "хорошее" и "плохое" отношение к упавшей, поэтическим образом одушевлённой лошади (полноправном участнике человеческих событий). Вот из чего складывается характеристика толпы: Лошадь на круп грохнулась, и сразу за зевакой зевака, штаны пришедшие Кузнецким клёшить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. -- Лошадь упала! -- Упала лошадь! -смеялся Кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему.(Здесь и далее в тексте выделено мной -- А.А.) Из тщательно подобранных и последовательно сплавленных семантических пластов вылепливается образ некоего антигуманного монстра: праздношатающегося, угрожающе и назойливо "звякающего" ("сразу за зевакой зевака...згрудились... зазвенел и зазвякал") примитивным, как всякая грубость, смехом (чередование двух слов, бедно описывающих инцидент, непостижимо выдаёт тупую склонность к насилию), сгрудившуюся, хищно воющую плоть, стаю, что ли. В таком контексте начало стихотворения обрастает искусно вплетёнными в "карту будней" смысловыми обертонами: грубый "мотив 41 толпы" отчётливо слышен в рабочем перестуке копыт. "Грабь", "гроб", "груб" -- это вам не цок, цок, цок. А теперь обратимся к смысловой антитезе -- связке "лирический герой" ("лишь один я") -- "лошадь", "рыжий ребёнок". В глазах лошадиных -- "улица опрокинулась, течёт по-своему..." "По-своему", понятное дело, не столько зеркальное отражение рутинного течения в очах "опрокинутого" субъекта, сколько знак выделенности из толпы. В сочетании с "рыжей" мастью ("что я, рыжий?!") умение воспринимать "посвоему" обретает окраску символа. С теми, кто не такой, как "они", "Кузнецкий", можно разговаривать языком не "воя", а нежного "шелеста". Лошадь плачет, а в человеке рождается "звериная тоска": "все мы немножко лошади" или лошадь тоже человек. Ценностный ряд таких вот добрых кентавров ассоциируется, далее, с волей, оптимизмом, верой в нужность жизни и труда. Монументальное, с последовательным рядом крупных планов "возрождение" упавшей -"рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла"-- это героический акт энергичного противодействия тронутой тленом паралича толпе. Чтобы уже больше не возвращаться к поэтике стихотворения, отметим, что тонический ритм из угрожающе-мертвящей мерности перетворяется (в ином, "весёлом" семантическом ключе) в фанфарно звучащий гимн созидательному началу. Победа будет за нами. Прежде, чем перейти к анализу того, что представляет собой анализ поэзии, выстроим иной поэтический контекст и в другой плоскости. Пятна смыслов, сконцентрированные вокруг некоего семантического стержня ("вкруг" ахматовского "одного, всё победившего звука"), -- это типичный и, собственно, единственный способ "познания" и "отражения" поэтом реальности. "Сие" (цветаевское "откуда мне сие?") можно назвать концептуализацией смыслов. Те же самые смыслы, в той же концептуальной редакции кочуют из стиха в стих с самого начала поэтической деятельности "бесценных слов мота и транжира". "Я сразу смазал карту будня" -- "А вы могли бы?" "Нате!": "Вот вы, мужчина...", "вот вы, женщина...", "все вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь"; 42 "и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам я..." "Ничего не понимают": пощёчина общественному вкусу, здравой логике и вызов норме: "Будьте добры, причешите мне уши" (поэт -парикмахеру). Типичная реакция человека толпы: "Сумасшедший! Рыжий!" И -- "до-о-о-о-лго хихикала чья-то голова, выдёргиваясь из толпы, как старая редиска". Всё тот же малахольный эпатаж ("Я"): "Я люблю смотреть, как умирают дети. Вы ... А я -- ..." "Вам", разумеется, это должно не понравиться. Но что терять тому, кто конфликтует уже не с людьми даже, а с "Солнцем", "Временем", "крылатыми прохвостами"-ангелами, "Богом", Небом, Вселенной --с Порядком вещей, наконец. Отсюда беспредельное, тотальное, абсолютное одиночество как противопоставленность всему. Суперэго не может смириться даже с намёком на рутину, стабильность, жизнеохранительный порядок: "Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека!" "Владимир Маяковский", "красивый, двадцатидвухлетний", пришёл в этот прогнивший мир, чтобы не соглашаться. "Вам ли понять" ("Владимир Маяковский"), "Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и тёплый клозет!" ("Вам!"), "Вашу мысль, мечтающую на размягчённом мозгу" ("Облако в штанах") и т.д. и др. Ничего нового в "Хорошем отношении к лошадям" Маяковский не сказал. Он по-новому сказал о старом, по-новому пережил хорошо известное. Вечно новыми могут быть только чувства; вечные истины скучны, как мир, против которого взбунтовалась "бабочка поэтиного сердца". Разумеется, возможны и иные контексты: образ затравленной толпой "лядащей кобылёнки" не нов в мировой литературе, достаточно вспомнить вещий сон Роди Раскольникова из "Преступления и наказания". Но этот культурный сюжет для нас малопродуктивен, он пригоден разве что в качестве более или менее уместной ассоциации, а этот "поэтический" способ исследования ведёт нас в лабиринт, откуда нет разумного выхода. Всё это уже напоминает игру с конструктором "лего" (лего-го!), из блоков которого, как известно, можно собирать любые воображаемые комбинации; точно так же можно ассоциировать, сопрягать и культурно рифмовать любые "лошадиные" цитаты и ситуации. Итак, вернёмся к Маяковскому. Перед нами поэтизация бунта как такового, как способа жизнедеятельности, стремления к непрестанному, 43 перманентному обновлению ради обновления. Во имя чего? Зачем? Почему? Не задавайте мудрёных вопросов, оглупляющих поэзию. Переживайте, сопереживайте -- или... Вот об этом "или", об альтернативном восприятии поэзии мы и поговорим дальше. Но прежде коснёмся природы поэтического бунта, за который поэтов сажать в тюрьму глупо. Бунт против жизни -- это ипостась бунта во имя жизни, как ни странно. Энергия отрицания оборачивается энергией обновления жизни. Вот почему тот, кто "любит смотреть, как умирают дети", не изверг вовсе, а всего лишь двадцатидвухлетний щенок, резвящийся на лужайке жизни и от избытка чувств заигрывающийся в погоне за собственным хвостом. Поэзия новатора Маяковского до скуки классически, буквоедски исполняет культурное предписание искусству: мудрствуя или не мудрствуя, лукаво или нелукаво заставлять человека "полюблять" (Л. Толстой, чета Пушкину) жизнь. И заставляет. Читатель охотно прощает "бунтарю" его эстетические оскалы, моря крови, вселенские проклятия и людоедские капризы, ибо всё это гримасы бурлящей жизни. Не прощается бесстрастная некрофилия. А уж этим грехом "горлопан" не мечен... 2 Восприятие, противоположное сопереживанию, есть отношение рационально- аналитическое, в пределе -- научное. Анализ же уместен и необходим там, где есть что анализировать. А "что" -- это всегда синтез, клубок, пучок смыслов. Вот "проза", например, согласно тому же Пушкину, "требует мыслей, мыслей и мыслей", поэтому там есть что аналитически препарировать. Анализ, если угодно, можно рассматривать как паразитирование на синтезе или, без метафор, по строгому культурному счёту, как оборотную сторону синтеза, не существующую в отрыве от него. Предметом анализа становятся откристаллизованные сгустки смыслов, являющие собой сопереживания, ограниченные рамками определённого семантического поля (ахматовский "какой-то тайный круг"), содержащие намёк на "идею", чреватые смыслом, как бы непроизвольно сочащиеся семантикой; иными словами, предмет анализа -не просто эмоции, а оценочные эмоции, сплавленные с началом аналитическим, реализуемым через порядок сцепления образов. Яркие, талантливо воспроизведённые образы, представленные сами по себе, не связанные общим смыслом, -- это шизофрения. Здоровым, хотя и глуповатым, поэта делает порядок расположения образов. Анализу ведь 44 поддаётся то, что творилось отчасти аналитически, не без участия сознания (бессознательно, уточним, не значит без участия сознания; бессознательное образотворчество -- это нормально, а вот игнорирование смысла в любой форме -- это уже патология, требующая совсем не поэтического диагноза). Вывод чрезвычайно прост: стихи, любые стихи любых поэтов, процентов на 89-90 состоят из тех материй, из которых чувства шьют. Вот почему следующая формула поэзии представляется нам исчерпывающей: поэзия -- это когда кажется, что смысла много, а на самом деле -наоборот. Дефицит смысла при кажущемся его изобилии -- это родовой признак гениальной поэзии. Если же смысла оказывается много, разрушается материя стиха, ибо "плотный" смысл требует значительного дискурса и просто удушающего поэзию скрупулёзного порядка. В стихах же "всё быть должно некстати, не так как у людей" (Ахматова) -- у парикмахеров, мужчин, женщин. Хорошая поэзия действительно должна быть глуповата. Стихами, в сущности, надо наслаждаться как музыкой, природой, любовью, стихами надо бездумно любоваться, как гелиотропами, скакунами, просто рабочими лошадьми, на худой конец. И ни в коем случае нельзя требовать от поэзии гибельного искусства называть вещи своими именами: поэзия специализируется на том, чтобы называть вещи другими именами. Поэт чувствует то же, что и все, но он один способен называть старые, всем известные "вещи" новыми именами ("некстати"); тем самым поэт как бы заново узнаёт мир и помогает нам ближе ( с новой, неожиданной стороны) узнавать его, приспосабливаться к нему, но не познавать его. Для познания необходима наука называть вещи своими именами, или просто наука. Поэтическое отношение состоит даже не в том, чтобы отнестись к вещам эмоционально-возвышенно; сам факт создания эмоционального строя, лада посредством "вещей" -- и есть поэзия. Вот почему поэзия вечно, банально нова, таинственна, неисчерпаема: потому что глуповата или (может, это кому-нибудь понравится больше) потому, что на 90 % состоит из ощущений. Поэтизации может поддаваться стремление называть вещи своими именами (чего ради и написан "Евгений Онегин"); но само называние своими именами -- есть момент смерти поэзии ("Евгений Онегин", роман в стихах, счастливо избежал смертельных доз "чистых дефиниций"). Вполне понятно, что поэзия как чувственно воспринимаемая стихия не терпит к себе иного отношения, кроме любви или ненависти (кроме того, что названные чувства разделяет один шаг, одно всегда есть форма 45 другого) и в свою очередь учит такому же отношению. Стихи можно любить или не любить, но их, по неписаному поэтическому "закону", запрещено понимать: они рассчитаны на некритическое потребление. Не трожьте музыку руками. Когда дети играют в теремок, взрослым лучше удалиться: и умные дети, и умные дяди чувствуют себя глуповато. Нелепые определения поэзии, данные Пастернаком, всего лишь попытка уберечь поэзию от определения по сути как феномен, принципиально неподдающийся определению, анализу. Это классический (банальный) пример абсолютизированного поэтического отношения, образец "поэзии в себе". Нельзя не признать: поэтическое, приспособительное отношение к поэзии естественно и адекватно: подобное познаётся подобным. Но не будем забывать: непоэтически-аналитическое, познавательное отношение ещё более естественно, оно-то и одарило мир формулой: поэзия глуповата, ибо не ведает, что творит, а если, не дай Бог, ведает, то перестаёт быть поэзией. "Стихи" и "проза" являются другим названием чувства и мысли, рационального и иррационального -- двух полюсов, определяющих вещество, материю культуры. 3 Вернёмся к пушкинскому диагнозу, который поэт всегда "держал в уме". Ольга Ларина удостоилась замечательного сравнения из уст весьма и весьма искушённого в стихах и в жизни повествователя: чтобы подчеркнуть её почти неприличную типичность, поверхностность, он мимоходом обронил формулу-аксиому (скрытая полемичность которой именно в том, что рискованное откровение a priori объявляется банальностью): она была "как жизнь поэта простодушна". Онегин довершает характеристику безыскусного простодушия: В чертах у Ольги жизни нет. (...) Кругла, красна лицом она, Как эта глупая луна На этом глупом небосклоне. Если уж быть точным, то в чертах у Ольги не хватает не жизни, а мысли -- симптома духовной жизни. Жизни, пошлости, глупости, "округлости" (иного полюса по отношению к "ломаному", молниеносному бунту), прямо-таки предназначенных для поэтизации, хоть отбавляй. Простодушному поэту Ленскому самой судьбой (или расчётом повествователя) была предназначена именно такая подруга. Она прекрасна без извилин, по словам другого поэта, Пастернака. 46 Конечно, можно поэтизировать и Татьяну (умный Онегин сказал глупость: "я выбрал бы другую (т.е. Татьяну -- А.А.), когда б я был, как ты, поэт"; если бы он был поэтом, он прежде всего не был бы таким умным; но что сказал, то сказал; Татьяна же как "верный идеал" была опоэтизирована автором романа), и даже умного Онегина ("пою приятеля младого и множество его причуд"). Однако такого рода поэтизация требует враждебного поэзии аналитизма, так сказать, стихов в прозе или романа в стихах. Поэт должен стать больше, чем поэт. "Одические рати", "элегические затеи" и "мадригальные блёстки" (собственно поэзия) органично совмещаются с простодушием, но не с "ума холодными наблюдениями". "Ода исключает постоянный труд (умственный труд -А.А.), без коего нет ничего истинно великого,"-- заметил как-то Пушкин. Поэты всегда попадают в один ряд с детьми и женщинами. С детьми их роднит необходимое профессиональное простодушие (чтобы искренне называть вещи другими именами, надо принимать инакость вещей за чистую монету, надо культивировать детскую способность "остранивать", делать странными знакомые (незнакомые?) вещи); с женщинами, помимо того же простодушия, поэтического обозначения глупости, -- ещё и способность давать жизнь не рассуждая, вынашивать стихи, сей саморазвивающийся плод, и обходиться при этом как бы без участия сознания. Стихи созревают и рождаются сами, естественным путём. Вот этот глубоко бессознательный акт беременности и родов бессознательно же рифмует поэзию с жизнью. Не удивительно, что с самого начала притягательным, смыслообразующим центром поэзии явились женщина, любовь, жизнь. Наше священное ремесло Существует тысячи лет... С ним и без света миру светло, Но ещё ни один не сказал поэт, Что мудрости нет, и старости нет, А может и смерти нет. Вот смысловой предел умной поэзии: не ведать, что творишь. То, что с волшебным ремеслом "и без света светло", -- светло от миражей, надежд, идеализаций -- это подмечено Ахматовой гениально. Однако оборотная сторона умения жить миражами -- умение в упор не замечать старость, смерть, просто реальность, где нет света, -- это и есть глупость, отсутствие мудрости. Все тысячи лет существования древнейшего ремесла только о том и речь. Жить и значит делать вид, что смерти нет. При желании это можно считать мудростью. 47 Давать жизнь, бессознательно синтезировать образы -- тут поэты поматерински, по инстинкту готовы подставлять сосцы ремеслу; отнимать жизнь, расчленять образы ("музыку", скажем, "разъять, как труп" или действительно "смотреть, как умирают дети"), анализировать, умерщвлять -- здесь уж увольте: это богомерзкое занятие не для поэта. Смерти нет, следовательно, анализа тоже нет. Поэтизация -- мифологический реликт, базирующийся на обожествлении жизни. Поэт -- тот, кто любит жизнь, желательно эксцентрически, как-нибудь некстати, пусть даже извращённо. За любовь можно простить почти всё, даже глупость. Любить жизнь -- в определённом смысле "понимать" её, глубинно реферировать с ней, аутентично совпадать. Вот тот, для кого любовь отождествляется с подобным пониманием, и есть подлинный поэт. Поэзия живёт потому, что есть жизнь, человек. Поэзия становится службой жизни. Анализ же, понимание существуют словно сами по себе или просто потому, что есть синтез, движение материи, жизнь. Анализ превращается даже не в игру со смертью -- эта постмодерновая забава вполне принимается общественным сознанием как поэтическая вольность или крайность -- а в самый лик "Гражданки с косой". Однако если поэту все же удаётся сказать что-то, реферирующее с мудрой объективностью законов и формул, то и здесь спасает простодушие (которое ведь может, как в данном случае, сочетаться с глубиной): О мир, пойми! Певцом -- во сне -- открыты Закон звезды и формула цветка. (Цветаева) Творчество, поэтизация или, не без кокетства (но и не без оснований, законотворчески), ремесло -- "происходят" за порогом сознания, хотя и с его участием. Между прочим, в такой постановке вопроса гораздо больше истины, нежели в том, чтобы объявить разум недопущенным в святая святых горнего ремесла. Если это так, то стихи не вполне естественны: они "естественно созданы", как бы естественны. "Стихи растут, как звёзды и как розы", "растут стихи, не ведая стыда", "из сора", "как жёлтый одуванчик", "лопухи и лебеда". Так кажется. "Из сора" -- на первый взгляд из впечатлений-переживаний: "сердитый окрик, дёгтя запах свежий, таинственная плесень на стене..." Но из сора, из ничего и будет ничего, из "чистой" психики в лучшем случае прорастёт безобидная лебеда шизофрении. Культурная ценность -это всегда ценность "законов". Пока "впечатления" не оплодотворятся формулами и законами, чувства -- мыслью, вдохновение -- ремеслом, пока 48 они не "выкипетятся" и не выстроятся в порядок, розы и лопухи культуры почему-то не растут. В органичное тело стихов скрыто вмонтированы "законы" и "формулы", из которых и рождаются звёзды и цветки, -- а кажется, что из истомы, из сора впечатлений: это и есть закон творчества. Без "формул" вы будете иметь дело с чисто психическими феноменами. Вдумаемся: Бывает так: какая-то истома; (...) Неузнанных и пленных голосов Мне чудятся и жалобы и стоны, Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне шёпотов и звонов Встаёт один, всё победивший звук. Слова, логос, членораздельность, имеющая отношение к смыслу, появляются на заключительном этапе -- но именно потому и появляются, что "варево" смыслов прошло длительный процесс бессознательного критического отбора на пригодность к поэтической миссии: Но вот уже послышались слова И лёгких рифм сигнальные звоночки, -Тогда я начинаю понимать, И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. (А. Ахматова "Творчество" из цикла "Тайны ремесла") А вот ещё одно простодушное свидетельство: А оказывается -прежде чем начнёт петься, долго ходят, размозолев от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения. (В. Маяковский. "Облако в штанах") Здесь вообще в перечне соучредителей, причастных к "росту" стиха "на радость вам и мне", даже не обозначено начало аналитическое. Поэтический эвфемизм "воображение" с натяжкой можно считать чем-то противостоящим "тине сердца". Но тина засасывает, из неё вырываешься с мозольными усилиями. Трудовые мозоли -- всегда от работы мысли. Чем меньше мозолей, чем более "некстати" -- тем более поэзии. Словом: И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд. (Б. Пастернак "Февраль. Достать чернил и плакать!") Но за случайным всегда стоит необходимое, за образом -- мысль, за синтезом -- анализ. Вот почему стихи можно не только переживать, но и 49 понимать. От этого стихи не перестают быть стихами, нет: а вот учёный перестаёт быть поэтом на радость всем. Культура обогащается противоположным поэтическому -познавательно-аналитическим отношением, которое также существует тысячи лет. Тот, кто понимает, не мешает сопереживать; тот, кто только сопереживает, кому "кажется" и "чудится", -- именно тот и разлучает поэзию с жизнью, ибо последняя не сводима к первой. 1.6. «ФИЛОСОФИЯ» И «ЛИТЕРАТУРА» 1 Гуманитарная культура целостна и едина. Скрытая полемичность данной «бесспорной» формулировки обнаруживает себя в том, что целостность и единство понимаются автором не как однородно-монолитная «материя», не предрасположенная к внутренней конфликтности в силу единоприродности культурного материала, а как внутренне конфликтная стихия, существующая в поле напряжения между двумя полюсами. Единство гуманитарной культуры обеспечивается именно за счет противоположных по своим характеристикам способов познания, добывающих разного уровня и порядка информацию, которая существует на разных «языках». И языки эти, будучи принципиально разными, в то же время принципиально не в состоянии существовать один без другого, ибо их качества и свойства взаимообусловлены. Подобная амбивалентность характерна именно для гуманитарной культуры, что давно обеспечило ей, культуре, особый, в некотором смысле сомнительный статус: никто не отрицает ее как данность, никто не отрицает, следовательно, наличие предмета познания, но никто не может толком разъяснить, что и как следует изучать. Гуманитарная культура, несомненно, есть, а гуманитарной науки—как бы и нет... Все попытки законсервировать ситуацию и объявить ее нормальной (элементы абсурда, не вписывающиеся в концепцию гуманистического обслуживания человека, по умолчанию стыдливо опускаются) пока что не могут быть признаны успешными. Дело в том, что само наличие в культуре научного сознания—источник вечно критического отношения к фатальной «непознаваемости» гуманитарного космоса, к самой вероятности научной недоступности. Вследствие этого гуманитарии, которые зачастую в одном лице являются и творцами своей «ненаучной» культуры (на худой конец—активными ее потребителями, что означает: пассивными творцами), и ее не слишком удачливыми интерпретаторами- 50 мифотворцами, с позиций научного сознания выглядят как несколько комичные персонажи, не скрывающие своих претензий быть «демиургами»; как и всякие творцы, абсолютизирующие внесознательные моменты творчества, они щеголяют легким налетом «фирменного» шаманства и бравируют артистизмом, безответственным по отношению к познанию. Так уж получилось, что именно их глазами мы смотрим на культуру и завороженно разделяем ими созданные мифы. Попытаемся немифологически отнестись к мифам и мифотворцам; возможно, это позволит нам очертить параметры культуры как объекта научного познания. 2 Есть два рода гуманитарных талантов: один специализируется в постижении субстанций (сущностей), другой—в сотворении модусов (способов выражения субстанций). Ясно, что субстанции могут быть переданы только через модусы; вне модусов субстанций как таковых не существует. Вместе с тем модусы могут с разной степенью соответствия реализовывать потенциал субстанции, специализироваться, так сказать, на аспектах субстанций, следовательно, последние реально зависят от первых, хотя и определяют их. Из сказанного также следует, что язык модусов обусловлен самой природой субстанции; одна и та же субстанция может существовать на нескольких языках. Зададимся вопросом: что является объектом отношения, изучения, познания во всей гуманитарной культуре, начиная с момента ее зарождения и включая момент чтения этих строк? Ответ очевиден: объектом является духовный мир человека, получивший множество измерений: от эстетического и религиознонравственного до философского—по одной шкале (если говорить о формах, модусах духа); от бессознательного неизрекаемого до внятного рационального дискурса—по другой (если говорить об уровнях модусов). Менее очевидно, но научно корректно и доказательно, что субстанциональной характеристикой подобного объекта является наличие в нем того, что служит базой духовности, собственно «источает дух», наполняя его специфической содержательностью: такой субстанцией мы должны признать сознание, включающее в себя в качестве предшествующей инстанции свой антипод—психику. Психика отчасти «проросла» в сознание, делегируя туда свои функции через представительство высших эшелонов; вместе с тем психика осталась психикой, и даже зоопсихикой на низовых своих уровнях. Информация с 51 этих уровней также регулярно «пробивается» в духовность, шантажируя (или отрезвляя) человека напоминанием о его генетическом родстве с неодухотворенной фауной. Что касается собственно сознания, то оно, возникнув на основе психики, стало мощным ей противовесом в деле освоения (отражения и преобразования) реальности. Поскольку феномен культуры возник вместе с феноменом сознания, мы должны признать, что творцом культуры стало именно сознание. Сознание задало само себе культурную загадку, которую теперь не в силах разгадать. Как могло такой произойти? Если оставаться в рамках материалистической версии и считать творцом культуры сознание, а не некую привнесенную субстанцию (порожденную, как водится, мифической суперсубстанцией), нам никуда не уйти от необходимости более пристально всмотреться в механизм порождения культуры. Мне уже неоднократно приходилось писать об этом. Вкратце повторю то, без чего в данной работе не обойтись. Из сказанного очевидно: каково сознание—такова и духовность, такова, следовательно, и культура. Естественно было бы начать анализ культуры с анализа первоисточника. Поскольку сознание, как уже было отмечено, включает в себя два противоположных, хотя и взаимозависимых начала, -- психику и собственно сознание, интеллект—анализ сознания сводится, по сути, к расссмотрению этих двух, без преувеличения, божественных субстанций, без которых немыслим был бы сам феномен культуры. Сознание возникло, конечно, не по-щучьему велению, а по велению витального императива: изыскать резервы жизнеспособности homo sapiens a. Тот, кто впоследствии стал человеком, отражал мир реалий, «имея в виду» одну-единственную сверхцель: выжить, уцелеть. В распоряжении прачеловека был достаточно совершенный информационный комплекс, в основе которого лежало психическое управление. Психика, если опустить массу деталей, нюансов и собственно технологическую сторону вопроса, репрезентируя посредством ощущений потребности высокоразвитого (по меркам фауны) существа, специализировалось на приспособлении субъекта к объекту (объектом в данном случае выступала природа). Цель диктует средства (способы отражения): хочешь выжить— приспосабливайся. Так «отражение» (научный, по идее, акт, сориентированный на объективное познание, не зависящее от потребностей субъекта) стало «приспособлением», актом субъективно- 52 психологическим. Отождествление двух разных способов «познания» было, конечно, манипуляцией чисто приспособленческой. Психика возникла и шлифовала свои функции именно и исключительно как система адаптации. Потребности не могут непосредственно соприкасаться со средой; посредником в этом жизненном цикле и выступает ориентирующая психика. Чем совершеннее субъект, тем более изощренными становятся его потребности; с другой стороны, развитые потребности дают толчок к дальнейшему совершенствованию психики. Так просто был раскручен маховик потребностей, остановить который мы не в силах и сегодня. Итак, психика посреднически «отражала» мир в его предметном, непосредственном бытии. Психика училась распознавать то, что присутствует в пространственно-временном (не умозрительном) измерении; имея дело с конкретно-индивидуальным, психика осуществляла модельное перенесение внешнего во внутреннее, вырабатывая «язык», по-своему совершенную систему непосредственного отражения: ощущения, представления, а затем и образы. Стоило предмету поменять яркий внешний, конкретный признак, как возникал эффект «барана перед новыми воротами»: психика реагирует только на внешнее, единичное, образное, не умея идентифицировать объект по его внутренней содержательности. Иначе говоря, психика вечно имеет дело только с модусами, но никогда—с субстанцией. Так получилось, что с течением времени психика уже на этапе своего зрелого развития оказалась способна обнаружить эволюционный резерв. Все по тем же классическим, с позиций диалектики, схемам «спрос рождает предложение» и «средства соответствуют целям» психика вынуждена была реагировать на резко изменившиеся требования на рынке способов выживания: стратегия приспособления перестала гарантировать выживание; в повестку дня встала задача преобразования мира под себя. Однако для того, чтобы эффективно преобразовывать, необходимо отражать, постигать мир предназначенных к преобразованию объектов со стороны субстанциональной, а такого рода информация не могла быть передана языком психики—языком представлений, ощущений, чувств, эмоций. Категория субстанции как таковая появляется в результате обобщения целого класса явлений, образов, предметов; сама операция обобщения потребовала иного принципа отражения, иной информационной структуры, в конце концов, иного органа, идущего на смену психике. Таким органом и стало сознание. 53 Из ничего, как известно, родится ничего. Сознание могло возникнуть только на базе предшествующей структуры, того, что было— на базе высокоразвитой психики. Отвлекаясь, опять же, от собственно технологической стороны дела (требующей изысканий целого ряда негуманитарных наук), укажем на логику появления сознания, ставшего со временем наиболее принципиальным и непримиримым оппонентом психики в области само-, да и вообще познания. Предметно-образное мышление под воздействием соответствующей стимулирующей потребности оказалось предрасположенным к расщеплению. Человек стал отличать «демона вещи» (выражение А.Ф. Лосева) от самой вещи, идеальное начало, содержащееся в вещи-предмете, от самого предмета-образа как носителя идеальной информации; в определенном смысле—субстанцию от модуса. С течением времени революция в человеческом мышлении, происходившая в форме обобщения модусов и приведения их под общий знаменатель-субстанцию, дала возможность настолько абстрагировать «идею вещи» от вещи как таковой, что первая, обезличиваясь, утрачивала практически все конкретные признаки. Суть наличествует, а «тело» вещи—исчезло. Стало возможным говорить, например, о воде, о пище вообще; впоследствии сознание стало оперировать такими не поддающимися образному выражению «вещами», как психика, сознание, философия, литература. Если исчезла конкретность модусов, то что же осталось? Осталась информация, касающаяся «идеи вещи», информация, возникшая как итоговое обобщение ряда конкретного—информация абстрактная, умопостигаемая, существующая уже не в форме образов (вместе с конкретикой они лишились своей предметной, вещной основы), а в форме понятий. Понятия производны от образов, однако по своеобразной «логике вещей» они превратились в нечто противоположное породившей их «материи». Так возник второй язык культуры. Чувствами, носителями распознающих сигналов в системе ориентации в предметном мире, «ощутить» условные понятия невозможно: попросту нечего ощущать, не за что «зацепиться» чувствами. Психика, работающая с моделями-образами, оказалась не в состоянии своими привычными способами извлекать, обрабатывать и передавать новую, не виданную ранее «невидимую» информацию. Однако психика, приспосабливаясь ко всему, приспособилась и к новым информационным реалиям, выработав способность к улавливанию более тонкой, абстрактнологической информации. Так появился орган, оперирующий понятиями: сознание. 54 Итак, имея два вида информации, которые существуют на двух языках, мы получили два типа сознания, породивших—скажем об этом со всей определенностью—два типа гуманитарной культуры: «философию» и «литературу». Сознание, возникшее и функционирующее на базе психики, я называю моделирующим; на базе собственно сознания— рефлектирующим. (Здесь нет оговорки. Речь идет о разных, но все же сознаниях, а не о собственно психике и сознании. Человек, общественное, образно-понятийно мыслящее животное, уже не может пребывать в состоянии, которое регулируется средствами чистой психики. Поэтому психологизированное в своей основе отношение, осуществляемое с помощью «чувств», правильнее называть все же сознанием.) Моделирующее, образное сознание лежит в основе «литературы»; в основе «философии» лежит сознание рефлектирующее, абстрактно-логическое. 3 Культура как способ самопознания и жизнедеятельности, порожденная образно-понятийным мышлением, с самого начала оказалась внутренне противоречивой. Поскольку единственным объектом и, добавим, субъектом культуры является сознание, то всю культурную продукцию можно считать плодом саморефлексии, бесконечным актом самопознания. Рефлектирующее сознание, обладая измерением субстанции, само творчески «изобрело» (конечно, в рамках бессознательного природного цикла; имеется в виду, так сказать, гениальное саморазвитие материи) язык, способный отражать субстанцию, а именно: язык понятий, которые посредством умозаключений, логических сцеплений могут трансформироваться в системы; с течением времени системы корректируются, меняя статус от гипотез и теорий до законов. Понятия, строго говоря, уже являются модусами, поскольку представляют собой отражение субстанции. На этом основании понятия, в отличие от образов, правильнее считать первичными модусами; тогда образы, кристаллизующие (с разной степенью отчетливости) понятия, логично было бы определить как модусы модусов или вторичные модусы. «Непосредственно» касаются субстанций аналитическими щупальцами системы (точнее, системы систем) понятий; следовательно, образы, с точки зрения эффективности познания, могут лишь «намекать» на сущность, но не прояснять ее. Познавательные пределы моделирующего сознания достаточно ограниченны; языком образов постигать субстанцию—все равно, что носить воду решетом. 55 Отсюда следует: рефлексия сознания по поводу сознания же, духовного мира и культуры осуществляется в рамках «философии»; что касается «литературы», то она специализируется в производстве субъективных по своему характеру идеологических утопий, высекая эмоциональным, эстетически выразительным языком искры веры, надежды и любви из душ и сердец (зона психологической «юрисдикции») «философски» ослабленного индивида. Сама по себе очерченная культурологическая схема выглядит если не безупречно, то вполне в духе «философском»: логично, системно, не без претензий на универсальность. Однако как только мы спроецируем выверенную концепцию на более-менее значительное явление культуры, то «философские» и «литературные» параметры оказываются включенными в какие-то неучтенные отношения, и предложенные ключи кажутся недостойными масштабов загадки. В самом деле, Софокл, Платон, Коран, Библия или Л. Толстой разве не являются «литературой»? Разве не демонстрируют нам такого рода образцы высокую степень «философичности»? И при чем здесь тогда модусы и субстанции? «Философию» и «литературу» в отношении к привычным значениям я использую как метафоры, наделяя их специфическим, расширительным смыслом, придающим знакомым понятиям значение новых терминов. «Философия» как тип гуманитарной культуры самоосуществляется в форме научной философии, а также тяготеющим к ней всем без исключения гуманитарным наукам, где категориально- понятийный аппарат развивается в русле философски обоснованной методологии, что, кстати, не мешает всей «философской» продукции быть достаточно популярной и доступной по изложению. Главным и решающим отличием от «литературного» подхода является наличие объекта и, как следствие, методологии исследования (гуманитарным объектом, как мы условились, считается многоуровневое сознание, взятое в тех или иных формах или аспектах). Постигать объект как субстанцию можно, очевидно, только с помощью абстрактно-логических понятий, которые фиксируют свой строго определенный объем значений в терминах. С течением времени неизбежно появляющаяся дополнительная информация вносит «субстанциональные» коррективы, что неизбежно отражается на методологии, то есть принципах познания. Методологии, как и субстанции, безличны, поэтому субъективное отношение к объекту и способам познания не может иметь решающего значения. «Литературу»—в самом широком смысле: как тип культуры— интересует не столько объект в своей субстанциональной ипостаси, 56 сколько собственное впечатление по поводу объекта. Методология здесь становится явно лишней, заменяясь одним-единственным творческим принципом: интерпретируй как бог на душу положит. Тут есть немаловажный нюанс, на котором следует зафиксировать внимание. Моделирующее сознание, интересуясь своими впечатлениями от контакта с объектом, именно впечатления и сделало объектом «познания». Впечатления, чувства, наития, ассоциации и т.д.—это все симптомы того отношенческого ряда, который мы назвали иррационально-психологическим, следовательно, приспособительным в своей основе. Приспособление же органично выражается и описывается языком вторичных модусов. Таким образом, нельзя не признать, что «литература» в определенном смысле выступает инструментом познания (моделирующее сознание соприкасается с моделирующим же, не замечая при этом способов, результатов деятельности, да и просто самого наличия сознания рефлектирующего); но не будем закрывать глаза и на то, что без «философии» «литература» так и не разберет, что же она познала. Читателю, очевидно, уже ясно, что культурные формы «литературы» безграничны: это и собственно философия (от Соломона и Лао-цзы до Ницше и Хайдеггера), и так называемая религиозная философия, и религия, и художественная литература, и те же гуманитарные науки (которые на 90% являются именно «литературой»). В широком смысле «литературой» можно считать всю художественную культуру, а также культуру аналитическую, осмысливающую «литературу» на «литературном» языке. Само по себе наличие «философии» и «литературы» вполне естественно, поскольку разные типы культуры реализуют разные функции сознания. По-другому и быть не может. Проблемы начинаются тогда, когда один тип сознания пытается подменить собой другой. Рефлектирующее и моделирующее сознания не по-разному относятся к одному и тому же объекту; они по-разному познают разные объекты. Прокомментируем данный тезис. Моделирующее сознание, как мы убедились, языком образов улавливает ту информацию, которую само же и порождает. «Объектом» «литературного» отношения выступает не само сознание в полном объеме (не амбивалентная субстанция), а один, абсолютизированный, аспект сознания (вторичные модусы заслоняют субстанцию, оказываясь «важнее» ее). Объектом (в точном, не усеченном смысле этого слова) «философского» отношения выступают оба типа сознания, взятых в своих 57 специфических функциях, которые эффективны по максимуму только в целостном варианте «кентавра». На практике, конечно, «философия» и «литература» тесно взаимодействуют и буквально нуждаются друг в друге. Что ни говори, а вторичные модусы существуют только потому, что наличествуют первичные, которые, в свою очередь, обязаны своим существованием субстанции; но поскольку субстанция без модусов не есть субстанция, не есть «нечто», а всего лишь «ничто», то недооценивать качество модусов было бы легкомысленным. Все так. Однако один момент способен запутать проблему до беспросветности. Моделирующее сознание (забегая вперед, отметим: равно как и рефлектирующее) живет без оглядки на проблемы человека по своим автономным законам, которые мы можем познать, но не в силах отменить, и выполняет гигантский объем возложенных на него экзистенциально важных функций. С этим спорить невозможно. Моделирующая способность человеческого сознания стала основой для создания самых разнообразных форм психологической защиты: от элементарного навыка не замечать очевидного до сложнейших идеологических вероучений. Смысл всех идеологических манипуляций моделирующего, то есть фактически художественного по сути, сознания чрезвычайно прост: он сводится к тому, чтобы заставить человека любить жизнь, надеяться на лучшее, верить в прекрасное будущее, не замечать худшее. Почти все, созданное культурой, так или иначе было сотворено при ведущем участии моделирующего сознания, а главным языком культуры давно уже стали вторичные модусы. Все это естественно и нормально. Созидательна только психика; интеллект же, «философски» сориентированный, способен исключительно к деструктивным (по меркам творчески-художественного сознания) операциям: он призван разлагать образы-модели, переводя образнопсихологическую информацию на язык логически упорядоченных понятий, сводя вторичные модусы к первичным. Собственно, это и есть путь познания, иного пути в культуре не существует. Познавать— следовательно, анализировать, разлагать, уничтожать: у сознания рефлектирующего также есть свои, столь же автономные и безжалостные в человеческом смысле законы. В отношении жизни моделирующее сознание делает все возможное, и «правота» его неоспорима: оно творит богов, героев, кумиров, приспосабливая простых смертных к невыносимой реальности, поставляет 58 пищу для души, творя комплиментарный, льстивый образ человека; самообман во имя жизни—дело святое. В отношении истины, то есть реальных свойств объекта и субстанции, моделирующее сознание полностью несостоятельно. Но оно право уж тем, что ставит жизнь выше истины. Вот и получается, что «философия» и «литература» не просто поразному относятся к разным объектам и «говорят» на разных языках (это, так сказать, академический план проблемы); они по-разному интерпретируют человека, его природу, возможности перспективы и историю (а это уже, понятно, далеко не умозрительный и не безобидный пасьянс). Моделирующий, творческий тип мышления, отстаивая свои права и честно выполняя возложенные на него обязанности, ревниво оберегает созданную им гуманитарную культуру («литературу») при помощи гуманитарной «науки» (то есть той же «литературы»). Все это называется формированием гуманитарного стиля и образа мышления. Комментарий моделей сводится к бесконечному воспроизведению «литературы» по поводу «литературы». Что касается «философии», которая истины ради покушается на святые миражи, рассеивает дурман гуманных иллюзии, создавая взамен бастионы защиты интеллектуальной, то она volens nolens становится в оппозицию «литературе»—в оппозицию не в одной плоскости (как это кажется «литературоведам»), а в ином измерении. Разумеется, обиженному моделирующему сознанию не остается ничего другого, как объявить «философию» врагом номер один, вторичные модусы—самодостаточными, первичные—отдать в ведение «лукавого», а субстанцию провозгласить категорией божественной. Так происходит подмена одного сознания другим, объекта—частью свойств объекта; так создаются мифы. Рефлектирующему сознанию не остается ничего другого, как объяснять, почему «литература» поступает именно таким образом, анализируя сильные и слабые стороны стратегии приспособления, разбирая завалы на «литературных» баррикадах, созданных в битве ради жизни. 4 Глубина проблемы не исчерпывается констатацией амбивалентности, двуприродности культуры. Согласно структуре и логике генезиса сознания в истории зафиксировано несколько моделей 59 культурного человека, которые могут быть сведены к исконным базовым архетипам. Перечислим их: - человек мифологический, - человек идеологический, - человек разумно-рациональный. (В скобках отмечу, что реальный человек – это целостный человек, совмещающий указанные архетипы в разных пропорциях; говорить о типе культурного человека можно только как о доминирующем архетипе. В «чистом» виде ни типов сознания, ни типов культуры, ни типов культурного человека просто не существует.) Очевидно, что только с позиций последнего, способного отличить «философию» от «литературы», встать над мифоидеологическим измерением, оценив все его плюсы и минусы, культура видится целостной (читай – противоречивой). В основном же люди жили и живут в духовном климате, созданном «литераторами» – мифотворцами. Мифы легко и естественно возникают и распространяются, так как все вокруг усваивают информацию, существующую на языке вторичных модусов. А на этом языке невозможно объяснить, что такое модусы первичные. Говорим на том языке культуры, который понятен большинству, объясняем то, что способно понять большинство. Что можно предложить в такой ситуации, неблагоприятной к человеку рациональному и его «философии»? К ситуации, как мы знаем, можно приспособиться, ничего не меняя (отнестись «литературно»), а можно упорно преобразовывать ее, приспосабливая под себя (отнестись «философски»). Надо только знать меру и способы преобразования. Всякое серьезное изучение «литературы» начинается с того момента, когда она будет признана феноменом психологическим. Произойти это может в том случае, если мы отнесемся к ней непсихологически, абстрактно-теоретически, «философски» описывая ее на языке первичных модусов. Задача культурного в точном смысле человека видится не в том, чтобы подменять моделями мир понятий (что означало бы впасть в детство, безнадежно застряв на ранней стадии развития сознания ) или наоборот (это означало бы сделать вид, что указанной стадии вовсе нет), а совмещать их по принципу дополнительности. Из того факта, что существует «философия» и «литература» отнюдь не вытекает с однозначной непреложностью, что одна из них непременно ошибочна и подлежит выбраковке как культурный казус или вирус. Надо 60 осознать, что каждый из обозначенных типов культуры буквально является условием существования другого. Уже не говоря о взаимообусловленности языков (один язык, как было отмечено, является составляющей альтернативного), мы должны, подчиняясь императивам «философского отношения к истине, принять к сведению, что само существование «философии» возможно только как комментарий «литературных» моделей. С другой стороны, «литература» внутренне тяготеет к серьезным смыслам, удостаивая наиболее выдающихся творцов звания «философ». Жить в пространстве сугубо «философском» –– невозможно, поскольку не интеллектом единым жив человек; чтобы ориентироваться в пространстве «литературы» –– надо иметь представление о «философии». «Философия» появилась потому, что была «литература»; а «литература» возникла благодаря тому, что подразумевалось наличие «философии». В конце концов, «литературу», если угодно, в определенном смысле можно считать формой «философии» (прафилософией или вторичной философией); хорошего качества «философия» обязательно учитывает особенности менталитета реального человека, апеллируя к его моделирующему сознанию (на соответствующем языке), чтобы «достучаться» до сознания рефлектирующего. Умная «философия» всегда в должной мере «литературна». «Философию» и «литературу», несмотря на кардинальные различия их функций, правильнее было бы считать не разными субстанциями, а разными субстанциями, определяющими «сверхсубстанцию» одного объекта, разными полюсами единого образования. В этом и заключается секрет целостности культуры: взаимодействуя, и даже превращаясь друг в друга, разноприродные культурные потенциалы никогда не утрачивают своей специфики. Проблема взаимоотношений «философии» и «литературы» получает порой весьма неожиданные измерения. Так, интуитивно противопоставляя в духовном смысле Запад—Востоку, мужчину—женщине, аналитики в качестве субстанциональных отличий указывают на те, что лежат в основе экзистенциальной дихотомии «философия» –– «литература». Эти два полюса всепроникающи, вездесущи; закономерности, определяющие логику их взаимодействия, эффективны на всех уровнях социального бытия: от частной жизни—до геополитики. При всем многообразии цивилизаций архетипичными следует признать два вида: тяготеющие к управлению всем духовным и социальным космосом либо от «рефлектирующего», либо от «моделирующего» сознания. Представим 61 себе, что может получиться, если все глобальные цивилизационные противоречия решать способом традиционным—в рамках рецептуры, предлагаемой исключительно моделирующим сознанием. Хотим мы этого или нет, сама противоречивая реальность заставляет нас противоречиво истолковывать ее противоречивые комбинации модусов. И только таким путем можно приблизиться к адекватному истолкованию. Учитывая то, что, сколько бы мы диалектически ни тасовали «философию» и «литературу», они все равно не утратят своей самотождественности, мы должны точно расставить акценты, оценивать принципы взаимоотношений нерастворяющихся субстанций. Ни о каком формальном равенстве в культуре двух ее составляющих не может быть и речи, ибо формальное равенство в насквозь противоречивой диалектической стихии означало бы фактическое неравенство, т.е. искажало бы представления о культурных возможностях и сверхзадачах объекта. Диалектически понятое равенство означает: «литературу» надо приветствовать и поощрять именно как «литературу», понимая, что созданная ею «красота», поэтизация идеальных моделей человека, суть не более, чем выдавание желаемого за действительное; в благих намерениях «литературе» не откажешь, в способности познать истину следует отказать. «Литература» в значительной степени создала культуру, но это не основание, чтобы продолжать ее, культуру, идеологически контролировать. Все претензии «литературы» узурпировать функции «философии» надо нелицемерно пресекать. Что касается «философии», то ей никогда не сравняться с «литературой» по степени воздействия на духовный мир человека, находящийся в стадии формирования. «Философия» призвана анализировать, т.е. расщеплять созданные по «синтетическим технологиям сознания» образы – модели, выявляя их семантическую матрицу. Сверхзадача «философии» –– показать относительность духовных возможностей «литературы», не только при этом не унизив «литературу», но и воздав ей в полной мере должное как, пожалуй, основному способу производства человека культурного. Опять же, не лицемеря, возложим на «философию» функции «верховного судьи» в культуре. Поскольку именно тотальная диалектика, культивирующая принцип дополнительности, является высшим методологическим достижением сознания, следовательно, одной из высших культурных ценностей, постольку человеку надлежит сквозь 62 призму этой ценности рассматривать все созданное в культуре, в том числе ценности ряда «литературного». Именно рефлектирующему сознанию принадлежит решающее слово в оценке того, что «натворило» сознание моделирующее. И это не узурпация культурного пространства, не самозванное утверждение своего верховенства, а вынужденный шаг, продиктованный ответственностью за человека реального. Надо, в конце концов, признавать очевидное: только сверху –– вниз (от рефлектирующих –– к моделирующим потенциям) возможно адекватное постижение объекта; снизу вверх –– это способ и технология мистификации. Без теории сознания, положенной в основу теории культуры, невозможно выработать объективные критерии Истины, Красоты, Добра. «Философия» и «литература», обеспечивающие целостность гуманитарной культуры, одновременно питают ее мифами и развенчивают их. Человек идеологический сражается с рациональным, вместе они противостоят человеку докультурному, сознание бездумно конкурирует с жизнью –– хотя согласно принципу дополнительности культура, вырастая из натуры, должна искать гармоничного с ней союза. Настало время противостояние превращать во взаимодействие, противоречие –– в источник развития. 1.7. ИСКУССТВО АНАЛИЗА Впрочем, данный раздел можно было бы назвать "наука интерпретации", имея в виду, что "искусство" и "интерпретация" – это один и тот же способ отношения человека к действительности, а именно: преимущественно психологическое приспособление, реализуемое посредством синтезирующего образотворчества, когда одновременно рождаются суммы смыслов, ценностно сопряжённые друг с другом и вне заданного контекста не существующие; способ противоположный – познание – осуществляется средствами научного анализа, где нет места психологии, где недвусмысленно доминирует сознание. Перед нами -- два языка, при помощи которых человек общается с самим собой (итог такого общения -- вся гуманитарная, преимущественно художественная, культура: искусство, нравственность, религия, политика, философия) и с реальностью, с миром объектов, в том числе с собой как частью этого, независимого от человека, мира (результатом подобного общения выступают естественные и технические науки, отчасти философия, в ничтожно малой пропорции -- гуманитарные "науки"). Язык 63 души и язык мысли: вот два языка культуры, два канала получения, сбережения, обработки и передачи информации, Язык души, ответственный за приспособление, требует индивидуальных образов, моделей, в которых переживаний и ощущений содержится гораздо больше, нежели мыслей, и чувственная составляющая значительно важнее мыслительной. Язык мысли, обслуживающий потребности познания, функционирует посредством понятий, конденсирующих абстрактную сущность вещей, предметов, в том числе самого человека, а также способов его отношения к реальности (языков культуры). Таким образом, "искусство анализа", как и "наука интерпретации", означает оксюморонное, взаимоисключающее пересечение языков, типов информаций и способов отношения. При этом пересечение не означает размывание или смешение разной природы разных языков культуры; пересечение означает именно пересечение, невозможность разделения, но и невозможность смешения двух типов культур, художественной и научной. Эта простая тема сию минуту, на глазах читателя, уведёт нас далеко и глубоко. Если согласиться с тем, что сознание (как, впрочем, и душа) человека целостно, то есть в принципиальном плане формируется двумя полярными типами отношений (в сознании преобладает "наука", в душе -"художество"), тогда можно переходить к детализации каждого из отношений. Набросаем, как того требует наука, схему, которую можно, конечно, и проинтерпретировать (в соответствии с потребностями души). ПРИСПОСОБЛЕНИЕ------------------------------------ПОЗНАНИЕ ЖИЗНЬ --------------------------------------------------СМЕРТЬ Взятое в аспекте: структуры индивидуального и общественного сознания: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ----НРАВСТВЕННОЕ------ ФИЛОСОФСКОЕ в аспекте метафоры вышеназванной структуры: КРАСОТА --------------- ДОБРО --------------- ИСТИНА в аспекте структуры человека: ТЕЛО--------------------ДУША--------------------ДУХ в аспекте структуры личности: ВИТАЛЬНОЕ--------------------------------------------МЕНТАЛЬНОЕ НАТУРА-------------------------------------------------КУЛЬТУРА в аспекте структуры ментальности: ПСИХИКА-----------------------------------------------СОЗНАНИЕ ИНТУИЦИЯ------------------------------------------------ЛОГИКА 64 в аспекте языков культуры: ОБРАЗЫ (ИСКУССТВО)---------------------ПОНЯТИЯ (НАУКА) в аспекте функций языков: СИНТЕЗ------------------------------------------------АНАЛИЗ в аспекте форм гуманитарной культуры: ЛИТЕРАТУРА (в широком смысле)--ФИЛОСОФИЯ (в широком смысле) в аспекте структуры языков художественной культуры: ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ-------------------------ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ СТИЛЬ --------------------------------------КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ в частности, языка литературы: ЛИРИКА---------------------------------------------------------------ЭПОС в частности, языка лирики: ЛИРИКА---------------------------т.н. "ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА" в частности, языка эпоса: ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА----------------------------РОМАНЫ-ЭПОПЕИ в аспекте языка философии: РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ,---------СОКРАТ, СПИНОЗА, ГЕГЕЛЬ: НИЦШЕ, ХАЙДЕГГЕР: ЛОГИЧЕСКИ УПОРЯДОЧЕННЫЕ МЕТАФОРЫ И ОЩУЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОНЯТИЙ в аспекте познания: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ --------------------------НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ КАК ФОРМА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КАК ФОРМА ПОЗНАНИЯ НЕВЕЖЕСТВО-----------------------------------------ЗНАНИЕ в аспекте приспособления: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ---------------------НАУКА КАК НЕДОСТОВЕРНЫЙ КАК ФОРМА ПОЗНАНИЯ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ в аспекте типологии цивилизаций: ВОСТОК----------------------------------------------------------ЗАПАД в аспекте пола: ЖЕНЩИНА------------------------------------------------------МУЖЧИНА в аспекте наций: АЗИАТЫ------------------------------------------------------ЕВРОПЕЙЦЫ в аспекте европейских наций: "ЮЖАНЕ"------------------------------------------------------"СЕВЕРЯНЕ" в других аспектах: И Т.Д.-----------------------------------------------------------И Т.П. 65 Аспектов и, соответственно, форм "приспособления" и "познания" (в том числе за счёт бесконечного дробления уже обозначенных) может быть бесчисленное множество. Ничего не стоит бессознательно или даже сознательно смешать типы отношений и их формы -- и вы получаете идеальный Вавилон, хаос ((полу)сконструированный или (полу)стихийный, на выбор). Назовите Ницше (или Розанова: вариантов, к несчастью, в избытке) философом, проинтерпретируйте его, объявите его метафорический бред анализом и провозгласите провозвестником истины -- и изрядной путаницы вперёд на несколько поколений исследователей, "философов" и "литераторов", обеспечено. Вот этот гениальный рецепт -Вавилон из двух языков -- и есть пока что главное достижение человечества в области гуманитарных наук. Проблемы у гуманитариев возникают тогда, когда один комплекс "познаётся" средствами другого, подменяется другим или лицемерно мимикрирует. Причём -- назовём вещи своими именами -- гораздо более агрессивно и изобретательно в отношении подмены "приспособление", нежели познание. В сущности, можно ограничиться одной фразой: отношение приспособления в современных гуманитарных науках явно преобладает над собственно научным познанием, в том числе приспособление к самому факту неспособности познавать. Конечно, ничего экстраординарного. Банальный реликт сознания мифологического -- вот что представляет собой сегодняшние гуманитарные науки. Однако противоречие между науками гуманитарными и негуманитарными должно настораживать и подстёгивать гуманитариев. Ведь что значит "приспособиться"? Это значит устроиться так, чтобы исследуемая жизнь была сохранена и получила гарантии безопасности от чрезмерного научного вмешательства. Вот почему искусство как противовес познанию с момента возникновения специализировалось на жизнеохранительных, жизнелюбивых функциях, формировалось как служба жизни: игра, любовь -- словом, поэтизация проявлений жизни. Вот почему познание, озабоченное истиной и только истиной, отчасти угрожает жизни, однако не стоит отождествлять познание со смертоносной дьяволиадой, разум -со змеями, пауками и прочими гадами. Это уже психика и лирика. Результаты познания также могут поставлены на службу жизни (вряд ли есть необходимость разворачивать этот самоочевидный тезис; впрочем, самоочевиден он для философов). 66 Искусство, до тех пор, пока оно искусство, действительно не может серьёзно угрожать жизни как таковой: игровой момент, свойственный всякому подлинному искусству, есть неустранимый симптом жизни, имманентный признак витального. Можно сказать, искусство рождено жизнью, и оно само в свою очередь даёт жизнь образам. Рождение, жизнь, любовь, женщина, приспособление... Но искусство, будучи мостиком между жизнью (натурой) и культурой, в значительной степени обедняет вторую, хотя сама же её и создаёт. Дело в том, что приспособление имеет свои естественные пределы, за которыми или начинается познание (иное отношение), или развиваются стагнация и регресс. А стагнация в культуре сегодня, когда культурная регуляция в значительной, возможно, в решающей степени рациональна (хотя мы не вполне отдаём себе в этом отчёт), -- это реальная угроза жизни. Учёные-поэты, поборники "науки с человеческим лицом", где "философия" должна сдабриваться и облагораживаться "литературой" (в идеале -- подменяться), -- это светский вариант поповщины. За такое идейное, идеологическое подвижническое служение общество платит скупо -- а расплачивается щедро. Расплачивается тем, что подлинное гуманистическое содержание культуры до сих пор находится в пелёнках, а над ним причитают мамки и няньки, рассказывающие сказки про Веру, Василису Премудрую и Надежду. Всё это достаточно эффективно приспосабливает к непознанной природе человека, однако радикально ограничивает самопознание. Понять такую культурную позицию можно. Стоит ли разворачивать свёрнутое гуманистическое сознание? Гораздо комфортнее, удобнее, выгоднее, наконец, быть ребёнком. Спроса никакого, и не ведаем, что творим. Редукция от познания к приспособлению, авторедукция в культурный примитив, в зоологию -- это дезертирство с фронта мысли, уход в скиты психики и интуиции. На дворе вроде бы прогресс, а по сути живём, как деды наши жили. Дескать, кривая вывезет. По беспечности род людской подозрительно напоминает русских. Понять-то можно, но следует понять и то, что мы обречены взрослеть, если не хотим пасть жертвой метафорического мышления. Опасно обладать ядерной дубиной, продуктом впечатляюще развитого научного сознания, и при этом расшибать себе голову в Вифлееме. В голове сказки - а в руках смертоносная дубина: вот что несколько настораживает. Что значит в данном контексте "искусство анализа"? Это способ осознать свои духовно-синтетические возможности. Обратим внимание: не разрушать их, не принижать -- а только лишь 67 поставить на подобающее место. Детство никуда от нас не уйдёт, все мы родом из детства. Стоит только осознать разницу между приспособлением и познанием -- и можно сколько угодно позволить себе быть ребёнком. Но сама постановка проблемы в таком ключе выглядит сегодня "глупо" и негуманно. Бесчеловечно, видите ли, отбирать у ребёнка игрушки, лишать его детства. Даже если это становится условием его, ребёнка, выживания. Это с точки зрения ребёнка, с позиций интерпретаторов, которые поднаторели в науке выдавать желаемое за действительное. Возразим на языке Востока, если язык понятий пока недоступен: говори "халва, халва" -- во рту слаще не станет. Желаемое не превратится в действительность, даже если очень захотеть. Как говаривал Сократ, есть одно только благо -- знание, и есть одно только зло -- невежество. ГЛАВА 2 ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО В СВЕТЕ ЦЕЛОСТНОГО АНАЛИЗА 2.1. Жизнь и смерть Ивана Ильича Головина Повесть Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" является подлинным шедевром мировой реалистической прозы. Полагаем, что это именно повесть, а не рассказ. У нас будет больше оснований для ответа на этот вопрос ближе к концу анализа. Начинать целостный эстетический анализ произведения следует с метода. Поскольку метод всегда реализуется в стиле, анализ метода будет одновременно анализом стиля. Но вот в чем конкретно увидеть "зерно метода", т.е. ключевое понятие, выражение, сцену, характеризующих метод произведения, — это всегда исследовательская проблема. В самом начале произведения мы узнаем, что Иван Ильич умер. Он прожил жизнь, ничем особо не примечательную -- как все. Именно эти самые обычные слова являются для повести ключевыми. "Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная..." (Здесь и далее все слова в тексте выделены мной — А.А.) В начале повести Толстой всячески подчеркивает типичность происходившего. "... самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех , узнавших про нее, как всегда , чувство радости о том, что умер он, а не я". 68 То, что все происходит как обычно, как всегда — принципиально важно. Из этого будет проистекать основной принцип обусловленности поведения главного героя (да и почти всех других героев тоже). Сослуживец Ивана Ильича приехал на панихиду: "Петр Иванович вошел, как всегда это бывает , с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает". "Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело... и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб..." "Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов , лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого". Мотив "как всегда" и "как у всех" проходит через всю повесть — вплоть до духовного кризиса, когда Иван Ильич вынужден был индивидуально решать свою проблему. Мотив этот достигает своей кульминации тогда, когда Иван Ильич получает новое назначение, переезжает из провинции в столицу, устраивается на новой квартире. Ему кажется, что вот тут-то он и выделился по-настоящему. "В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее — все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему это казалось чем-то особенным". Стремление быть "как все", быть похожим "на всех" ("на всех людей известного рода", т.е. на более богатых и вышестоящих) — вот главный принцип обусловленности поведения Ивана Ильича. Итак, точка опоры найдена. В чем заключается особый интерес того, что совершалось "как всегда", будет видно позднее, а сейчас отметим еще одну стилевую особенность, чрезвычайно усиливающую, сознательно концентрирующую типичность происходящего: поэтику имен повести. Прежде всего отметим, что либо имя, либо отчество, либо фамилия Ивана Ильича Головина так или иначе связаны с именами всех действующих лиц повести. "Сотоварищи" Ивана Ильича: Иван Егорович Шебек, Петр Иванович, Фёдор Васильевич. Последний, казалось бы, не имеет "ничего общего" с именем главного героя. Однако Толстой выявляет скрытую связь "сотоварищей": дело в том, что жену Ивана Ильича зовут Прасковья Фёдоровна (в девичестве Михель). Поэтому Фёдор Васильевич отнюдь не выпадает из тесного круга живущих "как все". В начале повести мелькают — однажды — фамилии господ, претендующих на места, 69 освободившиеся вследствие перемещений, вызванных смертью Ивана Ильича Головина: Винников, Штабель. Фамилия первого содержит часть фамилии Головина ( Винников), фамилия второго напоминает девичью фамилию жены Головина. Во время самого сильного служебного кризиса решающее влияние на карьеру Ивана Ильича оказали друзья и покровители. "Взлет" Ивана Ильича чрезвычайно напоминает карьеру Винникова или Штабеля. "В Курске подсел в первый класс (все перечисленные до этого момента и далее господа принадлежат к первому, лучшему классу А.А.). Ф.С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семёновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Ивановича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу". Иван Ильич был вторым сыном такого же крупного, как впоследствии и он сам, чиновника тайного советника Ильи Ефимовича Головина. Старший сын, Дмитрий Ильич, "делал такую же карьеру, как и отец"; младший, Владимир Ильич, был неудачник, т.е. не как все известного рода люди: "в разных местах напортил себе и теперь служил по железным дорогам" (т.е. все же был чиновником). Сестра, Екатерина Ильинична, "была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть". Самый, казалось бы, экзотический "барон Греф" по сути дела оказывается родственником Ивана Ильича и таким же чиновником. У Ивана Ильича — трое детей: Елизавета Ивановна, Павел Иванович и Василий Иванович. За Елизаветой Ивановной ухаживает Фёдор Дмитриевич Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева. Будущий зять Ивана Ильича — судебный следователь, т.е. буквально идет по стопам будущего тестя. Можно было бы перебрать действительно всех персонажей повести и обнаружить неслучайность их имен. Но и сказанного вполне достаточно, чтобы резюмировать: сходство, совпадение, внутренняя рифмовка имен подчеркивает сходство Ивана Ильича со всеми остальными. Все остальные — те же иваны ильичи, и достаточно понять одного Ивана Ильича, чтобы понять всех. Не случайно имя Иван является почти нарицательным по отношению к русским. 70 Кроме "объединительного" кода в поэтике имен просматривается и социальный код: уже название произведения "Смерть Ивана Ильича" оппозиционно таким возможным вариантам названия, как "Смерть чиновника" или "Смерть Головина". Подобное обращение — Иван Ильич узаконено среди людей, ездящих в первом классе, влияющих на судьбы России. Перед нами история жизни и смерти чиновника, становящегося человеком, но несущего на себе родимые пятна своей среды, своего круга. Перед нами история человека лучшего, высшего, избранного общества. (Кстати, прототипом героя повести послужил Иван Ильич Мечников, прокурор Тульского окружного суда, скончавшийся от тяжелого заболевания). На этом фоне особняком стоит имя одного персонажа — молодого буфетного мужика Герасима. (Имя Петра-лакея, тоже употребляемое без отчества, во-первых, не уникально, а во-вторых, легко трансформируется в отчества и фамилии благородных господ (например, в фамилию жениха Елизаветы Ивановны). Имя Герасима попросту невозможно представить в среде ивановичей и ильичей). С какой целью Толстой выделяет этот персонаж мы поговорим позднее. Есть и иные смысловые коды в поэтике имен. Так имя Иван (Иоанн) в переводе с древнееврейского означает: Бог милостив; Илья (Илия) переводится следующим образом: Иегова есть Бог. "Божественный" подтекст имени-отчества главного героя станет вполне ясен в финале повести. А сейчас вернёмся в основное русло и продолжим нить рассуждений: зачем Толстому понадобилось обратиться к "самой простой и обыкновенной жизни" — жизни, которой живут все "лучшие" люди России, образованные, культурные? И что означает: жить как все? Дело в том, что: "Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная". Жизнь, которой живут все — причем, избранные все — ужасна, порочна в своей основе — вот что является главным "предметом" Толстого. Сразу же обратим внимание: из только что полностью процитированной фразы явственно виден "указующий перст" того, кто взял на себя право, смелость и ответственность судить о том, что является подлинным добром и злом для человека. Перст этот — постоянно, демонстративно указующий — принадлежит повествователю, образу автора, который в этой повести, вероятно, во многом напоминает самого позднего Толстого. Дидактическая, наставительная, почти библейская 71 интонация необходима Толстому для создания и оценки требуемой концепции личности. Как же изображает Толстой "обыкновенную" и в то же время "ужасную" жизнь личности? Для того, чтобы отобразить заурядную, рутинную, ничем особо не примечательную жизнь, Толстой избирает чрезвычайно оригинальный, емкий, соответствующий сразу всем художественным задачам стилевой прием: писатель сосредотачивается не на отдельных сценах семейной, служебной и прочей жизни, а на ключевых нравственнопсихологических механизмах, определяющих закономерности соответствующей стороны жизни. Механизм поведения как таковой интересует повествователя. Несколько звеньев механизмов — вот и все, что считает важным и нужным сообщить повествователь о всей жизни своего героя — до того момента, пока сам смысл и способ такой жизни не довели героя до гибели. Но затем при помощи этих же механизмов Толстой показывает процесс умирания — и одновременно превращение этого процесса в процесс нравственного оживания. В конечном итоге, смерть Ивана Ильича оборачивается торжеством жизни над смертью, духовного над телесным. Обратим внимание: одни и те же психологические механизмы реализуют разные духовные задачи. Смысл приема еще и в том, чтобы подчеркнуть противоречивое единство человека, показать: в нем есть все, чтобы быть кем угодно. И то, кем человек становится, зависит от многих причин, но прежде всего — от него самого. Толстой, дав человеку все, возлагает на него ответственность за то, кем тот решается быть. Вот почему в первой главе лицо покойного Ивана Ильича "было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого". В лице отражен результат происшедшей напряжённейшей внутренней борьбы. "На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым". Однако Петр Иванович не захотел вдуматься в смысл упрека или напоминания. Круг замкнулся. И следующий "ильич" будет так же в одиночку сражаться со смертью, а жизнь его будет попрежнему "простой, обыкновенной и ужасной". В том и заключается сверхзадача повествователя (а с ним и автора), чтобы помочь разорвать этот порочный круг, что бы тайно пережитую трагедию сделать явной — и тем самым попытаться спасти живых людей при помощи "искусственного", "рукотворного" произведения. Духовная сверхзадача Толстого представлена в художественной форме. И только эстетический 72 анализ повести поможет выявить ее многогранную духовную содержательность. Итак, проследим за кругами ада Ивана Ильича. Наш герой с самого начала жил как все: "легко, приятно и прилично". При этом он строго исполнял "то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми". Таким образом, выполнять долг — и означало жить "легко, приятно и прилично". Со временем Иван Ильич стал думать, что этот "характер жизни" "свойственен жизни вообще", а не только его жизни. Такое отношение к "долгу" (к АИ) характерно для сатирических героев. Иван Ильич и есть вплоть до пятой главы (почти половину повести) герой преимущественно сатирический (местами сатира переходит даже в комическую иронию — см. начало третьей главы). Таким образом, творческий метод повести Толстого заключается в том, чтобы показать героя, стремящегося жить "как все известного рода люди" (а именно: жить легко, приятно и прилично) и в то же время показать сатирическую суть такой программы. Жить как все — значит взять правила жизни из конкретного социума и в этом же социуме в соответствии со своими индивидуальными особенностями попытаться их применить, вырабатывая попутно "несокрушимую" оправдательную идеологию. Иными словами, перед нами вариант реалистической обусловленности поведения, вариант реализма. Именно для того, чтобы реализовать такую мировоззренческую программу персонажа и одновременно оценить ее как сатирическую и понадобились Толстому "механизмы" (так перебрасывается мостик к стилю). Повествователь сухо, "протокольно" излагает канву жизни Ивана Ильича начиная с учебы в Правоведении. Сама манера изложения как бы намекает на то, что мы имеем дело если не с подсудимым, то по крайней мере с человеком, совершившим тяжкие проступки. По иронии судьбы (а от ее авторитарного возмездия герою, как известно, не уйти), подсудимый Иван Ильич сам оказывается рьяным слугой закона — судьей. (Вспомним: не судите, да не судимы будете). Перед нами — механизм становления юноши Ивана Головина в Правоведении; механизм начала карьеры в провинции; механизм превращения молодого юриста в матерого чиновника, опытного служивого зубра; механизм женитьбы Ивана Ильича на девице Прасковье Федоровне из ложно понятого чувства долга, а не из нравственной потребности; механизм притирки на начальной стадии супружеской жизни; механизм выработки стратегии служебного рвения под влиянием 73 семейных невзгод. Все это — во второй главе (всего в повести глав — двенадцать). Третья глава начинается следующим образом: "Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы". До 1880 года. В этом году Иван Ильич получил неожиданно крупное повышение. В начале 1882 года Иван Ильич умирает в возрасте сорока пяти лет. Иными словами, во второй главе изложена почти вся история жизни — скудной, действительно "ужасной", недостойной человека. Прозрения могло и не наступить: если судить по концепции, определяющей поведение героя, он бы мирно дожил до старости, повторив судьбу отца. Однако в соответствии с неким законом высшей справедливости (по иронии судьбы) все, накопленное, нажитое героем, оборачивается против него. Закон высшей справедливости это тот принцип, обуславливающий поведение и судьбу людей, который исповедует повествователь, но не сам Иван Ильич; и это та необходимая моральная высота, которая позволяет повествователю "право иметь", чтобы так сурово отнестись к "иванам ильичам". Так сознание Ивана Ильича просвечивает сквозь сознание повествователя. Смертельное заболевание Ивана Ильича начинается с "обыкновенного", но "ужасного", как потом выяснится, ушиба: он ударился о те самые вещи, которые так упорно наживал, чтобы быть как все. Этот сюжетный ход как раз и "доказывает правоту" повествователя. Однако содержание повести гораздо глубже, философичнее. Оно не ограничивается критическим отрицанием элементарной программы человеческого существования, но показывает духовный переворот, ведущий к нравственному прозрению, к Истине. И тут избранный Толстым метод обнаруживает фантастические художественные возможности. Толстой не только не отказывается от избранного метода, но, напротив, еще более сосредотачивается на механизмах — но на каких!: на механизмах начала нравственно-психологического кризиса, его развития, кульминации и, наконец, разрешения. Толстому это необходимо ещё и вот по какой причине: избранная стилевая доминанта позволяет видеть за жизнью, подобной смерти, и смертью, возвращающей к жизни, не только смерть и жизнь конкретного Ивана Ильича, и не только жизнь и смерть ивановичей и ильичей, но человека вообще , человека как такового. Все индивидуальные национальные, социальные, психологические признаки личности и характера Ивана Ильича работают на выявление общечеловеческой сути, на выявление логики жизни и смерти человека. 74 Именно поэтому перед нами механизмы функционирования чиновника, семьянина, механизмы семейных конфликтов, механизм болезни (причем, на различных ее стадиях: начальной, в развитии и конечной); механизм умирания, нравственного прозрения, лечения, отношения окружающих к смертельно больному и т.д. Перед нами — архетипы всех перечисленных ситуаций и архетипы поведения в них человека, живущего "по лжи". Остановимся на типичном примере такого механизма. Вот как повествователь анализирует наиболее общие причины семейных конфликтов в семье Головиных после начала болезни Ивана Ильича: "И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастие ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтобы он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение". Повествователь неутомимо обобщает, стремится указать общие причины, закономерности поведения. Перед нами нет ни одной конкретной сцены; перед нами суть того, что происходит обычно на той или иной стадии того или иного процесса. Аналитизм повествователя порой доходит до того, что он вообще убирает перечень конкретных причин (вроде испорченной посуды, локтя сына на столе, прически дочери) и полностью сосредотачивается на том, как это происходит, на самом механизме: "Доктор говорил: то-то и то-то 75 указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и тото. Если же предположить то-то, тогда... и т.д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой". Нам воспроизвели логику доктора, не желающего видеть реальность уклоняющегося от неё, потому что констатация реального факта влечёт за собой не "легкое и приятное" исполнение обязанностей, а нелегкий и неприятный труд души. Механизмы, о которых идет речь, — психологические. Это классические образцы типично толстовского психологизма. Психологическая динамика (см. состояние Прасковьи Федоровны в конце первого приведенного отрывка) прописана скурпулезно и безукоризненно точно. Взаимодействие и взаимообусловленность сознания и подсознания, сознания и собственно психических сфер показаны блестяще. Однако не сами по себе психологические закономерности интересуют повествователя и Толстого. Психологизм, как это всегда бывает, реализует иные стоящие за ним ценности и идеалы. Точный психологический анализ всякий раз позволяет вскрыть ложь поведения людей, несовпадение их мыслей и действий, мыслей и желаний. В этом — цель и смысл психологизма Толстого. Иван Ильич лжет, обвиняя во всех своих бедах Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна еще более лжет (в т.ч. и перед собой), не понимая, да и не желая понимать истинных мотивов своего и мужа состояния. Лжет доктор себе и другим -, не желая вникать в обременительные проблемы умирающего, обходя вопрос о жизни и смерти Ивана Ильича и заменяя его вопросом технологии болезни. Причем (ирония судьбы!), такую же лукавую подмену совершал и Иван Ильич в бытность свою судьей. Продолжим цитирование второго отрывка: "И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что 76 плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора". Механизм общения с подсудимыми (больными) вскрывает ложь поведения судей (докторов). А лгут они с одной целью: чтобы жить "легко, приятно и прилично", обходя вопросы, которые сразу же могут нарушить легкость и приятность бытия. До предела обнажен принцип психологического анализа: несовпадение мотивов с мотивировками, причин — с предлогами, поводами. И путь Ивана Ильича — постепенное осознание окружающей его тотальной лжи и понимание того, что он жил как все — лгал как все. Превратившись из судьи в подсудимого, Иван Ильич не мог не признать ложь, так необходимую судьям, лучшим людям, для их душевного комфорта. "Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет попрежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича". Можно сделать некоторые предварительные выводы. Логика нравственного прозрения Ивана Ильича, этапы духовного пути героя становятся и эстетической структурой повести. Стилевой доминантой, соответствующей художественным задачам Толстого, не могли стать принципы сюжетосложения: Толстой демонстративно выкладывает все сюжетные секреты вначале, переключая внимание читателей с того, что происходит, на то, как и почему это происходит. Если самая обыкновенная жизнь может быть и самой ужасной — это требует разъяснения и, стало быть, по-своему возбуждает читательское ожидание. Было бы неверным отнести к стилевой доминанте речь и деталь (хотя там, где они употреблены, они использованы виртуозно). Диалогов и монологов сравнительно мало, деталь также не несет основную художественную нагрузку. Это вполне объяснимо: Толстого интересуют не конкретные сцены, где как раз и важны деталь и речь, а архетипы ситуаций. Для воспроизведения нравственно-психологических механизмов Толстому необходима прежде всего повествовательная речь от третьего лица, речь аналитическая, объясняющая, убеждающая, вскрывающая противоречия душевной и духовной жизни. Отсюда "наукообразный" синтаксис, с обилием сложноподчиненных предложений, 77 материализующий причинно-следственные отношения исследуемых явлений. Пафос объяснения, анализа, всевидения явно оказывает решающее воздействие на выбор стилевых средств. Лексика — нейтральна, она не мешает анализу; метафорические возможности речи также стушевываются перед пафосом бесстрастного исследования. Многочисленные начала предложений с союза и поддерживают напряженную "библейскую" интонацию, соответствующую причинноследственным переходам и сцеплениям. (Кстати, помимо синтаксиса, в повести много смысловых реминисценций из священного писания, служащего, очевидно, нравственной опорой повествователю). Отметим и такую принципиально важную особенность повести: стиль ее гибок и изменчив. Он следует не формальному требованию монолитности и единообразия, но "оживает", фиксируя возвращение к живой (не формально-правильной) жизни Ивана Ильича. Повествователь все чаще начинает уступать место самому Ивану Ильичу в осмыслении им своих невзгод. Нравственная активность, естественно, отражается в стиле. С пятой главы, с моментов решительного прозрения появляются внутренние монологи Ивана Ильича. Они последовательно ведут к основному внутреннему конфликту. Проследим, как конкретно осуществляет это Толстой. В шестой главе повествователь вначале сам объясняет, что происходит в "глубине души" Ивана Ильича: "В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого". Иван Ильич знает, но не понимает. Глубинное сознание отторгает формальное знание, которое становится для первого не более, чем сопутствующей информацией. Далее повествователь берет на себя труд объяснить это противоречие на примере силлогизма из учебника логики: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен. И Иван Ильич Головин начинает, наконец, жить не формально, руководствоваться не формальной логикой, не только головой , но и душой, чувствами (заметим: еще один, и, конечно, не последний, смысловой код поэтики имен): "И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему". Толстой — гениален. Иван Ильич идет к истине не формально логическим, а чувственно-интуитивным путем. Поэтому и истина Ивана 78 Ильича будет простой, но "неизрекаемой". Ее легче постичь, чем потом объяснить. Посредник между автором (Толстым) и героем постепенно сменяет "гнев на милость". Сатирические интонации по отношению к Ивану Ильичу уступают место трагическим; сам Иван Ильич с высоты почувствованной им истины начинает в душе сатирически обличать "всех". Он становится союзником повествователя, и они как бы на равных участвуют в освещении нравственного переворота в душе главного героя. Монологи Ивана Ильича свидетельствуют о происходящей в нем интенсивной внутренней жизни: "Если бы мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы мне и говорил внутренний голос..." "Внутренний голос" как нечто "более умное" говорил бы "мне" т.е. кто-то "другой" во мне говорил бы "мне": в Иване Ильиче просыпается голос гуманистической совести. Общение Ивана Ильича с собой — раздвоение его личности, противостояние себя прошлого и себя истинного — будет окончательно формализовано в диалоге с самим собой: "Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души , к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем. - Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, ответил он. И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его. — Жить? Как жить? — спросил голос души. — Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно. — Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом. Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшееся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое". 79 В этом отрывке, помимо всего прочего, следует обратить внимание вот на что. Во-первых, повествователь настойчиво вскрывает тот пласт сознания, который он называет "голос души", говорящий "не звуками" и не "ясными" словами, а неконтролируемым "ходом мыслей". Во-вторых, эта стихия управляла Иваном Ильичом только в детстве — и только в детстве он и был счастлив. Потом он, как и все, был скован доктринами разума. И разум обманул, подвел его: "В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!" Таким образом, замена косвенной речи на монолог, монолога на диалог представляет собой не формальные изыски и приемы, а глубоко мотивированную динамику стиля, отражающую смену принципов обусловленности поведения персонажа и, конечно, динамику пафоса. Иначе говоря, эволюция личности влечет за собой эволюцию метода, а он в свою очередь — стиля. Вполне естественно, главным источником мучения Ивана Ильича стало то, чему он с таким усердием и успехом поклонялся всю жизнь: "Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича". Отрывок этот великолепно демонстрирует крен сатирического героя в сторону ГИ и резко критическое отношение к АИ (к "общественному мнению"). Перед нами уже трагический персонаж, попавший в безысходный мировоззренческий тупик. Эмоциональность повествователя, дотоле тщательно маскируемая им под сдержанность, выступает как нравственная поддержка Ивану Ильичу. Здесь их голоса сливаются в унисон. Неожиданную поддержку находит Иван Ильич в Герасиме, ухаживающим за господином. "Утешение" Ивана Ильича состоит в том, что Герасим не лгал. Он понимал, что барин помирает и просто жалел его. Казалось бы, грубоватая констатация факта ("все умирать будем") должна 80 была расстроить Ивана Ильича, но все оказалось наоборот. "Приличие" требовало не замечать умирания человека и относиться к нему как ко всем. Такое формальное уравнивание Ивана Ильича со всеми фактически означало невнимание, равнодушие к нему. А Герасим относился к нему как умирающему, и потому жалел его. Герасим и научил Ивана Ильича жалости. Жалость эта не формально, а по существу объединяла людей. Ивану Ильичу, барину, и в голову не пришло обидеться, когда буфетный мужик переходил с ним на "ты", как с равным: "Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?" Толстой очень искусно выписывает атмосферу лжи, постоянно окружавшую Ивана Ильича и бесконечно его терзавшую. Вот, возможно наиболее яркий эпизод, состоящий из нескольких композиционных фрагментов. Дочь с женихом собрались ехать в театр смотреть Сарру Бернар. Они вошли к умирающему Ивану Ильичу и завели светский разговор о достоинствах игры знаменитой актрисы. Этот разговор глубоко оскорбил умирающего, и это отразилось на его лице. Все замолкли. "Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась. — Однако, если ехать, (выделено Толстым — А.А.) то пора, сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем. Все встали, простились и уехали". "Если ехать" — означает: если жить по прежним правилам, то следует ехать. А если разоблачить ложь, то надо забыть о легкости и приятности жизни и никуда не ехать, а вести себя как-то иначе с умирающим. Выбор был сделан: все уехали в театр. (Тут уместно сделать небольшое отступление — "вылазку" непосредственно в реальность. Известно отношение Толстого к условному театру. Он считал нереалистическое искусство фальшью и ложью. И то, что умирающего бросили со своими действительно грандиозными реальными духовными проблемами, променяв его на театр, на фальшь и ложь, которые так ненавидит Иван Ильич, вносит дополнительные смысловые оттенки в сюжетный ход, в поведение персонажей и в оценку их поведения. Однако если оставаться только в границах текста и отвлечься от субъективного толстовского отношения к театру (на самом деле театр ведь не обязательно ложь), то мы должны констатировать: Ивану Ильичу предпочли театр — 81 иллюзию жизни (но не ложь!). Только этот подтекст прочитывается в тексте. Отождествлять личность писателя и образ автора — недопустимо. Это ведет просто-напросто к подмене художественного мира — реальным. Исследуя произведение, не всегда корректно ссылаться на личность писателя. Апелляция к скрытым субъективным, авторским смыслам, а не к смыслам объективным, видимым всем без предварительного знакомства с биографией и личностью Толстого, грозит перевести анализ в произвольную интерпретацию текста. Но с другой стороны, квалифицированная интерпретация может помочь увидеть действительно неявные смыслы, которые способны обогатить восприятие конкретного художественного текста, не искажая при этом его. Такая интерпретация должна дополнять анализ, но не подменять его. Трактовка произведения сквозь личность Толстого не входит в задачи нашего анализа). Перед нами типично толстовский психологический диалог с пространным аналитическим комментарием, который позволяет видеть за репликой гораздо более того, что она формально содержит. Но обратим внимание: мы стали свидетелями конкретной сцены — в своей единичности и уникальности. Не общий механизм обиды на равнодушие окружающих интересует здесь повествователя, а именно отдельная сцена. Вроде бы, речь идет о том же, просто прием другой. На самом деле этот иной прием таит в себе и иные смыслы. Отдельная сцена — по закону образности — воздействует и на читателя, и на героя гораздо эмоциональнее "архитипических" картин. Герой ведь становится все более ранимым; и всех больнее ранят самые близкие люди. (Отметим: вновь скрытая библейская "цитата"). В заключительном эпизоде, после отъезда всех домочадцев в театр, Иван Ильич посылает за чужим мужиком Герасимом. Кроме того, дело идет к смерти, и каждое мгновение жизни становится именно отдельным, неповторимым; мгновения уже не сливаются до неразличимости в один сплошной бесконечный ряд (архетип), а каждое стоит особо. Их уже осталось мало. Это последние капли жизни. Кроме того, эти мгновения становятся этапами быстротечной духовной эволюции. Наконец: каждое мгновение приобретает свое неповторимое лицо, а уж человеку это положено и подавно: вот еще один глубинный смысловой подтекст этой бытовой сценки. 82 Однако на трагических противоречиях не завершается крестный путь бывшего судьи, судившего обо всем так легко и просто. "... ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные его страдания состояли в том, что в эту ночь, (опять конкретное событие — А.А.) глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была "не то". Одно дело — видеть порочность своих прежних идеалов, и совсем иное — решительно отрицать их. Иван Ильич попал в трагический вакуум: былые идеалы изжиты до конца, а новых пока нет. Но уже то, на какой основе отвергается старое, может кое-что сказать о несуществующем пока новом. Иван Ильич сводит счеты со старым, глядя на лицо Герасима. И сама постановка вопроса по-герасимовски проста, стилизована под нерефлектирующую народную мудрость: "а что, как и в самом деле вся моя жизнь (...) была "не то". Летописец жизни Ивана Ильича бесстрастно, возвращаясь к первоначальной манере, констатирует: как только Иван Ильич сказал себе, что было "не то", "поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой погибели". Вот он новый — и последний порочный круг, в который попал Иван Ильич: отсутствие перспективы, позитивной программы, признание полного жизненного краха заставляют ненавидеть себя и "всех"; ненависть порождает физические страдания, а вместе с ними и идею смерти, т.е. бессмысленности всего происходящего, — впечатления, возникающего от отсутствия перспективы. "Сознательно", головным путем, путем рациональных выкладок и обоснований круг, очевидно, было не разомкнуть. Во всяком случае, ни повествователь, ни Иван Ильич не видели в этом направлении никаких перспектив. Очевидно так же, не видел их и автор. (Толстой не дал в этой повести повода принципиально размежеваться с повествователем; последний очень напоминает рупор идей автора). Бессилие разума актуализирует животное начало в человеке. Единственный раз в повести на первый план выступает фонетический уровень текста: "У! У! У! — кричал он (Иван Ильич — А.А.) на разные интонации. Он начал кричать: "Не хочу!" — и так продолжал кричать на букву "у". Казалось, из трагического противоречия выхода нет и не может быть (в предлагаемой системе отсчета). Но бессилие разума в 83 нематериалистической системе ориентации означает вселение чего-то другого. Когда все было учтено, и разум не мог подсказать достойного выхода из трагического тупика, Головин терпит последнее — и спасительное! — поражение. "Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то". Иван Ильич попытался "рационализировать" свет в конце дыры". — Да, все было не то. (...) Что ж "то"? — спросил он себя и вдруг затих". Вместо ответа он "почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. (...) Ему стало жалко ее". Очень непростой финал повести опять же требует прежде всего филологического, эстетического комментария, без которого не ясен будет финал духовный. Итак, Ивану Ильичу "открылось, что жизнь его была не то"; ему "стало жалко"; "вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон". Безличные конструкции подчеркивают иррациональность, непостижимость произошедшего (вдруг!). Синтаксис предельно упрощается: аналитическая вычурность, отражая неуместность рационального, редуцируется до немногословной, прямо скажем, неземной, мудрости. Сам повествователь словно бы стушевался: он "вдруг" из активного персонажа превратился в статиста, "просто" передающего логику событий там, где без него не обойтись. Он словно онемел и вроде бы немотивированно отказался от своего до этого момента безжалостного комментария. Повествователь уступил место тому, что ни в каких комментариях не нуждается, да и никакими комментариями не объяснимо. Разум капитулировал перед чудом сверхъестественного обновления, прикосновения к непостижимой истине. Естественно, боль сразу же утихла. "Вместо смерти был свет". Иван Ильич умирает с радостью, отрицающей ужас смерти. Радость от воспринятой "откуда-то" истины. А истина состоит в том, что Иван Ильич, наконец, отвергает бездуховную ориентацию (жить легко, приятно и прилично) и познает такую жизнь (пусть на мгновение), после которой и умирать не страшно. "Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер". Он умер на половине вздоха, задышав полной грудью. Но если один Иван Ильич смог победить смерть (точнее: нашел рецепт победы), то все остальные наверняка смогут рано или поздно нравственно ее преодолеть. 84 Иван Ильич умирает как герой, утверждая АИ, а вместе с ними ту инстанцию, которая ему их подарила. "Жалко их, (людей, "всех") надо сделать так, чтобы им не больно было". Трагизм разрешается в героику — вот откуда такой "светлый" финал. Это, конечно, героика религиозного, жертвенного, сострадательного типа. Но художественная логика произведения — не линейная, одномерная логика. Последняя точка может и не совпадать с истинным финалом. Архитектоника повести во многом заставляет подкорректировать финал. Первая глава повести, по существу, есть и последняя глава, т.е. тринадцатая. По крайней мере, хронологически; а хронологический принцип сюжетосложения в этой повести совпадает с концентрическим. Толстой и формально, и по существу замыкает круг повести: композиционный и смысловой. Думается, теперь ясно, почему это повесть, а не рассказ. Перед нами в деталях, по фазам прослежен процесс созревания, развития и разрешения противоречия, тогда как рассказу важна демонстрация противоречия. Гроб с телом героя, у которого на лице последняя печать торжества над смертью, окружают сатирические персонажи. Нравственный опыт героя не востребован ими, не нужен им. Вещи по-прежнему показывают свою цепкую власть над хозяевами; и повествователь по-прежнему смеется горьким сатирическим смехом (настолько горьким, что почти не смешно) над близкими и сотоварищами достойно усопшего: "Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда 85 все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать". Перед нами самый настоящий бунт вещей — бунт против бесконечной, никогда не прекращающейся лжи и в мелочах, и в самых важных вопросах жизни. Именно такой бунт привел к гибели Ивана Ильича. Повествователь подчеркивает, что даже бездушные вещи не в состоянии вынести невиданного глумления человека над своей собственной природой. Начало повести, как ни странно, изрядно омрачает ее оптимистический финал. Но у начала всегда есть конец — оптимистический, как мы помним, конец. Диалектическое совмещение в человеке противоположных начал и невозможность победы без привкуса горечи — такой подход к жизни и человеку позволяет Толстому создать гениальный реалистический шедевр. В финале двенадцатой главы Иван Ильич умирает уже без имени, без фамилии и без отчества. Начиная с того момента, как "Иван Ильич провалился, увидал свет", он перестал быть Иваном Ильичом Головиным. Он будет назван еще тридцать три раза, но только при помощи, главным образом, личных местоимений (преимущественно третьего лица) в разных падежах. Он стал просто человеком, всечеловеком, умершим за всех остальных людей. Параллель с Иисусом Христом здесь очевидна. Однако смысл финала (и всей повести) шире однозначных истолкований. Неправомерно интерпретировать реалистическую повесть Толстого только в религиозном плане (личная религиозность автора не может выступать здесь как решающий аргумент), или только в социологическом, или каком-либо ином "отдельно взятом" плане. Принципиальная поливариантность трактовок — непременное условие истинно художественного произведения, в этом нет ничего удивительного. Конечно, мы выбираем какую-то одну систему отсчета, в которой разные планы увязаны друг с другом, иерархически организованы, в которой более "важные" планы поглощают планы второстепенные. И в этом смысле наша трактовка является монотрактовкой. Однако сама проблема выбора трактовки (посредством целостного анализа!) возникает только потому, что писатель сумел показать объективную сложность личности, понятую и отраженную реалистически. Причем, объективная сложность личности может быть отражена более глубоко, чем это субъективно представлялось автору. Нас ведь интересует объективная художественная ценность произведения, а не субъективная авторская интерпретация его. 86 Главное заключается в том, что залогом высочайшего художественного уровня повести стала смелая и честная попытка Толстого разрешить кардинальные "экзистенциальные дихотомии" человека. Толстой именно переживает мысли, а не смутно живописует словом. И концепция его оборачивается оригинальным вариантом реалистического стиля. Разумеется, целостный эстетический анализ повести Толстого может быть и иным. Но если это будет целостный эстетический анализ, он непременно будет включать в себя анализ понятий концепция личности, метод, стиль. Наконец, последнее. Данное исследование поэтики и идейного потенциала произведения никак не может претендовать на исчерпывающее постижение шедевра Толстого. Нам важно было указать на отстаиваемый способ исследования поэтики. Дальнейшее изучение произведения требует последовательного расширения контекстов. Максимально полно произведение может быть изучено только тогда, когда мы осознаем его как момент целостностей иных уровней и порядков. Повесть "Смерть Ивана Ильича" одновременно является: * моментом творческой и духовной биографии писателя; * моментом русской классической литературы определенного этапа ее развития; * моментом русской литературы в целом; * моментом реализма как величайшей русской, европейской и мировой художественной системы; * шедевром мировой литературы в целом; * моментом духовной жизни русского общества конкретного периода; * образцом действенной воспитательной мощи произведения; * и т.д. и т.д. Каждая форма общественного сознания может предложить свой набор контекстов. Все это можно и нужно видеть в повести Толстого. Однако это уже задача исследования иных контекстов, иных целостных образований, с иными целями. Практически смыслы данного произведения — неисчерпаемы, как и смыслы всех значительных произведений искусства. Вполне понятно, что замечания о специфике целостного анализа в полной мере относятся и к следующему разбираемому произведению. 87 2. 2. МЫСЛИШЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОШИБАЕШЬСЯ... (роман-эпопея "Война и мир") 1 Лев Николаевич Толстой был настолько гениален в интеллектуальном, эмоционально-душевном и художественном отношениях, что мог позволить себе роскошь высказываться по-сократовски просто и внятно. Вся не каждому доступная сложность Толстого произрастает из некой высшей простоты; простотой же она и поверяется. Писатель не скрывал: "Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы (то есть "решу вопрос" -- А.А.), я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему свою жизнь и все свои силы..." (здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсивом -- автором -- А.А.). Но "заставить полюбить жизнь" -- это и есть своего рода "разрешение вопроса": уже здесь заложена хитромудрая инверсия. Чтобы писать роман, преследуя "цель художника", надо отдавать себе отчет, в чем заключен смысл именно так понятой цели. Толстой не просто любит жизнь и делится от избытка чувств своим праздничным мироощущением. "Полюблять жизнь" -- это осознанная формула, воплощающая одну из высших культурных ценностей. Таким образом, любовь к жизни превращается в исполненный смысла идеологический акт, восходящий к толстовской "картине мира", в концентрированное выражение его мировоззрения. А теперь спросим себя: что значит "полюблять жизнь" применительно к человеку культурному? Это значит осознанно оберегать ее от разрушительного вмешательства интеллекта, защищать от мертвящего излучения ума. Толстой совершенно определенно и однозначно сделал свой выбор. Если Пушкин полемически поэтизировал тех, кто отваживался честно мыслить, умудряясь при этом не порывать с жизнью, то Толстой главными своими героями сделал тех, кто сумел откреститься от разума и стал просто жить, не мудрствуя лукаво. Витализм Льва Николаевича излился в гимн жизни -- следовательно, в гимн человеку комическому (что предполагает порицание человека рационального), и это отчетливо 88 проявилось уже в "Казаках", нашло высшее свое воплощение в "Войне и мире", продолжилось в "Анне Карениной", "Смерти Ивана Ильича", "Хаджи Мурате"; строго говоря, очерченная смысловая антитеза в той или иной степени, явно или имплицитно, свойственна почти всем значительным вещам Толстого. Отказаться от разума -- значит положиться на что-то вне тебя. Вот почему положительные герои Толстого -- именно Герои, страстно взыскующие незыблемые Авторитарные Идеалы, готовые жертвовать жизнью ради выстраданной идеи "любви к жизни". Примиряя разум и комизм натуры, Пушкин философски констатирует: "Так нас природа сотворила, к противуречию склонна". Толстой по этому поводу непримиримо возражает: мыслишь, следовательно, всего лишь существуешь; перестань мыслить -- и станешь человеком, начнешь жить, а не существовать. Себя понять невозможно по той простой причине, что ты не хозяин себе; у природы есть свой Творец, и критически мыслить тебе, рожденному жить, значит слишком много брать на себя -- значит сопротивляться воле Творца, а это в высшей степени неразумно. Разум дан, по Толстому, для того, чтобы человек мог осознать "сверхразумность" своей природы, уяснить ничтожность разума и, в идеале, понять бессмысленность разумного отношения к жизни. Антикартезианский подтекст всей толстовской "картины мира" отчетливо проявился в его всеобъемлющей эпопее "Война и мир" -- бесспорно, центральном и лучшем творении Л.Н. Толстого. Несомненно, также, что "Война и мир", как ранее "Евгений Онегин", стал точкой пересечения "разумного" и "психологического" типов отношения к действительности. Именно в этой "точке" -- в методологии освоении мира -- и содержится генетическая связь двух великих романов, двух грандиозных явлений культуры в не слишком долгой истории человечества. Толстовский роман-эпопея -- о человеке, о человеческих способах освоения "мира", о его, человека, подвластности разумным и "сверхразумным" императивам, о его представлении о счастье и об объективном содержании счастья, о смысле феномена "человеческая жизнь". Каков человек -- таков и мир; с другой стороны, мир заботливо подает знаки человеку, несущие информацию о том, как следует жить, чтобы оптимально соответствовать незримым законам "мира". Все, все в художественном космосе Л.Н.Толстого получает человеческое измерение, соотносимое с культом нерассуждающей жизни. 2 89 С чего следует начинать анализ произведения, которое представляет собой некую художественную модель универсума? С начала? Однако начало является таким же моментом целого, как и его конец, как и любой иной момент целостности. Значит ли это, что в принципе безразлично, через какой момент входить в целостность, если несомненно только одно: целостность можно осваивать через составляющие ее моменты? Нет, не значит. Разные моменты с различной степенью полноты репрезентируют целое. Существуют ключевые моменты (такие, как "Война и мир" и "Евгений Онегин" -- по отношению ко всей мировой художественной культуре ), своеобразные "магические кристаллы" , сквозь которые можно мгновенно, единомоментно схватить суть художественной модели. Такой магистральной "клеточкой художественности", положенной в основу творческого метода писателя (точнее, той стороны метода, которую мы называем стадиально-индивидуальной в отличие от типологической, внеисторической), представляются принципы духовноэстетического освоения жизни или принципы обусловленности поведения того или иного персонажа. Поведение же, как известно, зависит от избранной системы ценностей. Многоплановое полотно имеет несколько "точек" предельного фокусирования; но существуют и "точки точек". Иначе говоря, в произведении важно обнаружить иерархию принципов космизации, упорядочивания, "сопряжения" внутренне связанных моментов. Определение "момент целого" означает: не существует целого вне таких моментов, совокупность структурированных моментов и есть, собственно, целое как таковое. Главным героем эпопеи является, конечно, не народ, а тот тип сознания, который воплощен (в том числе и через отношение к народу) в образе автора или повествователя; сам образ автора в данном случае мог быть раскрыт не иначе как через систему персонажей, которые, в свою очередь, реализовались через принципы духовноэстетического освоения жизни (интегрально сведенные в аналогичные по функции "принципы" образа автора). Следовательно, нас будут интересовать не все персонажи, а -имеющие прямое отношение к раскрытию универсального типа сознания (образа автора), держащего все нити художественного управления в своих руках.(Можно было бы назвать такую, спаянную внутренними отношениями, структуру "монологической", однако это было бы неверно хотя бы уже по той причине, что подобная монологическая (пирамидально устроенная, имеющая единый центр) структура ориентирована на диалог. 90 Содержательно-идеологический потенциал -- полемически заряжен, явно исходит из наличия оппонента. Вследствие этого и просто потому, что любой монолог есть момент диалога, считать "Войну и мир" монологическим романом можно только условно.) Таких персонажей не очень много. Существует тот оптимальный минимум, без которого в принципе невозможно обойтись. Такой минимальный набор, как представляется, включает, сверх упомянутого образа автора (повествователя), Андрея Болконского, Пьера Безухова и Наташу Ростову. Разумеется, роман несводим к перечисленным героям, однако без них он просто не состоялся бы: они составляют "зерно" романа. Мир, по Толстому, квантуется нациями, даже цивилизациями; каждая нация, "народ", помимо того, что он состоит из различных культурно-социальных каст и прослоек, квантуется семьями; каждая семья квантуется личностями. Таким образом, "единицей", в которой отражается весь мир и которая есть непосредственный активный состав, "вещество" мира -- такой единицей является личность. Нам удобнее начать рассмотрение целостно организованного романаэпопеи с уточнения самой сути понятия "целостность", поскольку это имеет прямое отношение к личности. Феномен целостности возникает только тогда, когда речь идет о совмещении несовместимых систем, каждая из которых является условием существования другой, каждая из которых усиливает и дополняет другую, в результате чего образуется новая, ранее не существовавшая целостность, обладающая имманентным комплексом качеств, несводимых к вполне суверенным и автономным качествам систем. Исчезает целостность -- улетучиваются и ее качества. Каждая из систем, взятая изолированно, не может обладать теми качествами, которые рождаются из симбиотического сращения антиподов. Вот почему сознание -- целостно: психика и собственно сознание синтезированы в "духовность". Вот почему личность как носитель сознания -- целостна: витальное измерение стало предпосылкой возникновения ментального. Вот почему культура, порожденная личностью, -- целостна: натура, входящая в "состав" культуры, делает последнюю не равной просто сумме природных и антиприродных элементов. Вот почему художественное произведение как момент культуры -целостно: внеэстетическое здесь становится условием эстетической выразительности и художественного совершенства. 91 Роман Пушкина, как мы помним, был целостен по всем перечисленным позициям, тотально целостен. Роман Толстого устроен иначе. Прежде всего, здесь нет персонажа, подобного Евгению Онегину, в котором бы противоречиво соединились "ум" и "сердце", сообщая их союзу трагическое качество. Толстой персонифицировал полюса, закрепив начало рассудочно-рациональное за Андреем Болконским и наградив способностями к интуитивнопсихологической рефлексии Пьера Безухова. (Разумеется, и один, и другой, будучи "знаковыми" фигурами, являются лишь символами, представляющими и объединяющими целый ряд персонажей, идущих, так или иначе, в фарватере либо одного, либо другого. Однако к этому вопросу целесообразнее обратиться несколько позднее.) И это не просто формальный прием. Заменив формулу "два в одном" на "или -- или", Толстой дал понять, что он не видит возможности гармоничного сосуществования "моделирующего" и "рефлектирующего" начал. Внутриличностная гармония, считает Толстой, возможна и достижима -но только в случае безоговорочной победы "души" над "умом". Героическое торжество человека комического, не поддавшегося на уловки разума и счастливо избежавшего трагизма -- вот тема Толстого. Фактически Толстой отказал человеку в праве реализоваться как целостное, самодостаточное существо. В таком случае возникает вопрос: не есть ли нормативноидеологическое разрешение универсального конфликта, предложенное Толстым, разрешение, ведущее к мнимо-идиллической гармонии, -- не есть ли такой способ "гармонизации" человека и мира допушкинским этапом в осмыслении проблем личности? Рассмотрим эту коллизию более детально. 3 АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЛКОНСКИЙ 3.1 Князь Андрей Болконский появляется в великосветской гостиной Анны Павловны Шерер с характерными повадками "лишнего человека", но по сути своей он имеет мало общего с тем же Онегиным, узником ума и совести. Чем обусловлено странное поведение молодого человека с "усталым, скучающим взглядом"? Он утратил цель в жизни, он трагически обескуражен тщетой любых усилий, он сломлен предчувствием, что "истина" и "жизнь" несовместимы? Все эти предположения не имеют отношения к состоянию князя. Скука его ситуативна, она порождена вполне конкретными обстоятельствами и 92 мало напоминает трагический разлад прозревших одиночек: князь Андрей готовит себя "в Наполеоны", и все окружающие "прискучили" ему своей обыденностью, оскорбляющей культ великой личности и саму идею величия. Вырваться из обыденности -- значит встать над "миром", заставить его поклоняться себе. Вот достойная точка приложения требующих выхода духовных сил! Примерно таков ход рассуждений честолюбивого молодого человека. Даже внешне, своим "небольшим ростом" Болконский напоминает "Антихриста" (по словам Шерер) Бонапарта. Мало того, что свои первые слова в романе русский князь произносит по-французски, мало того, что словами этими были "генерал Кутузов" (фамилию которого Болконский произнес, "ударяя на последнем слоге zoff, как француз"), князь Андрей, "усмехаясь", цитирует Наполеона наизусть. В цитатах этих Бонапарт предстает как божий избранник, возвысившийся над толпой: "Бог мне дал корону. Горе тому, кто ее тронет"; "Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они бросились толпой..." (Заметим, что в кабинете князя Андрея, в который мы попадаем вскоре после сцены в гостиной, на видном месте находились также "Записки Цезаря".) Болконский вступил в диалог непосредственно с Наполеоном и избрал для себя именно "путь славы", чтобы избежать судьбы человека "толпы". Вот откуда ядовитый снобизм, сквозивший в публичных разговорах и поведении князя, "который, развалившись, сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы". Князь Андрей буквально "заболел" Наполеоном, это была глубоко личная тема. На вопрос отца, в чем же "показал себя" "великий полководец", сын отвечал: "Это длинно было бы." Даже в задушевной беседе с Пьером Безуховым, с которым Болконский был откровенен настолько, насколько он вообще мог быть откровенен с другим человеком (и который, кстати, в тот момент тоже считал Наполеона "величайшим человеком в мире"), князь Андрей, невольно заговорив о Бонапарте и его карьере, ни словом не обмолвился о терзающих его демонах честолюбия и мании величия. Достоинства князя подчеркиваются через восприятие Пьера, его антипода: "Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться". Если добавить к этому наличие "силы воли", а также "отсутствие способности мечтательного философствования", то следует признать, что князь Андрей не без 93 основания претендовал на роль исключительной, сильной личности. (Хочется специально, в самом начале нашего анализа, подчеркнуть, что у Толстого не меньшее изобилие обобщающих аналитических формул, чем у Пушкина; можно было бы усмотреть в этом еще одну пушкинскую традицию, однако вкус к подобного рода формулам есть свидетельство высочайшего класса интеллектуальной литературы, и Пушкин как таковой не может считаться родоначальником упомянутой традиции.) Мы же обратим внимание и на вполне определенно обозначенный уже в самом начале эпопеи тип личности: Болконский, "весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами", выведен как тип рационалиста, направляющего свою волю к продуманной, выверенной цели, о которой он непременно "имеет понятие". Никакая спонтанность, импровизация, непреднамеренность не согласуются с обликом внутренне дисциплинированного князя Андрея. (Кстати, обратим внимание и на то, что с самого начала произведения по воле автора пути внутренне и внешне контрастных героев пересеклись; наблюдение это мы разовьем в главе о Пьере, а сейчас ограничимся сказанным.) Нам важно не только то, что Андрей Болконский решил разделить с Наполеоном "путь славы" (вот принцип обусловленности поведения Болконского на этой стадии его жизни), но и то, что цель эта была сформулирована в результате хода рассуждений, а не возникла из недр души. Компонент рассудочности органично входит в состав принципов освоения жизни героя. Очевидно, и брак его с Lise Мейнен – запомним этот немецкий мотив! – был вполне разумным, но отчего-то несчастным для князя… "Целая история жизни" подвела Болконского к принятому решению. Вступив на путь славы, он прошел его до логического конца. Конец оказался -- непредсказуемым, нелогичным (что, впрочем, в предлагаемой читателю системе отсчета вовсе не означает "неудачным"). Объясняется все это предельно просто -- но в рамках иной, не ограниченной миром личности логики. Решив взять свою судьбу в собственные руки, князь Андрей volens nolens бросил вызов даже не Бонапарту, с которым, по воле провидения (направляемой, впрочем, волей автора), он сошелся в честном бою, а чему-то "непонятному, но важнейшему", перед чем фигура "великого полководца", а вместе с ней и путь славы, оказались эфемерными и ложно значительными. Здесь интересно отметить вот что: разочарование, постигшее князя Андрея на данном витке судьбы, стало итогом уже не привычного "хода рассуждений", а какого-то иного, периферийного для Андрея Болконского духовного механизма, способа постигать. 94 Ведь почти ничто не угрожало карьере и не предвещало краха честолюбивых надежд. Более того, князь Андрей, адъютант главнокомандующего, собственной волей и умом "организовал" себе "звездный час", твердо и хладнокровно стараясь превратить Аустерлиц в свой Тулон -- и был сражен возможностью иного, так сказать, звездного пути. Смутный ассоциативный ряд, связанный с небом, накапливался давно, исподволь и только на поле Аустерлица выплеснулся наружу. Отметим некоторые многозначительные штрихи, предшествовавшие мгновению "переоценки ценностей". Перед тем, как отправиться "завоевывать Бонапарта", в сцене прощания с княжной Марьей, мягко упрекнувшей своего своенравного брата в "большом грехе" -- "гордости мысли", мы видим "Андрюшу" в состоянии, предвещающем (или, по крайней мере, не исключающем) эволюцию в сторону, противоположную "рассудочности". Глубоко религиозная сестра князя Андрея, торжественно вручая ему "старинный образок спасителя", сопроводила этот жест проникновенной речью: "Против твоей воли он спасет и помилует тебя и обратит тебя к себе, потому что в нем одном истина и успокоение". Княжна Марья понимала всю безнадежность миссионерства в семье Болконских. Характеризуя образ мыслей отца в религиозном отношении, она кротко замечает: "Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться?" Сама-то она не заблуждается и в отношении брата: "Я знаю, ты такой же, как и mon pere". И тем не менее княжна Марья не убоялась наивного и трогательного жеста. И что же? "Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею. (...) Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут) и насмешливо". У нас есть основания предположить, что князь Андрей был тронут не только отношением сестры, но и тем, что он, помимо своей воли, вступил под защиту спасителя. Иными словами Толстой дал понять, что у его далеко не сентиментального героя существовал уголок души, куда критический "образ мыслей в религиозном отношении" чудесным образом не распространялся. Даже в сердце "сухого" князя Андрея был обнаружен оазис иррационального, неподвластного разуму. Оазис этот постепенно разрастался. В начале памятного сражения при Голлабруне (Шенграбенское дело), находясь в боевом строю рядом с Багратионом, "князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал большое счастие". При разборе этого, 95 достаточно удачного для русских "дела", князю Андрею пришлось вступиться за героя дня Тушина и "выручить" его. Карьерная возня при штабе, унизительная затравленность героя перед начальством -- "все это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся". "Князю Андрею было грустно и тяжело". И все же он по-прежнему испытывал зависть к "сильным мира сего", подобным своему герою Наполеону или даже министру иностранных дел, князю Адаму Чарторижскому, которые, как представлялось Болконскому, "решают судьбы народов". Кульминация в идейно-духовном развитии нашего героя на "военном" этапе его судьбы наступает в ночь перед Аустерлицким сражением, что нашло свое отражение в самом большом к этому моменту романа внутреннем монологе князя Андрея. Интрига монолога заключается в том, что писатель впервые ставит героя перед вопросом, который самому повествователю представляется неразрешимым средствами разума. "Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? Неужели это не может иначе делаться? Неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, моей жизнью?"-- думал он. (Прервем монолог, чтобы зафиксировать главную особенность склонного к "гордости мысли" Андрея Болконского, а именно: его убеждение в том, что правильными мыслями можно нейтрализовать неверные соображения и тем самым успешно регулировать стихию жизни. Продолжим монолог.) "Да, очень может быть, завтра убьют",-- подумал он. И вдруг, при этой мысли о смерти, целый ряд воспоминаний, самых далеких и самых задушевных, восстал в его воображении; он вспоминал последнее прощание с отцом и женою; он вспомнил первые времена своей любви к ней; вспомнил о ее беременности, и ему стало жалко и ее и себя, и он в нервичноразмягченном и взволнованном состоянии вышел из избы, в которой он стоял с Несвицким, и стал ходить перед домом". Вдруг, внезапно, нелогично и немотивированно при мысли о смерти -- случилось душевное восстание. Логике разума повествователь противопоставляет логику чувств, стоящих на страже жизни, словно образок спасителя. Мысль же, неспособная принять во внимание ценность жизни, в том числе его жизни, аргументированно соблазняет знающего цену логике князя Андрея той "счастливой минутой", "тем Тулоном", к которым он стремился всю свою жизнь. "А смерть и страдания? -- говорит другой голос." "Другой голос", т.е. голос задушевный, а не рассудочный, уже нащупал пункт, обессмысливающий всякий "разумный" подход. Хорошо, пусть будут 96 сражения, победы... "Кутузов сменяется, назначается он... Ну, а потом? -говорит опять другой голос (...)". "Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно,"-- подавляет другой голос князь Андрей. "И как ни дороги, ни милы мне многие люди -отец, сестра, жена, -- самые дорогие мне люди, -- но, как ни страшно, ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать (...)." "(...) для одного этого я живу. Да, для одного этого!" Голос души "жалеет" дорогих людей -- голос бездушной "абстрактной логики" заставляет приносить их в жертву ... чему? Противопоставляя "другой" голос "первому", повествователь закрепляет за другим нерассуждающее, но "человеческое", жизненное, следовательно, истинное, божественное начало; первый голос компрометирует сам "ход рассуждений", сам процесс мыслетворчества тем обескураживающим результатом, к которому приводит мышление: от первого, атеистического голоса исходит непосредственная угроза жизни, угроза близким и самому субъекту, инфецированному мышлением. Так, очевидно, следует понимать повествователя. На самом деле подчиненность Андрея Болконского "злой воле" не имеет ничего общего с феноменом "диктата разума" -- по той простой причине, что именно разумности, всесторонне-критической обоснованности как раз и не хватает поведению князя. Болконский обуян страстью параноидальной природы, классической манией величия, т.е. именно душевно-психологически ослеплен, что выдается, однако, за "гордыню ума". Толстой в своей нелюбви к разуму зашел настолько далеко, что элементарную установку на размышление (которая по функции может быть идеологическим "обоснованием" той же иррациональной страсти) отождествляет с рациональным типом отношения к жизни. Это происходит вследствие демонстративного неразличения двух принципиально разных по функции типов ума. Надо полагать, оттенки зла -- а разум подается как монолитный источник зла -не интересуют писателя. К сожалению, не интересуют, ибо пренебрежительное неразличение станет источником роковых заблуждений самого писателя. Два разноприродных ума, два разных типа отношения к жизни, за которыми стоят разные ценности, два языка культуры, две концепции личности -- это не оттенки, а противоположные миры. Ум одномерно-схоластический, органично совмещающийся со страстью, не только не противостоял ей, но и подпитывал ее; ум универсальный, душевно неангажированный, нацеленный на разоблачение 97 уловок и безумной логики страсти -- это уже нечто другое, и он не мог быть так легковесно, "по хотению", подвергнут критическому отрицанию. Одного нежелания считаться с таким умом явно недостаточно, чтобы объявить его несуществующим. Ты отвергаешь мудрый ум -- он отвергает тебя. Таким образом, князь Андрей был ослеплен страстью, своего рода душевной болезнью, которая внешне напоминала "горе от ума". Не голос разума угрожал "дорогим" и "милым" людям, а именно дефицит разумной воли. Глупым, как это происходит всегда, можно быть только при отсутствии настоящего ума; при наличии ума можно выглядеть глупым, но не быть им по сути. Так вот князь Андрей Болконский не выглядит глупым; однако само по себе это не является достаточным основанием, чтобы судить о его уме. Ничего удивительного не произошло тогда, когда искусственно сконструированный "смысл жизни" развеялся над полем Аустерлица под напором нерассуждающей стихии. Вопрос только, стихии ли в этом заслуга или все объясняется нежизнеспособностью хилого смысла? Так или иначе, Болконский, вооруженный своей "железной логикой", которой он пока не сумел найти эффективное противоядие, выходит на поле брани в поисках своего шанса. Как ни странно, князь Андрей практически добился того, к чему так упорно стремился. Его Величество Случай распорядился таким образом, что Болконскому удалось проявить себя в сражении как фигуре весьма заметной. Он совершил подвиг -- и судьба отметила целеустремленность князя комплиментом из уст его кумира, его героя, самого императора Наполеона: "Voila une belle mort (вот прекрасная смерть), -- сказал Наполеон, глядя на Болконского." Более того, ему представилась возможность пообщаться с великим полководцем вскоре после того, как раненный в голову Болконский пришел в себя и мог говорить. Но князь Андрей молчал. "Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих." Произошла действительно "прекрасная смерть" прежних "славных" иллюзий, и герой Толстого стал мыслить по-иному. Он отрешился от суеты, мгновенно выздоровел и прикоснулся к вечности, знаком которой выступило небо, "высокое", "бесконечное", "вечное", "справедливое" и "доброе" небо. "Страдание и близкое ожидание смерти" (вспомним предостережения другого голоса) сделали свое дело: в голове Болконского возник "строгий и величественный строй мысли". 98 Интересно в этой связи отметить характер и, так сказать, обстоятельства ранения: "Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову." Божественное предостережение донесено своеобразно, но доходчиво: простая жизнь руками простых русских людей, в которых находилось первобытно простое орудие, без всяких французских реверансов выбила дурь из головы замудренного князя. Итак, Наполеон в сравнении с небом оказался просто ничтожеством (кстати, в начале сражения над Наполеоном "было ясное голубое небо"; иными словами, небо есть всегда и над всеми, даже над Бонапартом и ему подобными, только они этого, намекает повествователь, не замечают). Поскольку терзавшую Болконского страсть чисто условно можно было назвать системой ценностей, князю Андрею эту самую ценностную иерархию еще только предстояло создать. И судьба (направляемая скромным повествователем) дала ему шанс исправиться, указав верное направление. Имеющий глаза должен был увидеть. Знаком судьбы вновь послужил чудесным образом возвращенный князю Андрею украденный было золотой образок, навешенный на брата набожной сестрой. Покровительство высших сил дало немедленный результат: несмотря на то, что Болконский, "в числе других безнадежно раненых, был сдан на попечение жителей", он выжил, и все у него было впереди. Однако Болконский по-своему истолковал предоставленные ему возможности. "Хорошо бы это было, -- подумал князь Андрей (...) -ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье." Следовательно, Болконский не может допустить мысли, что все в мире просто и ясно и не его, князя, забота курировать смыслы и вносить ясность. "Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!" "Небо" выступило всего только символом, направлением поисков, но оно само по себе не содержало непосредственной истины. Истину предстояло отыскать -- так вызывающе реагировал Болконский на непонятный ему "ход вещей". И уже с самого начала нового жизненного этапа было видно, каким способом собирается это делать князь Андрей: он, как и прежде, размышляет, ничего не принимая на веру. Он и рад бы сказать "господи, помилуй меня!" -- да неспособен к этому "простому и ясному" самоуничижению, отречению от себя. По версии повествователя, он просто лишен дара мгновенного и непосредственного постижения истины. 99 Не забудем, что Андрей Болконский, далеко не худший, если вообще не лучший из породы рационалистов, служил Толстому своеобразным "безбожным полигоном", на ком он отрабатывал все мыслимые "спасительные" модели поведения. При этом задача писателя состояла не в том, чтобы помочь Болконскому исправиться, а в том, чтобы убедить читателя, что сама "технология" поиска истины, избранная Болконским, порочна настолько, что неизбежно губит , вроде бы, хорошего человека. Задача Толстого была -- развенчать разум и стоящее за ним отношение к жизни, поэтому ждать милости писателя не приходится: ведь милость была бы непоследовательностью. Все последующие сюжетные ходы, связанные с судьбой Болконского, интересны именно как варианты спасения; Болконский мог, мог спастись, но почему-то не получилось. Почему? Что помешало ему и мешает человеку вообще стать счастливым? 3.2 Следующий виток жизненного пути князя Андрея "вычислялся" им (у автора был несколько иной расчет) по принципу "от противного": если ни война миров в сознании Болконского, ни бурная жизнь в мире войны не принесли желаемого умиротворения, отчего бы не замкнуться в мире тихих семейных радостей? Уже на носилках, сразу после несостоявшегося диалога с Наполеоном (по причине того, что они оказались в разных мирах-измерениях), "тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему". Но человек полагает, а кто-то другой располагает: высшие силы тут же напомнили о себе и жестоко надсмеялись над неуместностью логических прогнозов. Как известно, в день возвращения "блудного сына" к отцу, в момент, когда буквально воскресший сын сам становится отцом, сын новорожденный потерял мать. Ну, где тут логика? Разве что ирония судьбы. Какие качества необходимы, чтобы приспособиться к такому миру? Разум -- или способность читать в своем сердце простые ответы Бога на самые сложные вопросы? Княжна Марья, обладавшая указанной спасительной способностью в высшей степени, прочла: "Не желай ничего для себя; не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы быть готовой ко всему." Не с такой программой, не с такими "планами" вернулся в родовое гнездо князь Андрей; у него была своя программа. Во-первых -- "Князь Андрей после Аустерлицкой кампании твердо решил никогда не служить более в военной службе" (что, очевидно, не слишком согласуется с пунктом "не желай ничего для себя"; Андрей Болконский по- 100 прежнему считал себя хозяином своей судьбы). Во-вторых, несмотря на принятое решение, его "сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него, жизнь могла волновать его" (такова была реакция князя Андрея на прочтение письма Билибина, в котором дипломат подробно информирует о ходе очередной кампании против Наполеона). "Тамошняя" жизнь его волновала, он завидовал людям, ведущим активную общественную жизнь, желал для себя иной судьбы и крайне неохотно смирялся с тем, что он вынужден был ограничить свой искусственно выгороженный мирок заботами о подрастающем сыне: "Да, это одно, что осталось мне теперь", - сказал он со вздохом". Иными словами, он находился в неустойчивом состоянии поиска. Именно в таком состоянии застал его Пьер. Посмотрим на "постаревшего" князя Андрея глазами повествователя и одновременно Пьера: "взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то что похудел, побледнел, возмужал его друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним." О чем же сосредоточенно размышлял живший явно неудовлетворявшей его жизнью несчастливый князь Андрей? "Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастие и на добро неприличны." Наконец, Пьер прямо спросил: "Какие ваши планы?" Князь Андрей изложил "свой новый взгляд на вещи" опять пофранцузски, что, во-первых, подчеркивало рационализм формул Болконского, а во-вторых, отчуждало "не в меру умного князя" не только от преданного "мечтам и надеждам на счастие" Пьера, но и от самого духа русскости, от народного взгляда на вещи (этот подтекст мы в полной мере оценим позднее, когда волею повествователя Болконский повернется лицом к народу). (Кстати, в свете сказанного легко понять, почему эпопея о русском народе начинается с пошловатой французской тирады в великосветском салоне, принадлежащем хозяйке с нерусской фамилией. Казалось бы, грипп, Генуя, Лукка, фрейлина, красный лакей, аббат -- все это очень далеко от народа, от крестьян, солдат, Кутузова, Тушина, Каратаева, Щербатого... На самом деле роман и начинается с народа -- только "от противного", от антинародной составляющей духа народного. Народная тема скрыто, имплицитно присутствует везде, во всем; особенно активно она переплетается с главной темой: противостоянием "разума" -- "душе". Более того, народная тема и необходима именно как способ 101 возвеличивания "души". Но и об этом -- в свое время, позднее.) Князь Андрей сказал: "Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызения совести и болезнь. Жить для себя, избегая только этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь." Открытый вызов тому божественному откровению, истинность которого ни на секунду не ставила под сомнение княжна Марья, -- налицо. Сестру Болконского тут же поддержал Пьер: "счастие жизни", считает он, заключается в том, чтобы "жить для других". (Болконский, между прочим, иронично заметил: "Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь.") Далее князь Андрей предстал во всем интеллектуальном блеске, по пунктам разбив программу "наслаждения делать добро" другим не искушенного в гимнастике ума Пьера. Но опять же: там, где повествователь пытается выставить на всеобщее обозрение "идиотизм мысли", там "в идиотах" оказывается не разум (как планировал всевидящий и всепонимающий "образ автора"), а нечто иное: стремление опорочить ум. Толстому вновь не удалось скомпрометировать ум как таковой (а это, главным образом, ум многомерный, всеобъемлющий, диалектический), хотя цель его, несомненно, заключалась именно в этом. Что касается критики ума догматического, то здесь Толстой весьма преуспел -- и это, надо признать, является одной из сильнейших сторон романа. Князь Андрей, словно на интеллектуальном турнире, логически безупречно доказывает бессмысленность позиции "творить добро". Реакция чуткого к интеллектуальной фальши Пьера не оставляет сомнения в том, что князь в очередной раз перемудрил: "Ах, это ужасно, ужасно! (...) Я не понимаю только, как можно жить с такими мыслями". Вот черта, за которую никогда всерьез не перешагивал Пьер: мысли должны быть такими, чтобы с ними можно было жить (а еще лучше, как выяснится впоследствии, вообще жить без мыслей). Дело даже не в том, прав или неправ князь Андрей; дело в том, что его логика несовместима с жизнью, вот что пугает жизнелюбивого Пьера. Болконский не побоялся истину развести с жизнью -- и тем самым обрек себя на несчастливую жизнь. "Вы не должны так думать", -- заключает Пьер. Признаем, что в новом взгляде на вещи у князя Андрея присутствуют элементы трагизма. В этом состоянии он отчасти напоминает нам незрелого Онегина, вплоть до буквальных совпадений: "А мне кажется, что единственно возможное счастье -- есть счастье животное, а ты его-то (мужика -- А.А.) хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его 102 сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств." Вот он, момент горя от ума. Однако если повествователь "Евгения Онегина" увидел в интеллектуальном мужании предпосылку прогресса духовного, то повествователь "Войны и мира" трактует "бессмысленную", далекую от жизни диалектику, игру ума как симптом реального "недуга", от которого надо как можно быстрее избавиться. Без всяких шуток Толстой встает на сторону осуждающего Онегина света (мира), на сторону человека комического, не признавая величия ума и, следовательно, высшей одухотворенности трагизма. Толстой, напротив, всячески снижает "мнимый", "искусственный" трагизм, который является следствием гордости ума, не более того. Оборотную сторону жизни -- "счастье животное", комическое -- автор легко делает своим союзником, прививая любви к жизни добро простым, как мир, иррациональным путем. Онегин, как мы помним, был сотворен природой, которая "к противуречиям склонна". Болконский же сотворен тем, кто склонен выкорчевывать "противуречия", склонен к простым императивам, предполагающим ответное кроткое послушание. Независимый Онегин завис между "небом" и "землей" не по чьей-то воле; он своею волей открыл законы мышления и жизни, что придавало обнаруженному им "противуречию" экзистенциальный характер; это была его проблема, и ничья более. Противоречие Болконского автор трактует как форму глупости, а неумение прислушиваться к простым императивам рассматривается если не как бунт, то, во всяком случае, не менее чем свидетельство склонности к суициду. Онегин благодаря своему уму выделился из природы, вознесся над представлением о "животном" счастье. Пушкин ценил в нем именно выделенность из общего роя, из мира, поскольку интеллект -- это персональный инструмент, и нация, да и вообще любой коллектив, им обладать не может. Нация поощряет не ум, а умение подчиняться сущему над личностью общему мировому закону. Вот почему, отметив умом Болконского, Бог и вместе с ним повествователь (точнее -- наоборот) шельму метит. Князь Андрей выдвинулся из общего ряда, из общества, стал белой вороной, он дерзнул мыслить, мечтал стать уникальным человеком (отчего и подался в Наполеоны, посягнул на право решать судьбы народов!) -- и это ставится ему не в заслугу, а вменяется в вину. Если в пушкинской картине мира личность выступает центром мироздания, то в толстовской -- о центре 103 мироздания громко и всуе говорить не принято; что касается толстовской личности, то она хороша тем, что растворяется в других, в миру -- тем, что ее нет. Таким образом, князю Андрею, решившемуся "жить для себя", повторимся, была заранее уготована незавидная судьба; весь "фокус" был в том, чтобы разоблачить недуг, вывести на чистую воду "грязные" (по определению) мысли. Вот почему Андрей Болконский тяготится умом, смутно ощущая (по велению повествователя) вину перед жизнью, народом, мирозданием -- следовательно, перед истиной; он переживает свою невольную вину, не понимая "главного пункта" своей ошибки. Во всем этом повествователь подмечает даже смесь некоторой инфернальности со стремлением к чистоте истины: "Взгляд его оживлялся тем более, чем безнадежнее были его суждения." И вот за это интуитивное, бессознательное стремление к "настоящей" истине, постигаемой не интеллектом, повествователь решается всерьез "зацепиться". Заключительная фаза диалога двух друзей (которые, по логике, должны быть врагами) происходит на пароме, что символизирует пограничную ситуацию распутья в душе Болконского: он как бы оторвался от одного берега, но еще не пристал к другому, к тому, куда "тянет" его Пьер. "Я чувствую (чувствую -- любимое слово и главный аргумент в споре Пьера -- А.А.)", -- проповедует Безухов, -- "(...) что в этом мире есть правда". "Надо жить, надо любить, надо верить, -- говорил Пьер, -- что (...) будем жить вечно там, во всем (он указал на небо)." Где-то в этот момент паром пристал к "берегу Пьера". "Князю Андрею казалось, что это полосканье волн (очень напоминающее шепот мира -- А.А.) к словам Пьера приговаривало: "Правда, верь этому." Опять он обратил свой взор к "высокому", "вечному" небу и что-то "лучшее" в нем "вдруг радостно и молодо проснулось в его душе." Далее автор акцентирует: "Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь." Новая жизнь началась тогда, когда великий рационалист "вдруг" стал чувствовать и верить, презрев анализ. Едва наметившийся трагизм счастливо разрешился в "комическое" мироощущение, не было сделано даже попытки вознестись до величественной гармонии, даже попытки повернуть голову в сторону гармонии такого рода. Итак, князь Андрей при успешном посредничестве Пьера получил новый, действительно серьезный шанс "исправиться", выздороветь, 104 истребить вирус интеллекта и зажить в мире с собой и всем остальным миром. 3.3 Дальше, разумеется, кончилась зима и наступила весна, весна 1809 года. "Пригреваемый весенним солнцем, он (князь Андрей -- А.А.) сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам." В таком состоянии он начинает общаться с лакеем Петром, человеком из народа (не с Шерер, заметим, или Наполеоном), и с природой (вспомним поразившие Болконского "параллельные" метаморфозы дуба, отражавшие эволюцию мироощущения жившего в деревне князя). Князь Андрей ощутил ритмы жизни, природы, зажил в унисон с не укладывающимися в формулы, но реальными законами мироздания. Разумеется, Болконский должен был влюбиться. И он влюбился -- в юную графиню Ростову, "черноволосую, очень тоненькую, странно-тоненькую, черноглазую девушку", до банальности напоминающую росток жизни. Под влиянием первого впечатления ему показалось, что она "была довольна и счастлива какой-то своей отдельной -- верно, глупой, -- но веселой и счастливой жизнью." Жизнь, жизнь со всех сторон окружает на французский манер умного князя Андрея, кружит его в вальсе с Наташей Ростовой -- и благоразумный Болконский, к счастью, теряет голову. Наташа, всегда готовая "улететь в небо" (куда так тянет и нашего героя), но прочно укорененная в жизнь земную, была человеком, воплощавшим именно ту противоположность, которой так не хватало еще только учившемуся жить князю. Однако еще до отъезда в Петербург (князь Андрей приехал в столицу в августе 1809 года; бал же, на котором Болконский танцует с шестнадцатилетней Ростовой, состоялся 31 декабря, "накануне нового 1810 года") князь Андрей возобновил внутреннюю "войну" с собой, войну, зачинателем которой всегда выступал, конечно же, разум. "Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам." Ранее "на основании таких же бедных разумных доводов" он приходил к противоположным заключениям. "Теперь разум подсказывал совсем другое." Что же получается: разум только "подсказывает", озвучивает словами, логически аранжирует то, что предрешено уже до того, как разум спешит предложить свои "услуги"? Чему же тогда служит разум (или: что сильнее разума, что на самом деле управляет человеком)? 105 "И князь Андрей, заложив назад руки ( словно пленник чего-то доразумного -- А.А.), долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, с женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь." Получается, что есть мысли и мысли; есть тайные, неразумные, невыразимые мысли (так сказать, чувства-мысли, думы-ощущения), от которых то хмуришься, то улыбаешься -- а есть мысли выразимые, разумные, но "бедные", не отражающие полноту тайных ощущений, желаний. И вторые всего лишь отчасти реализуют первые, но необоснованно претендуют при этом на полноту истины! Так видятся Толстому взаимоотношения разума и души. Бедный разум обслуживает бессознательные, тайные, невнятные бездны души (становясь внятными -они перестают быть безднами), вот почему ему нельзя доверять, ибо он говорит не своим голосом, он не самостоятелен, не автономен, он рупор отдельных актуализированных "хотений". Толстовский "разум" выступает всего лишь продолжением или придатком неразума, иррационально-психологическим инвариантом, это идеологический разум, специализирующийся на выдавании желаемого за действительное. Поэтому толстовкая критика разума, по существу, адресована все той же душе, замаскированной под личину разумности. Но ведь весь пафос романа-эпопеи направлен именно против такого разума, представленного узурпатором истины, логическим монстром, обманным путем выступающим от имени человека! Этот разум делает людей заносчивыми, заставляет ошибаться. Носителями такого разума выступает целый ряд персонажей, тяготеющих к полюсу Болконского; последний так или иначе разделяет их мировидение и сам волей-неволей выступает в авангарде их внушительной армии. "Братьями по разуму" оказываются и целая плеяда представителей света, среди которых "блистают" Элен Курагина с отцом и братьями, Борис Друбецкой, Берг и Вера, Билибин, масоны и Наполеон со свитой; и немецкий генералитет из окружения Кутузова, и Сперанский с обществом государственных людей, и отец князя Андрея, «генерал-аншеф князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе le roi de Prusse» -- прусский король, учредивший в доме незыблемый порядок в духе века просвещения («Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности»). По существу, весь "Запад", столкнувшийся с "Востоком", отмечен печатью 106 рациональности, а вот "Восток" выгодно отличается духом непочтения к самим идеям порядка, строгости, разумности, противопоставляя им совершенство хаоса, беспорядок живой жизни. И Толстой по-своему прав: жизнь невозможно понять, ибо то, что сотворено не умом, не поддается сведению к разумному порядку, к логической схеме или концептуальному плану. В таком случае зачем же жизнью -- поверять свойства разума? Не является ли подобный оригинальный ход всего лишь "разумным" трюком? Чтобы хоть как-то свести концы с концами, писатель вынужден "последовательно" "компрометировать" сознание, приписывая ему свойства психики. Большей мистификации мировая литература не знает. Надо быть семижды семи раз художественным гением, чтобы не замечать подмены. Все, что говорит Толстой -- справедливо, но справедливо не в отношении собственно разума, автономного, независимого от души и нацеленного на объективную реальность (как фактор духовности он попросту не представлен в романе), а в отношении того разума, который служит не разуму, который, следовательно, выдает себя не за то, что он есть на самом деле. Для повествователя все это могло означать одно: надо непосредственно обращаться к душе, минуя "разумные доводы", которые вносят только смуту, раздор, войну, ибо искажают простую истину. Вот этим, единственно разумным путем, и продвигается Болконский по траектории, вычерченной для него заботливым повествователем. Можно приближаться к Христу, а можно удаляться от Сократа: все зависит от точки отсчета. В толстовской системе отсчета, в его мире приближение к истине означало удаление от разума, даже от поверхностного разума. Князь Андрей пока еще не умеет блаженно отдаваться переживанию тайных мыслей и при этом не держать в уме заднюю мысль (т.е. не умеет жить, не думая), не научился доверять тому, что могущественнее разума, он пока еще цепляется за логику. Вот почему порой он "говорил" "с особенной логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходящую в нем внутреннюю работу." Вот почему в Петербурге он был очарован отчасти придуманным, идеализированным образом разумности, отыскав в Сперанском "идеал вполне разумного и добродетельного человека", озабоченного исключительно общественным благом. "Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский, в глазах князя Андрея, был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий 107 действительным только то, что разумно (отметим этот недружелюбный выпад в сторону диалектики, втягивающий в ареал сомнительной разумности не только просвещенную Европу -- перед нами с тонким умыслом обыгранная формула немецкой классической философии -- , но и проевропейски ориентированную часть русского общества, в том числе современного Толстому русского общества -- А.А.), и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть." Трудно удержаться от следующей цитаты, с одной стороны, завершающей облик разумности, с другой -- углубляющей понимание внутреннего состояния князя Андрея, с третьей -- проясняющей толстовскую концепцию разума: "Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?" Если в ум можно только верить, --а чем вера в законность ума отличается от любой другой веры? -- то очевидно, что ум без веры в него ничего не стоит. Вновь очень изящно и умно уму отказано в праве на суверенность. Однако планиды (под попечительством повествователя) до поры до времени благоволили князю Андрею и не дали ему роковым образом увлечься новой вредной страстью: верой в законность ума. Чары Сперанского, а вместе с ними и вера в разум, развеялись мгновенно, при первом же столкновении со страстью законной, идущей не от головы. Во время танца с Наташей "вино ее прелести ударило ему в голову", и уже на следующий день за обедом у Сперанского "ему стало смешно, как он мог ждать чего-нибудь от Сперанского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как он мог приписывать важность тому, что делал Сперанский." "Вино прелести", так сказать, отрезвило Болконского, внесло ясность в перепутанную было систему координат. События развивались стремительно, как и положено, когда в дело вступают чувства. На другой день он уже обедал у Ростовых, и новое очарование, так гармонирующее с его новым взглядом на жизнь, стало заполнять его душу. "Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей 108 (...). Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение." Итак, князь Андрей окончательно сменил старый, разумный мир, на новый, неразумный (сверхразумный?), но более симпатичный, нежели прежний. В этом новом мире происходили чудесные события: пение Наташи, слезы (!) князя Андрея, его бессонница и, наконец, оформившаяся вера в счастье: "я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым." В 1810 году Андрею Болконскому был тридцать один год. 3.4 Из несчастливого эгоиста князь Андрей превратился в эгоиста счастливого, сменив одну идеологическую парадигму на другую, обветшавшую систему ценностей -- на противоположную. Сам повествователь с нескрываемой симпатией и воодушевлением относится к мужественному решению князя отказаться от излишнего "умствования" (выражение Пьера, который в это же самое время переживал наиболее тяжкие моменты жизни) и одаривает своего героя высшими "романными милостями", т.е. вполне разделяет его чувства и мысли. "Князь Андрей казался и был совсем другим, новым человеком." Он любил и был, судя по всему, любим (несколько настораживал разве что нелишний в продуманном мире Толстого штрих: к чувству любви у Наташи "необъяснимо" примешивалось чувство страха). Казалось бы, нет никаких препятствий для счастья. Никаких -- за исключением того пустячка, что жизнь не терпит логического насилия, ее нельзя отложить или отменить по чьей-либо прихоти. В дело вмешивается злая сила из старого мира, разрушительность которой князь Андрей, новичок в мире светлых чувств, явно недооценил. Николай Андреевич Болконский (который, между прочим, признавал в жизни "только две добродетели: деятельность и ум"), "приняв спокойный тон", "обсудил все дело": во-первых... во-вторых... втретьих... в-четвертых. Вердикт был таков: свадьбу отложить на год. Князь Андрей, видя неодолимое упрямство пунктуального старика, "решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год." А ведь в планах князя Андрея было не считаться с "капризами" отца, "заставить" его согласиться на брак или "обойтись" без его согласия - т.е. своей жизнелюбивой волей противостоять глупой логике... Тем не менее, казалось бы, произошло не самое страшное, что может произойти в жизни (если рассуждать здраво). Но реакция Наташи, 109 своеобразного камертона жизни, убеждает в обратном: "Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! -- вдруг (мгновенно: фильтр губительного здравого смысла просто отсутствует -- А.А.) заговорила Наташа, и опять зарыдала. -Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно." "Недоумение" на лице князя (правда, и "сострадание" тоже) было ей ответом. Расставание с женихом было, по сути, уже первым актом трагедии, смысл которой мы рассмотрим в главе о Наташе Ростовой. Итак, князь сделал все правильно -- и оказался, на первый взгляд, без вины виноват; но его несомненная (для повествователя) вина заключалась именно в том, что он был слишком "правильным" для жизни. Вина юной Наташи (имеется в виду история с Анатолем Курагиным) была другого рода: она слишком любила жизнь, она была сама жизнь -- настолько органична, что компромиссное соглашение с сухим умствующим стариком, фанатично обожающим "порядок", не могло быть соблюдено по определению. Но нас в данном случае интересует реакция князя Андрея. Ведь он-то был, согласно новым своим убеждениям, на стороне невесты, против отца, т.е. против своей второй натуры. Теперь повествователь поставил его в ситуацию решающего выбора. Ситуация была сложна, даже коварна своей завуалированной экзистенциальной ловушкой, и князя Андрея можно понять при любом исходе, можно логически обосновать любой выбор. Но в том-то и дело, что это были бы обманчивые выкладки услужливого ума. Не вдумчивый анализ требовался в данном случае от Болконского, а дар непосредственного постижения мотивов странного, необъяснимого поведения Наташи. И Пьер, например, сполна продемонстрировал такой дар, невольно, вопреки доводам рассудка выступая ее адвокатом перед Болконским. Впрочем, раз уж речь зашла о Пьере, два коротких разговора с Наташей убедили его, что невеста князя Андрея поступила дурно только потому, что она была очень хороший человек. Безухов почувствовал это и, вместо осуждения, признался ей в любви: "Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей." Реакция же князя Андрея, даже по тону и стилю, была в духе его отца: это была чисто рассудочная реакция оскорбленного человека. Его я, его самолюбию был нанесен чувствительнейший укол, поэтому он реагировал не на поступок совершенно запутавшейся и уже жестоко раскаявшейся любимой девушки, а на логику ситуации: "(...) я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу", -- приводит он эгоистические доводы Пьеру. Повествователь 110 совершенно прав: Болконский не сумел и даже не потрудился сделать попытку почувствовать другого человека, поставить себя на его место, посопереживать ему. Значит ли это, что князь Андрей возвратился в свой хорошо обжитый, но ненавистный старый мир, где доводы рассудка определяли направление жизни? Повествователь гениально уходит от схемы, очень тонко не упрощает ситуацию, что не удалось сделать его герою, князю Андрею. Болконский расчетливо устраивает свое существование, но вместе с тем мы постоянно ощущаем присутствующий в нем пульс живой, иррациональной стихии. "Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы"; "и это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не изжита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченнохлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции." "Искусственная деятельность" была естественной реакцией на более чем естественную обиду. Однако характерно и симптоматично то, что спасение от душевных ран и невзгод князь Андрей интуитивно находит в спокойствии ума. Тем не менее он открыто выступил против воли отца, который, по обыкновению, "стал объяснять причины", по которым он устроил настоящий ад любимой дочери. С уверенностью можно сказать одно: состояние князя Андрея ("он объездил и запад и восток", обронил повествователь) было мучительно и неопределенно; он не разочаровался в своем новом взгляде на жизнь настолько, чтобы появилась необходимость и потребность заменить его на еще более новый. Несомненно, однако, что новый взгляд, на который столько надежд возлагал изверившийся рационалист, не оправдал его ожидания. Переоценки ценностей пока не последовало; но преобладало ощущение гнетущего несчастья, всегда предшествовавшее переоценке, свод неба "превратился в низкий, определенный, давивший его свод" (небо как таковое, подчеркнем, -- не исчезло). Связь явлений "рассыпалась", они стали "бессмысленными", из них ушла жизнь. Читатель, конечно, понимает всю условность аналитического приема, условность вычленения сюжетной линии, отдельной судьбы отдельно взятого я, Андрея Болконского, из общего сплетения судеб громадного количества персонажей, образующих мир. Позитивную или негативную содержательность поступков и сторон натуры князя Андрея необходимо рассматривать в контексте. Все главные герои эпопеи в свое время 111 попадают в безвыходные, критические ситуации, но они по-разному ищут и находят выход. Наташа и Николай Ростовы, княжна Марья и Пьер от чего заболели, тем и лечатся: они ищут выход в любви к жизни, а не в недоверии к ней. Вот как раз любви к жизни или, если угодно, воли к жизни катастрофически не хватало князю Андрею (с позиций повествователя), поэтому в личном плане дело опять завершилось войной, непосредственной угрозой жизни. В 1812 году, когда началась война с Наполеоном, князь Андрей в качестве командира полка оказался в Западной армии, т.е. был призван непосредственно противостоять продвижению французских войск вглубь России. Важно отметить, что князь Андрей "навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя"; точно так же князь Андрей отклонил предложение Кутузова служить "при нем" в штабе, предпочитая почему-то тянуть лямку в полку, быть "пушечным мясом", разделив судьбу большинства, а не элиты, приданной какой-либо важно особе. Почему? Может быть, интуитивно искал смерти, не имея воли к жизни? Так однозначно ответить нельзя, если опираться на информацию , предоставляемую тенденциозным повествователем. Воля к жизни князя укреплялась по линии соединения незримыми нитями с миром людских интересов, интересов других, причем по большей части интересов простых людей. "Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь, им гордились и его любили." Князь Андрей нашел точку соприкосновения со всеми, "с чужой средой", став "народным князем". И князь Кутузов, подлинный народный герой, благословил его выбор: "Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога -- это дорога чести." Обратим внимание: не славы, не тщеславия, не самолюбия -- а чести; князь Андрей вступил на дорогу, где "один" представлял интересы "всех"; поэтому "все" были за "одного". В этом смысле Болконский был не одинок. Много еще мудрых напутствий подарил своему любимцу Кутузов, человек, который тонко понимал (т.е. чувствовал) людей и жизнь. И советы его были универсальны, применимы не только к конкретной ситуации войны с Наполеоном. "А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время", -- пророчествовал главнокомандующий русской армией, избранный на свой пост по "народным соображениям". "В сомнении, мой милый, воздерживайся," -- выговаривал он "с расстановкой" по-французски, вкладывая в изречение какой-то русский, не 112 вредящий общему делу смысл. "Голубчик" и "мой милый" -- это знак обратной связи и с повествователем, и с народом, и с миром. И все-таки в личном плане Болконский был одинок. Полк не мог заменить потери любимой невесты, а вместе с ней и стимула к жизни. Надо было терпение и время, чтобы побороть свои сомнения и придать смысл "рассыпавшимся" фрагментам мира. Но ни первого, ни второго не было отпущено строгим, но справедливым повествователем в той мере, в какой необходимо для того, чтобы начать, наконец, богоугодную жизнь. В мире выживает сильнейший, т.е. тот, кто умеет выживать. ("Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть": это credo самого Болконского.) В назидание и поучение всем остальным, "образ автора", послушник истины, без ложной жалости распорядился судьбой того, кто ценил смысл жизни едва ли не более, чем саму жизнь. На Бородинском поле во всенародном сражении (по версии безымянного солдата, на врага "всем народом навалиться хотели"), в редкостном порыве единения и сплочения перед одинаково нависшей над всеми смертельной угрозой князь Андрей умудрился отдельным, особым способом получить смертельное ранение. Уже вечером накануне сражения его одолевают "самые простые, ясные и потому страшные мысли", что само по себе служит очень тревожным признаком. Однако содержание дум -- уже просто приговор ясно мыслящему герою. В "холодном белом свете" он увидел "всю жизнь". Свет, излучаемый "ясной мыслью о смерти", так безжалостно окарикатурил главное, что представлялось раньше "прекрасным и таинственным", что Болконскому стало чуть ли не стыдно за смысл прожитого и пережитого. "Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество -- как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня." (Отметим попутно совершенно уникальную способность Толстого к многомерному, симфоническому, полифоническому образно-художественному мышлению, которое сказывается в тончайшей отделке поэтики. Сложнейшая смысловая перекличка "утоплена" в детали или емкие словесные формулы, диалектически предрасположенные к неожиданным трансформациям, к мерцанию смыслами. Страницу спустя "добродушный" Тимохин, "беспрестанно оглядываясь" на Болконского, говорит Пьеру: "Свет увидели, ваше сиятельство, как светлейший (т.е. Кутузов -- А.А.) поступил." Причем слова эти будут продублированы, и "ваше сиятельство" 113 будет уже обращением к князю Андрею... А если учесть, что "новый свет" в этот день (еще спустя страницу) озарил и мировидение Безухова, то внутренняя рифмовка смыслов становится просто виртуозной. Внутреннюю полемику с надломленным Болконским устами Тимохина и мыслями Пьера продолжает повествователь. В данном случае "свет" и объединяет миры в единую суперсферу, и разрывает мир разнонаправленными функциями. И это только микрофрагмент романаэпопеи.) Наконец-то повествователь "просто и грубо" отождествил функцию мысли с функцией смерти. Мысль убивает жизнь, анализ есть эквивалент смерти. И самое страшное и безнадежное -- живой князь Андрей предчувствует смерть. По логике жизни он должен бессознательно сопротивляться, шерсть должна встать дыбом, организм должен мобилизовать все ресурсы. Но князь заворожен "ясным светом" и предчувствием. Было бы непростительным художественным упущением не свести в этот момент князя Андрея с Пьером и не сверить их мироощущения. Вновь линии их судеб ("Какими судьбами?" -- воскликнул князь Андрей) пересекаются в момент, когда идут в разных направлениях (в который уже раз). Разные амплитуды, разные точки отсчета -- разные жизненные итоги и идеологии. Пьеру -- "интересно", князь Андрей -- готовился к смерти. И все же диалог между ними состоялся, сначала при свидетелях, а потом и с глазу на глаз. Точнее, это было, по сути, продолжение монолога Болконского. Он отчетливо солировал, мысли его были точны, глубоки и екклесиастически безысходны. "Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да ненадолго! -прибавил он." Признаем, что вновь трагическая нота диссонансом вторгается в духовный мир героя и, отчасти, романа и расстраивает потенциальную гармонию, на страже которой стоит и к которой ведет вездесущий повествователь. Но тут же и отметим, что дисгармония -- "ненадолго", что вовсе не на этой ноте закончится жизненный путь Болконского. Итоги пути будут однозначно и недвусмысленно "работать" на общую концепцию (общий план, как сказал бы Пушкин) романа. И это общий принцип эпопеи. Любой и каждый фрагмент всемирной битвы за душу человека просто не может, в соответствии с убеждениями повествователя, оканчиваться "ясной мыслью о смерти". Последнее слово в столкновении жизни и смерти, принимающем форму противостояния "души" и "разума", должно оставаться за жизнью. 114 Эпизод с "войной и миром" на территории души Болконского завершается, как и все столкновения подобного рода в романе (речь идет, правда, о больших, заметных душах), миротворческим пассажем. Попрощавшись с Пьером (который тоже почему-то "знал", что это их последнее свидание: видимо, пронзительность интеллекта несчастного друга смутила и Пьера), князь Андрей стал вспоминать. "Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом" пыталась передать ему "страстно-поэтическое ощущение". "Я понимал ее, -- думал князь Андрей. -- Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил..." Приговоренный князь Андрей, предчувствуя смерть, переживает поэзию жизни... Чего ж вам больше? Бородинское сражение, если бы роман был только о князе Андрее, можно было и не начинать: судьба героя была предрешена. Но духовный путь Болконского явно не укладывается в рамки его персональной сюжетной линии. Обстоятельства ранения князя Андрея проливают свет на его внутреннее состояние и важны едва ли не более, чем сам факт рокового ранения. Сначала князь вел себя "точно так же как и все люди полка". Но в самый критический момент сказалась-таки смертельная склонность к "умствованию"! Полк князя подвергся интенсивному бомбометанию. Перед гранатами, как и перед судьбой, все были равны. В тот момент, когда "в двух шагах от князя шлепнулась граната", заботливый повествователь окружил бесстрашного командира полка целой группой обычных живых существ: с одной стороны подходил адъютант, с другой на лошади подъехал майор, командир батальона. Не стоит сбрасывать со счетов также соседство луговой травы и куста полыни. Как ведут себя все нормальные живые существа в обстоятельствах непосредственной угрозы смерти? "Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было выказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям. -- Ложись! -- крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле (живые ищут защиты у земли, где коренятся трава и полынь -- А.А.). Князь Андрей стоял в нерешительности." "Он думал" (о любви к жизни и о смерти) "и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят." "Стыдно, господин офицер! -- сказал он адъютанту." 115 Нельзя сказать, что князь Андрей искал смерти; однако если ты сомневаешься, стоит ли тебе жить, если тебе стыдно прятаться от смерти, если ты "думаешь" и оцениваешь себя со стороны, а не фыркаешь в ужасе перед смертельным снарядом -- значит ты выбрал смерть. Вот кто продемонстрировал потрясающие масонские задатки ("любовь к смерти" -главная добродетель масонов), которых так не хватало Пьеру. Князь Андрей на сей раз был поражен в живот, что в художественном смысле гораздо опаснее, нежели ранение в голову, ибо живот есть не просто жизненно важная зона, но символ жизни (вспомним выражение: сражаться не на живот, а на смерть). Что касается адъютанта, майора и его лошади, то все они не мудрствуя лукаво уцелели. Они были хранимы Богом, что в данном контексте означает: кого Всевышний хочет сохранить, того он лишает разума. Однако физическая смерть князя наступила не сразу, а только после того, как он, тридцатитрехлетний, смертию смерть попрал. Подобрав раненого князя, "опустившегося лицом до травы" (клонит к жизни! -А.А.), ополченцы принесли его "к лесу". "Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему." (Вот они, жизнь и смерть в оболочке "мира" и "войны"!) Перед тем, как его внесли в палатку и передали в руки докторов, князь Андрей подумал: "Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю." Повествователь, конечно, намекает на то, что князь Андрей не понимал главного: жизнь права уж тем, что она жизнь, и если мысль, орудие смерти, угрожает жизни, значит живое существо тем более совершенно, тем более соответствует замыслам Творца, чем менее оно думает, мыслит. Преступление князя Андрея, за которым последовала столь беспощадная расправа, состояло в том, что он так и не сумел отказаться от претензии жить собственным умом, уже понимая, что умом не проживешь. У Болконского было два пути к гармонии (соответственно, они вели к разным типам гармонии): он мог избрать простой, проверенный пьеровский способ разрешения противоречия между мыслью и чувством -это был путь элементарного устранения одного из членов противоречия, а именно: мысли; но у него была и, скажем прямо, закрытая, табуированная Толстым, онегинская возможность гармонии, когда противоречия между антиподами сохраняются, но это не мешает мыслям и чувствам жить в границах целостного духовного мира личности. Повествователь, фактически, лишил Болконского выбора, предельно жестко сформулировав (художественными средствами, конечно) альтернативу: 116 или Болконский станет Безуховым -- или он умрет. В толстовском мире андреи болконские, не говоря уже о евгениях онегиных, не живут; они есть именно угроза этому прекрасному, поэтическому, беззащитному перед мыслью миру. Оставить Болконского в раздвоенном состоянии значило бы слишком робко и нерешительно встать на защиту жизни (и тем самым уступить часть жизненной инициативы и территории -- смерти). Этого автор допустить не мог. Поэтому умирающий князь Андрей должен был осознать всю неправоту и преступную половинчатость своей позиции и тем самым признать правоту жизнелюбивой, нерассуждающей партии персонажей романа. Вот почему затянулась пауза между жизнью и смертью, вот почему в поле зрения Болконского вновь появилась Наташа и между ними возобновились отношения жениха и невесты. Князь Андрей понял, как надо было жить -- но было уже слишком поздно: такова художественная логика заключительного этапа судьбы Андрея Николаевича Болконского. 3.5 Не успел князь Андрей покинуть палатку, где, заботливо сняв с него платье, ему сделали болезненную операцию, в результате чего он "потерял сознание", как уже произошел радикальный, окончательный переворот в его душе. "После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, -- представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность." Тут же, в палатке, князь Андрей увидел злейшего врага своего, Анатоля Курагина, которого он мечтал вызвать на дуэль и пристрелить. Разве не заслуживал этот господин, поглумившийся над его надеждами, самой суровой мести? Месть ничтожному Курагину стала едва ли не ближайшей целью жизни испытавшего все прелести унижения Болконского. Реакция на присутствие личного врага стала первой и лучшей иллюстрацией "новейшего" взгляда на вещи: "Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце. Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к 117 ненавидящим нас, любовь к врагам -- да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!" Комментарии к столь тенденциозному тексту едва ли необходимы. Христианское мироощущение безраздельно завладело душой отходившего в мир иной некогда мятежного князя. И он попросил Евангелие. Перед лицом смерти смертельно опасные мысли уступили место любви, этому всепроникающему ферменту жизни. Разумеется, в новом свете предстали и отношения с Наташей. Князь Андрей "в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею." Конечно же, Наташа не могла не появиться рядом с ним. "Вы? -- сказал он. -- Как счастливо! (...) -- Простите! -- сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. -- Простите меня! -- Я вас люблю, -- сказал князь Андрей. -- Простите... -- Что простить? -- спросил князь Андрей." Прощать было нечего. В свете новых ценностей исчезла вина Наташи и появилось чувство вины самого Болконского. Князь Андрей стремительно, в обидно-сокращенном варианте прошел все фазы не только личного, но всечеловеческого пути. Он как никто другой в романе продемонстрировал нам логику этого единственно достойного (по замыслу повествователя) пути. Он слишком быстро стал "слишком хорош" для жизни, по словам Наташи. За два дня до приезда княжны Марьи с князем Андреем, по словам той же Наташи, никогда не умевшей выражаться внятно, но всегда чувствующей глубину главного, это сделалось. Что же "сделалось" с князем Андреем? Неужели смерть пришла к нему, испытавшему прилив вселенской любви, через мысль? Толстовскому космосу, конечно, явно не хватает диалектичности, зато он безупречно непротиворечив. Мысль в мире Толстого есть смерть; но смерть для любящих жизнь, для любящих -- не есть мысль. Смерть есть нечто другое, располагающееся в одной плоскости с жизнью; можно было бы сказать, что она является оборотной стороной жизни, если бы это не выглядело навязыванием ненавистной автору умственной диалектики (что 118 касается "диалектики души" -- то здесь Толстой по праву может считаться корифеем, не знающим себе равных; при этом толстовская "диалектика души" служит способом дискредитации диалектики ума). Переход от бытия к небытию совершается в космосе Толстого не через мысль, а через чувство, ибо смерть, преодоленная наличием бога, гаранта жизни, есть в своем роде продолжение жизни. Именно приобщение к смерти (или "пробуждение от жизни") сделалось с Болконским, и это не вызвало у провожающих его, безвременно ушедшего, в последний путь Наташи и княжны Марьи протеста или, боже упаси, бунта, ибо они, не рассуждая, но чувствуя высшую целесообразность происходящего, приняли это как должное: "обе знали, что это так должно быть и что это хорошо." Впервые Болконский приобщился к смерти еще до того, как увидел Наташу и даже до того, как впервые почувствовал "жестокость своего отказа". "Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. (...) Все любить -- любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской." Вот вам и формула полноценного, гармоничного человека (такова сводная, идеальная толстовская концепция личности): любовь человеческая + любовь божественная, и при этом ни тени дерзкой мысли. Формула героя отражает главную функцию человека: реализовать некую внешнюю и высшую по отношению к человеку заданность, безропотно пестовать и взращивать предусмотрительно вложенные в него божественные "зерна". И если при наличии такой программы, обеспечивающей райский внутренний комфорт и гармонию с внешним миром, человек дерзает мыслить, т.е. самонадеянно присваивать несвойственные ему, "божественные" функции, -- такой человек обрекает себя на трагедию гордой никчемности, отъединенности, отлучения от мира. Болконскому удалось преодолеть искушение мыслью -- правда, ценой жизни. Он нашел себя в любви, а нашедший себя в любви -- это уже Герой, ибо он исполняет человеческий долг, служит Тому, Кто выше человека (ведь "любить -- любить бога во всех проявлениях"). Логика такой любви заставила совершить подвиг: "покорить припадок ужаса перед неведомым" (т.е. подавить чувство жизни, преодолеть человеческую любовь) и -- обрести "странную легкость бытия". Все это князь Андрей исполнил как должно и приблизился к "грозному, вечному, неведомому и далекому, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни (...)." 119 Вот что "сделалось с ним" и что составляет, по Толстому, самую суть таинства смерти, т.е. "пробуждения от жизни". И все же "пробуждаться от жизни" следует вовремя, после того, как сполна насладишься дарованной тебе жизнью: в этом заключается своеобразный приятный долг человека перед мирозданием. Этот долг повествователь доверил исполнять другим, гораздо более приспособленным для этой миссии персонажам. Они сполна испытали "человеческую любовь", никогда не забывая о "любви божеской". 4 ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ БЕЗУХОВ 4.1 В свете сказанного об Андрее Николаевиче Болконском совершенно ясно, что образ Пьера Безухова является зеркальной противоположностью характеру и типу личности князя Андрея. Несмотря на то, что впервые только в плену у французов Пьер "получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде", его путь был альтернативой строптивым виражам Болконского. Судьба Пьера -- это уже, если так можно выразиться, осиновый кол в гроб мысли, это торжество чувства над мыслью, души над разумом, жизни над смертью, мира над войной. "Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, -- он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки все обманули его." На первый взгляд может показаться, что общего в судьбе двух друзей гораздо больше, чем различий. Дальше -- больше: "И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве." Не правда ли, знакомые мотивы? Тем не менее объединяет их судьбы только общий для всех людей сюжет: через страдания -- к успокоению и согласию, к миру. Однако содержание страданий, способ их преодоления и, главное, результат -диаметрально противоположны. У каждого своя "война" и свой "мир" ( но это именно "война" и "мир"). Русский граф Петр Кириллович Безухов, выросший из мальчишки Пьера (чуть ли не Пьеро), не испытает до конца "ужас смерти"; ему суждено остаться в нашей памяти вечно живым, живущим исключительно полноценной, счастливой жизнью, которую 120 разделяют с ним его супруга Наталья Ильинична (бывшая Ростова), графиня Марья Ростова (сестра князя Андрея) с мужем Николаем, их чады и домочадцы. Крестный путь Безухова ведет к торжеству идиллической гармонии жизни и преодолению страха смерти, который так мучил Андрея Болконского. Имея в виду полярную значимость героев в своем мире, повествователь с самого начала скрупулезно выдерживает контраст. Уже внешне они отличаются как Кутузов и Наполеон или как Наташа и Элен. В мир толстовского романа Пьер, "массивный, толстый молодой человек", бывший "несколько больше других мужчин в комнате", входит все через тот же салон Шерер -- и сразу же производит впечатление чего-то "огромного и несвойственного месту". Он чересчур масштабен для салона и раута, а потому неуместен, как слон в посудной лавке. У Толстого, правда, сказано иначе: "у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза"; кстати, в отличие от "усталого, скучающего взгляда" Болконского, взгляд Пьера был "умный и вместе робкий, наблюдательный и естественный". "Слон" или "ребенок" (князь Василий назовет его "медведем"), но он был неприлично естественен в мире условной салонной культуры, чем шокировал приближенную императрицы Марии Феодоровны "энтузиастку" Анну Павловну. Повествователь сразу же обозначил доминанту личности: стихийную, бьющую через край жизненную силу молодого человека. Естественно, Пьер не в состоянии был сдержать хоть и "честное", но всего лишь слово, данное князю Андрею, оставить "кутежи", "гусарство", "женщин Курагина" и "вино" -- не в состоянии сдержать прущую из него природную мощь культурной, словесной регуляцией. После салона фрейлины и ученой кельи Болконского Пьер, вопреки своим намерениям (он не обладал волей князя Андрея) и здравому смыслу, но согласно логике своей натуры, едет к Курагину. Здесь он попал в свою стихию: попойка, гусарские выходки и сумасбродные пари, выворачивание дубовых рам, танцы с медведем Мишкой... Кончился вечер, разумеется, "одним из любимых увеселений Пьера": поездкой к "женщинам Курагина", "к актрисам". Если уж быть совсем точным, то финалом разгульного кутежа стало "неповиновение властям": Мишку привязали "спина с спиной" к квартальному и пустили в Мойку. Вслед за буйной забавой последовали санкции: Пьера выслали в Москву, где в это время умирал его отец, Кирилл Владимирович Безухов. 121 При всем желании такой легкомысленный образ жизни трудно назвать поисками пути. Это была демонстрация умения просто, т.е. бессознательно жить. Непочтение к законным властям в частности (кстати: Пьер был незаконным сыном графа Безухова -- какая контрастная краска и по отношению к Рюриковичу Болконскому!), и неприятие любого "закона" и регламента вообще, кроме закона удовольствий, имели для Пьера далеко идущие последствия. Ибо: закон был в мире до Пьера, и закон гласил: бессознательная жизнь облагораживается страданиями, которые ведут к согласию с собой. К согласию можно придти только через временное внутреннее рассогласование, несогласованность (страдание), иного пути к согласию с собой просто нет. Избежать пути страдания -- значило остаться Мишкой или, в лучшем случае, Курагиным (повествователь со знанием дела организовал свой мир, обозначая ярусы духовности). Вот почему Пьер был обречен на страдания, но скрытый смысл его Голгофы был весьма благоприятен для Пьера. Кто-то расчетливо, с большой перспективой планировал его судьбу... Для начала незаконный сын признается законным, но это обстоятельство не только не уберегло графа Пьера Безухова (вот вам французско-русское несочетание, диссонанс, отдающий комизмом; не оно ли послужило отправной точкой для рассогласования?) от несчастий, но стало точкой притяжения невзгод. Законно унаследовав огромное состояние, Пьер закономерно спровоцировал алчный интерес к нему расчетливо-бессердечного семейства Курагиных, которые, как пираньи, тупо, но безуспешно атаковали отходящего в мир иной вельможного графа. Пьер сам по себе их не интересовал, их интересовало богатство графа Безухова (старого или молодого -- неважно). Закономерно также, что антично совершенные телесные прелести Элен обворожили новоиспеченного графа, склонного к удовольствиям. А за удовольствия рано или поздно приходится расплачиваться. Князь Василий, сам живший "по инстинкту", сделал из своей дочери отменную приманку для такого крупного зверя, как Пьер. "Мраморная" Элен тоже вела себя "по инстинкту" (иначе она просто не умела), и ставка была сделана на "инстинкт" Пьера. Результат был более чем закономерен. "Она (Элен -- А.А.) была страшно близка ему. Она имела уже власть над ним. И между ним и ею не было уже никаких преград, кроме преград его собственной воли." А с волей, как известно, у незрелого душой Пьера были проблемы. Чем "плохи" инстинкты? 122 Тем, что человек им подчиняется, а они ему -- нет. Инстинктам можно противопоставить либо врожденный "нравственный инстинкт" (таким даром, судя по всему, в высшей степени обладала Наташа Ростова), либо, на худой конец, разумную волю (что просматривалось в натуре князя Андрея). Курагины были "страшны" тем, что их звериный кураж не был ограничен ни тем, ни другим. Катастрофический дефицит одухотворяющей, божьей искры делал эту "подлую, бессердечную породу" (так аттестовал Пьер великосветскую семейку после низкой интриги Анатоля в отношении невесты князя Андрея) людьми самой низшей пробы. Отсутствие нравственных преград страшно сближало эту породу с животными. Черты человеческого вырождения явно сквозили в облике Ипполита (по едва ли случайному совпадению обладавшему "лошадиным" именем). Впрочем, Пьер достаточно трезво видел порочные наклонности хищной породы еще до женитьбы на выразительной Элен. Скандальный интерес Анатоля к сестре. "Брат ее -- Ипполит. Отец ее -- князь Василий. Это нехорошо." Но охота пуще неволи. Что были бедные (подчеркнутые скудным синтаксисом) доводы разума в сравнении с ее телом, "только прикрытым серым платьем!" Когда душа и воля молчат -- говорит тело языком инстинктов. Но даже они не могли заставить Пьера сделать решающий шаг -- формально просить руки Элен. И подобная непоследовательность поведения (отражающая, как мы убедимся, "последовательность наоборот") в высшей степени характерна для Пьера. Он испытывал "неосознанное чувство виноватости", поскольку его влечение к Элен было напрочь лишено не то что поэзии, но просто элементарной душевности. Он был виноват тем, что де факто был одним из стаи и жил по законам стаи, поступал не почеловечески, а по-курагински. Пьер не в силах был выдавить из себя "да"; но у него не хватило характера отрезать "нет"! Особенность поведения Пьера состояла в том, что он руководствовался не стратегией "от ума", а -- "неосознанными чувствами". Персонажи именно такого типа, как Пьер, и потребовали "диалектики души", вскрывающей противоречия сознания и подсознания с тем, чтобы вечно оставлять разум в дураках. Психологизм Толстого -- невероятно разнообразен, тонок, художественно точен и убедителен. Он подчинен единой сверхзадаче -- всегда, в любом невольном психологическом жесте или интеллектуальном контрдвижении обнаруживать неземную зависимость -- и, соответственно, сверхразумность -- первого и поверхностную надуманность (следовательно, неосновательность и 123 несостоятельность) второго. По Толстому получается: Пьер был прав в главном -- прав в том, что испытывал чувство вины. Узы брака был не его выбор, он запутался в сетях не умной, но хитрой породы. Получилось то, что в народе называется "без меня меня женили". Пьер, конечно, пролепетал положенное в таких случаях "я вас люблю" (однако не порусски, а по-французски, по-светски, без души); "но слова эти прозвучали так бедно, что ему стало стыдно за себя". В общем, читатель, благодаря психологизму, на каждом шагу чувствует, что в Пьере присутствует несомненный внутренний стержень, что жизнь его складывается "нехорошо" не потому, что он плохой, а потому, что он еще не окреп душой, не узнал себе истинную цену. Вместе с тем на фоне хищного семейства "невинная" склонность Пьера к телесным удовольствиям, обнаруживающая избыток сил -- симптом укорененности в жизнь, обнаружила и изнанку природной саморегуляции: дефицит человечности и воли к добродетели. По мере разворачивания в Пьере его изначально "не подлой", честной натуры, склонность к удовольствиям постепенно ограничивалась до нормы и свято место в душе заполнялось стремлением к добродетели. Следовательно, наступало время платить за удовольствия -- по предъявленным векселям судьбы. 4.2 Бурная молодость не прошла бесследно. Долохов, свидетель и инициатор милых проказ, "пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером", "прямо приехал к нему в дом" -- и вторгся в жизнь Пьера. Совершенно "цинически" Долохов воспользовался гостеприимством "друга", чтобы как можно больнее унизить его. Пьеру предстояло сделать несколько неприятных открытий: в глазах друга и света он был всего лишь жалким посмешищем, "мужем хорошенькой женщины", жена его была "развратная женщина", а в глазах жены он был дураком и полным ничтожеством. Положение обманутого супруга обязывало. Пьер должен был определить отношения с миром, где в цене были только удовольствия и инстинкты. Когда он думал об этих людях, "что-то страшное и безобразное поднималось в его душе". Соприкасаться с этим миром и не содрогаться брезгливо -- значило принимать законы этого мира. Пьер, к его чести, поступил абсолютно неразумно, дав волю чувствам: он вызвал на дуэль записного бретера и буяна. Казалось бы, шансов у Пьера -- никаких. Долохов, вспомнив совет "костромского медвежатника", уже смаковал "медведя"-Безухова в качестве жертвы, так сказать, делил шкуру неубитого зверя. 124 Однако произошло чудо (дело в романе Толстого обычное). Вопреки всем законам здравого смысла близорукий и неуклюжий Пьер, который к тому же никогда прежде не держал в руках оружия, подстрелил бравого охотника. И это был первый серьезный тест Пьеру и читателю, размышляющему над судьбой Пьера: кто добыча, кто охотник? Что разумно, что неразумно? Кто знает? "Кто прав, кто виноват? Никто. А жив -- и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?" Ведь Пьер, по существу, уже нащупал главный аргумент в споре об истине, он как-то сразу, мгновенно и счастливо совершил главное открытие, к которому вернется много лет спустя в плену у французов. Почему же он не поверил себе? Потому что это был всего лишь логический ход, только "рассуждение". Для полноты истины не хватало одного, и тоже главного: убежденности в том, что все предельно просто, веры в то, что не тебе решать, кто прав и кто виноват. Путь к этой высшей простоте -- и есть путь Пьера. Следующий шаг в направлении простоты был сделан при выяснении отношений с женой. Способ, подвернувшийся под руку Пьеру (он, опять же, ничего не просчитывал, все вышло случайно, само собой, даже вопреки планам уехать от жены без объяснений, оставив лишь письмо), был гениально прост: он почувствовал, что на подонков, у которых душевные комплексы находятся в зародышевом состоянии, успокаивающее и отрезвляющее влияние оказывал метод непосредственного физического воздействия, от тела -- к телу, минуя совесть и душу: на Долохова -- пистолет, на Элен -- мраморная доска, на Анатоля -- трепка за воротник, как урок нашкодившему коту. Подобное укрощается подобным. "Общение телами", оказывается, был не только способ сближения, это был универсальный способ регулирования отношений с "бессердечной породой". Жена Пьера "с морщинкой гнева" "на мраморном, несколько выпуклом лбе" (богиня, да и только!) -"взвизгнула и отскочила от него", увидев занесенную мраморную доску в руках рассвирепевшего "медведя". И далее: "Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: "Вон!" -таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик." Вот кто был истинный Юпитер-громовержец, а не его визгливая потаскушка-жена. Пьер был ослеплен бешенством (т.е. не мог разумом контролировать свои действия), но, в отличие от Юпитера, он открывал в 125 себе "неизвестную еще ему силу", которая состояла в том, что он был силен тогда, когда чувствовал, что прав. Он был из той породы, что сильна чувством правоты. Только после выяснения отношений с женой Пьер вступил в новый, собственно духовный этап своей жизни. И начал он, по духовной неискушенности, не с того конца. Будучи сильным даром веры, даром всепоглощающего чувства ("прелесть бешенства" и прелесть добродетели -- полюса которого), Пьер принялся задавать себе умные вопросы. Холостые обороты мысли гоняли "смысл" по замкнутому кругу. Механистичность, неорганичность вопросов подчеркнута "механическим" сравнением: "Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь." Вопросы были такие: "Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?" Очевидно, что вопросы выросли из тех, что пришли ему в голову после дуэли с Долоховым. Ответ был один, но "вовсе не на эти вопросы": "Умрешь -- все кончится. Умрешь, и все узнаешь -- или перестанешь спрашивать." Жизнь -- не конструкция, она не может держаться "на винте", читаем мы между строк, в последовательности "сцепления образов" инструкцию повествователя. Чего не хватало безупречной, механистичной логике вопросов? Им "не хватало" только одного: они не имели отношения к жизни. Они были сами по себе -- жизнь сама по себе. Поэтому ответ был правильным - но он "не решал вопросов". Не было "сцепки", если продолжить механику сравнения, вопросов с жизнью. Но Пьеру казалось, что вся разгадка жизни именно в нерешенности вопросов. И он пошел по пути решения вопросов, т.е. по пути отдаления от жизни. Следующий круг жизни Пьера, его хождение в масоны, это именно холостой круг мысли. Лжемудрость иероглифов, алхимия мысли, софистика, гимнастика ума, таинственная атрибутика и "наука" ордена -словом, "мистическая сторона масонства" просто не имела никакого отношения к жизни, к душе, к дару веры. Он же искал в масонстве то, что могло объяснить жизнь. Ростки жизни торчали из масонской доктрины, как трава "между плитами камней" (таким сравнением , как известно, начинается роман "Воскресение"). В мире "свободных каменщиков", в их надуманном братстве Пьер очутился по одной простой причине: потеряв веру в 126 разумность, он, как ему казалось, вместе с ней потерял и веру в бога. И он хотел именно с помощью разумно выверенной веры восстановить веру в бога. Вот почему "разумные доводы" Баздеева, масонского "ловца человеков", произвели такое сильное впечатление на Пьера. После того, как Пьер произнес "кощунственные слова" о своем неверии в бога, он услышал в ответ мастерское, искусно выстроенное и опять же "механическое" слово: "ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что (споткнемся о "механический" синтаксис и отдадим должное искусности повествователя -- А.А.) он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал." Масонство предписывало три назначения, семь добродетелей -- в общем, не так уж много премудростей, с помощью. которых Пьер надеялся разгадать тайну жизни и смерти. А главное -- Пьер видел в масонстве то, что хотел видеть: для него это был способ отринуть "порочное прошедшее" (когда Пьера, проходящего ритуал вступления в масоны, попросили назвать основной свой порок, то поставили его в большое затруднение: у него было из чего выбирать: "Вино? Объедение? Праздность? Леность? Порочность? Злоба? Женщины?") и наладить "добродетельное будущее". "Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным." В нем была добродетель, но она "случайно" оказалась невостребована... Он хотел "обновления". Мастера риторики тут же предложили технологию "включения" призабытой добродетели, и Пьер с его искренней верой в мудрость братства оказался в таком же глупом положении, как и тогда, когда верил в добродетельность своей жены. Никакого "обновления" на деле, конечно же, не произошло и произойти не могло. Произошла только смена декораций: "Вместо новой жизни, которую надеялся повести Пьер, он жил все той же прежней жизнью (читай: прежними "слабостями", пороками -- А.А.), только в другой обстановке." Но смена вектора духовного все же наметилась. И вот с наивной верой в силу добра, любовь к ближнему и самопожертвование Пьер предстал перед князем Андреем (вспомним их диалог на пароме). Вера оказалась настолько заразительной, что победила неверие Болконского. Итак, Пьер Безухов знал, как следует жить, но у него почему-то не получалось так, как надо. И спустя два года "жизнь его (...) шла попрежнему, с теми же увлечениями и распущенностью." Неизбежно 127 приближался кризис. Пьер, стоявший во главе петербургского масонства, побывал за границей, посвятил себя в высшие тайны ордена и по возвращении предложил своим собратьям весьма рациональную программу деятельности братства, смысл которой сводился к тому, чтобы быть тайной властью, управлять, "нечувствительно вязать руки покровителям беспорядка", внедрять порядок, "всеобщий владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом" и т.д. Пьер по-своему замахнулся на генеральные функции господа бога, мастера над мастерами: "переродить порочный род человеческий", отладить, отрегулировать жизнь, внести в нее тайный порядок. Вот чему научила "мыслящая" заграница русского графа Безухова. Однако жизнь мгновенно отрезвила Пьера. Он увидел "бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям." Он сделал попытку, так сказать, унифицировать истину, навязать свое, очевидно, наиболее объективное представление об истине (гарантией чему, надо полагать, служили субъективные, но добрые намерения просветившегося графа) братьям по ложе, а в перспективе и "целому свету", но не смог найти и одного полного единомышленника. Истина одна, умов много, и каждый ум видит истину по-своему. Следовательно, истину умом не понять. Хочешь понять истину -- откажись от ума. В результате проделанной громадной умственной работы "на Пьера опять нашла та тоска, которой он так боялся". Механизм происхождения тоски нам уже известен: "свернутый" винт безупречной логики "в себе" -и просто жизнь со своей тайной логикой... Тоска есть результат их нестыковки, невозможности одним познать другое, результат ощущения их разной природы. Мир вновь распался на части, фрагменты, осколки смыслов. Пьер перестал чем-либо дорожить в жизни. Ему было все равно. Он сошелся с женой, стал исполнять роль мужа-чудака при "самой замечательной женщине Петербурга". И все же подспудная, неподотчетная разуму работа в душе Пьера не прекращалась, несмотря на "припадки ипохондрии" и "мрачные мысли о тщете всего человеческого". 4.3 Лучшим подтверждением невидимой работы в душе героя, по мнению повествователя, послужил тот факт, что "Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал 128 невозможность продолжать прежнюю жизнь". "Прежнюю" -- в данном контексте означает "увлекаться внутренней работой самосовершенствования", как советовал его благодетель Иосиф Алексеевич Баздеев. "Неочевидной" же причиной послужило именно сватовство. Очевидно, Пьер уже давно, втайне от себя любил эту "редкую девушку", это "сокровище", как он отозвался о ней князю Андрею. Но любил он ее не так, как Берг -- Веру: "я люблю ее", -- обосновывает Берг -"потому что у нее характер рассудительный -- очень хороший. Вот другая ее сестра -- одной фамилии, а совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того (...)" (речь идет о Наташе -- А.А.). В разговоре с княжной Марьей, рекомендуя ей будущую невестку, Наташу, Пьер "сказал то, что он скорее чувствовал, чем думал. (...) "я решительно не знаю, что это за девушка; я никак не могу анализировать ее. Она обворожительна." "-- Умна она? -- спросила княжна Марья. Пьер задумался. -- Я думаю, нет, -- сказал он, -- а впрочем -- да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего." Пьер действительно любил Наташу, поэтому не мог "анализировать" ее. Критерии ума в данном случае были неактуальны, не важны. Пьер в своей тайной внутренней работе давно уже, практически всегда, ориентировался не на ум, а на что-то другое; и в то же время он продолжал "прежнюю", умственную жизнь, ведя аналитический дневник, в котором отражал поучительные разговоры и фиксировал фазы своего "совершенствования", главная цель которого была -- достичь "любви к смерти". Таким образом, противоречие, определяющее внутреннюю жизнь Пьера и ввергавшее его в тоску, было очень простым (что не мешало ему фокусировать кардинальное противоречие всего романа): он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил Наташу, не любил сухой умственной работы -- и обязан был, по добровольно исповедываемому заблуждению, не любить жизнь и стремиться к "любви к смерти", через аналитическую мысль, через убиение души и чувства... Когда Наташу "отобрали", он "вдруг почувствовал", что давно уже шел тропами тайного душевного курса, параллельного, а то и встречного курсу аналитическому, который он и сам считал правильным и единственным. Теперь, когда терять было нечего, следовало расставить все на свои места и назвать вещи своими именами. Но Пьер лишен был цели, точки приложения незаурядных внутренних сил -- лишен Наташи. Поэтому: "Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми 129 компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание." Дремлющие жизненные силы невозможно было смирить любовью к смерти (Пьер так и не научился не бояться ее), время от времени они начинали клокотать, как вулкан; но никак не удавалось Пьеру найти соответствующее собственному человеческому масштабу социальное и персональное русло. И он с ужасом думал, что "его колея давно пробита", что ему, богатому мужу неверной жены, любящему покушать и выпить, придется "добродушно доживать свой век в Москве" отставным камергером, участь столь же пустая, сколь и унизительно типичная. "Болезнь" задавать вопросы не прошла, она "была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его". Но уже был "опыт", который подсказывал, что на вопросы не было ответов. Поэтому Пьер отвлекался, увлекался, забывался -- "спасался от жизни", ибо жить без смысла он не мог. Именно Пьеру, по замыслу повествователя, суждено было отыскать тот род смысла, который предрасположен стыковаться с жизнью, а также просеять и отвергнуть тот род смысла, который засоряет жизнь, мешает и угрожает ей. Тот, кому дан ум, может идти только универсальным путем Пьера -- так библейски широко ставит вопрос Толстой. Простая задача "любить жизнь" была уже почти решена Пьером бессознательно на личном уровне. После истории с Анатолем Курагиным (именно тогда Пьер устроил выволочку шурину) Пьер неожиданно для самого себя, но предсказуемо для читателя и запланированно для "образа автора", признался Наташе в любви. Это было глупо, безрассудно, это не имело смысла --- и одновременно в этом сквозил высший смысл. Пьер распахнул свою "медвежью шубу", подставляя незащищенную грудь всем морозам мира, и душа его возвысилась до звезд. Даже контакт с лучистой кометой радостно плачущий Пьер воспринял как должное: "звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе." И все-таки чтобы философски решить задачу "любви к жизни", надо было вернуться к Наташе, обогащенным опытом переживаний, добытым не только из сферы "малого мира" (московское и петербургское общество, масонство, неудачный брак ), но и "мира большого": страны, народа, истории. Вот тогда личная жизнь становилась моментом общей жизни, мира и тогда человек обретал неслучайную гармонию, равновесие и довольство собой. Как видим, Пьер меньше всего решал личные проблемы; как персонаж, как герой "Войны и мира" он выполнял миссию: концентрировал в душе 130 все проблемы мира и, преодолевая сопротивление реальности, становился счастлив. Он добывал рецепт счастья для всех, в том числе и безнадежных, т.е. самых умных; он добывал методологию нейтрализации ума. Любить и понимать Толстого -- значит сочувствовать Пьеру. Повествователь исключительно точно и корректно, в безупречных с научной точки зрения терминах прописал механизм замещения проблемы. И психоаналитически, и философски -- безупречно. Пьер с того дня, как смотрел на комету, символизирующую яркость и быстротечность жизни, "почувствовал" новый способ решения вопроса: теперь "вопрос о тщете и безумности всего земного" ("зачем? к чему?") "заменился" не более правильным вопросом и не правильным ответом на прежний вопрос, а -"представлением ее" (Наташи -- А.А.). Абстрактные системы понятий заменились переживанием представлений, образов, чувственными ощущениями; феномен сознания устраняется, заменяясь психогенными фантомами. Строго говоря, происходит подмена одного другим. Толстой прав: от этого бывает только "хорошо", и вопросы, объективно не решенные, субъективно перестают существовать, перестают быть источником мучений. Они "вынуты" из души как представления, и душа переключается на совсем иные, более приятные для субъекта представления (позднее, после опыта общения с Каратаевым, Пьер назовет это "спасительной силой перемещения внимания"). "Представление ее" вытеснило тоску, а вместе с последней и вопросы: произошел классический эффект вытеснения. Но Толстой придал этому сугубо психическому акту и философское измерение: проблему отношения к миру он свел к проблеме приспособления (посредством вытеснения), а проблему познания вынес за скобки. Стало неважно, насколько реальны твои вопросы, поскольку была открыта возможность избегать самих вопросов. И получилось: а был ли мальчик? Стоит ли думать, если представления живут по своей логике, которая не зависит от логики мыслей? Можно думать и становиться от этого несчастным, а можно стать счастливым вовсе не думая. Все это по большому счету давно называется субъективным идеализмом, но в мире Толстого имеет статус чрезвычайного открытия. И действительно: никто так до Толстого языком представлений и образов не прописывал противоречий между психикой и сознанием, тенденциозно (и абсолютно ненаучно) отдавая предпочтение животворным функциям первой. Но это уже другая, не толстовская тема. Толстой же по-своему, художественно и "по-человечески", был прав: "хорошо" бывает тогда, когда перестает быть "плохо". 131 Далее Пьер, интуитивно предчувствовавший вселенскую катастрофу, стал нащупывать нити, которые связывали его с "большим миром". Он открыл, что именно он, "русский Безухов", призван (кем? чем? кометами, Библией?) уничтожить Наполеона. Предчувствие было верным, но Пьер опять оглупил его рационально-мистической каббалистикой, примененной по технологии масонской науки. Впрочем, любой шаг в его положении выглядел бы глупым: он безнадежно любил Наташу, которая, очевидно, уже догадывалась об этом; но он был женат, Наташа же надеялась на примирение с Болконским . Перспектив в их отношениях не было. И Пьер пошел в народ, в мир. 4.4 Первый опыт знакомства со стихией народного энтузиазма прошел для Пьера не вполне успешно, хотя и весьма поучительно. Случилось это в Москве, в зале Дворянского собрания Слободского дворца, а не на поле сражения. Что выделяет в этой массовой сцене повествователь? Собрание дворянства и купечества было способом консолидации, сплочения сословий перед лицом опасности, которая угрожала государству; кроме того, от сословий, помимо патриотического одушевления, ждали конкретных действий: отечество нуждалось в ополчении, в "пушечном мясе", в мужиках. Был прочтен манифест государя императора, все ждали приезда самого русского самодержца. Пьер в своем "узком" дворянском мундире (забегая вперед, отметим, что и платье мужика будет ему тесно) был в волнении: он ждал совещания государя с народом. Возник стихийный митинг, где Пьер и решил обнародовать вольное, конституционное направление своих мыслей. Словно в ложе перед братьями, он размеренно, акцентируя разумность доводов, начал речь: "(...) я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтобы обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю (...), что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, (...) но не нашел бы в нас со... со... совета. (...) Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммюникировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда..." Европейски образованный Пьер попал в положение тех, в основном, иностранных генералов, которые верили в строгую логику диспозиции, военную науку и вообще в силу разума, логики и дисциплины. Такие генералы, как известно, были посрамлены мощью русского беспорядка, 132 победоносным легкомыслием русского духа. На Пьера налетели со всех сторон. Лейтмотив "оппозиции" был один: "не время рассуждать", "бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию." Толпа не реагировала на мысль, она сочувственно воспринимала именно восторг, воодушевление, патриотизм, она ценила больше звуки, мимику, жесты, чем смысл речей. И Пьер поддался настроению дворянского собрания: "Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться." Под конец, когда, после слез государя, всеобщая истерия достигла апогея, собственная речь уже представлялась Пьеру "как упрек"; он искал случая "загладить" это, и, разумеется, нашел. Так Пьер слился с народом, растворился в нем, отрекся от гордости мысли. Смысл урока, полученного при общении с народом, состоял в следующем. Один в поле не воин, надо быть со всеми, с миром; а мир, народ не воспринимает "коммюникирования" при посредничестве мысли, он реагирует только на язык представлений, таких, например, которые содержались в речи "писателя Глинки": "ад", "улыбающийся ребенок", "блеск молнии", " раскат грома"... Это совсем не то, что "обсудить меры". Глинку слушали и восторженно ревели, а конституционная публицистика Пьера сделала последнего "предметом ненависти" для толпы. Хочешь быть с народом -- говори с ним тем языком, который он понимает. Дух народа -- исключительно психологическая материя, вот почему народ "понимает" того, кто чувствует с ним заодно. Тот, кто начинает думать -- неизбежно отдаляется от народа. Пьер, как вытекает из представлений, из концептуальных картинок повествователя (за которым стоит писатель Толстой), был просто создан из народного теста (хотя до поры до времени плохо себе это представлял), был плоть от плоти народа, как Кутузов, Наташа и Николай Ростовы, Каратаев. Вот почему Отечественная, народная война стала для Пьера способом единения с большим миром, способом окончательно связать все миры в один, цельный и неделимый. Он как бы случайно оказался "при войске", хотя его тянуло туда "чувство необходимости предпринять чтото и пожертвовать чем-то." Это и был своеобразный эквивалент чувства единения: он чувствовал то же, что и все. И это было "новое радостное чувство". Примеров деятельной жертвенности, эпидемией охватившей народ, разные сословия, низы и верхи, в романе представлено достаточно много. Граф Мамонтов "жертвовал" полк, Безухов -- тысячу человек и их содержание, семья Ростовых -- нажитое богатство, которое было, 133 фактически, приданым дочерей; купец Ферапонтов с "рыдающим хохотом": "Решилась! Расея!" -- сам "запалил" свое хозяйство, чтоб только не досталось "дьяволам", Расея пожертвовала Москву... Бородинское сражение, ставшее кульминацией романа, вовсе не случайно мы наблюдаем неравнодушными, близорукими в отношении выгоды, но не истины, глазами Пьера. Он как никакой другой герой подходит на роль активного свидетеля противостояния не двух армий (это близорукое представление), а двух цивилизаций, двух способов освоения мира: европейского и русского, разума и иррационального духа народного. Пьер вокруг себя видит больше, чем войну; он видит модель того, что происходило -- и происходит на тот момент -- в его душе. Победа русского духа над просвещенными двунадесятью языками Европы символизирует перелом во внутреннем мире Пьера, а именно: окончательное утверждение "веры" над "разумом". Даже сам факт военной "непобеды" ни одной из двух сторон был на руку Толстому: ибо победил тот, кто верил, что он победил. А если факт непобеды был очевиден даже в числовом выражении (русские потеряли половину своего войска, французы -- только одну четверть), то тем хуже для факта. Вера питается не фактами, а субстанцией еще "дофактической". "Вещество" веры -- не материально, а потому мерки разума к ней непреложимы. Если принять сказанное во внимание, то мы должны признать целесообразность того, что Безухову отведена была роль наблюдателя не за количественно-фактической стороной дела (где, когда, сколько, позиции, диспозиции), а за главными компонентами победы. Близорукий во внешнем мире Пьер обостренным внутренним зрением выделял принципиальные мелочи, которые, на первый взгляд, не имели отношения к схватке Востока с Западом. Вот почему общая панорама исторической битвы -- за тенденциозным повествователем, а главные духовные мелочи - за подслеповатым Пьером (вместе они, надо полагать, делают общее дело). Вот почему чудаковатый граф, оказавшись в эпицентре событий, так глупо мотивировал свое присутствие: "да вот хотелось посмотреть", "интересно". "Я хотел видеть сражение," -- скажет Пьер князю Андрею. Словно он решал свои личные проблемы, а потому стеснялся своей функциональной свободы. Он ведь был ни к чему не приписан, никому ничем не обязан, ничего не должен. Самое "интересное", что так оно и было. Но правда при этом заключалась в том, что его личные проблемы стали проблемой народной. 134 В поле зрения Пьера попадают какие-то заурядные, обыденные картины, которые потрясают его своим "пафосом отсутствия пафоса". Нерв, "тайная связь" , объединяющая бесконечную мозаику увиденного, чрезвычайно проста: русским наплевать на военный гений Бонапарта, они решили победить во что бы то ни стало, "всем народом навалиться хотят". И у них нет ни тени сомнений в своей победе. А о жизни и смерти они не думали. Но это и есть самая настоящая победа жизни и преодоление страха смерти. Надо делать то, что надо и не думать о том, что будет. Рутинные действия простых солдат, в восприятии Пьера, оказывались исполнены высшей значимости. Не на личностях сильных мира сего и не на ключевых диспозициях сосредоточился Пьер. Ему казалось, что в поезде раненых (в Шевардинском сражении), спускавшемся с Можайской горы, "тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса" (это было, напомним, 25 августа, за сутки до начала битвы). Дух раненых был не сломлен. А мимо раненых бодро, с песнями двигались "щегольки"-кавалеристы, -шли весело, видя перед собой то, что их ждет в лучшем случае. Их ждала смерть -- а они подмигивали раненым. "Странно!" -- думал Пьер. "По какой-то тайной связи мыслей" он остановил свое внимание на мужикахополченцах "с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали (...)." Вид этих просто делающих свое дело и ко всему готовых мужиков "подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты." Вот какие "представления" действовали на Пьера. (Между прочим, "таинственная связь" поддерживала и дух армии, составляла "главный нерв войны". Кутузов, вопреки "объективному" донесению Вольцогена, объявил о победе русских и подписал приказ о завтрашнем наступлении на неприятеля -- чем и "доказал" факт победы, а также укрепил дух войска. Общий дух армии регулировался теми же способами (тайной связью), что и персональный дух Пьера: вот еще одно несомненное "доказательство" правоты графа.) Но видел Пьер и эгоизм рационалистов, подобных Борису Друбецкому, которые "в такую минуту" были возбуждены "вопросами личного успеха", а не "общими, вопросами жизни и смерти". Тут интересна сама отмеченная связь эгоизма, циничной рассудочности и черствости души; другой ряд ценностей -- общность, жертвенность, душевная открытость -- не просто противостоит первому, но делает первый жалким пятном на 135 втором, всего лишь ничтожным вкраплением на полотне жизни. Очевидная несоразмерность первого со вторым снимает вопрос о приоритете, о нормальной ценностной ориентации. Масштаб и значимость происходящего отводят место "партии Бенигсена" (к которой примыкал и карьерист Друбецкой) на обочине жизни и истории. Кстати, примерно о том же говорит князь Андрей Пьеру вечером накануне битвы. "Аккуратный немец" Барклай, по мнению Болконского, не годился в главнокомандующие именно потому, что тщательно все "обдумывал". Какой же русский станет "обдумывать"? Тут уж либо "обдумывать" -- либо "наваливаться". И самую "минуту", т.е. непосредственный момент сражения, Пьер воспринимает как-то обыденно, не как ситуацию героическую. Но не будем забывать, что еще в последнем разговоре с князем Андреем Пьер "в новом свете" "понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. (...) Он понял ту скрытую (...) теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти". Пьер ничего не понимал в том, как развивается сражение, он был подетски заворожен внешней "красотой зрелища", дымами и звуками выстрелов. Но по странному, необъяснимому, как хотелось бы повествователю, стечению обстоятельств он оказался в самом важном месте сражения, которое, впрочем, ему самому казалось одним из самых незначительных мест -- на курганной батарее Раевского. Разумеется, невоенный Пьер в своей нелепой белой шляпе производил впечатление белой вороны, но вскоре солдаты "мысленно приняли Пьера в свою семью" и дали ему ласковое прозвище "наш барин". Безо всяких усилий он стал одним из всех, "нашим", хотя и барином. (Так логика целого романа была заключена в "зерно", из которого это целое и вырастало. Этот момент романа, как и все остальные, не эпизод, не часть целого -- а именно момент целого, такой же, как и Пьер по отношению к народу, к миру. Каждый момент, зерно целостности сохраняет все свойства целого, а целостность -- это и есть совокупность моментов, но не частей. Иначе говоря, момент и целое, в отличие от части и целого, связаны органически, а не механически.) "Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание (...) разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе." Пропуском в семью, в общий мир послужило наличие огня в 136 душе, возникающего из скрытой теплоты патриотизма. Состояние духа интересовало Пьера, и ничто другое. При этом Пьер, как и все, "не помня себя от страха", совершал судорожные, жизнеохранительные маневры. Он, в отличие от князя Андрея, вел себя естественно, "инстинктивно оборонялся" -- так же, как лошади, которые метались вокруг него. Пьер не стеснялся "сидеть на заду, опираясь руками о землю", "нагнуть голову" под свистом ядра. Судьба и повествователь бережно хранили Пьера, одного оставшегося в живых из всего "семейного кружка". Патриотический дух, "доказывали" они, не противоречил духу жизни. Пьер уцелел в той мясорубке и почувствовал главное, что повествователь выразил такими словами: "Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы (...), погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника." Мысль и разум были повержены, оставалось только надлежащим образом (философски и художественно) оформить эту "нравственную победу". 4.5 Роман уже тем, что он роман, противостоит собранию соединенных мыслей; мыслей как таковых в романе нет (во всяком случае, не они делают роман), они живут в концептуальных "представлениях", сама концептуальность которых возникает "из ничего", из последовательности и контекста "представлений". В хорошем романе все происходит естественно, т.е. в продуманной последовательности. В данном случае впечатление естественности значительно усиливается интересом к диалектике души, ибо естественность складывается из противоречивости. Пьер хоть и "мыслит", по преимуществу, чувствами и представлениями, но чувствами живыми, противоречивыми. Прочувствовав теплоту семейного кружка, Пьер проникся глубочайшим благоговением перед простыми солдатами: " Они -- эти странные, неведомые ему доселе они ясно и резко отделялись в его мысли (читай -- в представлении -- А.А.) от всех других людей." Уже в конце сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер пошел, "замешавшись в толпы солдат." Они же вечером того же исторического дня накормили его народной пищей, "кавардачком", который граф ел из общего котелка деревянной ложкой, одолженной у солдата. Кушанье показалось ему "самым вкусным из всех кушаний, которые он когда-либо ел." "-- Ты, стало, барин? 137 -- Да. -- А как звать? -- Петр Кириллович." Так, самым естественным образом, офранцуженный граф стал русским барином. Здесь же, кстати, пригодилась простонародная семантика, заключенная в фамилии Петра Кирилловича. Гармония, которую Пьер ощутил внутри, чудесным образом стала распространяться и на мир внешний. Граф все более и более врастал в народ. "Солдатом быть, просто солдатом! -- думал Пьер, засыпая. -- Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими." Андрей Болконский, природный аристократ, "опустился" до командира полка, стоящего все же, что ни говори, над солдатами (хотя и он заслужил титул "наш князь"). Это был предел княжеского опрощения. Петр Кириллович пошел значительно дальше, желая стать одним из них, из солдат. Но секрета, как стать клеточкой организма под названием народ, Пьер пока не знал. И вот в здоровом сне после сытного кавардачка Пьер услышал мысли, "вызванные впечатлениями этого дня". "Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное -- золотое." Они -- это целая категория. Как же достичь их золотой простоты ему, думающему и говорящему, утратившему за границей естественную простоту, растерявшему в салонах умение просто делать и покоряться? От народного, близкого к природной "неразвитости" (т.е. неразвращенности культурой), осталась разве что способность подчиняться припадкам бешенства, поступать импульсивно, по инстинкту, не рассуждая. Как, как подняться до их неразвитости, сбросить культурный груз, стать проще -- более соответствовать самым главным законам мира? (Переведем представления Пьера на язык мысли: весь давящий культурный груз есть не что иное, как умение думать, оперировать мыслями, концепциями, теориями, мировоззренческими системами, умение задавать себе "лишние" вопросы; отсюда следует: стать проще -- это, в первую очередь, перестать думать или научиться не думать и только во вторую -- отказаться от изысканных кушаний, привычной роскоши, привилегированных условий жизни.) Во сне же, когда разум спал, и был получен не вполне членораздельный, недосказанный, но вполне исчерпывающий ответ. Его, конечно, нельзя было объяснить, зато без труда можно было усвоить. Итак, откровение гласило: "Самое трудное (...) состоит в том, чтобы уметь 138 соединять в душе своей значение всего. Все соединить? -- сказал себе Пьер. -- Нет, не соединить. -- Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли -- вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!" -- с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос." (Заметим: смысл того, что выразилось (кем?), был настолько глубок и магистрален, что Пьер долго еще будет осваивать его.) Что же хотел выразить Пьер и что же "выразилось" этими золотыми словами (мы опять вынуждены "переводить" Пьера с золотого языка души на серебряный язык разума, в противном случае мы должны немо остолбенеть перед романом в "золотой" позе и ограничиться душевной медитацией; нас оправдывает только то, что роман также написан словами, пусть и золотыми, с серебряными вкраплениями "формул")? Понимая, что в мире Толстого все сказанные аналитические слова по поводу слов золотых (заключающих неизрекаемый смысл) будут по определению "серебряными", т.е. неадекватно выражающими "несказанный смысл", мы тем не менее прокомментируем золотой термин, имея в виду, что в мире чистой мысли, не вошедшим в мир Толстого, надо говорить, если способен что-либо понять, а не прятаться за "представления"; молчание или художественное говорение будут означать следующее: ты не понял или недостаточно понял то, по поводу чего ты молчишь или выражаешься художественными представлениями. Почему надо именно "сопрягать" мысли, но ни в коем случае их не "соединять"? Потому что сопрягать мысли в душе -- значит подчинить их не мысли или (что то же самое) соединять мысли по законам чувства, души; мысли же, соединенные по законам мысли, функционируют сами по себе, вхолостую. Вот когда "скрутившийся винт" занял свое, подобающее винтику место в органике жизни! Можно мыслить -- но в рамках души. Мысль и сохраняется (ведь есть же мысль в мире!), и в то же время, как и положено, обессмысливается (ведь мир же несводим к мысли, к вопросам и ответам). И волки разума сыты, и овцы жизни целы. По существу повествователь не предложил ничего иного, как объявить сознание продленным рычагом психики; функции сознания предлагается считать нормальными только тогда, когда они осуществляют функции психики. Разум был объявлен моментом души. (С позиции разума, напомним, рефлектирующее и моделирующее сознание могут стать моментом друг друга только ценой отказа от собственной сущности. Они 139 автономны и суверенны, логика одного не признает и не понимает логики другого. И если они нашли общий язык -- значит одно включает в себя другое, значит сознание заговорило языком психики: здесь Толстой безупречен. Однако в интересах истины не следует сводить отношения психики и сознания к поглощению одного другим. Тип отношений здоровых и самоценных психической и сознательной субстанций -принципиально иной; но это, повторим, не тема Толстого; это уязвимая философская точка гениального писателя.) Отдадим должное философскому дару Толстого. Ничего более гениального в истории культуры душа, выражающая себя через моделирующее сознание, не придумала: она может только верить в свою победу над разумом, не интересуясь тем пустяковым фактом, была победа или нет. Поздравим и Пьера: он и совесть сохранил, и чувство истины сберег, и мыслью по-прежнему баловался. Графа, кстати, пробудили от его вещего сна весьма прозаично: "Запрягать надо, пора запрягать..." Ключевой термин новой методологии познания тут же был сопряжен с реальной практикой, став локомотивом, то бишь коляской жизни, которая неслась по ухабам судьбы, будучи оснащенной (запряженной) путеводителем. Судьба между тем отлично знала, что делала, отмечая своего покорного избранника немыслимыми, просто чудесными дарами. Она расчищала (указывала?) ему необходимый и, чего греха таить, желанный путь. В то время, как Пьер находился на Бородинском поле, ему в дом привезли письмо от жены, извещавшей, что она выходит замуж за другого. Так сбылась одна тайная мечта Пьера. По дороге от Бородина в Москву он узнал о смерти князя Андрея (это известие было преждевременно). Не хочется обижать Пьера подозрением в низкой радости, доставленной скорбными известиями; но дело не в нем, а в воле повествователя, в мире которого покорный Пьер играл одну из ключевых ролей. Его судьба сама по себе, как и судьба Болконского, Элен, Анатоля, Сони, имеет художественное значение. Она исполнена неслучайного смысла. Невозможно представить, чтобы отыскавший (не без ведома автора) ключ к золотому духовному кладу Петр Кириллович скончался, скажем, в плену. Ключ-то найден -- но должен быть и впечатляющий результат, нужны представления, картины, образы, которые бы убедительно "доказали" читателю, кто на самом деле правит миром и как следует вести себя в мире, где есть свой закон, хозяин и порядок (при кажущемся беззаконии, неуправляемости и хаосе). Тенденциозность повествователя продиктована императивами души и совести. Повествователя можно понять. 140 А на Пьера нашел очередной "глупый стих": "(...) на него нашло вдруг (...) чувство спутанности и безнадежности" (ведь он не понял до конца того путеводного смысла откровения, которое сошло на него во сне; только потом, после общения с Каратаевым, смысл этот восстановится вполне). Пока что перед нами был человек, который поступал "по чувству", но которому казалось, что без смысла нет жизни, поэтому он все силы употреблял на то, чтобы жить "по уму". Пьер, подобно смертельно раненной французской армии, еще двигался в гибельном направлении по инерции -- и тем самым изживал ресурс той стратегии поведения, которая формируется "от ума". Если детально проанализировать мотивы поведения Пьера только в короткий период его "нечаянного" пребывания в Москве (с момента возвращения с Бородинской битвы -- вплоть до ареста), не говоря уже о всем его пути, то мы приходим к парадоксальному заключению: повествователь нашел один-единственный способ отрицать разум -- делать это рациональным путем, что само по себе свидетельствует о силе разума, о том, что иного, "неразумного" пути в поисках истины -- нет. Но Толстой принуждает разум отыскивать именно иной, внеразумный путь, ибо Толстой отрезал для себя все пути, кроме этого. Оставим это "незамеченное" противоречие на совести повествователя. Отметим, однако, что данное противоречие вносит в жизнелюбивые поиски Пьера заданность и схематизм, которые жизнелюбию как раз и противопоказаны. Даже самому философскому роману о жизни вредит именно философия: она мешает "полюбить жизнь" уже самим фактом присутствия в ткани жизни инородной, насыщенной смертоносной мыслью материи. Тот, кто способен на умственное усилие, адекватное интеллектуальному напряжению Пьера, повествователя или самого Толстого, вряд ли уже сможет существовать на манер "мыслящего тростника", подобно Наташе и Николаю Ростовым. Но повествователь, убежденный, что жизнь важнее всякой истины, стремится постичь все истины, чтобы "доказать", что истина -- это жизнь. Итак, озадачивающий способ жизнелюбия приводит Пьера к мысли о когда-то открытом им призвании: "остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона". Читатель, ознакомившийся к этому времени с историкофилософскими воззрениями автора, -- а историко-философские вкрапления или отступления в художественном отношении размывают границу между повествователем и Толстым, что усиливает эффект 141 личного присутствия живого, невыдуманного автора ,-- должен понимать, как безнадежно заблуждался Пьер, руководимый сухим масонским умом. Пьер заблуждался, однако -- "два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению". Чувства Пьера питают его рациональные, следовательно, ошибочные установки. И чуткая к экзистенциальной фальши натура героя вновь взяла верх: задумав убить человека ( хоть и антихриста Наполеона), он на своем пути к неправедной цели не рассуждая спасает две жизни: французского капитана Рамбаля и русской девочки Кати, дочери простой бабы (Катю Пьер зачем-то назвал своей дочерью...). Сюжетный поворот обрушивает на просвещенного читателя и, надо полагать, на самого героя, ряд вопросов в духе Пьера: что руководит человеком, кто ведет его по жизни, насколько ты волен в своих поступках? Правда, Пьер рассуждал теперь уже только тогда, когда он бездействовал; когда он действовал, то не рассуждал. А действовал он исключительно по велению души, разум просто не поспевал за импульсивными реакциями и поступками Пьера, которые удивительно непротиворечиво укладывались в одну поведенческую линию: нести другим добро. Увидев наглый уличный грабеж, которому подверглась красавица армянка, Пьер тотчас впал в "восторг бешенства", вызываемый в нем откровенным торжеством зла и оскорблением чувства справедливости, и разметал французских мародеров, как медведь. Так "глупо" Петр Кириллович попал в плен к французам -- как подозреваемый в поджигательстве Москвы. 4.6 Необдуманные поступки Пьера складывались в законченную и симпатичную линию судьбы. Благодаря своим спонтанным действиям, которые могли привести к серьезным бедам, он всегда оказывался в том месте, где его ждали ответы на прямо-таки "древнегреческие" по простоте, глубине и дерзости вопросы. В плену у французов, но в окружении своих, в солдатском балагане Пьер обрел те университеты, которых ему так не хватало в его рассеянной светской жизни. И учителем Пьера оказался простой русский мужик с символическим для европейской культуры именем Платон (имевший, впрочем, выразительную, восточного происхождения фамилию Каратаев), который завершил, свел воедино "человеческое" образование Петра Кирилловича. Именно Платон Каратаев скрепил мировоззрение Безухова тем последним звеном, без которого взгляды на мир Пьера разваливались, словно карточный домик. «Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека – 142 дурачка,» -- говорил впоследствии Пьер Наташе. Платон – дурак, но истина при нем. В первые дни плена, после совершенной французами показательной казни поджигателей, состояние Пьера характеризуется следующим образом: "В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога." Но уже через месяц плена Петр Кириллович впервые "получил то спокойствие и довольство собой", к которым безуспешно стремился всю свою жизнь (с этого мы и начали главу о Безухове). А успокоение он получил, главным образом, "через то, что он понял в Каратаеве". Так что же понял Петр Кириллович Безухов в Каратаеве, какому озарению и какого (интеллектуального, психологического?) порядка обязан он тем, что всего за месяц -- и уже навсегда -- оно смогло вернуть веру "и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога"? Ответ нам уже известен: прежде Пьер искал веры "путем мысли", а Платон просто фактом своего существования и своим образом жизни (так сказать, наглядно, через "представления") сумел убедить его в том, что вера -- выше мысли и не зависит от мысли. Если уж быть совсем точным, то Платон, подброшенный судьбой на заключительном этапе духовного становления ценнейшего героя эпопеи, не спровоцировал революцию, а всего только способствовал довершению давно идущего "тайного" процесса. Тайное при Каратаеве стало явным, но не возникло само по себе -- такова вспомогательная роль "соколика" в судьбе Пьера в частности и в романе в целом. Солдат Каратаев -- только штрих, хотя и важный штрих. Пьер, кого, как и всякого, отравленного культурой, раскачивало на качелях от веры к неверию, увидел в солдате Каратаеве "круглый", цельный, органический момент народного (в основе своей -- природного, докультурного) отношения к жизни, космос в космосе. Платон произвел на Пьера впечатление в силу того, что последний был высококультурен, что первый был "заряжен" информацией, которая могла поразить культурного человека. Иначе говоря, невежественного, не тронутого цивилизацией "Платона" Пьер воспринимает именно как высшую культурную ценность - и, что самое главное, повествователь поддерживает Пьера в его "прозрениях" (Пьер делал, согласно комментарию образа автора, "тончайшие духовные извлечения" из разговоров с Платоном). Повествователь лукавит, увлекшись сомнительной культурной задачей разумом "скомпрометировать" разум. Он представляет ситуацию так, словно и в самом деле не изведавший вредных наук дурачок Каратаев и 143 европейски образованный барин Безухов -- в культурном смысле ничем друг от друга не отличаются. Более того: ничему не обучавшийся (слава богу!) Платон каким-то чудесным образом получил фору и постиг все те духовные премудрости, которые никак не давались искушенному интеллектуалу. При этом, внушается читателю, Платон даже не сам по себе был важен -- а как знак свыше, как культурная подсказка бога: он (Каратаев) не отрицал культуру, а задавал ей нужный вектор (хотя он и не ведал, что творил, не ведал себе истинной цены, и это только увеличивало его ценность). «Рок головы ищет,» -- трактовал Платон. Андрею Болконскому и не снилась такая мудрость. Так, очевидно, надо понимать сказанное повествователем. Если это так, то гораздо важнее то, что "выразилось" в романе помимо воли повествователя, а именно: Каратаев самым что ни на есть мужицким способом отрицал культуру, демонстрируя сермяжную природную жизнеспособность. Пьер, в таком случае, не возвысился до "неизрекаемой" золотой мудрости (как намекает повествователь), а стал культивировать мужицкую темноту. Ум ведь подвел, "обманул" Петра Кирилловича, заставляя объяснять, аналитически препарировать объект познания, выстраивая бесконечные причинно-следственные ряды, которые рушились от любого мало-мальски ощутимого толчка извне. И Пьер в очередной раз "вдруг" понимает: если переключиться из сферы бесплодного объяснения в сферу бездумного приспособления ( "не нашим умом, а божьим судом") -- все начинает получаться. Именно как гений приспособления Платон имеет солидное преимущество перед своим прилежным учеником. На языке науки это может быть сформулировано так: теоретическое, рефлектирующее сознание оказывается бессильным перед стихией психики, поскольку первое познает, а вторая приспосабливает(ся). Все истины стали для Пьера "утешительными", "спасительными" -иначе говоря, душевными. "Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа." Друг Платон проиллюстрировал уже известную Пьеру, но, видимо, забытую (т.е. до поры до времени мало актуальную) истину: интеллект -сам по себе, а реальные духовные проблемы человека -- сами по себе. "Думать" стала душа, а интеллект в силу ненадобности был попросту аннулирован, изъят из области духа как непригодная к делу жизни машинка. Толстой развел, разграничил сферы психики и сознания и воздвиг между ними железный занавес. В таком случае нравственность, 144 понимаемая исключительно как область эмоций и переживаний, перестает зависеть от интеллекта. В таком случае Каратаев действительно мог оказаться нравственно мудрее Безухова и последнему действительно было чему поучиться у первого. Но в действительности все, предложенное Толстым, есть не более, чем интеллектуальная схема, которые так высмеивал сам писатель. На языке народной мудрости, перед которой он благоговел, это звучит следующим образом: за что боролся, на то и напоролся. По достоинству оценить силу и слабость Толстого можно не тогда, когда мы поймем его логику (это сделать не очень сложно), а когда разберемся в сути различий между двумя типами сознания (что гораздо сложнее, чем понять Толстого). Если отвлечься от "синтетического" характера духовности, где психологические проблемы углубляются не сами по себе (душа вдруг начинает думать), а за счет привнесения в них мыслей (и это идет на пользу душе), то высокоморальные идеалы образованного и мыслящего Безухова и дешевый набор морально-религиозных догм дремучего Каратаева -можно считать одним и тем же. Это вопиющее упрощение Толстой "не замечал" и не акцентировал только потому, что ему важно было подчеркнуть момент общности, примирить разные "элементы" одного (однородного) народа. "Различье барина и мужика" -- степень развития интеллекта -- оказывается гораздо менее существенным, чем то, что их объединяет: чем вера. Причем Толстого мало интересуют различия между вероучением как методологически обоснованным путем познания (иначе говоря -- как идеологией) и верой как слепой, нерассуждающей установкой (собственно психическим, иррациональным актом). Одним, таким, как княжна Марья, Наташа, Платон вера дается как благодать, другим она посылается как награда за перенесенные умствования и страдания. И все они равны перед истиной, и это объединяет их в мир. Следует признать, что Толстой по-своему последователен. Если вера, противостоящая неверию, есть главное в человеке, то путь к ней -- это действительно мелочи и детали. Главное-то заключается в том, что самый мощный интеллект оказывается бессилен перед вечными и непостигаемыми законами. Сила интеллекта проявляется разве что в том, насколько быстро этот самый интеллект приступает к самоликвидации. Следовательно, самое ценное в личности -- дар мгновенного и непосредственного постижения истины. Какой сложнейший путь духовных исканий прошел князь Андрей, прежде чем постиг ценность иконки, навязанной своему не в меру умному брату "слепо" верующей 145 княжной Марьей. Сколько пережил и передумал Пьер, прежде чем он отыскал "вечное олицетворение духа простоты и правды" -- Платона Каратаева. " (...) жизнь его (Каратаева -- А.А.), как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал" -- вот то, что Пьер понял в Каратаеве и "через" что к нему пришло, наконец, умиротворение. Пьер мог бы подвести духовный итог своего пребывания в плену словами Каратаева: вере и разуму, как России да лету, -- союзу нету. Это означало, что ни война, ни Россия, ни политика, ни Наполеон Петра Кирилловича более не интересовали. "Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и поэтому не мог судить обо всем этом." Вот и все. Пьер до оптимума сузил сферу своих, человеческих интересов, перестал умствовать, задавать вопросы, перестал брать на себя несвойственные человеку функции -- и преуспел. И это преуспеяние Пьера было красноречивым ответом того, Кто был призван, Кто мог судить обо всем. Простота -- покорность богу. "В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом (...)." По существу, Пьер пришел (или вернулся) к тому, что надо сопрягать мысли. Новым было только то, что он окончательно уяснил себе, что общение с "ними", с народом есть лучшая и единственная школа жизни. Народ, целый народ, главный субъект истории, ее движущая сила -- просто не может ошибаться (иначе вся история -- ошибка); а личность, "вооруженная" персональным инструментом, разумом, может, конечно, объявить войну отвергаемому ей порядку мира (начнет судить, не будучи призванной), но окажется, по меткой народной пословице, одиноким воином в поле; а один в поле -- не воин. Вот к какому смысловому итогу приводит интуитивное сопряжение мыслей. Повествователь окончательно убедил и себя, и Пьера, и нормального читателя в наличии Бога, который и есть главное условие дискредитации разума. Именно к этому выводу, такому простому для княжны Марьи, Платона, Кутузова и целого народа, и подводит роман. "Он (Петр Кириллович -- А.А.) не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру -не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога" (вероучение заменено каратаевской верой -А.А.). "Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя (не этим ли вызвана художественная деталь: подслеповатость Пьера? -- А.А.)." "Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль", "поверх 146 голов окружающих людей". "Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем", с этой целью "он бросил трубу". "И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив." "Теперь на этот вопрос -- зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть бог, тот бог, без воли которого не спадет волос с головы человека." Но зачем надо было подводить к такому простому и "очевидному" даже для Каратаева факту -- четырехтомной эпопеей? Для Каратаева, всех "них" и иже с "ними" нет в мире такой субстанции и, соответственно, категории, которую можно было бы противопоставить Богу. Они неспособны были в силу неиспорченности опуститься до дерзкого вызова Богу. Это была покорная, положительная публика, не предрасположенная к внутренним конфликтам, и потому совершенно непригодная в качестве героев романических. Эпопею на славословиях также не создашь. Для масштабного полотна необходим масштабный же, планетарный, как минимум, национально-исторический конфликт. К счастью для романистов, есть в мире вечное искушение, отвлекающее от Бога; следовательно, неизбежны и конфликты. Вывод напрашивается такой: если убрать из романа двух мыслящих героев -Андрея Николаевича Болконского и Петра Кирилловича Безухова -- то художественное целое развалится, ибо герои эти составляют полюс, замкнутый вместе с иными противоположностями в противоречие, которое и есть источник развития, есть движущая сила романа. Эти герои незаменимы как представители мыслящих существ. Таким образом, борьба с разумом, антиподом жизни, есть главный пафос эпопеи. И уже сам факт того, что борьба эта изображена в форме романа, в художественной форме, -- уже этот факт поэтизирует борьбу с разумом и возвеличивает веру. Такова диалектика художественного сознания. Однако факт того, что для борьбы с разумом потребовался развернутый четырехтомный дискурс, свидетельствует о том, что с разумом можно сражаться только средствами разума. Большое сражение, напряжение всех сил возможны только при серьезном противнике, иначе "битва" будет выглядеть комично. Тем самым косвенно признается величие разума. Такова диалектика художественного сознания. В сущности, богоугодная эпопея является своего рода евангелием, "доказательством" (с использованием современной психологической техники и элементов тотальной диалектики) существования бога. 147 Натужность доказательств при этом гениально скрашена бьющим через край жизнелюбием, подменена изображением земных чувств и страстей, которые и выступают решающим "аргументом" в логическом споре. Реального, земного, невыдуманного человека Толстой повенчал с горним, виртуальным миром: уже сама задача и в плане "технологии", и по степени нереалистичности, и по степени востребованности "мирянами" -- вполне сопоставима с библейской. Вот почему в эпопее напряженно ощутим обжигающий мессианский пафос (психоидеологическая интервенция) повествователя, появляющийся только при отсутствии вразумительных аргументов. Л.Н. Толстой вместе с Ф.М. Достоевским замыкают цепочку титанов, которые принимали и отстаивали только одну культурную модель человека: покорного богу. На этом основании роман-эпопею, соединяя ее не жанрово, а по внутреннему смыслу и по выдающейся художественной мощи с творением великого Данте, можно назвать "божественной идиллией". Божественная идиллия торжествует в эпилоге. Но опять же: божественный свет и там скрыто проступает сквозь сугубо земные дела людей. Вернемся к эпилогу, завершающему собор романа, как и положено: в конце работы. 5 НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА РОСТОВА 5.1 Этот образ, возможно, -- самая большая удача писателя. Наташа Ростова есть сама жизнь -- и больше ничего. Вот почему ее образ легко стал нарицательным, легко обнаружил свою символическую природу и естественно растворился "в миру". Именно женщина могла и должна была противостоять по всем позициям "неорганическому", рассудительному мужскому началу. Женщина дает жизнь, оберегает и защищает ее; женщине некогда думать, но "по статусу" в мироздании ей положено знать о жизни самое главное. И Ростова блестяще начинает и завершает концепцию Толстого, которая легла в основу "плана" эпопеи. Что такое гнет "задних мыслей", что такое беспристрастная ревизия здравого смысла, Ростова просто не знает. Она есть цельный, органический кусок природы, так сказать, идеальное воплощение "мыслящего тростника"(точнее, чувствующего и совсем чуть-чуть мыслящего). И вот за обладание этим "тростником", "тоненьким, страннотоненьким" ростком, стебельком жизни серьезно сражаются разумные и неразумные герои романа. Она как романтическое воплощение человека 148 комического есть главный и лучший приз, самая престижная награда наиболее жизнеспособному (а жизнеспособность, как мы убедились и еще убедимся, включает в свой состав и необходимый компонент добра). Таким рыцарем добра и жизни оказался Пьер, который обошел целый мир конкурентов. Последовательность и внутренняя себетождественность Ростовой не имеют ничего общего с монотонностью. Удивительно тонко Толстой избегает опасности "схематизации" образа, иначе говоря, демонстрирует в высшей степени художественное мышление, а не иллюстрирует тезисы "картинками". Ведь Ростова по сути своей неизменна и однообразна, даже своей новизной и легендарной "непредсказуемостью", но она не приедается, как жизнь. Она буквально врывается на страницы романа-эпопеи и приковывает к себе внимание гостиной (и читателей) как нечто несалонное, естественное и чуждое условностям, как фигура, в сравнении с которой все искусственное и фальшивое тотчас же дезавуируется и блекнет: "(...) в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко." "Нечаянно" и особенно "нерассчитанно" -- это способ существования Ростовой. Отметим и следующую черту, без которой немыслима Наташа, всеобщая любимица. (Ее, кстати, родители баловали и "притворялись строгими" в отличие от планомерного родительского воздействия на рассудительную Веру, которую мать "держала строго"; "графинюшка мудрила с Верой", считал граф. Каковы отношения -- таково и чадо (плюс, разумеется, непросчитываемые капризы генетики, которые, впрочем, автору угодно считать скрытой от человеческого сознания логикой Сеятеля; зерна бросает Сеятель, а жнут, почему-то, неразумные человеки). С Наташей "не мудрят", она просто купается в море любви. Тут же, кстати, отметим по-толстовки тонкий штрих, имеющий отношение к натуре Наташи (Сеятель Сеятелем, а порода породой). Князь Василий с удивительным постоянством называет "медведями" великодушных и добродушных людей. Следующим после Безухова, кто удостоился этой незамысловатой метафоры из уст князя, был Илья Андреич Ростов, большой любитель охоты, хлебосол и нестрогий отец. То ли князь Василий приписывает им свои звериные склонности, то ли бессознательно вкладывает в определение некий комплимент, хотя имеет намерение унизить и уничтожить. Так или иначе "медведи" оказываются антиподами 149 элегантным, но бездушным светским людям.) С момента первого появления она -- влюблена. Конечно, это было по-детски чистое чувство к Борису Друбецкому, хотя Наташа к самому чувству относилась не подетски серьезно (четыре года спустя после "объяснения" с Борисом -"Навсегда? -- сказала девочка. -- До самой смерти?" -- "вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой или важным, связующим обещанием, мучил ее"). Пожалуй, точнее отроческо-юношеское состояние Наташи можно было бы назвать предчувствием любви, готовностью к любви, ожиданием любви. Как бы то ни было Наташа постоянно находилась в состоянии любви -- состоянии предшествующим и сопутствующим чувству, состоянии деятельном, трагическом, легкомысленном, экзальтированном, повседневном. Любовь и была содержанием ее жизни, отличительным родовым признаком Наташи. Очень ярко это состояние проявилось уже на балу у Иогеля: "Наташа сделалась влюблена с самой той минуты, как она вошла на бал. Она не была влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена." Не случайно состояния готовности к любви так обострялись во время танцев или пения: момент эстетизации придает чувству колорит праздничности, преодоления повседневности, приближения к звездным мигам краткой жизни. Причем, разные искусства по-разному подчеркивают содержательность любви. Пластика и вокал, наиболее чувственные искусства, приобщают Наташу к сотворению праздника жизни, возвышая при этом и "инстинкты" с помощью искусства, и искусство с помощью жизни. Наташа в романе очень много танцует, и все ее танцы становятся судьбоносными, если не роковыми для партнеров. Первый свой танец "тоненькая девочка" танцует (вряд ли и это случайно) с "толстым" Пьером. Затем она вскружила голову лихому гусару, мастеру мазурки Василию Дмитриевичу Денисову, который, не откладывая дела в долгий ящик, сделал предложение "волшебнице". Отношения, их отношения с князем Андреем тоже начались после танца. Во время танца Анатоль Курагин признался Наташе в любви -- и теперь уже Наташа потеряла голову. Если у Пьера или у того же Николая Ростова жажда жизни проявлялась в грубом, сниженном, мужском варианте, то в Ростовой жизнелюбие находило предельно одухотворенные, эстетические и даже поэтические формы. Исключительное жизнелюбие -- и при этом исключительный душевный, человеческий такт, врожденный такт, делающий жизнелюбие "божественным". Наташа неотразимо действовала даже на малопоэтические, черствые, циничные души. "Воспоминание о Наташе 150 было самым поэтическим воспоминанием Бориса", а на Анатоля Курагина "Наташа произвела сильное впечатление". Недостаточно сказать, что в Наташе проявились лучшие женские качества. В романе-исследовании человеческой природы выведено много женщин (что позволило создать естественный фон, оттеняющий уникальность Наташи). Женский ансамбль -- чрезвычайно разнообразен, но это именно ансамбль: от незримо присутствующих "женщин Курагина" (поездки к ним, "туда" привлекали и молодого гусарского офицера Николая Ростова, который одновременно с этим наслаждался обществом своей особенной сестры) до чрезмерно одухотворенной Марьи Болконской; а ведь есть еще "мраморная" Элен Курагина, Соня, Вера, маленькая княгиня Lise Болконская, энтузиастка Анна Павловна, интриганка Анна Михайловна, Жюли Карагина, мадмуазель Бурьен и т.д. Весь этот продуманно выписанный контекст подчеркивает уникальные достоинства Наташи, которые состояли в редком сочетании личного, почти эгоистического порыва к счастью (не чуждого той же Элен) с готовностью любить другого, осчастливить другого, полностью растворить себя в нем (что составляло нравственный капитал княжны Марьи). Индивидуальная привлекательность Наташи не мешала "общеженскому" призванию, а наоборот, возвышала это призвание, делала его философски самым важным. Судьба Наташи заставляет (так задумано повествователем) поклоняться женской судьбе, а любой невозвышенный, иронический или снисходительный тон, уместный в отношении, скажем, Элен, Жюли или Бурьен, в отношении Наташи будет выглядеть фальшивым, как злая сплетня в отношении чистых помыслов мадонны. Вот почему волшебница, певунья и танцовщица в эпилоге романа совершенно естественно появляется с запачканной детской пеленкой в руках. И этот аксессуар украшает ее не менее, чем бальное платье, в котором она танцевала с князем Андреем. Итак, в Наташе духовно-поэтическое начало преодолевает начало телесно-природное, но при этом не уничтожает и не очерняет последнее, а сообщает ему свою поэтичность. Такой букет достоинств делает Наташу, как говорят французы, женщиной на все времена. То, что у "развратной" Элен, которую сама мысль о детях от мужа приводила в трепет отвращения, выглядит как любовная интрижка, у Наташи наполняется чрезвычайно богатым человеческим содержанием. Если Элен была женщиной, т.е. полом, привлекающим противоположный пол, что позволяло ей быть центром внимания в светских кружках, то Наташа являлась женщиной, призвание которой состояло в том, чтобы 151 стать любящей, любимой, женой, матерью, сестрой, что обеспечивало ей иную роль -- сделаться центром мироздания. И ведь не от большого ума стала Наташа той универсальной женщиной, какой она стала! Напротив, это сделалось само собой, вопреки уму, точнее, она как бы не замечала проблемы "горе от ума", была если не выше этого (подобная высота достигается, что ни говори, за счет ума), то как-то счастливо в стороне ("она не удостоивает быть умной", по словам Пьера). Почему же тогда Курагин Анатоль, Долохов, да и многие другие персонажи, не менее Наташи любящие жизнь, были при этом лишены способности одухотворения? Почему они были обделены тем, чем сверх меры была наделена Наташа? В чем заслуга Натальи Ильиничны Ростовой? А в чем заслуга породистой собаки Милки, статями и мастями которой так восхищалось общество охотников? Ни в чем. Она просто создана такой, она есть восхитительное, прелестное порождение природы (Сеятеля?), не более того. Никакой личной заслуги Наташи в том, что она обладает "волшебными" качествами -- нет. Она не может похвалиться тем, что она сама, и никто другой, сделала себя, ибо человеческое самосовершенствование достижимо только одним путем -- путем развития интеллекта. Эта возможность для Наташи, да и для всех приличных людей, была закрыта по определению (специально делегированные персонажи, как мы помним, убедились в неконструктивности этой возможности). Тут мы вновь упираемся в проблему, от которой Толстой уходил, но не ушел. Если Наташа не думает попусту и хороша именно тем, что не берет себе лишнего в голову, живет бессознательной жизнью души, -следовательно, за нее, как за птичку божию, думает кто-то другой. Пускай это будет бог, повествователь, автор. Это не столь важно. Важно то, что в мире романа присутствует шкала ценностей, наличествуют отчетливо обозначенные "хорошо" и "плохо", "верх" и "низ", и шкала эта создана именно интеллектом (иерархический порядок есть результат усилий ума и только ума). Как следствие -- читателя заставляют думать. И чтобы понять, что Наташа хороша именно отсутствием в ее жизни состава мысли, надо воспринять концепцию романа-эпопеи, что мы и пытаемся делать. Следовательно, сам роман, развенчиваюший мысль как таковую, держится на мысли. Само наличие Наташи Ростовой, сам гимн душе не только не отвергают, но подразумевают наличие интеллекта в мире -- вот что вытекает из значения образа, взятого в системе других образов. Образ Ростовой, будучи символом без-смысленного существования, имеет 152 достаточно великий смысловой коэффициент. Наташа воплощает торжество жизни -- но из этого не следует, что интеллект плох или что он не нужен; напротив, именно интеллект делает Наташу символом жизни. Разумом утвердив ценность жизни и сделав вид, что разум человеческий здесь не при чем, Толстой отводит познающему разуму роль всецело отрицательную: разрушительную, неконструктивную. Писатель в старом добром христианском ключе решает противоречие, заключенное в разуме (ведь что ни говори, а разумная любовь к жизни -это тоже одна из граней реальности; в таком контексте "разумный" не значит "разрушительный"): единый разум он расщепляет на несколько "видов", на "добрый" и "злой". "Добро", конечно, закреплено за небесами, за сверхразумом, а ум человеческий, знакомый лишь с азбукой логики, пытается уяснить масштабы вселенского промысла на свой пигмейский лад (чем и несет "зло" человеку). Получается, что Толстой "сверхлогичен" (откуда такая мессианская осведомленность?): он, как подобает только "посвященному", сохраняет в жизни присутствие "того", горнего разума, но защищает жизнь от блудливого, мошеннического людского ума. Грустно наблюдать за тем, как человек из когорты титанов, Лев Толстой, отказывается "верить" в силу продемонстрированного им самим разума, в то, что он без божьей помощи почти разобрался с человеком, и считает своим долгом иступленно веровать в то, что человек должен быть ничтожен. Казалось бы, манипуляция с разумом -- пустячок, но пустячок этот, положенный в основу концепции, перевернул человеческий мир с ног на голову, и мир "головой вниз", уродливый, но угодный богу, поэтизируется изо всех человеческих сил. Слава богу, гения человеку не занимать, а потому гимн жизни удался на славу. Отчего существуют "породы" Курагиных, Ростовых , Болконских и отчего в породах бывают исключения, наподобие Веры и княжны Марьи, пошедших не в породу отца-матери? Породы, несомненно, присутствуют в романе, и они проанализированы как таковые, как проанализированы мотивы поведения представителя каждой породы. И сделано это, напомним, писателем, т.е. всего лишь человеком. Однако если мы зададим вопрос: может ли происходить "улучшение породы", понимаемое как преодоление биологической (по другой версии, божественной) детерминации за счет личных усилий, направленное в сторону самовольного изменения заданной, предопределенной духовной программы (проще говоря, не грех ли было тому же Долохову или Курагину пытаться стать лучше, чем они 153 задуманы Творцом?) -- мы зададим один из тех вопросов, которые неприлично задавать вслух, ибо нет призвания отвечать на него. Человеческим умом пытаться понять нечеловеческую логику -- значит вторгаться в чужую епархию, значит слишком много на себя брать. Во всяком случае, в романе, деле рук человеческих, нет ответа на этот вопрос, или, если угодно, есть ответ, который подчеркивает неуместность вопроса. Ответ таков: есть непостижимая логика жизни, которая не совпадает с логикой человеческих вопросов и ответов, и есть Тот, Кому положено заботиться о логике жизни. Таким образом, самые острые вопросы элементарно нейтрализуются примитивным предположением о существовании некоего неземного сверхразума, у которого, очевидно, куда больше информации, чем у тех, кого он заставил играть в свою игру. Убрав ум, Толстой убрал и активность субъекта, личности -- такова логика вещей, у которой нет никаких хозяев. Тем самым, независимо от своих субъективных намерений, писатель провозгласил мировоззренческую покорность, пассивность человека -- лучшим видом активности. Получается, что Наташа Ростова, представитель явно "элитарной породы", не в силах изменить ни Соню, ни Веру -- никого. Люди лишены выбора, они не вольны выбирать себе породу и судьбу. Получается, что проблема изменения мира с целью его совершенствования -- изымается из компетенции человека. Получается, что Элен всего лишь без вины виновата, и напрасно так гневался Пьер, едва не расплющив эту тварь божью мраморным столиком (впрочем, Пьер также действовал в соответствии с императивом породы). Показав, кто есть кто, показав плохие и хорошие стороны людей, повествователь лишает человека возможности судить, выносить нравственные оценки. Впрочем, по неизвестной нам логике (мы бы, располагая доступной нам информацией, предположили, что это всего лишь логика реализма), человеческое в романе не чуждо даже самым бесчеловечным людям. В принципе, почти у каждого "негодяя" повествователь подмечает светлую человеческую (божью?) метку: кровожадный бретер Долохов нелогично оказывается нежным сыном и братом; князь Василий искренне рыдает ( и это не спектакль с корыстной подоплекой) у гроба почившего "в бозе" графа Безухова как простой смертный, которого не минет участь графа; Друбецкой сопротивляется поэтическому чувству -- и т.д. Что это: намек на нереализованные возможности, свидетельство изначальной одухотворенности бренной плоти или "доказательства" бессилия ума в делах человеческих? 154 Получается, что "плохое" и "хорошее" в человеке не поддается принципиальной коррекции. Справедливо ли это по отношению к человеку? Повествователь прямо и без обиняков, что, несомненно, делает честь тому, кто ищет истину, даже если при этом и ошибается, -- прямо и недвусмысленно отвечает на этот "коварный" (с точки зрения разума, конечно) вопрос, и все "коварство" (если подойти к вопросу "душевно") улетучивается, как дурной сон. Ответ привязан к образцово-богоугодной линии поведения княжны Марьи: "Княжна никогда не думала об этом гордом слове: справедливость. Все сложные законы человечества сосредотачивались для нее в одном простом и ясном законе -- в законе любви и самоотвержения, преподанном нам тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он -- бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и она это делала." Отмеченные выше логические несуразности "получаются" в рамках человеческой логики, которая объявлена Толстым не имеющей смысла. Таким образом, генезис пестроты мира и человека -- не в компетенции автора. Он берет на себя скромную, по сравнению с князем Андреем, которого он авторитарно покарал за нескромность, роль регистратораевангелиста. Его роль и статус как бы защищают от нескромных вопросов, грозящих разрушить сотворенный им "божий" мир. Уже при вступлении в концептуальный диалог с повествователем, подталкивающим к определению "высший разум" (ибо он нашел то, что пробивается сквозь разум, не покрывается им, определяет и, в конечном счете, побеждает его), исследователю предлагается испытывать приличествующее деликатности ситуации что-то вроде чувства вины за сам неподобающий пафос исследования. В свое оправдание могу сказать следующее. Сам факт наличия романа и его автора активно противоречат идее пассивности. Если мне предложена концепция ("план"), лишающая концептуальный подход как таковой смысла, -- я и оцениваю ее как концепцию, т.е. средствами человеческого мышления, и нахожу в ней много изъянов; но поскольку, согласно моей эстетической концепции, художественное произведение не может быть сведено к мировоззренческой концепции, к решению "вопросов" -- я считаю роман Толстого счастливо противоречащим его, писателя, концепции, я считаю произведение великим по своим художественным достоинствам. Писатель Толстой талантливее философа Толстого, первый преодолевает второго -- и в этом залог успеха романа. 155 Все на свете противоречиво: этого не отменить никому, даже Толстому. Великий русский классик, стремясь оправдать "глупое" жизнелюбие, обнажить читателю его, жизнелюбия, божественную сущность, предоставил возможность и иной, вполне земной трактовки человека, вплотную подвел к иной (по сравнению с отстаиваемой) модели культурного человека. 5.2 Вернемся к нашей героине. Как выяснилось, мало не иметь ума (этим достоинством в избытке обладали наравне с Наташей и злосчастные Курагины, в особенности Ипполит); надо иметь в душе нравственно озабоченное жизнелюбие (если будет на то воля бога). В сущности, повествователь, от которого не слишком активно дистанцируется автор, намечает две крайности, одинаково угрожающие добру (а значит и жизни): чрезмерный рационализм и злая глупость. Ростова милостью неба счастливо избежала обеих крайностей, что было чудом само по себе. Она вроде бы и думала, но как-то так в меру, что вопросы Болконского и Безухова ее почему-то не волновали. С другой стороны, глупым можно назвать, скажем, классического идиота Ипполита, но Наташу глупой не хочется называть. В ней ум не мешал жизни -- "она обворожительна, и больше ничего", как выразился Пьер, знавший толк в определениях. И поскольку в ней не было самодовлеющего умственного содержания, линия жизни Ростовой слилась с линией любви. Вот пример "рассуждений" Наташи (которая, кстати, за минуту до того "прямо и неподвижно" смотрела "на одного из сфинксов красного дерева", и мать ее была поражена "серьезным и сосредоточенным выражением" профиля дочери). Разговор с матерью шел о влюбленном в шестнадцатилетнюю Наташу Борисе Друбецком: "И он очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе -- он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый... -- Что ты врешь? -- сказала графиня. Наташа продолжала: -- Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял... Безухов -- тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный. -- Ты и с ним кокетничаешь, -- смеясь, сказала графиня." Наташа по поводу людей, которых она неплохо знает и с которыми она поддерживает определенные отношения, может воспроизвести только ряд цветовых и геометрических ассоциаций ("представлений"). Предметное, художественное мышление Наташи свидетельствует о том, что умом, в 156 сущности, она не обладала; то, что у нее было, называется интуицией, чувственно-психологическим восприятием. Но вот что характерно. Уже после разговора с матерью "она все думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть." "Это удивительно, как я умна" -- думала она, воображая, что сказал бы про нее "какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина..."Все, все в ней есть, -- продолжал этот мужчина, -- умна необыкновенно, мила и, потом, хороша, необыкновенно хороша, ловка -- плавает, верхом ездит отлично, а голос!" Свой дар вчувствования и сопереживания она называет "умом", ставит его на первое место и ждет такого же "ума" от других, в частности, от самого лучшего мужчины -- и повествователь с тихой серьезностью благословляет ее убеждения. Интуиция, присущая активным, но не до агрессивности, росткам жизни, заменяет ум. Божественное отсутствие ума (назвать это глупостью -- такова обворожительная сила гения Толстого! -выглядит кощунственно), оборачивающееся утонченностью души, -- вот способ жить в гармонии с миром и, что является для Толстого решающим разумным аргументом в споре против разума, с народом. Этим, в сущности, исчерпывается вся умственная загадочность Наташи. Истинная ее обворожительность, сила и волшебство -- в другом, в умении любить жизнь, в умении любить, в умении подчиняться закону любви. И вот феноменальная способность любить в сочетании с потребностью быть любимой сыграли с Наташей злую шутку (Толстой тенденциозно чуток к диалектике души, которая "работает" на его концепцию, на дискредитацию диалектики ума). Князь Андрей, ее первый избранник, знающий цену слова, был потрясен ее неформальным, можно было бы сказать, экзистенциальным, если бы это слово не было бессмысленным в отношении к Наташе, не ведавшей цены умных слов, отношением к любви и браку. Форма предложения руки и сердца была, как всегда у князя, точна и изысканна: "Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?" Лицо Наташи говорило: "Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь." Но князь Андрей был далек от "невыразимых" премудростей жизни. "-- Любите ли вы меня? -- Да, да, -- как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще. и зарыдала. -- О чем? Что с вами? -- Ах, я так счастлива (...)." 157 В этом микрофрагменте -- вся Наташа (или/и весь творческий метод писателя в отношении к данному персонажу). Она безукоризненно ведет партию чувств, при этом очаровательным диссонансом нарушая внешнюю логику, и даже приличия. Две точки зрения фокусируются на Наташе (как, впрочем, на каждом из героев): точка зрения презренного ума, куцого здравого смысла, глупого человеческого разума (персонифицируемая в одном из "рационалистов")-- и точка зрения чувств, интуиции, высшего разума (которую так или иначе поддержит повествователь через опекаемый им персонаж). Наташа всегда поступает "по чувству", и никогда не поддается искушению ума. Отсюда ее обворожительная бессловесность или, в лучшем случае, вдохновенное косноязычие. После вынужденного (с позиций здравого смысла) отъезда жениха, Наташа -- отдадим должное корифею человековедения Толстому -- не "заскучала", не "затосковала" и не стала испытывать иных приличествующих моменту и смыслу ситуации чувств, пусть сколь угодно тонких и неоднозначных. Она даже не плакала. Она испытала клиническое состояние "нравственной болезни", что само по себе подчеркивает Наташино умение любить: она срослась с избранником, проросла в него, и никакие "слова" не могли исправить или отменить "закон любви". Нет любви -- нет жизни. Попробуйте теперь лишить объекта любви того, для кого любовь есть жизнь... Спрашивается, как же Наташа могла увлечься ничтожным Анатолем? Где была ее интуиция, ее чувство жизни и привязанное к нему чувство долга? Здесь дело не в Анатоле, а в ней самой, и "сгубили" её именно интуиция, её потрясающие, редкие достоинства, которые превратились в недостатки только в ситуации, ненормальной по отношению к чувствам. Чувства и жизнь -- отложить невозможно, а если все же удается сделать невозможное, это говорит о дефиците воли к жизни и катастрофическом переизбытке ума. Князь Андрей, испытывая чувства к невесте, по себе судил о ней и с точки зрения ума и умом же выверенных нравственных категорий судил её легкомысленное, анормальное, не внявшее императивам морали поведение. Но есть еще и "божий суд", который, как ни странно, оказался не на стороне оскорбленного жениха (позднее князь Андрей, как мы помним, стал смотреть на ситуацию с точки зрения логики чувств и не только не нашел "состава преступления" в действиях Наташи, но и признал свою вину). 158 Что случилось с Наташей, если посмотреть на ситуацию глазами самой "потерпевшей" ( а повествователь намеренно сталкивает две шкалы оценок, полемически примеряя их к явно неоднозначной ситуации и при этом недвусмысленно принимая сторону Наташи)? Прежде всего -- Ростова ни на секунду не изменила себе. Она не строила никаких умыслов, вся её духовная жизнь состояла из предчувствий и мучительно-невнятных, хотя и определенных по тональности, ощущений. Два лейтмотива доминировали в грустной музыке души Наташи. Первый: "Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой! как я боюсь за него и за себя, и за все мне страшно..." Второй: "Мысль (строго говоря -- чувство -- А.А.) о том, что так, даром, ни для кого пропадает её лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила её." Вот с такой тяжелой, угнетающей гаммой ощущений появляется Наташа в Москве, куда со дня на день ждали прибытия князя Андрея. Марья Дмитриевна Ахросимова, в доме которой остановились Ростовы, по-женски мудро наставляла свою любимицу: "(...) против воли (отца князя Андрея -- А.А.) в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись, как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет." Но как только в дело включаются соображения ума, все странным образом начинает рушиться, и дело склоняется к непредвиденному итогу. Словно мы становимся свидетелями пантеистического бунта, бунта тонко организованного миропорядка, отторгающего чуждые его природе "соображения". Первая встреча с княжной Марьей (ведь надо было познакомиться с сестрой будущего мужа!) свелась к "тяжелому, притворному разговору" и закончилась холодной враждебностью родственных сторон. (А ведь впоследствии, когда они встретятся не по замыслу, а волей случая у изголовья умирающего Болконского, они сойдутся душа в душу, как родственные души; позднее новый случай, точнее, новое несчастье (гибель Пети Ростова) сблизят их настолько, что отношения их перерастут в "страстную и нежную дружбу".) Причем никто из них персонально не был виноват, напротив они были, как всегда, предельно чутки и деликатны. Но они не созрели еще для общения, а разумная воля, как всегда, неразумно форсировала ход событий -- в итоге вышло "нехорошо", хоть и задумано было "умненько". Чтобы ярче оттенить своеобразие Наташи, повествователь дал ей в подруги девушку спокойную и рассудительную (что и подчеркнул именем Соня, Софья: "сонные" и "мудро-расчетливые" ассоциации имени 159 органично сопровождают предсказуемое поведение довольно мелкой души и неглубокой натуры). Соня, спокойно, "ровно", по словам Наташи, любя Николая, спокойно ждала, выжидала верный случай. И дождалась. Она, просчитав, как шахматную партию, ситуацию, блестяще сымитировала, разыграла великодушие, возвратив "слово" Николаю в надежде этим отпускающим на волю жестом еще больше, теперь уже навсегда, привязать к себе благородного возлюбленного. Соня, как и всякий другой, кто дерзнул играть с судьбой в умные игры, просчиталась. Наташа и Соня соотносятся как действующий вулкан по сравнению с уснувшей сопкой. Неукротимый вулкан не спрашивает, хорошо или нехорошо жить и бурлить. При посещении оперы Наташа испытывала ту вулканическую "полноту жизни", когда "ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно её сердце." Конечно, это было неразумно, зато очаровательно. После деревни, после многомесячного культурно-светского "воздержания", Наташа оказалась в театре, где все было "так вычурно-фальшиво и ненатурально", но где все считали нужным выразить свое восхищение происходящим на сцене. Полнота жизни в сочетании с плохо усвоенными (или хорошо забытыми) условностями света привели к тому, что Наташа пришла "в давно не испытанное ею состояние опьянения", когда желаемое легко выдается за действительное, когда реальность игнорируется самым грубым образом в угоду сиюминутной полноте ощущения. Таким образом, жажда жизни, наложившись на светскую и житейскую неопытность, сделала Наташу без вины виноватой; отмеченные факторы в комплексе стали предпосылкой трагического развития событий. (Попутно отметим такую "мелочь": в оперу Наташа поехала из вежливости по отношению к Марье Дмитриевне, которая достала билет специально для Наташи. И Марья Дмитриевна, и Наташа поступили вполне разумно.) В сущности, не произошло ничего экстраординарного, но писатель с чрезвычайным литературным мастерством и прямо-таки компрометирующей его магистральную антирациональную доктрину научной дотошностью разложил метафору "полнота жизни" на физиологопсихологическую и нравственно-духовную составляющие, отделяя зерна от плевел. В результате обычная игривая светская беседа Наташи с Анатолем Курагиным, не выходящая за рамки заурядного флирта, в мире, где неестественное -- естественно, а нормальное -- смешно и неэлегантно, поставила перед Наташей серьезную духовную проблему. Приняв 160 намекающий тон Анатоля, Наташа почувствовала, что ей нравится нравиться. Она ощутила себя женщиной, и впервые отделила поэтическое чувство от власти инстинкта. Но в Наташе -- и это сразу же поймет Пьер, а позднее и князь Андрей -- одно без другого не существует. И сам факт достаточно невинного раздвоения Наташа восприняла как начало грехопадения. Иными словами, она была органически чиста и непорочна и, открыв в себе грубое, "скотское" начало, к которому совершенно естественно апеллировал органически порочный сердцеед Курагин, она почувствовала, что невольно оскорбила свое чувство любви к князю Андрею и его -- к ней. "Погибла ли я для любви князя Андрея, или нет? (...) Что ж со мной было? Ничего. Я ничего не сделала, ничем не вызвала этого. (...) Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такою. Но какою такою? (...)" "Наташа успокоивалась на мгновенье, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда и хотя ничего не было, -инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви её к князю Андрею погибла." Писатель здесь не только прав, но и мудр, как мудра и вся его "философия" Ростовой. Поэтому все страницы романа, связанные с Наташей, исключительно поэтичны, умны и исполнены впечатляющего художественного мастерства, замешанного на психологии, на тонком, умном понимании женской психологии. Главное противоречие, которое могла испытывать Наташа, было противоречие именно между душой и инстинктом, а не между душой и умом. Бонвиван и безмозглый эпикуреец Анатоль Курагин, конечно, был недостоин Наташи, как недостоин её (совсем по иным соображениям) оказался глубокомысленный князь Андрей. Наташа задумана как мера всех вещей -- вот почему она стала центром притяжения самого разнородного мужского внимания. Через отношение к ней выявляется истинная цена каждого "претендента", но они же и создали Наташе репутацию женщины универсальной, на все времена. Наташа, безусловно, ошиблась и в отношении себя, и в отношении Анатоля. Однако главная "мораль" этой истории видится в следующем: несмотря на все свое внешнее сближение с Элен, Наташа не стала и не могла стать такой, как Элен. Она сохранила себя, осталась верна себе и, более того, познала себя. Отвергнув князя Андрея, Наташа, как ни парадоксально, сделала это не из побуждений совершенно уж эгоистических, а скорее ради него, ради его блага. Их отношения были для неё святыней: "(...) дело любви князя Андрея (и Наташи -- А.А.), (...) 161 представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по её понятиям, не мог понимать его." Искренне посчитав себя недостойной высокой любви князя Андрея, Наташа решила не то чтобы максимально самоустраниться (это было бы жертвой в духе Сонечки, на что эгоистически заряженная на счастье Наташа была просто неспособна), но принудила себя избрать все же "сниженный", по её меркам, вариант. Она уже чувствовала, что "погубит" себя , но то же чувство подсказывало ей: не отказать в этой ситуации Болконскому, что ни говори, означало поступить "дурно". И в отношениях с Анатолем она не наслаждения и удовольствия искала (что было бы в духе "развратной" Элен). Она с самыми серьезными намерениями бросилась в авантюру. Для неё любовь, любовь к мужчине по-прежнему была самым главным делом в жизни, событием, случающимся раз и "навсегда", "до самой смерти" (как было с Борисом Друбецким). Важность "дела любви" сомнений не вызывала; проблема была в том, какая любовь окажется той самой, исключительной и судьбоносной: "её мучил неразрешимый вопрос, кого она любила: Анатоля или князя Андрея?" Ведь сама "неразрешимость вопроса" была унизительна для Наташи, а значит и для её "дела любви" с князем Андреем. Наташа потому так нелепо попалась на грубую интрижку Анатоля, что она по себе судила о честности намерений другого, а главное -- она стала заложницей своего неумения жить без любви, т.е. заложницей своего основного достоинства. Но за это же ей и воздалось. В конце концов, Наташа была вознаграждена за непорочность своей отзывчивой на любовь натуры. Не стоит слишком жалеть Наташу: ведь в расстройстве её помолвки можно усмотреть и горний промысел, который сберег её для настоящей любви к Петру Кирилловичу Безухову; с другой стороны, граф Безухов (также явно не без вмешательства высших сил) был коронован её любовью. И это, согласно замыслу автора, справедливо. Строго во исполнение замысла автора, в соответствии с которым путь к настоящей любви лежит через страдание, Наташа вступила в достаточно мрачную полосу своей жизни. 5.3 Наташа поступила самым безрассудным и нерасчетливым образом. Её взбунтовавшееся сердце, рассудочно обреченное на роковое бездействие, было право уж тем, что, по божьему промыслу, оно не могло не любить. Наташа согрешила против правил и норм логики человеческой, "себя 162 осрамила, как девка самая последняя", по словам ревнительницы морали Марьи Дмитриевны, которая делала все "умненько" и соблюдала, главным образом, внешнюю сторону приличий (по достаточно злой и ироничной логике всевышнего, та же Ахросимова сделала все для того, чтобы Наташа "себя осрамила"). Этот взгляд со стороны примет к сведению и положит в основу своей оценки князь Андрей. Но против логики жизни, подчеркнем, Наташа не согрешила. И это было залогом её будущего счастья. Завтра есть только у тех героев Толстого (сразу же исключим из их числа негодяев), которые живут сиюминутным и не слишком стремятся заглядывать за горизонт. ("Настоящие мудрецы", вроде Анатоля, "ничего не видят дальше настоящей минуты удовольствия" (наблюдение заблуждающегося Пьера) -- и именно по этой причине лишают себя завтра; может быть, стоит добавить, что содержание минуты у "мудрецов" от бога должно как-то реферировать с вечностью.) А уж в этом смертном грехе, грехе соперничества с богом, Наташа была никак не повинна. Но этого ей знать было не дано. В результате родился еще и третий взгляд на ситуацию -- взгляд самой Наташи. Уже после неудавшегося побега с Анатолем, Наташа "зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной". И это была естественная реакция человека, который своими руками, в дьявольском состоянии опьянения разрушил не только для себя самое дорогое, но и нанес глубокую рану другому человеку, который, по меркам совести, никак не заслуживал этого. Наташа, хоть и была орудием в руках божьих, судила себя по законам человеческого представления о справедливости, по законам совести. И это была образцово-показательная ситуация, когда человек чувствует себя виноватым уж тем, что он человек, и страданием своим искупляет предусмотренное несовершенство своей природы, вследствие чего, вкусив благо самоуничижения, может надеяться на компенсацию моральных издержек. Что ни говори, но в плане собственно человеческом Наташа вела себя безукоризненно. Она, не зная разумной меры в делах сердечных, казнила себя беспощадно. Анатоль, конечно, не стоил слез и мук душевных, и он так же быстро выпал из мира Ростовой, как и внезапно в нем появился. Все стало на свои места, все чувства и мысли обращены были к оскорбленному князю Андрею: "Нет, я знаю, что все кончено, -- сказала она (Пьеру -- А.А.) поспешно. -- Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за все..." 163 С потерей любви Наташа, как ей казалось, лишилась будущего. Когда Пьер решил утешить её здравым замечанием "вся жизнь впереди для вас", он услышал: "Для меня? Нет! Для меня все пропало, -- сказала она со стыдом и самоуничижением." Все запутано в мире людей, но сквозь запутанность эту проступают знаки некой стратегической целесообразности. В момент, когда Наташа ставит на себе крест, она вдруг получает признание в любви от человека, который, считая себя глупым и недостойным, от имени "красивейшего, умнейшего и лучшего" (каким, кстати, он во многом был на самом деле) считал бы за честь "на коленях просить руки и любви" Наташи... Если это не реализация промысла всевышнего (через замысел скромного повествователя), то что это? А пока что Ростова вновь испытала приступы долгой "нравственной болезни", сопровождавшиеся нешуточной угрозой для жизни -- болезни отсутствия любви. "Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась". Она не смеялась. Она не могла петь. "Смех и пение особенно казались ей кощунством над её горем." Смех и пение сразу же вызывали слезы, "слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива." Она вела "жизнь без жизни". А между тем шел июль 1812 года. Жизнь постепенно возвращалась к Наташе, а вместе с ней и любовь. Понятие "любовь" все более и более трансформировалось и расширялось (и для Наташи и -- через Наташу -для просвещенного читателя). Теперь Наташа видела в любви нечто большее, чем одухотворенные отношения полов. И выразились новые, возвращающие к жизни, ощущения героини в "молитвах раскаяния". Кульминацией нового акцента в мироощущении Наташи явилась воскресная "приобщающая" молитва (это было во время службы, завершающей Петровский пост). Наступило счастливое воскресенье. Диакон читал слова молитвы: " Миром господу помолимся." "Миром, -все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью -- будем молиться", -- думала Наташа." Эта молитва перешла в молитву о "спасении России от вражеского нашествия". Наташа была "в состоянии раскрытости душевной". "Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигающим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила бога о том, чтобы он простил их всех и её и дал бы им всем и ей спокойствия и счастья в жизни. И ей казалось, что бог слышит её молитву." 164 Видимо, так оно и было. Во всяком случае, Наташа стала пробовать петь, к ней вернулось прежнее оживление. Своим чередом развивались даже отношения с Пьером, которые Наташа, правда, и в мыслях не смела назвать любовью. По-своему Наташа была права, но отношения тем не менее развивались -- по своей, не зависимой от её и Пьера логике. Во всяком случае, кризис счастливо миновал. Своим чередом развивались и отношения с князем Андреем, который после смертельного ранения обрел, наконец, "новое счастье и (...) это счастье имело что-то такое общее с Евангелием". Наташа не отходила от раненого Болконского, искусно ухаживала за ним. Она делала то, что должна была делать. Возможно, Болконский выжил бы, возможно были бы возобновлены отношения жениха и невесты. Однако личным отношениям уже было придано сверхличное, общее измерение: "нерешенный, висящий вопрос жизни и смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения". 5.4 Тут самое место перейти к той стороне личности Наташи, которая позволяла ей без труда и усилий, совершенно естественно, концентрировать в себе общий строй мира, народа. "Всемирная" отзывчивость Наташи была предопределена тем счастливым обстоятельством, что разум не мешал ей жить (чтобы не сказать, что у нее просто не было ума; кстати, эта очаровательная черта евиного племени непосредственным образом роднит Наташу Ростову с Татьяной Лариной: вот еще одна глубинная пушкинская традиция, актуализированная Толстым). Интеллект -- выделяет, объединяют -- чувства. Наташа Ростова была создана как начало объединяющее, соединяющее -- "всех вместе, без различия сословий" и без различия интеллектуальных способностей. Писатель просто не мог избежать темы "Наташа и народ": это было бы явным обеднением такой идеологически важной фигуры, как Ростова и, с другой стороны, собирательный образ народа лишился бы колоритнейшей краски (кстати -- там где Наташа, там возникает очень и очень много попутных "кстати", ибо образ аккумулирует дух народного мира -- само имя Наташа в переводе с латинского означает "родная" или, с латинского же, название праздника рождества, рождения. Наташа, род, родина, народ, рождение -- вот к какому душевному ряду "привязана" семантика имени). Наташа тысячью нитями и россыпью эпизодов породнена с народом. Отметим и проанализируем наиболее характерные. Непосредственно перед злосчастной историей с Курагиным, когда Наташа коротала время в ожидании "гарантированного" счастья с 165 Болконским, она принимала участие в охоте (впоследствии она вспоминала именно "охоту, дядюшку и святки" как самый "беззаботный, полный надежд склад жизни"). Охота, т.е. общение, тесное соприкосновение с природой, растворение в ней в изображении Толстого выглядит как процесс, когда все культурное (читай "наносное") отбрасывается само собой и остается некий стержень, не сводимый, конечно, к инстинктам, но составляющий простую, естественную человеческую суть. Перед нами разворачивается не процесс травли волка или зайца, но поэтизированное, облагороженное человеческими страстями действо, где волк похож на собак, собаки на псарей, ловчие на хозяевпомещиков, а хозяева без ущерба для достоинства уподобляются волкам, и все они вместе образуют целый мир, живущий по своим законам. Быть своим в этом мире, переживать перипетии и сюжеты охоты -- значит просто любить жизнь, почитать законы космоса. "Глянцевито-мокро чернела" земля, ей вторили "большие черные навыкате глаза" Милки, которые напоминали "черные блестящие глаза" Данилы, родственные "блестящим глазам" Наташи (тоже, кстати, черным), глазам Ильи Андреича ("подернутые влагой", они "особенно блестели"), да и "большим стеклянным глазам" матерого волка... Глаза, зеркало души, отражают гармонию мира. А дальше в этом странном мире ловчий Данило мог грозить арапником графу и свирепо распекать его непечатными словами, старый кобель Карай превращался в "отца" ("Караюшка! Отец!.. -- плакал Николай..."), черно-пегая широкозадая сука Милка -- в "матушку" ("Милушка, матушка! -- послышался торжествующий крик Николая"), красно-пегая сучка Ерза -- в "сестрицу" ("Ерзынька! сестрица! -- послышался плачущий, не свой голос Илагина"), красный горбатый кобель дядюшки Ругай стал родным "Ругаюшкой" (позже Николай отметит, что Ругай похож на дядюшку). В то время как кипели охотничьи страсти, "Наташа, не переводя дух, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором (попросту -- галдежом -- А.А.). И визг этот был так странен, что она сама должна была бы стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время." Но никто ничему не удивлялся, люди счастливо вернулись в свое первородное состояние, к своей первой (и единственной?) натуре. Наташа стала тем, кем она и всегда была: восхитительным ростком природы, 166 порождением космоса, вселенной, мира. (И после этого, напомним, Наташа оказалась в Москве, в театре, в обществе Элен и Анатоля...) Когда разгоряченные охотники и сопереживающая им свита, основательно подрастерявшие дворянскую и светскую спесь в поле, вваливаются в "деревянный, заросший садом домик" дядюшки, уже никого не удивляла простая, почти деревенская обстановка и тяготеющий к простонародному "склад жизни" дворянина. Дядюшка, дальний родственник Ростовых (у которого, по его же словам, "ума не хватает служить"), потчевал гостей немудреными разносолами, появившимися на столе стараньями Анисьи Федоровны, Анисьюшки, экономки дядюшки, которая, судя по его "нахмуренным бровям и счастливой, самодовольной улыбке", сопровождавшим её появление с подносом, была больше, чем экономка. "На столе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду." Сам перечень блюд источает не только гастрономический, но и народно-поэтический аромат. Нас, конечно, интересует самочувствие Наташи в этом, отчасти экзотическом, контексте. Но экзотики-то как раз и не вышло. И не надо лучшей характеристики Наташе, воспринимающей, казалось бы, чуждый ей мир как близкий и давно освоенный. (В этой связи отметим, что в подобной обстановке совершенно невозможно представить себе ту же Элен.) "Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для неё обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки." Была всего лишь новая обстановка, но не было унизительного для дядюшки и его образа жизни ощущения экзотики. И в этой обстановке "графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой", чувствовала себя так же естественно, как и на охоте. После того, как дядюшка "со степенным весельем (тем самым, которым дышало все существо Анисьи Федоровны)" "отделал" русскую народную песню, Наташу обуял языческий восторг. Она "забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала." Здесь повествователь от захлестнувших и его не чуждую народности душу эмоций "сбивается" чуть ли не на лирическое отступление (чем "нечаянно" обнаруживает свое отношение к "барышне-графинюшке"). Вначале все испугались, что она в танце "не то сделает". "Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для её дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и бархате 167 воспитанную графиню, которая умела понять то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке." Собственно, Наташа затем и появилась в деревне у дядюшки, чтобы продемонстрировать "всосанный из русского воздуха" русский дух, "неподражаемый" и "неизучаемый", дающийся едва ли не от рождения. Точно так же, как "бессознательный напев" дядюшки, "как бывает напев птицы", доказал его органическую народность, так и бессознательно точные движения обнаружили в его племяннице неизвестно откуда взявшуюся у нее народную закваску. "Неизвестно откуда" означает: точно известно, что "закваска" не прививалась путем изучения, сознательным путем; значит, она привита путем бессознательным. И это, по Толстому, "доказывает", что настоящее объединение, сплочение может быть только бессознательным. Родственный и роднящий компонент есть компонент бессознательно-душевный. Вот почему народ приветствовал назначение Кутузова в главнокомандующие, а сам светлейший, за версту чуявший русский дух, видел свою задачу как народного полководца в том, чтобы не мешать народу, и потому презирал всяческие диспозиции, всю военную науку, предписывающую сознательное вмешательство в дела бессознательные (это, правда с роковым опозданием, "понял" и князь Андрей). Именно феномен бессознательного единения так поразил умного Пьера на поле Бородина, и уже сам бессознательно "читая" людей, он поразился феномену Наташи, в высшей степени обладавшей свойством настраиваться на волну другого, проникать в душу, минуя сознание. Таким образом, Наташа Ростова еще и еще раз убедительно демонстрировала преимущества внесознательного постижения реальности. Уже зная Наташу, мы не удивляемся тому, насколько органично её личные интересы переплетаются с интересами народа, семьи, любимого человека. Патриотический, и даже в известной степени героический акт она облекает в форму женской истерики, забота о раненых преподносится повествователем как дело сугубо семейное. Мы имеем в виду ситуацию, когда Ростовы покидали свой московский дом и должны были увозить на подводах "детское состояние" (в доме оставалось "на сто тысяч добра"). Граф хотел отдать часть подвод под раненых, однако графиня воспротивилась. Она вполне разумно настаивала, чтобы вывезли добро "как люди", а не разорялись "как дураки". 168 И тогда в дело вмешалась Наташа. Она "с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. -- Это гадость! Это мерзость! -- закричала она. -- Это не может быть, чтобы вы приказали." Своими неразумными действиями она, как и следовало ожидать, добивается нужного, правильного результата. И в отношениях с раненым Болконским уже подспудно присутствовали незримые связи с миром, укреплявшие душу Наташи и давшие ей силу перенести утрату. После смерти князя Андрея можно было ожидать обострения "нравственной болезни". Отчасти так оно и произошло. Наташа и княжна Марья, "нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни." "Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти." К счастью, Наташа ненадолго ушла в мир скорби; к несчастью, вывело Наташу из состояния изнурительного уединения, из бесплодного сосредоточения на "непосильном ей вопросе" о значении смерти известие о смерти её младшего брата Пети. Строго говоря, к жизни Наташу вернула все та же любовь -- на этот раз любовь к матери. Страшное известие оживило Наташу, так как без её любви рушился мир семьи. "Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило её в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе." "Нежная борьба" с обезумевшей матерью потребовала от Наташи напряжения всех её духовных и физических сил. "Друг мой, маменька, -- повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего её горя. (...) Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со все сторон обнимала графиню." Вновь вечный мотив "смертию смерть поправ" становится руководством к действию для конкретных живых людей. Смерть для писателя -- это способ прикоснуться к вечности; но долг живых он видит в том, чтобы противостоять смерти. Само допущение вечности, возможность вечности делает мир Толстого прекрасно сиюминутным, трагически неповторимым, хрупким -- и тем самым в чем-то равновеликим вечности, поскольку он выступает единственно возможным противовесом 169 смерти. Роман-эпопею по его пристрастному жизнелюбию можно назвать гимном мгновению, учитывая то, что мгновение есть момент вечности. Вот и получается, что жизнь коротка -- зато искусство вечно. Жизнь получает измерение вечности. Получается, что жизнь еще более, нежели смерть, является способом укрощения вечности (может быть, это не соответствует смиренному религиозному послушанию автора, однако жизнелюбивая модель дает основания для непослушно широких, в том числе антирелигиозных трактовок). Получается, что присущий жизни смысл не пустячок, на который не следует обращать неприлично большого внимания (как делали это "мудрец" Курагин, или умник Друбецкой, или "пользовавшаяся репутацией умнейшей женщины" Элен). Получается, что трижды, сотни раз правы в своем серьезном отношении к жизни (любви, уму, смерти) Андрей Болконский, Петр Кириллович Безухов, Наташа Ростова, Марья Болконская. Получается, что мотыльковое беспроблемное существование и соответствующая ему идеология (система взглядов на мир) -- просто говоря, элементарная абсолютизация принципа удовольствия -- совершенно не соответствуют космическому, экзистенциальному феномену жизни. Получается, что сам дух и тон романа-эпопеи органично адекватны самому главному в жизни: проблеме как следует жить. Толстой не решил проблему, но он не опошлил, а возвысил её. Художников такого ранга и класса в мировой культуре -единицы. Он гениально уловил и модельно передал непередаваемые разумным путем, не фиксируемые рационально драгоценные смыслы бытия. Толстой почувствовал жизнь как личность колоссальная, как человек, в чем-то прорвавшийся к своим пределам, и потому он навечно остался в культуре как эпохальная величина. Итак, рана, которая "наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни." Повествователь безукоризненно точно выстроил логику возвращения к жизни: "рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни." Не маскируя концептуальное зерно, из которого вырос образ Ростовой, повествователь, поборник жизни, анализирует: "Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь её кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность её жизни -- любовь -- ещё жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь." А дальше уже делом писательской техники и делом утверждения высшей справедливости было довести начатое возрождение до разумного завершения. Наташа вновь была готова к любви. Она еще не догадывалась, что бессознательно (не исключено, что с первого мгновения, когда она в 170 свои тринадцать лет думала, что влюблена в Друбецкого, но сидела за именинным столом напротив Пьера и "переглядывалась" с ним; иначе говоря, бессознательная жизнь Наташи сознательно выстроена как бессознательная) давно уже проросла в Пьера, давно уже любит его. Пьер тоже давно уже любит Наташу (не исключено, что с того же мгновения, когда "ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему"). Но теперь он свободен. (Писатель даже толком "не удостоил" разъяснить, как и при каких обстоятельствах "сгинула" прекрасная Елена Васильевна; писателя можно понять: промысел божий на то и промысел, чтобы не осквернять его комментариями, промысел самодостаточен, он говорит сам за себя -- тем, правда, кто способен за случайностями жизни ощущать промысел; ради тех же (прав, прав писатель), кто не ангажирован ощущениями настолько, чтобы перестать получать удовольствие от разъяснений, -- ради них не стоит тратить попусту "золотые" слова.) Необходим был эпилог, который мог бы служить послесловием не только к истории Пьера и Наташи, но и ко всему роману-эпопее. 6 ЭПИЛОГ "ВОЙНЫ И МИРА" 6.1 В эпилоге, капле океана, моменте целого, реализованы "назначения" человека. С этой целью в эпилог допущены тщательно отобранные и прошедшие горнило страданий персонажи, с которыми связана магистральная мысль романа. Очевидно, писатель творит свой роман на манер того, как создается и регулируется мир настоящий вездесущим Творцом; роман задуман как образ и подобие мира; надо полагать, что в таком случае у романа не один, а уж как минимум два творца. Скромность и покорность богу, о которых столько говорилось на страницах эпопеи, конечно, не позволили бы Толстому ставить вопрос таким образом; но уж коль скоро в мире господствует только один "истинный" творец, а роман пишет другой -- то роман либо ниспровергает и компрометирует творца (или, по-другому, возвышает человека), либо Творец чужими руками творит из себя самого кумира (что, конечно, человека унижает, а Творцу не слишком прибавляет лавров). Так обстоит дело в сфере человеческой логики. А иной логики в мире романа не обнаружено. Обнаружена (при помощи все той же логики) способность и потребность верить -- однако логика как таковая в делах душевно-сердечных не при чем. 171 Если наличие души (психики) "опровергает" логику разума и "доказывает" его никчемность -- то это как минимум нелогично и неразумно; это, как и всякая логика наоборот, смешно. Объявлять же нелогичность высшей, сверхразумной логикой -- чистейшей воды трюк, основанный, кстати, на все той же "сомнительной" способности критического суждения. И всё, круг замкнулся, остаётся вера, Наташа, любовь... Но романа, а тем более романа-эпопеи из этой чисто психологической материи не создашь. Роман есть "материя" организованная, а организация (порядок) есть результат деятельности ума. Итак, будем анализировать эпилог, потому что, по логике вещей, у нас нет другого выхода, если мы ставим себе целью познание романа. Наташа Ростова прочитала бы роман и ограничилась бы сопереживанием, т.е. психологической реакцией на "материал" (благо тут ума не надо); но она никогда не написала бы роман. Наташа могла только бессознательно заниматься жизнетворчеством, продлевать и воспроизводить жизнь, как и её мать (тоже, кстати, Наталья, Nathalie), как женщины вообще. Наташа была "настоящая женщина", а потому великолепно исполняла своё "назначение". Толстой, показав способ существования настоящей женщины, позаботился и о том, чтобы дать и аналитическую характеристику этого достаточно редкого типа женщины. Петр Кириллович, рассказывая свои военные похождения Наташе (это было еще до их свадьбы), "испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, -- не умные женщины", которые озабочены "своими умными речами, выработанными в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслаждение, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины." Наташа ловила на лету и "угадывала" все, что хотел сказать ей Пьер. (Тип "настоящего мужчины", заметим в скобках, гораздо менее удался Толстому, ибо настоящий мужчина -- это прежде всего умный мужчина. Все "настоящие" толстовские мужчины бессознательно тяготеют к женскому типу человеческого идеала.) Наташа не умничала, она приспосабливалась под "проявления мужчины" и под законы жизни. В 1813 году Наташа вышла замуж за Безухова -- и в тот же год со смертью графа Ильи Андреевича "распалась старая семья" Ростовых. Однако уже осенью 1814 года Николай женился на княжне Марье -- и создалась новая семья Ростовых. 172 Ко времени, когда происходят события эпилога (а не происходит ничего особенного или, по художественной -- неоднозначной -- логике, происходит самое главное: размеренное течение семейной жизни), к концу 1820 года, у Наташи было уже три дочери и один сын (у матери Наташи тоже было четверо детей). Если настоящей женщине следовало вынашивать, рожать, кормить и воспитывать детей и "принимать участие в каждой минуте жизни мужа", и если ради этого надо было отказаться от удовольствий светской жизни -- Наташа идеально выполняла все "назначения": рожала детей и отдалилась от света. "Странно-тоненькая" юная "графинечка" до замужества и "пополневшая, поширевшая" "сильная мать", которой она стала после замужества, поражают своим контрастом. Однако всё внешнее, в том числе и контрасты, само по себе не интересовало повествователя. Контраст лишь подчеркивал неизменность и органичность бессознательной жизненной линии Ростовой-Безуховой. Наташа осталась прежней, неизменной, как сама природа или жизнь. Наташа не стеснялась противоречить правилам культуры. "Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедоваемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа." Писатель полемично, как в трактате, по пунктам показывает, что Наташа "делала все противное этим правилам". И что же? А то, что она блестяще исполняла свое "назначение". Она, слава богу, не была умной женщиной, а потому поступала по правилам жизни, которые писатель не считал возможным называть умными или глупыми. Наташа -- фигура символическая. Она, не рассуждая, стоит на страже жизни, следовательно, семьи. Она бессознательно концентрировала в себе лучшее, что было в мужчине -- вплоть до того, что становилась своеобразным отражением мужчины, отражением только "истинно хороших" его свойств. Иначе говоря, она была инструментом исправления "не совсем хорошего", дурного в человеке. "И отражение это произошло (в случае с Пьером -- А.А.) не путем логической мысли, а другим -таинственным, непосредственным отражением." Предлагаемый писателем идеал женщины и женственности, при всей его патриархальной немудрености и полемической антизападной заостренности (Наташа по-русски все доводила до крайности, в том числе любовь к мужу и детям), является все же идеалом, а не карикатурой. 173 Карикатурой на идеал женщины Толстой, как известно, воспринимал героиню рассказа А.П. Чехова "Душечка". Ростова и есть "душечка", только всерьез, без иронии. Между Оленькой Племянниковой и Наташей Ростовой разница такая же, как между комическим и космическим (нам представляется, что первое суть момент второго -- момент, который Толстой предпочитал игнорировать). Идеал Толстого концептуально глубок и художественно совершенен. Наташа универсально стыкуется с миром в его самых разных проявлениях. Таким образом, Наташа улучшала, облагораживала мир, не давала ему нравственно опускаться, при том, что сама она внешне "то что называют, опустилась". Внутренне мир, нормальный человеческий мир держался именно на тех качествах, который пестовала и свирепо обороняла Наташа. Жизнь -- женственна, она сторонится бесплодного ума, непроизвольно, поинстинкту оберегает очаг души от смертельного бесстрастия интеллекта. Быть человеком -- значит быть в значительной, в решающей степени женщиной -- к такому выводу вольно или невольно приходит повествователь и заставляет приходить читателей. Вот почему "Пьер был под башмаком своей жены" -- и "был польщен ими (требованиями жены, загнавшими его под башмак -- А.А.) и подчинился им." Наташа стала не просто символом женственности, но женственности как символа жизни и жизнестойкости. Русская нация, по Толстому, -женственна, и потому эти русские, наплевав на золотые правила, выводимые умными историками и военачальниками, немцами да французами, взяли и победили. Женственность Кутузова -- очевидна, женственность Пьера стала залогом его непредсказуемого жизненного успеха; складывается впечатление, что капризная фортуна, направляемая богом-отцом, также не лишена женского начала; мужественность Николая Ростова замешана на самой что ни на есть женственной чуткости и отзывчивости, и его "сангвиническая" неукротимость и драчливое гусарство скрывают всего лишь ранимую душу (во всяком случае, чуткость и вспыльчивость, как и положено, уживаются в нем мирно). А вот каменно-холодная Элен при всей своей внешней, лепной прелести не имела ничего общего с духом женственности. Соня, по словам любящей её Наташи, оказалась "пустоцветом", и "примирилась с своим назначением "пустоцвета". Женщина назначена плодоносить и вместе с тем духовно оплодотворять; проще говоря, бессознательно творить, а не сознательно "разрушать" (анализировать) то, что сотворено без ведущего участия сознания. Сам мир Толстого сотворен по женской технологии, ибо художник вынашивает и рождает образную модель мира, которая вдруг 174 начинает источать смыслы, вложенные во многом непреднамеренно. Роман может оказаться даже умнее автора. Художники, как и женщины, не ведают, что творят. Разумеется, неженские функции Толстой, как и всякий художник, бессознательно отводит Богу-отцу, началу собственно мужскому. Но в жизни, стоящей у истоков модели (или в модели, опирающейся на оригинал), мужское начало, как начало организующее, подавляющее женственную жизнь, -- писатель последовательно истребляет. Мысль, ум, логика, рациональное отношение несут непосредственную угрозу жизни, они иссушают душу, убивают чувство, иррациональное отношение, веру, надежду, любовь -- так чувствуют все женственные герои эпопеи, включая повествователя. И у нас нет никаких разумных оснований исключать из этого почетного списка Льва Николаевича Толстого. Если принять во внимание все сказанное, становится понятным, почему Наташи всегда так "много", отчего все её проявления так избыточны. Она даже своим "маленьким умственным хозяйством" выработала формулу (точнее, поскольку речь идет об уме, заимствовала её из Евангелия): "Имущему дастся, а у неимущего отнимется." Поощряется "имущий" женственность (а хорошего, как известно, много не бывает), "не имущие" не имеют прежде всего безумной воли жить. Но и пустоцветы имеют назначение быть при жизни, служить имущим: так Соня волею судеб была придана и предана новой семье Ростовых (у Николая и Марьи тоже было немало, четверо детей, считая воспитывавшегося в их доме Николеньку Болконского). И избыточность Пьера, его едва ли не карнавальная склонность к излишествам имеют все ту же женственную, трудно поддающуюся обузданию и тирании порядка природу. Безухов, ассоциирующийся с насыщенными, густыми тонами, "темно-синий с красным", объёмный (хотя и не по-женски "четвероугольный", а может, как раз по-женски основательный? Образы, как и женщин, понять трудно...), явно относится к породе имущих. Уж как бился математик и офранцуженный рационалист Николай Андреевич Болконский, порождение архаического 18 века, над "дурой" княжной Марьей, не восприимчивой к выкладкам ума! Но он был бессилен против чрезмерной любви, разлившейся из просто безбрежной её души. Становится понятно, почему в эпилог попали именно эти две пары: попали "имущие". Именно по этому признаку пары были совместимы каждая внутри себя и между собой. Представить живого и здорового князя 175 Андрея на месте Пьера -- невозможно, для этого пришлось бы переписать роман. И пары честно отрабатывали своё назначение: усиленно и неустанно плодились и размножались. Делали они всё это, конечно, по инстинкту, безо всякого умысла. Однако они-то и придали картине "войны и мира" решающие смысловые штрихи. Семьи не просто разрастались, они создавали свои миры, и миры эти чудесным образом становились опорными моментами всего мироздания. Сферическая, глобусообразная конструкция романа находит своё концептуальное, следовательно, и сюжетно-композиционное завершение именно в эпилоге, именно через избранных героев и именно через их семьи. Ростовы жили во вновь отстроенной усадьбе в Лысых Горах. Новый огромный дом был возведен на "старом каменном фундаменте". Семья жила обычной семейной жизнью, "с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами." "За чаем все сидели на обычных местах." Рядом с Николаем, у которого в любимицах, конечно же, состояла маленькая черноглазая дочурка Наташа, лежала "борзая Милка, дочь первой Милки"; старшего сына Николая и Марьи звали Андрюша, младшего -- Митей. Единственный мальчик Наташи носил имя Петя. Излишне спрашивать, почему повествователь запланировал столько дочерей для четы Безуховых; впрочем, сам он не считает нужным специально акцентировать внимание на этом обстоятельстве; известно лишь, что одну из дочерей звали Машенькой, другую -- Лизой. Разумеется, ничего исключительного в том, чтобы воспроизводить дорогие имена в поколениях потомков нет; скорее, это самая обычная практика. Это -- в жизни. В художественном произведении, тем более романе такого уровня полифонического мышления, как "Война и мир", наделение нового поколения "старыми" именами несет отчетливую смысловую нагрузку. Поддерживая высокий строй романа, определим её следующим образом: согласно закону жизни и в соответствии с волей автора всё возвращается на круги своя. В "старом" романе уже просматриваются зародыши новых сюжетов, которые, однако, могут быть выстроены только на старом фундаменте: на антагонизме души и ума. Писатель сознательно придал вращательную, спиралевидную траекторию роману, подчеркивая центральную мысль: жизнь есть беспрестанное движение, и оно только на поверхностный взгляд напоминает беспорядочное броуновское движение. На самом деле у движения есть свои законы, и ни одному из живших поколений еще не удалось их отменить или познать , не говоря уже о том, чтобы внести в жизнь свои 176 законы, хотя каждое новое поколение бессмысленно и заносчиво тратит силы именно на это. Ну, что ж, и оно получит свою долю страданий, поделится на "имущих" и "неимущих" и будет отстраивать новую жизнь -на старом, вечном фундаменте. Мы бы не увидели самого главного, если бы не заметили, что в эпицентре кругообращения, в самом центре мироздания находится женщина. Она единосущна и прекрасна во всех своих ликах: и когда она, едва из пеленок, "энергичными шажками тупых ножек" осваивает мир, как маленькая Наташа Ростова; и когда она с пелёнкой в руках, как взрослая Наталья Ильинична, становится "сильной, красивой и плодовитой самкой", покоряющей мир своей жизнетворящей волей; и когда она, подобно старой графине Ростовой, "чувствует себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла". Никому, коль скоро он пришел в мир людей, не дано избежать своего "назначения" и всех сопутствующих этому назначению фаз жизни. "Memento mori" придаёт быстротекущей жизни человека, возможно, горчинку грусти, зато женская программа позволяет избежать трагизма. А что же мужская часть мира, смирилась ли она с распределением ролей? Наташа общалась с мужем "путём, противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом." Признаком того, что между ними чтото было "неладно" "для неё служил логический ход мыслей Пьера." Как только начинаются ум и логика -- кончается взаимопонимание. Что касается Наташи, то она поступает совершенно естественным для себя образом. Она общается с Пьером тем же способом, каким общалась с трёхмесячным Петей, который умудрялся сообщать ей то, что "было больше, чем правда". Наташа всегда, вступая в сокровенные диалоги с матушкой-природой (в лице Пети, Николая, дядюшки, Пьера -- она кого угодно мгновенно разворачивала так, что "отражала" его лучшую, неразумную, но светлую сторону), узнавала нечто большее, чем правда, а именно: она тестировала любого на чуткость, женственность, жизнеспособность. Но у Пьера, кроме его лучшей стороны, которую обнаружила и, не щадя сил, отшлифовывала Наташа, была ещё пусть скромная, но дававшая о себе знать сторона разумная, его ахиллесова пята и, что ни говори, родовая отметина: мыслишь, следовательно, мужчина. Это назначение, хотя оно и было основательно скомпрометировано, всё же не было истреблено до конца. Наташе не удалось навязать Пьеру исключительно 177 женские функции и заставить исполнять их с наслаждением. "-- Нет, Пьер отлично их (грудных детей -- А.А.) нянчит, -- сказала Наташа, -- он говорит, что у него рука как раз сделана по задку ребёнка. Посмотрите. -- Ну, только не для этого, -- вдруг, смеясь, сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне." Видимо, у Пьера не совсем ещё была заглушена потребность общаться не "совершенно особенным способом", а способом обычным, нормальным, через внятное и членораздельное слово. Через потребность мыслить и возникли у Пьера в Петербурге "особенные дела". Он был "одним из главных основателей" "одного общества", "общества настоящих консерваторов". Не совсем ясно, в чем состояла цель создания такого общества, но совершенно ясно, что основано оно было "под идею", под идеологию. Эта деятельность Пьера, ставшая зоной его свободы, неподконтрольной Наташе, была деятельностью "от ума". Как совместить рецидив такой активности, подобного реликтового разумного вмешательства в жизнь с новым духовным обликом кроткого Пьера? Ведь во всей этой затее с обществом отчетливо ощутима "отрыжка" масонства. Более того, Пьер в отчете Наташе делает достаточно грозные заявления, которые, скажем прямо, неожиданно слышать из уст человека, находящего удовольствие быть под башмаком у жены, которая специализировалась на противостоянии уму. Для Николая, рассуждает Пьер, "мысли забава", "а для меня всё остальное забава. (...) Когда меня занимает мысль, то всё остальное забава." Далее Пьер категорично заявляет, что он не может не думать. Он думает, и мысль его (относительно "общества") "проста и ясна". И тут Наташа в своей особенной, ассоциативной манере спрашивает (очевидно, намекая на противоречие: как совместить то, что любящий мыслить Пьер получает ни с чем не сравнимое наслаждение от семейного "склада жизни", где мысли нет и самого скромного местечка): " -- Ты знаешь, о чём я думаю? -- сказала она, -- о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?" Имя Платона Каратаева всплыло как имя самого уважаемого Пьером человека. Когда Пьер ответил: "Он не понял бы, а впрочем, я думаю, что да" -- Наташа отреагировала даже и весьма особенно: "Я ужасно люблю тебя! -- сказала вдруг Наташа. -- Ужасно. Ужасно!" Чему так внезапно обрадовалась Наташа? Не тому ли, что в мыслях Пьера, судя по гипотетическому вердикту Каратаева, нет состава мысли? Не тому ли, что мысли Пьера именно "забава"? 178 Впрочем, Пьер задумался ещё раз, и передумал: "Нет, не одобрил бы, - сказал Пьер, подумав. -- Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь." После этого чуткая Наташа должна была бы насторожиться. Но закончил свой ответ Пьер словами об "особенном чувстве" к ней после разлуки -- и дальше они стали общаться путём, "противным всем правилам логики". Одно из двух: или мысли Пьера действительно стали "ручными" и "забавными" -- или Наташа просмотрела грозную опасность. Судя по всему, в случае с Пьером не состоялось рокового возврата на старые круги. Сам факт того, что Каратаев остался незыблемым авторитетом для Пьера (вот решающий аргумент для Наташи!), сам факт того, что он сверяет свои мысли со строем его души, сам факт того, что Безухову важно, одобрил или не одобрил бы Каратаев его мысли -- всё это говорит о характере мыслей Пьера, об их лояльности жизни, счастью, спокойствию. Пьер считал себя призванным "дать новое направление всему русскому обществу и всему миру" и рассказал о своих "наполеоновских" планах Наташе -- в ответ же он услышал куда более важные новости о проделках крохотного Пети. После этого Наташа спокойно пошла кормить сына. Забавно, не правда ли? Рецидив умственной болезни Пьера в контексте эпилога, где всё вокруг организовано так, чтобы возвратить жизнь на круги своя, -- в этом контексте рецидив подчеркивает движение жизни. Победы человека, как бы трудны и "окончательны" они ни были, это не раз и навсегда выигранные сражения, требуется постоянное напряжение всех сил, чтобы сохранить динамическое равновесие. Движение -- есть, есть и знак того, что "демоны разума" не дремлют; но полномасштабного возврата к старому -- нет. Давайте представим себе на секунду, что Толстой всем романом подводит к финальному аккорду -- "победе разума". Искусственность, произвольность и спекулятивная безответственность такой интерпретации -- очевидна, она не то, что не выдерживает критики, но сама идея защиты подобной трактовки выглядит глупо, ибо "защитнику" потребуется представить весь роман натяжкой к двусмысленному моменту в целом гармоничного (имеется в виду гармония социоцентрического типа) финала. Нет, контридиллический штрих эпилога становится способом создания общественно ценной «идиллии», способом окончательного утверждения основ мира. Если допустить, что заключительная сцена является утверждением нового облика "мыслящего" Пьера (а для этого у нас, повторим, слишком мало оснований), то мы должны признать, что писатель приблизился к 179 революционному перевороту в понимании духовной природы человека, к персоноцентризму -- и тем самым допустил колоссальный художественный просчет в отношении уже написанного романа. Нет, Пьер отнюдь не нарушает социоцентрической гармонии финала своими умными речами. А вот Николенька Болконский, вполне возможно, был уже заражён вирусом ума и честолюбия (сказалась дурная наследственность?), он уже стал мечтать о судьбе, скроенной по лекалам судеб "людей Плутарха". Что ж, "назначение" людей, вознамерившихся потрясти старые основы мира, в принципе, уже известно читателю. Только Николеньке об этом ничего не известно... ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА Что такое умный человек? Это человек культурный в точном смысле этого слова, т.е. не только художественно, но и научно культурный. Все, с кем или чем ни общается умный человек, приобретает культурную маркировку, ценность и значимость. Умный человек не отвергает жизни, однако жизнь для него -и только для него! -- становится больше, чем жизнь, а именно: феноменом культуры. Он смотрит на жизнь, природу, женщину с противоположных точек отсчета, совмещая несовместимые измерения. И жизнь, отражённая сквозь призму культуры, и культура как тончайшее "духовное извлечение" жизни -- превращаются в процесс познания жизни и культуры, познания себя. Человек не культурный (не умный) не способен познавать себя. Ему даже не скучно, ему страшно оставаться одному, без окружения других людей, а общение с миром людей выполняет всего лишь функцию ощущения жизни. Потребность в общении -- потребность в продлении жизни. Вот почему умные люди испытывают горе от ума, они одиноки, ибо для них все остальные люди, бессознательно тянущиеся к общению, немногим отличаются от немой природы. Интенсивное, но пустое и бессодержательное общение с культурной точки зрения мало чем отличается от рокота волн, шелеста деревьев или щебетания птиц. Умные люди не отвергают общество людей, народ, мир, потому что это глупо и потому что они люди; они не отвергают бессознательное общение, но не признают такое общение контактом разумных существ, так как это еще глупее, чем отвергать жизнь. Их одиночество не страшно, оно трагически безысходно. 180 Умные люди поймут всё и всех, они, владея логикой жизни и логикой культуры, видят ограниченность, неуниверсальность культурных или жизненных законов, и закон идеологической абсолютизации моментов универсума -- не их закон. Умный человек прекрасно понимает того, кто "не удостоивает" быть умным, а вот последний -- никогда не поймёт первого. Но неумные видят друг друга издалека, они бессознательно сплачиваются в стаи, семьи, нации, народы, даже во всемирные братства. Человек умный, увы, всегда не равен среде, он всегда трагическим образом выше семьи, народа, самой жизни. И не умные будут всегда бессознательно избегать "умников", не пускать их в свой тесный круг, в свой тёмный мирок, будут объявлять их врагами жизни и, соответственно, "не удостоивать" жизни. А теперь спросим себя: есть ли умные герои на страницах романаэпопеи? Несомненно, князь Андрей -- один из самых умных героев "Войны и мира"; но несомненно также и то, что ум князя -- идеологический, ангажированный, лишённый подлинной независимости и самостоятельности. Это ум, действующий в рамках неумно избранной позиции дискредитации ума. Писатель позаботился и о том, чтобы дать определение ума -- определение вызывающе тенденциозное и неполное, устраивающее разве что концепцию романа. Князь Андрей видел, что в Кутузове оставалась "вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий." Ум как способность "группировать события и делать выводы" -- это характеристика функционального, специализированного ума, которым отличались глупые немецкие и французские высшие военные чины, Борис Друбецкой, Берг, Билибин и даже Элен. Настоящий ум -- это именно "способность спокойного созерцания хода событий" как результат понимания природы такого, а не иного хода событий. Ум же, который группирует события и не видит причин, их вызвавших, есть банальная глупость. Именно таким умом (несколько, правда, усиленным по сравнению с глупостью одиозной) был силён и князь Андрей, и Пьер. А другого ума -- философского, видящего (выражаясь языком автора, осмеливающегося видеть) причины причин -- в романе просто нет, ибо он выведен за рамки человеческих возможностей по причине того, что автор романа не верил в человека, а желал верить в высший разум. Пафос Толстого не пропал даром, но то, что он разоблачил -- был поверхностный интеллект, выдаваемый за мудрость. Толстой дезавуировал 181 глупость, хотя метил именно в ум универсальный. Но такого ума, повторим, равно как и его носителей, в романе нет. Поскольку писатель не считал нужным маскировать свою позицию, что, кстати, позволяло избежать ложно-высокопарной объективности (оправданной и не ложной только при ставке на ум) и придавало эпопее пристрастно-субъективную убедительность, окутывало сгруппированные события и выводы аурой честности и искренности, постольку мы вправе задаться вопросом: а был ли умён повествователь, образ автора, естественно перетекающий в автора романа, в Льва Николаевича Толстого? На этот вопрос лучше всего ответить в его излюбленной "особенной" манере: он был гениальный художник и потому мог предложить единственно достойное художника отношение к миру: познание человека заменить просто любовью к жизни, просто любовью. Один из парадоксов Толстого состоит в том, что предлагаемая им грандиозная картина мира генетически выводится из осмеянного им же "маленького умственного хозяйства". Мир Толстого -- это его миф. Автор не видит существенной разницы между моделирующим и рефлектирующим типами сознания. Умная душа для него есть альтернатива глупому разуму. Вся разница между ними, по убеждению Толстого, состоит в том, что ум, "группирующий события", выдаёт желаемое за действительное рациональными средствами, а душа -- средствами иррациональными. Ослепленный граф Толстой, как в своё время Болконский, "душевное" отношение изволит считать "истинным", а рациональное -- ложным. Что касается второго -- то так оно и есть; что касается первого, то, вопреки убеждению писателя, оно имеет гораздо больше общего со вторым, нежели с истиной. Но существует еще и третья, в литературе обозначенная Пушкиным возможность! Рефлектирующего, неангажированного мышления, единственного только и приспособленного под постижение истины, Толстой не ценил в должной мере и абсолютно не доверял ему. Вот почему у писателя нет персонажей философов (есть "умствующие" личности), нет умных героев, нет горя от ума, нет трагизма. Толстой изгнал трагизм -- ценой отказа от воли к разуму. Тут Толстого подстерегал еще один парадокс "не в его пользу": он вынужден был доказывать несостоятельность разума средствами именно разума, ибо иных средств у него, культурного человека, попросту не было. Толстой впал в грех абсолютизации внесознательного отношения к миру -классический грех художника, питающегося соками души и 182 довольствующегося "бессознательными крохами" разума. В сущности, роман, где эпопейность переходит в библейскость, как мы уже отмечали, сделан по типу Евангелия: от бессознательного страха перед смертью -через страдания, часто сдобренные глупостью, -- к любви к жизни и преодолению страха смерти -- и, далее, к любви к смерти (выступающей оборотной стороной любви к жизни). Конечно, этот сюжетный архетип -вечный крестный ход литературы, не Толстым открытый и не им исчерпавший себя. В художественной литературе как таковой уже давно ощутим, так сказать, дефицит новизны. Всё в ней старо, как мир, но, как мир, и актуально. Своей цели, цели художника, Толстой добился, создав волшебный роман. Сила жизни, любви к жизни побеждают все, и этому так же трудно возразить, как матери -- крику новорожденного малютки. Можно разве что бесконечно умиляться. Писатель не решил вопрос -- но заставил "полюблять" жизнь. Однако если изменить цель и сформулировать её так: познать человека (решить вопрос) -- то в этом случае к Толстому, который, что бы он ни говорил о цели художника, своим романом предлагал решение кардинальнейших вопросов бытия, у нас возникнет много претензий. Толстой лишь с одной стороны, в одном измерении -- со стороны души -знает о человеке редкостно много. Но со стороны ума человек остался для него безнадежно далёкой от разгадки тайной. Толстой был художник, и мы судим его -- не по его законам, как иногда лукаво предлагают, ибо по своим законам всякий прав -- по законам художника, по законам моделирующего сознания. Часто упускают из виду, что один из законов художника -- закон объективной, научной истины, закон ума и рефлектирующего сознания. Вот почему Толстой, сознательно или бессознательно, обречен был решать вопрос. Если подойти к роману с позиций высших культурных ценностей, где ценности философско-интеллектуальные и ценности жизни (добра и красоты) не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга, то оценка его оказывается такой же противоречивой, как и сам роман. И данный тезис вовсе не свидетельство в пользу того, что роман Толстого "плох". Сказать, что "Война и мир" "плох"-- равнозначно утверждению "Библия плоха". Бога, с позиций сознания научного, давно уже нет, а библия все существует и процветает, и конца этому триумфальному малокультурному просвещению пока не видно. Библия, как и "Война и мир", совершенна и несовершенна ровно настолько, насколько совершенен и несовершенен человек. Дело не в оценках, 183 "привязанных" к разным системам отсчета, а в степени соответствия природе человеческой. Глубина заблуждений русского гения предопределена тем, что он глубоко проник в суть человека. С точки зрения познания человека роман интересен разве что тем, что в очередной раз подтвердил простую истину: сознание художественное не отражает реального человека, оно моделирует нового человека в соответствии с идеалами и представлениями творца. С точки зрения эстетического воплощения культа "комического человека" -- роман исполнен на уровне, близком к предельным возможностям человека. Толстому нет равных, и величие его будет только возрастать. Само эпическое начало романа служит способом возвеличивания начала "комического". Эпохально-историческая подкладка под бессознательно-роевую жизнь указывает на глубину укоренения психических программ. Аромат истории источает у Толстого просто жизнь, а жизнь, в свою очередь, складывается в историю. Поскольку история есть история человека комического -- умом историю не понять. Война необходима была писателю для того, чтобы ярче показать возможности иррационального духа, составляющего сердцевину и личности (личность не думающая превращается в индивидуума), и народа. Связь одного с другим, личности и народа, технология сплачивания людей, технология мирообразования -- вот что интересовало писателя, который подчеркивал, что главной для него в романе была "мысль народная". Как люди связаны друг с другом? Что позволяет создать сам субъект истории -- народ? Люди связаны, спаяны посредством чувства, посредством женского начала. Поэтому стихия народная предстает как сфера национальной психологии, коллективного бессознательного, с которым тесно связано личное бессознательное. Культ личности, европейский культ личности, основанный на культе ума, просто органически неприемлем для романа. Толстого интересуют личности, стремящиеся к тому, чтобы перестать быть личностями, отрицающие свою самость, легко совместимые со стихией народной. По этой причине в романе нет главного героя, персоны, на которую "завязана" вся проблематика романа (как это было в "Евгении Онегине"). Культ чувств, души, психики, культ человека комического, задающий тон и пафос эпопее, невозможно привязать к персоне и этим исчерпать проблематику, ибо душа как феномен природный, вселенский есть атрибут "мира", но не отдельной личности. Вот почему всюду, всюду в романе мы сталкиваемся с "диалектикой души", т.е. диалектикой "бессознательного" и "глупости, претендующей на ум". Бессознательное 184 выступает в качестве активного, ведущего члена противоречия и обеспечивает поступательное движение личности, семьи, народа, истории, мира. Все сферы души увязаны в единый "мирный" и "мировой" узел. Мир Л.Н. Толстого скреплён душой. И все же мы изменили бы принципу "в научном исследовании истина превыше всего", если бы, в соответствии с законом, определяющим диалектику сознания, не акцентировали момент, противоположный вышеизложенному (ничего не поделаешь: полнота истины складывается из противоположностей). Мы не отрекаемся: понять Толстого -- значит развеять миф о Толстом, понять его культурное значение -- значит уяснить его заблуждения. Однако заблуждения Толстого относительно человека базировались на исключительно глубоком понимании (здесь нет оговорки) человека. Чтобы в полной мере осознать величие культурного подвига Толстого и его заслуги перед собственно мышлением, следует отдавать себе отчёт, какую грозную, далеко не академическую опасность несёт в себе развенчанный Толстым в пух и прах тип одномерной рассудочности. Толстой одним из первых в мировой культуре почувствовал угрозу, таящуюся в европейской ментальности, уже доказавшей свою исключительную эффективность в деле преобразования мира. Толстой -- и это вызывает бесконечное восхищение и уважение -- принципиально и недвусмысленно (т.е. в научном ключе) подчеркнул, что отличие западноевропейцев от русских по линии менталитета заключается в том, что русские обладают потрясающим чутьём на присутствие противоречия, чувством того, что мир соткан из противоречий. Их, русских, мерцающий, асцеллирующий, сомневающийся, нежёсткий, гибкий, не склонный к категоричной однозначности ум зачастую куда более адекватен реальности, нежели бюргерский, практический, одномерно-линейный, нечуткий к сложности жизни, а потому ничтожный в культурном отношении умишко. Ум практический обеспечивает примитивное целеполагание и доводит до совершенства технологию осуществления заданных целей. Тотальный культ порядка -- это более чем неверное, с позиций диалектики, мышление; это прямой путь к культурному "гулагу", это смерть началу творческому. Одномерность мышления, заблокированного от чувства диалектичности мира, есть классическое культурное хамство. Такой однобокий, догматический ум всегда чреват угрозой неверно отражаемому миру, и если такого рода ум определяет параметры цивилизации -- а сегодня так оно и есть -- то цивилизация заражена вирусом самоуничтожения. Способ действия такого ума Толстой пророчески точно и глубоко увязал с войной, не конкретно с 185 войной 1812 года, а с войной вообще, с войной как способом культурного воздействия на народы недостаточно просвещенные, а потому менее сильные. "Сила есть ума не надо" превращается в доктрину "сила есть свидетельство ума". Ум, направленный на порабощение, подавление, закабаление (технико-экономическое или военно-политическое -- это уже решает прагматический ум) тех, кто подобным умом не обладает -- вот закон современной западной цивилизации. Отсюда: не в силе (не в догматическом уме) бог, а в правде (в том, что более совершенно, по сравнению с грубой силой, отражает реальность). Ничего удивительного в том, что обе мировые войны затеяли "культурные" европейцы -- нет; будет удивительно, если они не начнут третью. А чтобы не начать её, надо будет принять к сведению в качестве культурной профилактики роман русского писателя "Война и мир". Я ни в коем случае не подвергаю сомнению целесообразность культурной эволюции в сторону Запада, в сторону умения мыслить; однако я не только не отождествляю умение мыслить с одномерной рассудочностью, но и противопоставляю их друг другу. Дело в том, что такого рода рассудочность есть разновидность насилия над реальностью. В чём-то отрицая субъективный произвол моделирующего мышления, доктринёрское сознание смыкается с ним по результату: реальность отражается неверно, тенденциозно -- в одном случае реальность замещается желанной картиной мира по технологии воображения (вижу не то, что есть, а то, что хочу видеть), в другом происходит подгонка "мира" под умственно-рожденную доктрину (вижу не то, что есть и не то, что хочу видеть, а то, что должно быть). Толстой избрал первый вариант (и как художник он был вполне в русле культурной традиции), но зато как же реалистично и дальновидно он развенчал вариант второй, показав его антигуманную сущность, радикальную нестыковку с творчески-психической природой живого человека. Разумеется, личная честность Толстого и его благородная "воля к сомнению" (выражение Б. Рассела) бесспорны, что, впрочем, не помешало ему не замечать кардинальных духовных противоречий иного уровня и порядка. Духовная интенция Толстого промаркирована извечно русским "хотел как лучше". Но благие намерения не всегда ведут к благой цели. Благими намерениями, не подкрепленными мудростью аналитического отношения, как известно, вымощена дорога в ад. Пора спокойно (т.е. научно) отнестись к тому факту, что мир художественной культуры -- даже в своих высших, классических образцах -- может выступать не только как способ духовного производства, но и 186 (одновременно!) как орудие духовного закабаления и духовной примитивизации личности. Толстой бесстрашно и безжалостно развенчал одни, иррациональные по сути (рациональные только по форме) догмы, чтобы на их место воодрузить другие -- уже откровенно иррациональные. Со своим культом "истинной веры" неуёмный правдоискатель столь же опасен и неоднозначен, как и религия, как и моделирующее сознание вообще. Толстой, как ни дико это звучит, мешает стать трезвее, стряхнуть иррациональный дурман и выработать диалектически-рациональный тип духовности. Я ни под каким видом не призываю к "отлучению от Толстого". Я утверждаю (надеюсь, мне удалось доказать объективную истинность этого утверждения), что культура -- продукт для разумного (избирательного, критического), а не бездумного потребления. Мы рассмотрели, в основном, "план", концепцию, которая легла в фундамент романа (сколько в этой концепции сознательного, а сколько бессознательного и в каких отношениях они находятся, насколько стимулируют и угнетают друг друга -- это отдельный вопрос). На языке научного литературоведения задача исследования может быть сформулирована следующим образом: мы провели целостный (противостоящий анализу) анализ (разложение целостности), сосредоточившись, преимущественно, на творческом методе, который связывает концепцию личности (план содержания) и стиль (план выражения). Мы исследовали творческий метод со стороны его обусловленности концепцией личности, ядро которой составляет система духовных ценностей (отсюда -- вечные и пресловутые поиски "смысла" героями). Гораздо меньше внимания мы уделили тому, как метод отразился в стиле, как метод определил поэтику романа (хотя характерные черты поэтики -- система персонажеобразования вокруг конфликта определенного типа, принципы сюжетосложения, архитектоника, композиция, функции деталей предметных и речевых, поэтика имен и т.д. -- так или иначе, в той или иной связи были затронуты); такой аспект -тема отдельного исследования. В заключение -- последний парадокс Толстого, который и сам был мастером не слишком глубоких парадоксов, но неизменно становился жертвой парадоксов глобальных: такова ирония истории, из которой пытались вычеркнуть всего лишь личность (незамеченный полноправный субъект истории). Концепция Толстого, при всей свойственной ей идеологии жизнелюбия и ненависти к схематизму, оказалась гораздо более схематична, нежели концепция Пушкина (в которой разуму отводилось не последнее место). Толстой грешил именно тем, против чего так мудро 187 выступал -- грешил одномерной рассудочностью. Диалектически насыщенные моменты у Толстого, как уже было отмечено, связаны с диалектикой души, а не души и сознания, что только и обеспечивает подлинное, несхематическое единство мира, подлинную органику, органику высшего порядка. Человеческий мир Толстого крепится на одной опоре; вторая же, умственная опора, искусственно убирается, что и придает поразительному по естественности миру Толстого заданность и схематизм. У Пушкина получилась "воздушная громада", т.е. громада реальная, производящая впечатление воздушности; у Толстого -- "воздушная громада" наоборот: впечатление громады при легковесной воздушности идей. Получилась, так сказать, воздушная громадность. Толстой с впечатляющей полнотой и мощью эпопейно воспел односторонний, "моделирующий" взгляд на двусторонние отношения "рефлектирующего" и "моделирующего" типов сознания. Это эпопея о победе не русских над французами, а искушенного диалектикой "сердца" над извечным противником -- кичливым "умом". Горе -- от ума, а без ума -- счастье: вот формула Толстого. Вся мощь гениального художественного ума была обрушена на ум научно-логический, и последний был признан в человеческом отношении наихудшим из зол. Следует согласиться, что в этом выразилась своего рода вечная правота человека. На этом основании "Войну и мир" можно рассматривать как могучее завершение допушкинского этапа в развитии не только русской, но и всей мировой литературы, а "Евгения Онегина" -- как столь же могучее начало этапа нового. У вечной проблемы, которая волновала и Пушкина, и Толстого, и Достоевского, и Чехова, существуют разные варианты вечных решений, в зависимости от того, от чего отталкивается стратегия решения: от ума или от психики. Уже сам тип названия произведений отражает тип мышления. Одно дело "Пир во время чумы", и совсем другое -- "Война и мир", "Преступление и наказание", "Отцы и дети"... Жизнь в принципе возможна только как пир души во время эпидемии умственной чумы (впрочем, справедливо и обратное): "так нас природа сотворила, к противуречию склонна". Если же мы загоняем себя в тупик ложной альтернативы: или пир -- или чума, мы идем супротив природы и нормы. Проблема в том, что "противуречие" вмешивается и в мышление. В результате мы имеем противоречивую (нормальную) ситуацию, которая смущает тех, кто мыслит по допотопной технологии, "группируя события" и "делая выводы"; нормально мыслят избранные, единицы, а все остальные (имя им 188 -- легион), народ и народы, нормально не дотягивают до нормального уровня. Нормальная ситуация, где или сойдешь с ума (выработаешь иммунитет против ума, как против чумной заразы) -- или начнешь мыслить. Ошибка мыслящих от психики предопределена их наивной убежденностью в том, что надо постигать мир, наделенный, якобы, присущими ему законами (выводимыми, якобы, из мира, имманентными миру), а не законами законов: законами мышления. Законы как бы сами по себе "выводятся" из мира. На самом деле зависимость мира и имманентных ему законов более сложная, чем это видится не мудрствующим мыслителям. Каково мышление -- таков и объект: и мир, и человек. Ошибочно полагать, что мышление всегда правильно и неизменно, а действительная сложность таится в "непостигаемом" мире. Если мир непостижим -- то "виноват" в этом, якобы, мир, а не мышление. Обратная связь между законами и законами законов -- это тоже часть мира. Но законы законов -- мало кому интересны, а те, кому они интересны, обречены на горе от ума. К счастью, это достойно сожаления (или: к сожалению, это достойно восхищения). Вполне вероятно, что подобная логика мышления -- от ума -- будет определять специфику искусства в будущем, ибо прогресс искусства определяется развитием не моделирующего, а именно рефлектирующего мышления в составе мышления художественного. Это будет новый реализм, реализм тотальной диалектики. Нормально (это значит: может быть, и хорошо, и плохо, в зависимости от ценностного контекста) воевать ради мира и хотеть мира, подталкивая к войне; нормально, когда оказывается преступным наказывать за преступление, нормально совершать преступления, чтобы избежать наказания... Картина мира -- есть детище отношений. Другое мышление устанавливает связь других отношений. В результате возникают другие качества, другая наполненность категории. Человек меняет мир не меньше, чем мир меняет человека, и это объясняет всё; потребность же в высшем разуме просто отпадает. Война и мир, преступление и наказание, отцы и дети -- это тип мышления, отражающий достижения вчерашнего дня; но достижения эти недосягаемы и нетленны и сегодня, и всегда. 189 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: ЛИЧНОСТЬ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО Часть 2 2. ТЕОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ГЛАВА 1. ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 1.1. Что же такое литература? 1.2. Автор (писатель) как литературоведческая категория 1.3. Ньютон и литературоведение 1.4. Защита Шолохова 1.5. Хорошее отношение к стихам 1.6. "Философия" и "литература" 1.7. Искусство анализа ГЛАВА 2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО В СВЕТЕ ЦЕЛОСТНОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 2.1. Жизнь и смерть Ивана Ильича Головина 2.2. Мыслишь, следовательно, ошибаешься... "Война и мир") (роман-эпопея