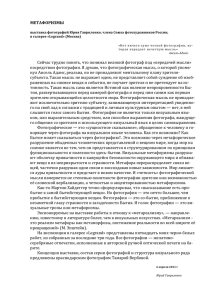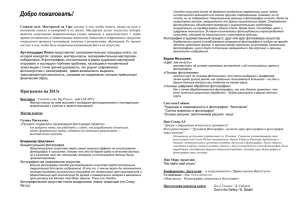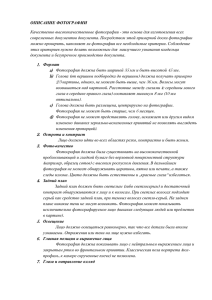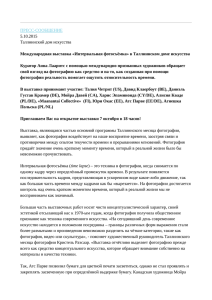Fhy[tqv_fotograf
реклама

Рудольф Арнхейм Блеск и нищета фотографа С самого начала подчеркнем, что есть большая разница между изучением природы таких традиционных визуальных искусств, как живопись и скульптура, и анализом фотографии. Так, произведения визуальных искусств довольно просто освободить от внешнего контекста. Достаточно снять со стен картины, закрыть музеи и художественные галереи, стащить с пьедесталов статуи государственных и общественных деятелей, и задачу можно считать почти решенной. Вряд ли после всего этого мир будет выглядеть совершенно иначе, да многие вообще не заметят, что что-то случилось. Попробуйте, однако, освободить от мира, который она обслуживает, фотографию. Что тогда произошло бы с журналами и газетами? А с объявлениями, афишами, упаковкой разных товаров, с паспортами, семейными альбомами, словарями, каталогами? Это было бы чистейшей воды варварство, настоящий грабеж! Попробуем пойти дальше, и мы увидим, что традиционные виды искусства не только легко вырвать из повседневного окружения; они также не могут возникнуть в том открытом для глаз мире, который сами описывают, хотя, как нам хорошо известно, живопись и скульптура едва ли когда-нибудь вообще появились бы на свет, если бы не требования внешнего мира. Природа их проистекает, главным образом, не из содержания, а из средств, с помощью которых эти искусства создаются: листа бумаги, холста, блоков камней, а также различных материалов и инструментов. Возникающие благодаря выбранному средству перцептуальные условия определяют и стимулируют творческие концепции и установки художника. Это также справедливо, хотя и в гораздо меньшей степени, для фотографии. Фотографию прежде всего порождает действительность, с которой она связана крайне сложным и запутанным образом. Понять ее можно только, если рассмотреть, что произойдет, когда оболочка физических объектов будет оптически спроектирована на фотопленку, а затем химическим путем преобразована и зафиксирована, напечатана и обработана. Живопись и скульптура появляются на свет как бы изнутри наружу, фотография движется в противоположном направлении. Таким образом, мы прежде всего рассмотрим фотографию в следующих трех отношениях: как она становится практически полезной, релевантность момента для нее в текущем времени и, наконец, ее отношение к видимому пространству. С самого раннего периода развития фотографии всеми признавалась ее полезность для фиксации и хранения видимых объектов, и нет никакой необходимости на этом сейчас останавливаться. Вместо этого, возможно, было бы любопытно охарактеризовать ее полезность косвенно, указав на те ситуации, где она действует менее успешно по сравнению с изображениями, созданными вручную. Возьмем рисунок подозреваемого в преступлении человека, выполненный полицейским художником. Поскольку у художника имеются только самые общие представления о подозреваемом, в своем наброске он может изобразить лишь самые общие контуры человека: форму его головы и волос, их приблизительный цвет. Такого рода обобщения легко доступны рисовальщику: его линии и штрихи с самого начала естественным образом тяготеют к высокому уровню абстракции, и ему удается достичь индивидуализации образа исключительно путем особого самосовершенствования. С другой стороны, фотография должна затратить много усилий, чтобы передать обобщенный образ. Она не может начать иначе, как с индивидуального образца, и чтобы прийти к обобщению, ей приходится затемнять или еще как-то частично скрывать отличительные детали человека. Вместо того, чтобы утвердить абстрактность позитивно, она достигает ее лишь негативно, уничтожая некую изначально имеющуюся информацию. По аналогичной причине фотография охотно прибегает к официальному портрету, призванному передать высокое лицо или высокое общественное положение данного лица. В крупных династических или религиозных иерархиях, такие, какие были в древнем Египте, предполагали, что статуя правителя олицетворяет мощь и сверхчеловеческое совершенство его должности, и пренебрегали его индивидуальностью; и даже в наше время фотографы, специализирующиеся на портретах президентов и крупных бизнесменов, вынуждены искажать их, чтобы не подчеркивать художественные достоинства своей работы. Отвергая всякое возвеличивание, в процессе которого совершается насилие над истиной, фотография демонстрирует свою преданность той действительности, из которой она вышла. Между тем даже отражение реальности в строгом смысле этого слова предполагает такие способности, какие не просто найти у фотографии. Рассмотрим ее применение в научных целях. Она представляет исключительную ценность для документалистики: она быстра, полна, надежна и правдива, но фотография уже менее пригодна для интерпретации и объяснения тех или иных аспектов изображаемого объекта. Это серьезный недостаток. По большей части иллюстрации предназначены для пояснения пространственных отношений, для того, чтобы можно было сказать, какие объекты связаны, какие нет, а также для более точной передачи дифференциальных характеристик конкретных форм и цветов. Часто с гораздо большей эффективностью этого способен достичь опытный рисовальщик, ведь рисунки могут переводить все, что он понял про данный предмет, в зрительные образы. Сама фотокамера не может понимать, она лишь регистрирует, и фотографу бывает очень сложно вводить научно или технологически релевантные перцептуальные признаки с помощью простого управления светом, ретушью, вентиляцией или какой-то другой обработкой негативов и отпечатков. Это репродуктивное средство не зависит от формальной точности, поскольку многое в мире вообще происходило незаметно для глаз. Реальность физического объекта включает в себя в самом строгом смысле общий ход его развития и существования во времени. Чтобы передать движение во вневременном художественном средстве, каковым является живопись, художник вынужден придумывать эквивалент, который бы обращал временную последовательность в соответствующий неподвижный образ. Для той же цели у фотографа выбор средств весьма ограничен. Конечно, в особых случаях фотография выходит за пределы одного момента, одной фазы временной последовательности. Когда затвор объектива открыт в течение достаточно большого промежутка времени, происходит перекрытие отдельных моментов, сложение целого с частным - например, видимое вращение звезд позволяет увидеть прекрасное изображение концентрических кривых. Длительность выдержки устраняет также все повороты и напряженность позы сидящего перед камерой человека; этим достигается своеобразная ахроническая монументальность, как в портретах Дэвида О. Хилла. И все же такая аккумуляция за счет суммирования отдельных моментальных кадров в большинстве случаев не годится. Фотограф стоит перед выбором между остановкой естественного движения жизни - процедура, символом которой служит металлическая скоба, позволяющая удерживать головы людей перед фотоаппаратом в неподвижном, застывшем состоянии, - и доверием отрезкам времени, основываясь на их важности. Однако найти важные моменты времени бывает совсем не просто. Например, такие произведения искусства, как танцы или театральные представления, часто создаются с таким расчетом, чтобы действия в них достигали кульминации в высших точках, синтезирующих внешние события, и могли бы быть сфотографированы. Так, в японском театре Кабуки игра ведущего актера достигает пика в момент "mi-e", что означает буквально "разглядывание картины". В этот момент актер застывает в стилизованной позе в сопровождении шума деревянных трещоток, и зал бурно приветствует его. Мир, однако, вовсе не обязан останавливаться и застывать перед фотографом, чтобы тот мог произвести "осмотр картины", между тем, что весьма примечательно, даже здесь фотография учит нас, что мобильные события повседневной жизни порождают значимые временные отрезки, причем делают это гораздо чаще, чем можно было бы ожидать. Больше того, быстрое течение событий содержит скрытые моменты времени, которые в случае, когда они бывают изолированы от других моментов и зафиксированы, обнаруживают новые, и при этом разнообразные, значения. Все эти открытия принадлежат исключительно фотографии, которая пришла к нам благодаря двум психологическим закономерностям: во-первых, психика человека организована таким образом, что она приспосабливается к пониманию целого, а чтобы постичь детали, ей нужно время; во-вторых, всякий элемент, выхваченный из контекста, меняет свою природу и обнаруживает новые свойства. С первого взгляда представляется совершенно невероятным, чтобы одна фаза протекающего процесса была способна удовлетворить всем требованиям, которые хорошая фотография предъявляет к композиции и символическому значению. Между тем, подобно рыбаку или охотнику, фотограф делает ставку на невероятный случай и, как это ни странно, выигрывает чаще, чем это представляется сколько-нибудь разумным или обоснованным. Еще одно ограничение, разделяемое в равной степени фотографией и другими визуальными искусствами, состоит в том, что изображения, создаваемые фотографом, касаются только внешней стороны предметов. При особых условиях художники или скульпторы, не придерживающиеся правил реализма, свободно передают внутреннюю сторону объекта вместе с внешней - например, житель Австралии демонстрирует нам внутренности кенгуру, а Пикассо создает гитару, открытую и закрытую в одно и то же время. Фотографу же для достижения такой свободы приходится прибегать ко всякого рода ухищрениям. Так, он должен заранее предусмотреть, в какой мере внешняя сторона явится отражением внутренней. И здесь на помощь приходит прежде всего то, что Яков Беме, мистик эпохи Ренессанса, назвал "signatura rerum", то есть сигнатурой вещей, с помощью которой мы через внешний облик вещей открываем их внутреннюю природу. Как может фотография изображать людей, животных и растения, если их видимые формы не имеют структурных соответствий силам, управляющим их внутренней стороной? Что осталось бы от фотографий людей, если бы их психические состояния непосредственно не отражались в движениях мышц лица и других частей тела? К счастью, визуальный мир раскрывает природу многих событий через их внешний облик. Во внешних реакциях передаются и боль и удовольствие. Визуальный мир сохраняет также шрамы, оставленные травмами прошлого. Но в то же самое время фотографии не могут ни объяснить нам того, что на них изображено, ни рассказать, как следует оценивать изображаемое. В наши дни, благодаря фотографии, кино и телевидению, их освещению событий, происходящих в мире, человеку удалось проникнуть в суть многих важных вещей и многое понять и осмыслить. В западной цивилизации техническое совершенствование моментальной фотографии шло параллельно возрастающей свободе публичного выражения всего того, что в прошлом было скрыто по причинам морали, скромности или того, что обычно относят к "хорошему вкусу". Фотоизображения насилий, пыток, разрушений и сексуальной распущенности вызвали исключительно мощный взрыв сопротивления. Человек столкнулся с изображением таких событий, словесные описания которых можно сделать лишь косвенным образом, основываясь на воображении. Однако практика последних лет научила нас также, что шокирующее действие такого рода зрелищ быстро исчезает и, во всяком случае, не обязательно содержит сообщение; по крайней мере, оно явно не несет в себе контролируемого сообщения. Сегодня даже дети, ежедневно сталкивающиеся с жуткими сценами преступлений, с картинами войн, несчастных случаев, уже не страдают от сильнейших переживаний, которых можно было бы бояться. Происходит это частично по той причине, что дети впервые встречаются со всеми этими ужасами в том возрасте, когда еще не могут отличить реальный акт насилия от напоминающих его взрывов, грохотов и разрывов в мультфильмах и аналогичных развлекательных картинах. Однако одних зрительных образов недостаточно, чтобы ощутить воздействие фотографии. Изображения на фотоснимках требуют разного рода пояснений. Значение зрительных представлений зависит от общего контекста, частью которого они являются. Это значение определяется мотивами и жизненным кредо лиц на снимках, которые не очевидны в самих картинах, а также зависит от отношения зрителя к жизни и смерти, к благополучию человека, к правосудию, к свободе, к личному доходу и т.д. В этом плане традиционные визуальные искусства имеют преимущество, поскольку считается, что все, что изображено на картине или рисунке, помещено туда сознательно. Так, когда деятельный и энергичный график Георг Гросс нарисовал зажиточного господина с огромным животом, мы понимаем, что он сознательно допустил анатомическую деформацию тела, чтобы охарактеризовать социальные язвы капитализма. Но когда фоторепортер из газеты показывает нам на фотографии группу из толстых мужчин, сидящих на собрании или за одним столом, их тучность может быть воспринята как случайная, незначащая черта, а не как обязательный символ отношения автора к данным людям или как некая социальная характеристика. В этом смысле фотография стоит вне добра и зла. Очевидно, что фотография предлагает зрителю непосредственно рассмотреть и оценить ряд релевантных фактов. Таким образом, непосредственное воздействие на зрителя оказывает так называемый "сырой материал", то есть импульс, возникающий непосредственно в тот момент, когда человек сталкивается с фотографией. Если зритель при этом хоть сколько-нибудь чувствителен к тому, что ему показывают, то возникший импульс может заставить его поразмыслить над увиденным. Но какими будут его мысли, когда он взглянет на хороший моментальный снимок политической демонстрации, спортивного события или угольной шахты, зависит от его собственной интеллектуальной ориентации, с которой изображение должно согласовываться. Фотография может быть очаровательной, но, возможно, кто-то оценит ее как признак декадентства, вызывающий отвращение, она может быть душераздирающей, как, например, снимок умирающего от голода ребенка, и тем не менее быть отвергнута как всего лишь свидетельство неэффективности политического руководства или как заслуженное наказание за отказ следовать правильной религии. В результате, когда фотография хочет передать некоторое сообщение, она должна попытаться поместить все его демонстрируемые признаки в надлежащий контекст причин и действий. Для этого ей нередко приходится прибегать к помощи устного или письменного словесного языка, причем делать это гораздо чаще, чем обходиться без такой помощи. Фотограф может не возражать против такого рода зависимости и даже желать ее. Но как художник он не должен брать на себя вину за то, что вынужден в основном иметь дело с, так сказать, "чистыми" фотографиями, без какого-либо сопровождения, подобно тому, как делают свои высказывания многие картины и скульптуры, не прибегая к посторонней помощи, появляясь на пустых стенах выставочного зала или в некоем социальном вакууме. Поэтому далее я попытаюсь проанализировать некоторые особые свойства фотографии и прежде всего остановлюсь на двух важных вопросах: изображение на снимках обнаженных тел и натюрмортов. В классической традиции Греции и Рима обнаженная фигура выступает как главная тема искусства. Однако в средние века ее изображение в основном появлялось там, где необходимо было показать печальное положение тех, кто согрешил, сойдя с пути истинного. Начиная с секуляризованного искусства Возрождения вплоть до его потомков, живущих в наши дни, изображение нагих тел занимает важное место в творчестве скульпторов и живописцев. Созданная в греческой манере художником Возрождения обнаженная фигура, помимо своей эротической привлекательности, раскрывает красоту и целомудрие тела в состоянии чистоты, непорочности и обобщенности формы, не терпящих ограничений, навязываемых одеждой. В соответствии с такой символической функцией художник выписывает тело человека, очищенным от случайных черт, выражающих его несовершенство и индивидуальность. Иногда форма тел определяется на основе стандартных числовых пропорций, и кривизна формы сглажена до геометрически простых линий. Я уже отмечал выше, что обобщенность формы легко достижима в рамках "ручных искусств", поскольку те по самой своей природе не зависят от инвентаря элементарных форм и цветов. Они лишь постепенно приближаются к индивидуальным особенностям физических объектов и лишь до тех пределов, в каких это оправдано потребностями культуры и стиля. В периоды, когда чувство формы и представление об искусстве как о воплощении идей уступает дорогу реалистическому копированию ради копирования, мы сталкиваемся с произведениями, в которых несоответствие между формой и предполагаемым значением производит отвратительное или нелепое впечатление. Любимого художника Гитлера, профессора Зиглера, в кругах, осуществлявших подрывную деятельность, называли "мастером лобковых волос" из-за идиотской тщательности, с какой тот выписывал женскую модель, например, выполненную в натуральную величину символическую фигуру "Богини искусства". Пример с Зиглером сейчас уже не производит такого впечатления, поскольку в последнее время некоторые наши художники и скульпторы занимались подобным бессмысленным делом и заслужили за это похвалу критиков. В искусстве фотографии детальное изображение отдельного человеческого тела уже не столь редкое явление в рамках конкретного стилистического направления. Напротив, это трамплин, от которого обычно отталкивается фотография. Нормально сфокусированный снимок тела человека позволяет обнаружить все изъяны данной модели. Отсюда, в частности, то гнетущее впечатление, которое производят фотографии, снятые в лагерях нудистов. Эта особенность фотографии ставят фотографа как художника перед конкретным выбором. Он может выбрать данную форму и структуру и интерпретировать ее как результат взаимодействия биологически "предполагаемого" типа и внешне выраженного морального износа материала. Прототипом такого подхода служит кожа на теле старого фермера или покрытая струпьями кора дерева, того подхода, который может дать весьма волнующие образы повседневной жизни. Но фотограф может также искать редкие образцы совершенного человеческого тела, такого, как пышущее здоровьем и силой тело молодой женщины, тренированное тело атлета, или, наконец, почти дематериализовавшаяся духовность старого мыслителя. Перед нами идеальные образы, похожие на своих двойников в живописи и скульптуре, однако, если принять во внимание различие в средствах, у этих образов будут разные коннотации. Фотодокументы - это не просто плод идеального воображения, откликающегося на несовершенство мира грезами о красоте. Это трофеи охотника, рыскающего в поисках чего-то необыкновенного в существующем мире, и обнаруживающего нечто потрясающе красивое. Это все равно как если случайно напасть на настоящий большой бриллиант. Такими фотографиями художник передает сенсационные новости, говорящие о том, что в нашем мире тоже можно найти нечто исключительно приятное, причем именно в своем ближнем, а не в эйдосе Платона. Поэтому снимок фотографа запечатлен в особом смысле; вместо того, чтобы вызвать у нас покорность и смирение, он вызывает чувство гордости. Но фотограф может также захотеть преобразовать обычное в возвышенное, колдуя над светом, и тем самым стереть с образа нежелательные черты или скрыть их в темноте. При этом он может воспользоваться оптическими и химическими приемами для перевода образа в область графики. Однако и здесь вызванное у зрителя впечатление в принципе должно отличаться от образов, возникающих у него при разглядывании литографий или гравюр. Если перед нами такая фотография, то ее следует рассматривать и как хитроумную маскировку реальной фигуры, принадлежащей модели и в целом спрятанной от глаз, и как земную реальность, стоящую за таким изображением. Хотя, чтобы такая трансформация оказалась успешной, фотограф должен обладать хорошим воображением, результат ее напоминает произведения японского искусства бонсаи - выращивания и аранжировки карликовых кустов и деревьев, - основной смысл которых ускользает от зрителя, если тот не поддался очарованию этих подлинных творений природы и не воспринял их как таковые. Теперь я позволю себе остановиться и сказать несколько слов о натюрморте. Можно утверждать, что в живописи натюрморт - это наиболее искусственный из всех жанров в том смысле, что во всех других "история" картины объясняет все, что в ней содержится. Это относится и к портретам, и к пейзажам, жанровым сценам и даже к аллегориям, в то время как в натюрмортах гораздо чаще представлено расположение объектов, которое всецело определяется требованиями композиции и ее символическим значением. В большинстве случаев в мире нельзя найти ничего, что было бы похоже на все эти аранжировки фруктов, бутылок, мертвой птицы и материи. Но в такой искусственности нет ничего неистинного, ибо живопись как художественное средство не обязана играть роль документа, говорящего исключительно правду. В фотографии подобные примеры можно встретить лишь случайно, они возникают под влиянием традиционной живописи. Однако всюду, где видны характерные признаки фотографии, натюрморт предстает как объективная фиксация фрагмента внешнего мира, укомплектованного людьми для каких-то своих практических целей, как образец, на котором заметен отпечаток человеческого присутствия. Или же на фотографии мы сталкиваемся с отражением живой природы в форме растения или животного, где также, быть может, ощущается вмешательство человека. Если композиция, созданная живописцем, раскрывает нам отдельный мир, замкнутый в своих пределах, то натюрморт, изображенный на фотографии, представляет собой слепок открытой части мира, продолжающейся во всех направлениях за границы изображения. И человек, который разглядывает фотографию с натюрмортом, вместо того, чтобы просто восхищаться изобретательностью мастера, действует как исследователь, беззастенчиво вторгающийся во внутренний мир природы и человеческой деятельности, с любопытством всматривающийся в жизнь, которая оставляет на фотографии свой след, и пытающийся отыскать ключ к разгадке тайн природы. Пройдя через огромную комбинацию возможностей, которые дает нам открытый мир, и острое чувство формы, которым обладает его автор, удачный фотоснимок появляется на свет в ходе активного взаимодействия модели с художником, обозначаемого с обозначающим. Неподатливость материала, с каким имеет дело фотограф, сопротивление модели, которая скорее предпочтет умереть, чем позволит фотографу грубо обращаться с ней, добиваясь от нее послушания, обычно приносит много неприятностей. Но удачный союз фотографа с моделью, согласованность их характеров и взаимных потребностей всегда приносит великолепные результаты. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М., 1994, стр.119-141.