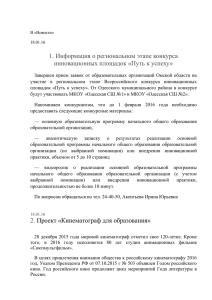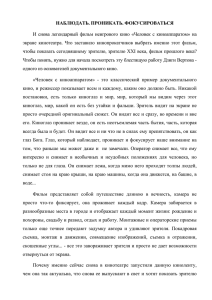1 Олег Аронсон Аронсон О. Коммуникативный образ: (Кино
реклама

1 Олег Аронсон Аронсон О. Коммуникативный образ: (Кино. Литература. Философия). М., 2007 О коммуникативном образе Коммуникативный образ – «некое временное материальное соединение разрозненных знаков» (с. 8). Это не постоянные знаки, образующие связную и стабильную систему, как в структуралистской семиотике, а случайно оказавшиеся вместе, противоречащие друг другу, что заставляет зрителя постоянно переинтерпретировать эти знаки заново. «<…> акцентируя внимание на кинематографической коммуникации как особых образах, в которых проявляет себя вне-социальная и вне-языковая общность, сами фильмы уже можно анализировать иначе, выделяя в них сообщение, приходящее в обход герменевтики или эстетики, позволяющих читать фильм как произведение. Сообщение это приходит не от понимания или чувственного восприятия и не направлено к ним. Но это также и не некая “благая весть” новых технологий. Это – сообщение, приходящее от образов, еще не ставших языком, еще не присвоенных разумом или чувственностью. Это либо забытый, либо желаемый язык общности» (с. 8–9). Феноменология коммуникативного образа Идея сингулярного бытия (и существования): существовать не как единица общества, в режиме потребления (благ и устойчивых смыслов) или в режиме знаков, производящих значения, – а как случайное существование, единичное и множественное одновременно (т.е. как субъективность во всей ее противоречивости и парадоксальности), как нечто неразложимое (тело). Быть в режиме коммуникации с другими, т.е. быть членом общности, а не общества. Проявление такого сингулярного существования – кинематограф: «В отличие от традиционных образов искусства, которые по-прежнему интенсивно используются в кино, коммуникативный образ ускользает от прямого предъявления, дает о себе знать тогда, когда значимыми оказываются элементы ранее не замечаемого фона, эффекты стертого рассеянного восприятия, а также всего того, что стираемо самим восприятием. Благодаря своей ориентации на подвижное и изменчивое изображение, благодаря многим приемам монтажа, освещения и кадрирования, кинематограф сформировал тот тип зрительской перцепции, при котором такие образы обнаруживают свое действие в некотором отдельном поле коммуникации, не сводимой только к языку и только к чувственности. Собственно, предлагается рассматривать кино как сложную систему коммуникативных образов, находящихся по ту сторону изображения (репрезентации) и языка» (с. 12). Эти образы имманентны материи кино, проявляют себя как следы коллективных аффектов (воспоминаний, желаний и т.д.), потерянных на уровне индивидуального восприятия. Чтобы их анализировать, приходится иметь дело уже не со знаками, находящимися в поле нашего сознания, а «именно со следами, где “непонимание”, невозможность непосредственной фиксации смысла выходит на поверхность» (с. 13). «Кино, исторически находясь на границе между миром литературы и искусства и миром медиа, как никакой другой материал, позволяет обнаружить эту зону трансформации восприятия и мышления, соединяя в себе знаки, указывающие на традицию изображения и воображения образа, и знаки-события, в эту традицию не укладывающиеся, несущие в себе уже иные повествования, исходящие от общности, от самых слабых коммуникативных связей, которые для себя еще не получили опознавательных знаков. Эти повествования всегда еще не записаны, но уже предписывают действие “становления другим” – аффективное и всегда аномальное именно своей этикой» (с. 17). [Ср. со взглядами Делёза – хэндаут 10.] 2 Михаил Ямпольский Ямпольский М. Демон и лабиринт: (Диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996 «В этой книге собраны этюды, объединенные одной темой. Все они посвящены отражению телесности в культуре. Телесность же рассматривается под определенным углом зрения. Меня интересовали различные формы деформации тела. Само по себе понятие деформации требует уточнения. Я вовсе не имею в виду существование некой “нормы”, по отношению к которой происходит деформация – нарушение, искажение этой нормы. Под деформацией я понимаю некий динамический процесс или след динамики, вписанный в тело. В таком контексте деформацией может быть любое движение, любое нарушение первоначального стазиса – от гримасничанья и смеха до танца и блуждания в потемках. Движение, о котором в книге говорится постоянно, должно, однако, каким-то образом фиксироваться, сохранять деформацию как след. В интересующем меня аспекте след движения неразрывно связан с понятием “поверхности”. <…> Деформации всегда возникают на поверхности (в глубинах воды рябь невозможна) и всегда касаются двух тел, между которыми располагается поверхность» (с. 4). Ямпольский М. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993 См. также 4-й хэндаут 1-го семестра «Цитата и интертекст». О тексте, его авторе и читателе «Текст не вещь, это трансформирующееся поле смыслов, которое возникает на пересечении автора и читателя. При этом тексту принадлежит не только то, что сознательно внес в него автор, но и то, что вносит в него читатель в своем с ним диалоге. <…> Читатель тем самым становится полноправным соавтором текста» (с. 34–35). [Здесь же – ссылка на М.М. Бахтина, который первым высказывал эту мысль.] Об интертекстуальности «Мы определим ее [цитату] как фрагмент текста, нарушающий линеарное развитие последнего и получающий мотивировку, интегрирующую его в текст, вне данного текста» (с. 61). О ложной цитате (когда разрыв в наррации кинотекста есть, а очевидного интертекста нет) и об авторе «Интертекстуальность работает как логизирующий механизм только там, где обнаруживается сходство между текстами – там, где такого сходства нет, интертекстуальность оказывается неэффективной. Ложная цитата создает совершенно особое явление. Она порождает аномалию, которая не может быть решена через соотнесение одного текста с другими, она блокирует в силу своей ложности (негативности) сам механизм интертекстуальности. В этой чрезвычайной ситуации читатель-интерпретатор имеет, по существу, единственный выход: он вынужден ввести в контекст фигуру автора, без которой прекрасно обходится интерпретация в случаях работающей интертекстуальности. Логика введения автора в контекст ложного цитирования определяется хотя бы тем, что именно автор в действительности отвечает за ложную отсылку. Поиск догадки переносится в область авторской психологии» (с. 93). «Интертекстуальность при ложном цитировании почти неизбежно восстанавливается за счет психологизирующих фантазий. Следует, однако, в полной мере 3 отдавать себе отчет в том, что это психологизирование является лишь одной из стратегий чтения, необходимой для преодоления блокировки механизма интертекстуальности. В этом смысле обращение к психологии автора не проливает никакого света на эту психологию и относится целиком к сфере читательской интерпретации текста. Правда, акцент на психологическую мотивировку резко выдвигает фигуру автора из тени, вводит ее в контекст как хранителя семантических ключей к нему, придает автору видимость активного присутствия в тексте. Фиктивная фигура автора как бы соединяется со смысловой аномалией, приобретая от нее репрезентативность. Ложное цитирование, таким образом, становится эффективным способом превращения фигуры автора в значимый элемент текста» (с. 94–95). Ямпольский М. Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла. М., 2004 В этой книге Ямпольский отходит от семиотики (прежде всего структуралистской, но отчасти и постструктуралистской, в русле которой была написана его «Память Тиресия») в сторону современного варианта феноменологии, приближаясь к Делёзу, Аронсону и др. «Сегодня мне представляется важным прежде всего окончательно избавиться от представления, что сущность кино заключается в оперировании знаками, пусть иконическими, и что его следует рассматривать главным образом как особую знаковую систему. Конечно, объекты, предстающие перед нами на экране, даны нам не вживе, но в изображении. <…> Мы можем видеть в кинозале “вещь-изображение” – то есть экран, на котором движется картинка, но такое восприятие не будет “нормальным” восприятием фильма, оно будет восприятием “вещи-кинематографа”. <…> Как только мы начинаем смотреть фильм, мы больше не видим экрана, луча и т.д. Мы схватываем вещи на экране, как если бы они были реальными вещами, и реагируем на них, как на реальные вещи. Мы никогда не оперируем в нашем сознании иконическими знаками, то есть изображениями, которые даны нам как указатели на нечто отсутствующее. Конечно, в какие-то моменты мы осознаем, что имеем дело только с изображениями, но это сознание знаковости в обычном режиме восприятия не застилает самих вещей. Мы действительно имеем дело со “смысловыми вещами” (термин ОПОЯЗа. – Н.П.)» (с. 10). «Но означает ли это, что те системы значащих оппозиций, которые я когда-то обнаруживал в кино, не имеют места? Нет, не значит. Это просто значит, что смысл в кино, как мне сегодня представляется, реализуется в самих показываемых вещах, а не в некой кинематографической речи, в неком воображаемом иконическом “логосе”» (с. 10). «Мне представляется, что фильм как некий предмет нашего восприятия обладает двойным статусом. С одной стороны, он является объектом нашего первичного созерцания, с другой же стороны, он имеет совершенно особую форму, которая не является языковой формой, но именно фундировано-категориальной формой, над которой может надстраиваться язык как способ высказывания о фильме и формулирования тех смыслов, которые заложены в фильм его категориальной формой. Форма фильма – не языковая, она не основывается на оппозициях, подобно языку, она является формой, в которую уже включены категориальные акты – объекты внешнего мира тут уже сближены, разделены, противопоставлены и т.д. Именно в этих категориальных актах и заключены те данные нам в созерцании связи, которые в языке фундируются не созерцанием, но смыслонесущей системой оппозиций. При этом важно понимать, что фильм ни на минуту не становится языковой системой, областью выражения, но остается феноменологическим объектом, данным нам в созерцании» (с. 13).