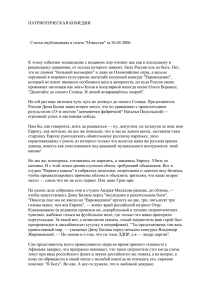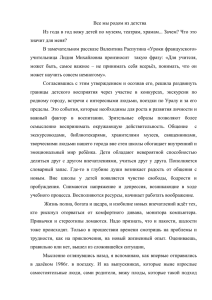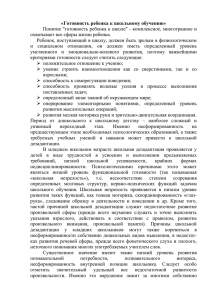Дима
реклама
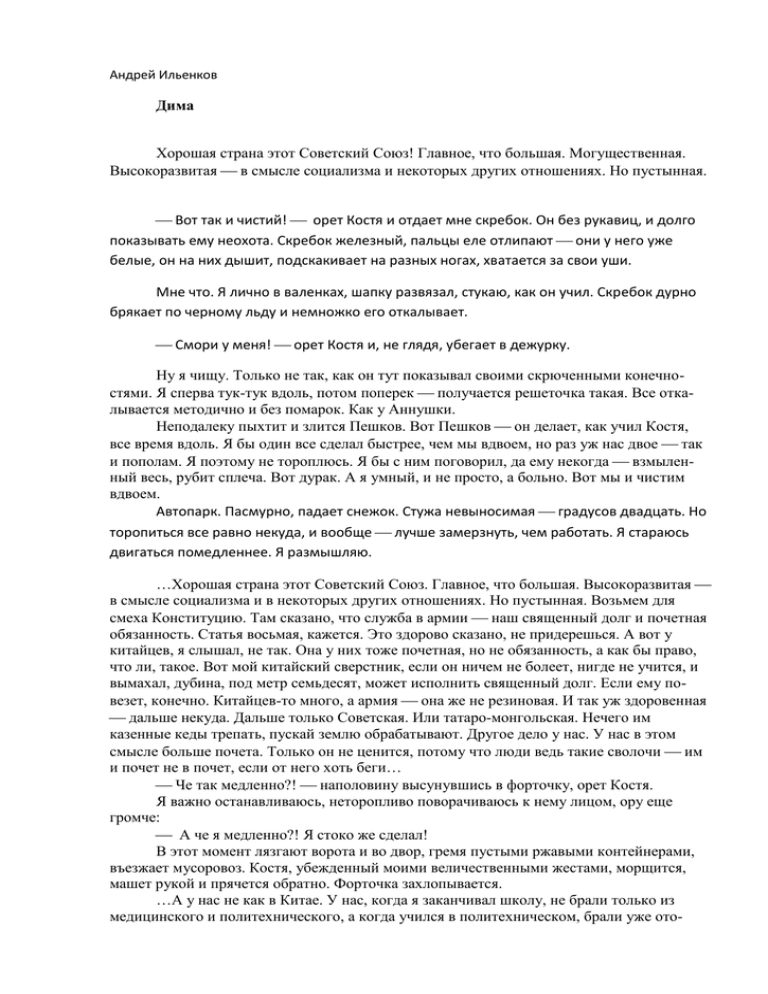
Андрей Ильенков Дима Хорошая страна этот Советский Союз! Главное, что большая. Могущественная. Высокоразвитая в смысле социализма и некоторых других отношениях. Но пустынная. Вот так и чистий! орет Костя и отдает мне скребок. Он без рукавиц, и долго показывать ему неохота. Скребок железный, пальцы еле отлипают они у него уже белые, он на них дышит, подскакивает на разных ногах, хватается за свои уши. Мне что. Я лично в валенках, шапку развязал, стукаю, как он учил. Скребок дурно брякает по черному льду и немножко его откалывает. Смори у меня! орет Костя и, не глядя, убегает в дежурку. Ну я чищу. Только не так, как он тут показывал своими скрюченными конечностями. Я сперва тук-тук вдоль, потом поперек получается решеточка такая. Все откалывается методично и без помарок. Как у Аннушки. Неподалеку пыхтит и злится Пешков. Вот Пешков он делает, как учил Костя, все время вдоль. Я бы один все сделал быстрее, чем мы вдвоем, но раз уж нас двое так и пополам. Я поэтому не тороплюсь. Я бы с ним поговорил, да ему некогда взмыленный весь, рубит сплеча. Вот дурак. А я умный, и не просто, а больно. Вот мы и чистим вдвоем. Автопарк. Пасмурно, падает снежок. Стужа невыносимая градусов двадцать. Но торопиться все равно некуда, и вообще лучше замерзнуть, чем работать. Я стараюсь двигаться помедленнее. Я размышляю. …Хорошая страна этот Советский Союз. Главное, что большая. Высокоразвитая в смысле социализма и в некоторых других отношениях. Но пустынная. Возьмем для смеха Конституцию. Там сказано, что служба в армии наш священный долг и почетная обязанность. Статья восьмая, кажется. Это здорово сказано, не придерешься. А вот у китайцев, я слышал, не так. Она у них тоже почетная, но не обязанность, а как бы право, что ли, такое. Вот мой китайский сверстник, если он ничем не болеет, нигде не учится, и вымахал, дубина, под метр семьдесят, может исполнить священный долг. Если ему повезет, конечно. Китайцев-то много, а армия она же не резиновая. И так уж здоровенная дальше некуда. Дальше только Советская. Или татаро-монгольская. Нечего им казенные кеды трепать, пускай землю обрабатывают. Другое дело у нас. У нас в этом смысле больше почета. Только он не ценится, потому что люди ведь такие сволочи им и почет не в почет, если от него хоть беги… Че так медленно?! наполовину высунувшись в форточку, орет Костя. Я важно останавливаюсь, неторопливо поворачиваюсь к нему лицом, ору еще громче: А че я медленно?! Я стоко же сделал! В этот момент лязгают ворота и во двор, гремя пустыми ржавыми контейнерами, въезжает мусоровоз. Костя, убежденный моими величественными жестами, морщится, машет рукой и прячется обратно. Форточка захлопывается. …А у нас не как в Китае. У нас, когда я заканчивал школу, не брали только из медицинского и политехнического, а когда учился в политехническом, брали уже ото- всюду. Это сложилась неблагоприятная демографическая обстановка, когда нерожденные дети убитых на войне никого почти что не зачали, кроме нас. А страна большая. Много дивизий, корпусов и армий, не считая отдельных полигонов, бригад и укрепрайонов. Кавалерийский полк тоже имеется. Не бронекавалерийский, как во Франции, где легкие танки, а кавалерийский, где кони. Полк. …Опять лязгают ворота. Мимо нас проезжает генеральская белая «Волга». Во время работы честь отдавать не нужно: маши себе инструментарием, в ус не дуй. Это мне нравится. Только мне не нравится, что если это генерал, то эти козлодои сейчас выскочат из дежурки, отберут скребки и будут колотить ими по асфальту. Потом они их поломают, а когда генерал так и не появится, что мы со сломанными делать будем, не знаю. Вообщето они бы уже выскочили наверное, в «Волге» был один водила. Это хорошо. Нос вот у меня мерзнет это да. …Ладно, поехали. Говорят, раньше в армию очкариков не брали. Это за что купил, за то продаю. Потом пошли разговоры, что если парень в армии не был, то его девушки любить не будут, что он, выходит, больной получается. И ходить с таким одна морока, а давать ему вообще нельзя: дети задохлики будут, кургузые то есть, лысые. А если был в армии, то, может, еще ничего, если там как-нибудь не испортился. Только теперь что же получается. Вот служит у нас на насоске рядовой Попелюга. У него не то ревматизм, не то артрит, он хромает, и его уже переводят в другую роту, потому что, видите ли, нельзя ему ноги мочить. А он сам норовит по колено, по пояс то ли героизм, то ли в госпиталь хочет. Ну, в госпиталь-то многие хотят, там коклетками, говорят, кормят и дают молоко. Еще чего! Вон Костя два года с лишним отслужил, его и то в госпиталь не кладут. Есть знаменитый рядовой Сергиенко, наш герой. Он солдат что надо, но щуплый какой-то, росту маленького, волосы на письке не растут, вообще нигде не растут, только на голове. Конечно, не в волосах, говорю, здоровье, тупыми лезвиями опять же не бриться. Но все равно как-то странно, девятнадцатый год человеку все-таки. Может, к дембелю обрастет. На двадцатиградусном-то морозе. Ага, начинают мерзнуть ноги. Странно. Валенки, что ли, дырявые? Уж в валенках-то мерзнуть…. Я, наверное, тоже больной. …А то еще есть один сухорукий параноик. Он служил, служил, а потом в бега. Ну, его поймали, а он дуркует, прыгает. Если скажешь. Может быть, это и не пример он-то наверняка хочет в психушку, но, с другой стороны, много таких дезертиров, не все же дурака корчат. Да и зачем? Все равно простят. В смысле, командование простит. Товарищи-то это как уж повезет, вообще-то мы не любим, потому что интересно получается: все домой хотят, вдруг нашелся самый умный! Нет, это мы осуждаем. Смотри, ухмыляясь, зовет меня Пешков, обессиленно повиснув на скребке. Он пока отдыхает. Ну я смотрю. К нам на помощь идет боец. Ну и что? спрашиваю. Да же Дима! тяжело дыша, но с удовольствием отвечает он. И улыбается. Какой Дима? Ну ты дубовый! Ты че, Диму из первой роты не знаешь? Его уже вся часть знает. Смотрю я на этого Диму и ничего не понимаю. Ну Дима. Из первой роты. Подходит. Костя! кричит Пешков и отчаянно машет руками, Мы перекурим, перекурим! В дежурном окошке что-то движется. Я ничего не разбираю, но, кажется, мы перекурим. Пешков вынимает из пачки «Примы» две сигареты. Ого! Перекур серьезный. Ди-има! говорит Пешков, с наслаждением выпуская дым. Дима останавливается. На нем новая форма, сапоги, но удивительная шапка. Она без уха. «Ого!» думаю. Он какой-то не такой. Слюни в уголках рта. Здоровенная короста на губе. Переминается с ноги на ногу. Дима, ты из какой роты? Я из первой роты, протяжно отвечает Дима. Я изумленно смотрю то на Диму, то на Пешкова. Пешков затягивается и подмигивает мне. Дима, а у тебя че на губе-то? Сифилис? Не-е, то просто болька. Пешков хохочет с такой готовностью, что сразу ясно ответ он знал заранее. Дима, а ну-ка, правый сапог к осмотру! Дима неуклюже вытаскивает из сапога красную голую ногу и, с трудом балансируя, держит ее на весу. Пешков хмурится и грозно спрашивает: А ваша портянка, товарищ солдат? Дима долго и трудно говорит, что портянки ему не велела носить баба, потому что от них ноги портятся. Пешков закатывается беззвучным хохотом, трясется, умирает на месте. Потом он вытирает слезинки и приказывает сапог надеть, каковое действие Димы вызывает у него новый приступ смеха. Мне не смешно, потому что я пока не верю своим глазам. Но, может быть, Пешков сначала тоже не верил. Может быть, раза после третьего у меня начнутся такие же корчи. Пешков вручает Диме скребок, и тот начинает молотить по одному и тому же месту. Но мы пока курим и возиться с объяснениями неохота. Я ошарашенно качаю головой и Пешков снова смеется. То-то, говорит он мне. Но мне не довелось увидеть спектакль трижды. Диму перевели в теплицу подсобного хозяйства и там он до конца службы благополучно вертел газетные стаканчики под рассаду. Официально это называлось «командировка». Один командированный его так и звали «бахча» всю службу провел в теплице и на огороде и, несомненно, получил самое превратное представление об армии. Ему же подчинили в качестве батрака и Диму, так что «бахче» недоставало только смуглолицей ровесницы в грязном сарафане для завершения и округления модели мужицкого рая, в которой он чудесным образом очутился, где кормят-поят и одевают бесплатно, работать не нужно и беспокоиться не о чем. Месяца три спустя, будучи в теплице, я видел Диму. «Бахча», указывая на миску с харчом, говорил ему таковы слова: Дима, перетаскаешь торф поешь тут. Понял? Понял, разумно сказал Дима. Но сначала перетаскаешь, понял? А то накажу. Дима кивнул. И никому, смотри, не открывай без меня! Будут стучать скажи: бахча ушел к связистам, и, накинув на спину пустой вещмешок, вышел вслед за нами «на совхоз», то есть в ближайший за несколько километров отсюда «гражданский» гастроном.