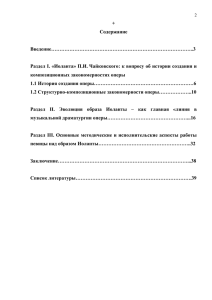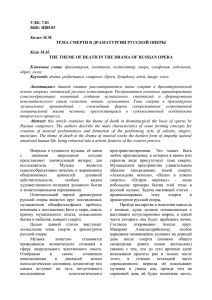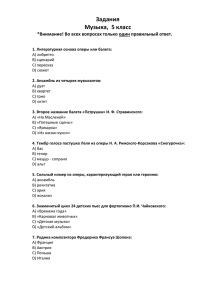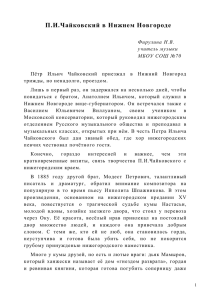3992586_misticizm_v_iolante
реклама
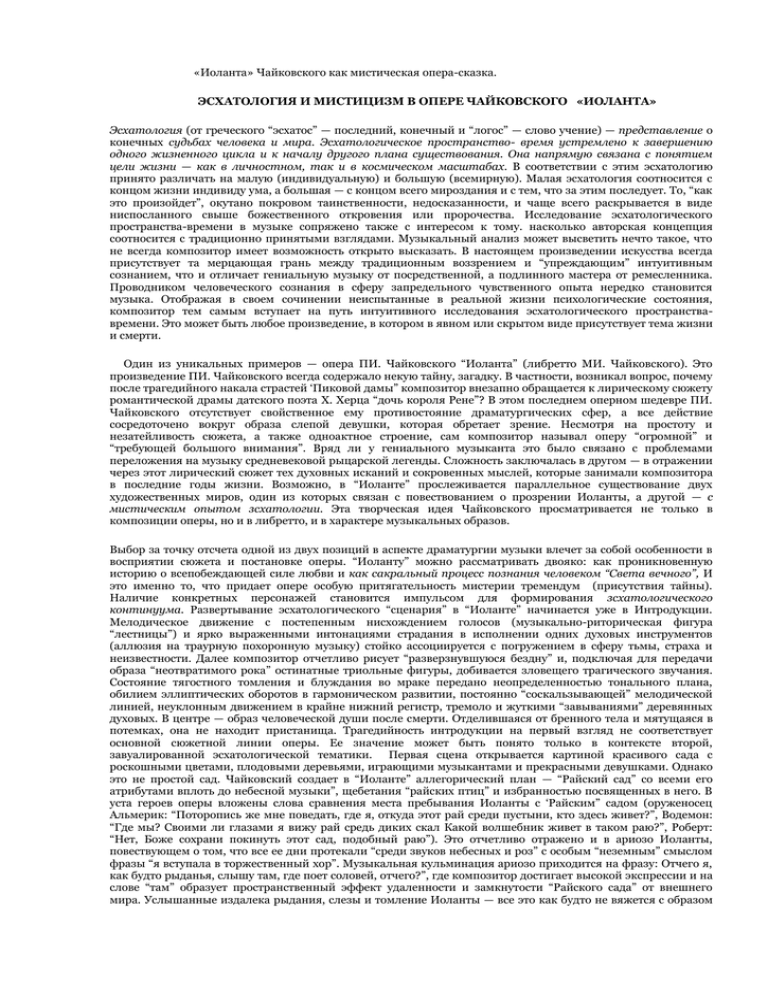
«Иоланта» Чайковского как мистическая опера-сказка. ЭСХАТОЛОГИЯ И МИСТИЦИЗМ В ОПЕРЕ ЧАЙКОВСКОГО «ИОЛАНТА» Эсхатология (от греческого “эсхатос” — последний, конечный и “логос” — слово учение) — представление о конечных судьбах человека и мира. Эсхатологическое пространство- время устремлено к завершению одного жизненного цикла и к началу другого плана существования. Она напрямую связана с понятием цели жизни — как в личностном, так и в космическом масштабах. В соответствии с этим эсхатологию принято различать на малую (индивидуальную) и большую (всемирную). Малая эсхатология соотносится с концом жизни индивиду ума, а большая — с концом всего мироздания и с тем, что за этим последует. То, “как это произойдет”, окутано покровом таинственности, недосказанности, и чаще всего раскрывается в виде ниспосланного свыше божественного откровения или пророчества. Исследование эсхатологического пространства-времени в музыке сопряжено также с интересом к тому. насколько авторская концепция соотносится с традиционно принятыми взглядами. Музыкальный анализ может высветить нечто такое, что не всегда композитор имеет возможность открыто высказать. В настоящем произведении искусства всегда присутствует та мерцающая грань между традиционным воззрением и “упреждающим” интуитивным сознанием, что и отличает гениальную музыку от посредственной, а подлинного мастера от ремесленника. Проводником человеческого сознания в сферу запредельного чувственного опыта нередко становится музыка. Отображая в своем сочинении неиспытанные в реальной жизни психологические состояния, композитор тем самым вступает на путь интуитивного исследования эсхатологического пространствавремени. Это может быть любое произведение, в котором в явном или скрытом виде присутствует тема жизни и смерти. Один из уникальных примеров — опера ПИ. Чайковского “Иоланта” (либретто МИ. Чайковского). Это произведение ПИ. Чайковского всегда содержало некую тайну, загадку. В частности, возникал вопрос, почему после трагедийного накала страстей ‘Пиковой дамы” композитор внезапно обращается к лирическому сюжету романтической драмы датского поэта Х. Херца “дочь короля Рене”? В этом последнем оперном шедевре ПИ. Чайковского отсутствует свойственное ему противостояние драматургических сфер, а все действие сосредоточено вокруг образа слепой девушки, которая обретает зрение. Несмотря на простоту и незатейливость сюжета, а также одноактное строение, сам композитор называл оперу “огромной” и “требующей большого внимания”. Вряд ли у гениального музыканта это было связано с проблемами переложения на музыку средневековой рыцарской легенды. Сложность заключалась в другом — в отражении через этот лирический сюжет тех духовных исканий и сокровенных мыслей, которые занимали композитора в последние годы жизни. Возможно, в “Иоланте” прослеживается параллельное существование двух художественных миров, один из которых связан с повествованием о прозрении Иоланты, а другой — с мистическим опытом зсхатологии. Эта творческая идея Чайковского просматривается не только в композиции оперы, но и в либретто, и в характере музыкальных образов. Выбор за точку отсчета одной из двух позиций в аспекте драматургии музыки влечет за собой особенности в восприятии сюжета и постановке оперы. “Иоланту” можно рассматривать двояко: как проникновенную историю о всепобеждающей силе любви и как сакральный процесс познания человеком “Света вечного”, И это именно то, что придает опере особую притягательность мистерии тремендум (присутствия тайны). Наличие конкретных персонажей становится импульсом для формирования зсхатологического континуума. Развертывание эсхатологического “сценария” в “Иоланте” начинается уже в Интродукции. Мелодическое движение с постепенным нисхождением голосов (музыкально-риторическая фигура “лестницы”) и ярко выраженными интонациями страдания в исполнении одних духовых инструментов (аллюзия на траурную похоронную музыку) стойко ассоциируется с погружением в сферу тьмы, страха и неизвестности. Далее композитор отчетливо рисует “разверзнувшуюся бездну” и, подключая для передачи образа “неотвратимого рока” остинатные триольные фигуры, добивается зловещего трагического звучания. Состояние тягостного томления и блуждания во мраке передано неопределенностью тонального плана, обилием эллиптических оборотов в гармоническом развитии, постоянно “соскальзывающей” мелодической линией, неуклонным движением в крайне нижний регистр, тремоло и жуткими “завываниями” деревянных духовых. В центре — образ человеческой души после смерти. Отделившаяся от бренного тела и мятущаяся в потемках, она не находит пристанища. Трагедийность интродукции на первый взгляд не соответствует основной сюжетной линии оперы. Ее значение может быть понято только в контексте второй, завуалированной эсхатологической тематики. Первая сцена открывается картиной красивого сада с роскошными цветами, плодовыми деревьями, играющими музыкантами и прекрасными девушками. Однако это не простой сад. Чайковский создает в “Иоланте” аллегорический план — “Райский сад” со всеми его атрибутами вплоть до небесной музыки”, щебетания “райских птиц” и избранностью посвященных в него. В уста героев оперы вложены слова сравнения места пребывания Иоланты с ‘Райским” садом (оруженосец Альмерик: “Поторопись же мне поведать, где я, откуда этот рай среди пустыни, кто здесь живет?”, Водемон: “Где мы? Своими ли глазами я вижу рай средь диких скал Какой волшебник живет в таком раю?”, Роберт: “Нет, Боже сохрани покинуть этот сад, подобный раю”). Это отчетливо отражено и в ариозо Иоланты, повествующем о том, что все ее дни протекали “среди звуков небесных и роз” с особым “неземным” смыслом фразы “я вступала в торжественный хор”. Музыкальная кульминация ариозо приходится на фразу: Отчего я, как будто рыданья, слышу там, где поет соловей, отчего?”, где композитор достигает высокой экспрессии и на слове “там” образует пространственный эффект удаленности и замкнутости “Райского сада” от внешнего мира. Услышанные издалека рыдания, слезы и томление Иоланты — все это как будто не вяжется с образом счастливой девушки, не знающей печали и окруженной любящими ее людьми, какой она предстает по сюжету. Здесь Чайковский очень чутко продолжает проводить тему смерти и страдания. Даже последующий хор девушек, принесших цветы для слепой подруги (Пусть ароматным их дыханьем и дней весенних лаской нежной, сомненья и страданья сменит блаженный, сладкий сон, ты забудешь страданья, сомненья, муки!”) может рассматриваться в контексте погребальных обрядов. Изоморфизм сна и смерти характерен для мифологического сознания, и он в полной мере реализуется в контексте оперы. Иоланта засыпает под колыбельную: “Спи, пусть ангелы крылами навевают сны, рея тихо между нами, благости полны”. Райский сад, летающие ангелы — это звенья одной смысловой цепи. Еще более явственно данная линия заявлена в сцене Роберта и Водемона, когда они обнаруживают спящую девушку: “Этот странный сон красавицы как будто неестествен!” (Роберт), “Создатель! Как покой ее божествен!” (Водемон). Внезапный страх Роберта и состояние мистической зачарованности у Водемона — две грани восприятия “лица смерти”. Проснувшаяся Иоланта предлагает рыцарям вино, и зто также вызывает противоположные отклики у героев. Если Водемон восторгается: “О, это рай!”, то Роберт все воспринимает иначе: “Нет, это западня! Погибель нам грозит, друг милый!”. Столь разные реакции имеют основания в мифологеме вина — древнейшем символе божественного откровения, сверхчеловеческого бытия. Испить вино — значит приобщиться к вечности. Вино в руках Иоланты предстает напитком смерти и символом приобщения к небытию. Неслучайно Роберт произносит: “Я даром сдаться не хочу, мне жизнь милей могилы”, а Водемон говорит (про себя): “Неужели меня оно собой погубит? Пускай! Из этих рук я смерть приму с отрадой!” Выпив вино, Водемон уже не воспринимает Иоланту как “видение ангела”: “Предо мной вдруг ангел неба стал земной”, ему внезапно открывается совершенно иной образ девушки “Но вижу, да, вы не виденье, и вам дано судьбою жить, внушать любовь, страдать, любить!” Однако это впечатление оказывается обманчивым, что проявляется в следующей сцене, в которой Водемон просит сорвать ему на память красную розу, но Иоланта срывает белую. Цвет розы также может быть трактован символически, где красный цветок — символ жизни, а белый — смерти. Согласно сюжету оперы, условие прозрения главной героини напрямую зависит от ее желания увидеть свет. В развернутом монологе Эбн-Хакия сосредоточена главная мысль. “И прежде, чем открыть для света плотские, смертные глаза, нам нужно, чтобы чувство это познала вечная душа. Сакральный характер этого высказывания подчеркнут Чайковским тактовым размер 3/2, несмотря на то, что остинатный пунктирный рисунок в нижних голосах оркестра связан с размером 18/16. Таким же тактовым размером композитор выделяет ариозо Водемона “Чудный первенец творенья” (сцена Ы 7), которое становится истинным “Гимном свету”. Однако, смысл текста здесь противоположный: Бог сотворил для людей свет, который есть в солнце и сиянии звезд. И тот, “кто не знает блага света, тот не может так любить божий мир, во мрак одетый, Бога во тьме, как в свете, чтить”. Под “тьмой” в данном случае понимается смерть” и, таким образом, проводится идея о том, что после смерти человек обязательно увидит свет, если он видел его в земной жизни. А если не видел? В дальнейшей фразе Иоланты “Чтобы Бога славить вечно, рыцарь, мне не нужен свет” эта идея развенчивается и выдвигается другая — о “светоче правды” в сердце, по сравнению с чем “свет земной и преходящ, и жалок”. Связывая посредством тактового размера 3/2 мысли о сущности “Света вечного”, композитор создает в музыке особые пространства для выражения сакрального смысла. Чайковский выделяет в партитуре фразу Эбн-Хакия “Не наказанье, а спасенье дочери твоей” (сцена М 8), которая звучит ответом королю Рене, боящемуся раскрыть Иоланте правду о ее слепоте. Причем, такое выделение может быть осознано только “глазами”, так как ощутить на слух внезапное изменение размера в масштабе двух тактов невозможно. Хотелось бы отметить, что размер 3/2, соотнесенный с жанром сарабанды (траурным шествием), ПИ. Чайковский всегда использует в оперных сценах, связанных у него с глубоко личным отношением к тексту и ситуации. Так, еще в опере “Евгений Онегин” этим размером отмечены наиболее значимые для него номера (ария Онегина “Когда бы жизнь домашним кругом”, сцена поединка между Онегиным и Ленским “Враги!” и заключительная сцена Онегина и Татьяны ‘Онегин! Я тверда останусь”). Известно, что в период создания “Онегина” композитор тяжело переживал разрыв своих семейных отношений, быть может, отсюда — выделение этих номеров “траурным знаком’? В размере 3/2 звучит продолжение сцены № 8 “Иоланты”, где этим тактовым размером отмечены наиболее важные моменты. Со слов Иоланты “Могу ль я пламенно желать того! что смутно понимаю?!! в оркестре впервые с помощью использования мерных половинных длительностей открыто демонстрируется жанр сарабанды как похоронного шествия. В этом же размере в партии Иоланты звучит мелодия “Гимна свету’, которая становится в эсхатологической концепции темой преодоления смерти. Страстное желание увидеть “Свет вечный” выражается ровной восходящей линией оркестровых голосов! устремленной в крайне высокий регистр. Последний эпизод сцены № 8 также связан с размером 3/2. Начинаясь кратким хоральным эпизодом — вокальным секстетом и хором “Господь с тобою, ангел чистый!” (два такта), вся сцена завершается сарабандой, выстроенной на мелодической линии “страдания”. В контексте основной сюжетной линии это представляется по меньшей мере странным, так как развитие действия близится к завершению и связано со светлой надеждой приближающегося исцеления Иоланты. Перед сарабандой звучат слова короля Рене: Как агнец божий она идет на пытку. Боже мой!”, которые создают аллюзию на “Агнус Дей” из заупокойной мессы. Финал оперы еще более неоднозначен. После радостного известия о том, что Иоланта прозрела, последующие события развиваются стремительно. В ремарке сцены: “Эбн-Хакия вводит Иоланту (на ее глазах повязка) и делает знак, чтобы все отступили в глубину сцены. Уже почти ночь; только дальние вершины гор чуть освещены отблеском вечерней зари. Звезды. И здесь возникает парадокс — согласно этой ремарке, Иоланта должна увидеть свет ночью! Атмосфера таинственности и сакральности происходящего отражается в призрачно-мистическом звучании оркестра. Збн-Хакия снимает с глаз девушки повязку, но вместо радости от обретенного зрения она испытывает ужас: “Я никогда здесь не была! Мне страшно “...> Меня теснят кругом... вот что-то падает... как будто все обрушиться готово.., я погибаю! Врач! Спаси меня!” Быть может, Иоланта видит нечто такое, что недоступно всем окружающим? И это видение носит характер апокалипсиса — стремительно сужающееся пространство, обрушающееся на глазах мироздание, мольбы о спасении, сопоставимые с картинами Судного дня. Звучание всего оркестра поднимается в высокую тесситуру на ответных словах мавританского целителя: “Смотри наверх, тебя не испугает небо!”. Иоланта поднимает глаза к небу и видит истинно божественный свет: “О, как чудесно! Как светло! Что это? Бог? дух божий? <... На небе Бог? Я пред тобою, Боже!” Она опускается на колени: “Благой, великий, неизменный, во тьме являл Ты мне себя! дай мне теперь, Творец вселенной, узнать Тебя и в свете дня!” Истинное про- зрение героини, ее уверенность таким образом приходит вместе с восторженным лицезрением Царствия небесного. Познание света соотносится с познанием Бога. Вместе с тем, при последнем обращении к Водемону, в партии Иоланты, появляются тревожные мотивы с тритоновыми окончаниями (ре-бемоль — соль), а оркестровая ткань предельно хроматизирована. Вплоть до генеральной паузы, возникающей после начального ансамблевого раздела с хором “Хвала Творцу, подателю всех благ”, в верхнем регистре у скрипок звучат нисходящие малосекундовые интонации. И вместо апофеоза солнечному свету и любви здесь, скорее, ощущается состояние горестного прощания Иоланты с Водемоном. даже появление в партии Иоланты темы Гимна свету” в начале следующего раздела сопровождается новым необычным текстом: “Прими хвалу рабы смиренной, мой голос слаб и робок взгляд!”. Весь монументальный финал оперы подобен грандиозной сцене у престола Господа, где люди в надежде и благоговении поют Всевышнему хвалебный гимн. Причем слова, избранные для финала, были бы уместны для церковного богослужения: “Хвала тебе, господь!”, “Слава тебе, творец всесильный!”, “Во прахе мы перед тобой!”, “Осанна в вышних», “Ты света истины сиянье’, “Слава Тебе, Господь всемогущий!” и последней ремаркой: “Все опускаются на колени”. Такое явное проникновение религиозной тематики в область светского жанра высвечивает скрытую сюжетную линию оперы еще более явственно. Очерчивание контуров трансцендентной реальности смыкает- ся с опытом познания сакрального смысла человеческого бытия. два линии, представленные в “Иоланте” — мирская и священная, существуют во взаимодействии. Семантическое поле оперы рождается из объединения реального и мистического, образуя своего рода “семантическое перекрещивание” (Ю.М. Лотман). Отсюда произрастает и прослеживается различная векторная направленность параллельных пространственно-временных планов: “утро — ночь” и “тьма — свет”. Если все действие оперы занимает суточный временной период от раннего утра до позднего вечера, то восприятию Иоланты свойственно движение от мрака к свету. Гомоморфизм понятий “тьмасмерть” и “свет- жизнь”, характерный для мифологического сознания, дает возможность композитору использовать сценарий оперы для отражения индивидуально-эсхатологических представлений в музыке. Выраженность эсхатологических представлений находится в тесной зависимости от жанровой природы музыкального произведения. Источником создания художественных образов для ПИ. Чайковского могла стать и малая (индивидуальная) и большая (всеобщая) эсхатология. Опираясь на традиционные для европейской культуры христианские эсхатологические воззрения, композитор каждый раз переосмысливает их в зависимости от творческих задач, стоящих перед ним. Поэтому реализация эсхатологических “сценариев” в каждом случае уникальна и неповторима. Исследование эсхатологического музыкального континуума оказывается неотъемлемой от личности ПИ. Чайковского, от его взглядов на вопросы жизни и смерти, отношения к религии и того опыта трансцендентного, который он передавал посредством музыкального искусства.