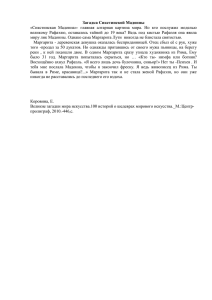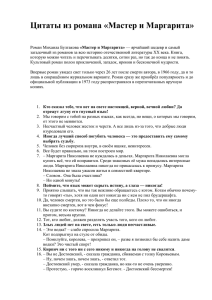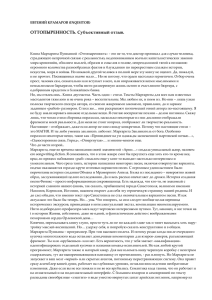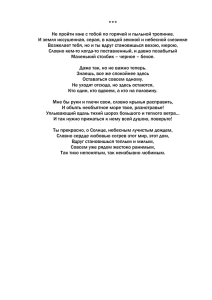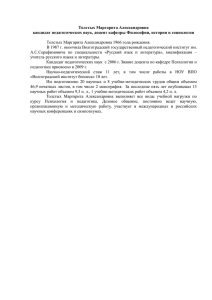На Патриарших прудах
реклама
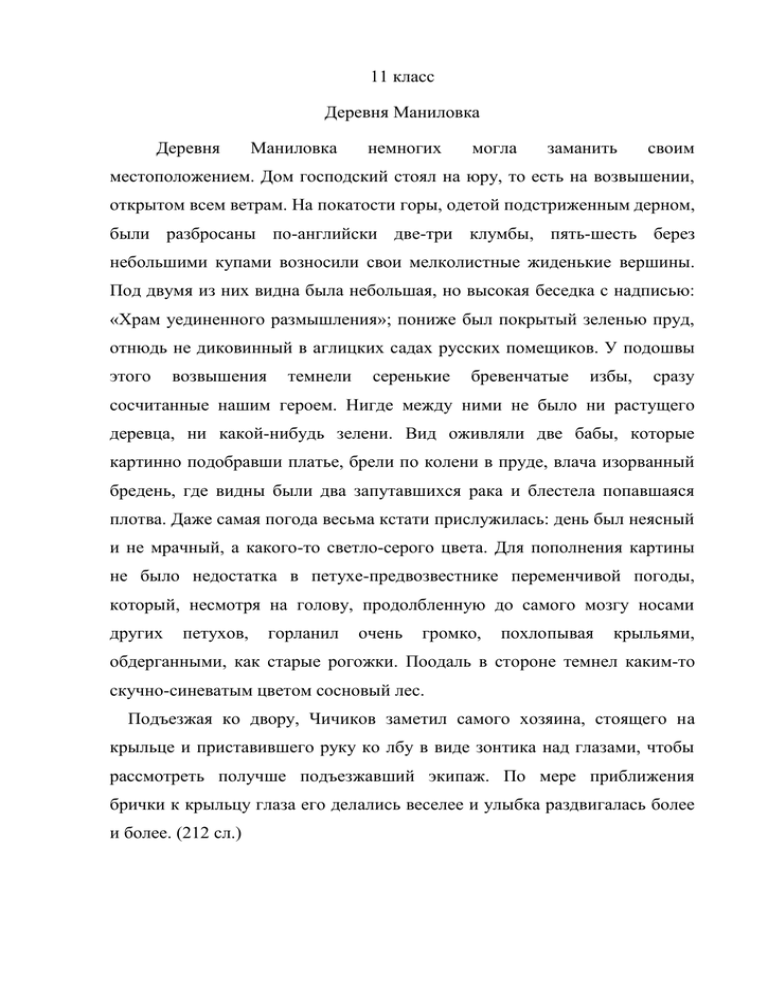
11 класс Деревня Маниловка Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам. На покатости горы, одетой подстриженным дерном, были разбросаны по-английски две-три клумбы, пять-шесть берез небольшими купами возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была небольшая, но высокая беседка с надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже был покрытый зеленью пруд, отнюдь не диковинный в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения темнели серенькие бревенчатые избы, сразу сосчитанные нашим героем. Нигде между ними не было ни растущего деревца, ни какой-нибудь зелени. Вид оживляли две бабы, которые картинно подобравши платье, брели по колени в пруде, влача изорванный бредень, где видны были два запутавшихся рака и блестела попавшаяся плотва. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был неясный и не мрачный, а какого-то светло-серого цвета. Для пополнения картины не было недостатка в петухе-предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на голову, продолбленную до самого мозгу носами других петухов, горланил очень громко, похлопывая крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил самого хозяина, стоящего нa крыльце и приставившего руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере приближения брички к крыльцу глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более. (212 сл.) Маргарита Вернув Маргарите подарок Воланда, Азазелло распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть. Гелла сочно расцеловалась с Маргаритой, кот приложился к ее руке, и провожатые тотчас растаяли в воздухе, не считая нужным утруждать себя подъемом по лестнице. Через час в одном из арбатских переулков, в подвале маленького домика, в первой комнате, где все было так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. Перед ней лежала исковерканная огнем тетрадь и возвышалась стопка нетронутых тетрадей. В соседней маленькой комнате спал мастер, и его ровное дыхание было беззвучно. Не пытаясь уснуть, Маргарита рассматривала рукопись, гладила ее, как гладят любимую кошку, и, поворачивая тетрадь в руках, оглядывала со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что все это колдовство, что тетради исчезнут из глаз и что, если она, проснувшись, сейчас окажется в своей спальне в особняке, ей придется идти топиться. Но эта страшная мысль, как отзвук долгих страданий, переживаемых ею, была последней. Ничто не исчезало: всесильный Воланд был действительно всесилен. Маргарита могла сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать слова: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город...» (220сл.) На Патриарших прудах Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из московских литературных ассоциаций, которая сокращенно именовалась МАССОЛИТ, и редактор толстого журнала, а молодой спутникего — поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный. Писатели, попав в тень чуть зеленеющих лип, первым делом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного вечера. Нигде: ни у будочки, ни во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, — не оказалось ни одного человека. В этот час, когда, кажется, и сил не было дышать и когда солнце, раскалив Москву, валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы — аллея была пуста. Литераторы, напившись теплой абрикосовой и немедленно начав икать, уселись на скамейке. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, и сердце его, стукнув, на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Берлиоза, кроме того, охватил необоснованный страх, столь сильный, что ему захотелось тотчас же, не оглядываясь, бежать с Патриарших. И тут из знойного воздуха, сгустившегося перед ним, возник прозрачный гражданин престранного вида. Не привыкший к необыкновенным явлениям, Берлиоз побледнел и, вытаращив глаза, в смятении подумал: «Этого не может быть!» (209 сл.) Полет Невидима и свободна!.. По тому, как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как быстро они пропали сзади, Маргарита догадалась, что летит с чудовищной скоростью, и поразилась тому, что ей легко дышится. По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в зеленой черноте, вспыхнуло новое озеро света. Прошло еще несколько секунд — такое же точно явление. «Города! Города! — прокричала Маргарита». Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что луна несется под нею как сумасшедшая обратно в Москву и в то же время как будто стоит на месте. Тут Маргаритой овладела мысль, что она зря, столь исступленно гоня щетку, лишает себя возможности что-либо как следует рассмотреть. Ей что-то подсказывало, что там, куда летит, ее подождут и что незачем ей скучать от такой бешеной быстроты и высоты. Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся кверху, и, очень замедлив ход, пошла к самой земле. И это скольжение, как на воздушных салазках, вниз принесло ей наибольшее наслаждение. Земля поднялась к ней, и в черной гуще ее, до этого бесформенной, обозначились тайны и прелести земли во время лунной ночи. Маргарита летела над стелющимся туманом росистого луга, потом над прудом. Под Маргаритой хором пели лягушки и, почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд. Маргарита вскоре увидела, как он медленно, словно гусеница, полз внизу. (213сл.) Продуманное решение Господин из Сан-Франциско (имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил) ехал в Старый Свет на целых два года с женой и дочерью единственно для развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие, во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а вовторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда очень недурно, но всё же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук и наконец увидел, что сделано уже много и что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет, решил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя, однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки — страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо. Не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. (По И. А. Бунину.) (219сл.) В сентябре Стояла половина сентября. Погода была непостоянная: с самого утра перепадал мелкий доя дик, сменяемый по временам тёплым солнечным сиянием. Небо то всё заволакивалось рыхлым белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье — тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Листья чуть шумели над моей головой, и по одному их шуму можно было узнать какое тогда стояло время года: то был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое перешёптыванье лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам, и внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась. Она то озарялась вся, словно улыбнувшись: тонкие стволы берез внезапно принимали нежный отблеск белого шёлка, и лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались золотом, а красивые заросли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами. То вдруг опять всё кругом слегка синело: яркие краски мгновенно угасали, берёзы стояли все белые, без блеска, напоминая только что выпавший снег, до которого ещё не коснулся луч зимнего солнца, и начинал сеяться мельчайший дождь. Птицы приютились и замолчали — ни одной не было слышно, кроме разве синицы, насмешливо звенящей изредка своим голоском- колокольчиком. Я рад был остановиться в этом березнячке, пройдя перед тем осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю осину с её бледно-лиловым стволом и серо-зелёной листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером распускает на воздухе. Итак, я добрался до берёзового леска, угнездился под одним деревцем, у которого сучья начинались низко над землёй и, следовательно, могли спасти меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул безмятежным сном. (По И. С. Тургеневу.) (270сл.) У лавочки Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкой и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинных ножа; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий пальцами; восхищается кавалеры по-своему: рассматривают мужики обыкновенно серьезно; тыкают лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать. (По А. П. Чехову.) (196 сл.) Усталость Прихрамывая, они спускались к реке, и один раз тот, что шёл впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали, выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжёлые тюки, схваченные ремнями, каждый нёс ружьё, и оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз. Один сказал что-то, и голос его звучал вяло, без всякого выражения. Его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил. Второй также вошёл в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лёд, — такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлёстывал колени, и оба они пошатывались, теряя опору. Второй путник поскользнулся на гладком т луне и чуть не упал, но удержался на ногах, гром вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова – он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и поглядел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь. Он ковылял поп молочно-белой воде и ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и, хотя его лицо оставалось по прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя. (По Д. Лондону.) (214 сл.) Дуэль Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже припекал. Я увидел его издали: он шёл пешком, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу, и он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Нам отмерили двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий — первый выстрел достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной, и жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хоть тень беспокойства, а он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплёвывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня: что пользы лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит! Злобная мысль мелькнула в уме моём, и я опустил пистолет, объявив, что нынче стрелять не намерен и что мой противник может продолжать завтракать. Он не выразил ни разочарования, ни радости и сказал, что мой выстрел остаётся за мной и что он всегда готов к услугам. (По А. С. Пушкину.) (202 сл.) Рассказ графа Пять лет тому назад я женился и первый месяц провёл здесь, в этой деревне. Однажды вечером ездили мы вместе верхом, лошадь у жены чтото заупрямилась, и она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Прискакав на двор, я увидел дорожную телегу, и мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени и сказавший просто, что ему до меня есть дело. У камина стоял запылённый и обросший бородой человек, и я подошёл к нему, стараясь припомнить его черты. Он заговорил дрожащим голосом, и я вмиг узнал Сильвио и почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. Он сказал, что приехал разрядить свой пистолет, и спросил, готов ли я. Я отмерил двенадцать шагов, запер двери, не велел никому входить и просил его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он прицелился — я считал секунды и думал о ней. Но вот он опустил руку, потребовал зарядить второй пистолет и начать дуэль сначала. Мне снова выпал первый выстрел, и не понимаю, как он мог меня к тому принудить, но я выстрелил и попал в картину. В тот момент, когда он стал в меня прицеливаться, вбежала Маша и с визгом кинулась мне на шею. Я попробовал её обмануть, что мы шутим, и отослать отсюда, но Сильвио не поддержал меня, и жена поняла всю правду. Она бросилась к его ногам, а я в бешенстве закричал, чтобы он стрелял быстрее. Сильвио опустил пистолет, сказав, что стрелять не станет, что вполне удовлетворён моим смятением и что он предаёт меня моей совести. Тут он быстро вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мной картину, выстрелил в неё, почти не целясь, и скрылся. (По А. С. Пушкину.) (269 сл.) Станционный смотритель Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался! Кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, чтобы вписать в неё свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, ограждённый своим чином только от побоев. Какова должность сего диктатора? Не настоящая ли каторга? Покою ни днём ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага, и хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя, но если не случится лошадей? Какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принуждён он бегать по дворам, в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздражённого постояльца. Приезжает генерал — дрожащий смотритель отдаёт ему две последние тройки. Генерал едет, не сказав спасибо. Через пять минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во всё это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится самым искренним состраданием. (По А. С. Пушкину.) (210 сл.) Течет по земле река Изо дня в день неустанно плещется она в своих берегах, изменяя их неприметно для взгляда привыкшего к ним человека. Вот так и времена! Бывает, что меняются они неуловимо, как берега речные, - не сразу и спохватишься. Но всмотрись в них позорче и увидишь: минует одно, приходит иное. Да и годы не топчутся на месте, спешат. А воротишься однажды к реке после долгой разлуки и удивленно заметишь слабую излучинку, извилистый овражек, где горел твой костерок и ушица кипела на нем. И вдруг вспомнишь, что не было в ту счастливую пору ни излучинки, ни овражка. И сердце у тебя сожмется и защемит, словно ты ненароком увидел лишнюю морщинку на лице матери или седую прядку, которую она не догадалась упрятать под новым платком, повязанным к твоему долгожданному приезду. Все как будто прежнее в ней, но ты изумленно вглядываешься в любимые черты, ищешь в них позабытое и говоришь: «Ну здравствуй, родная! Вот я и приехал». И, пожалуй, не столь уже важно тогда, сколько лет был ты в разлуке – радость годами не меряют, - лишь бы возвратился целым и невредимым. А что постарел ты до срока, притомился и душою поостыл – не беда! Она тебя всякого примет, обогреет теплом своим и надеждой поделится. И не спросит она ни о чем, если сам не скажешь. Но если больно вспоминать о тех днях, которые ты провел вдалеке от нее, не найдешь ты покоя и радости ни в материнском доме, ни у родных берегов. (По С. Барченко.) (235 сл.) Крестный Я его вижу так, словно это было вчера. Вот он сидит за освещенным лампой с голубым абажуром столом. Воротник широкий, стираной, с нераспустившимися складками рубахи как–то особенно опрятно обнимает его стариковскую, и в морщинах шею. Седые на висках волосы аккуратно зачесаны на косой пробор. Бородка с мучнистой проседью особенно идет к его загорелому приятному лицу. Пахнет от него веником (он недавно вернулся из бани) и чем-то похожим на запах печеного хлеба и на то, как пахнет под дубами осенью, и этот смешанный запах создает особенное впечатление старческой крепости и чистоты. Крестный, Иван Никитич, сидит, расставив ноги в коротеньких шерстяных носках и кожаных ботинках. Лицо наполовину освещено лампой, левой рукой с оттопыренным мизинцем он подпирает голову, козырьком держа сложенные пальцы. В нем много оригинального: походка, манера смеяться, держать в кулаке свою деревянную ложку. Служил он когда–то конторщиком у Погодиных, в селе Гнездилове, бывал и на Девичьем Поле, видел хранилище, которое после смерти Погодина разволокла челядь, видел своими глазами гоголевскую замусоленную жилетку, сюртук Пушкина, простреленный на дуэли и хранимый Погодиным в стеклянном футляре. На память о себе Погодин подарил Ивану Никитичу книгу «Простая речь о мудреных вещах». В смоленских краях крестный слыл чудаком, поэтому его недолюбливало местное начальство. Крестный не ладил с полицией, урядниками: в его дружбе с мужиками они усматривали опасное вольнодумство. С удивлением смотрю я на его бумаги и письма и вспоминаю лицо, голос и походку. (По С. Соколову – Микитову.) (228 сл.) Быть дирижером Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение то в сторону барабана, то валторны. То же самое и я, когда читаю. Передо мной полтораста лиц, непохожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, когда читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это бесконечное разнообразие форм, явлений и законов, и множество ими обусловленных своих и чужых мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать мою мысль в такую форму, которая возбуждала бы внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались в известном порядке, необходимым для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения краткими и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот. (По А. Чехову). (217 сл.) Летящие к цели Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в них и кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. Ион без сожаления покидает туманы земли, и болотца, и реки и с легким сердцем отдается в руки смерти, зная, что только она успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Притих даже неугомонный Бегемот и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив хвост. Ночь закрывала темным платком леса и луга, зажигала печальные огонечки где – то далеко внизу, теперь уже ненужные ни Маргарите, ни Мастеру, чужие огоньки. Ночь выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнашки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется лик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им стала выходить багровая полая луна, все обманы исчезли, свалились в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. (По М. Булгакову.) (182 сл.) Полет кузнеца Савелия Видно, тому, кто первым назвал этот край Синеречьем, довелось редкое счастье увидеть его с высоты птичьего полета. Старики уверяют, что так оно и было: в давние годы поднялся над глухим раздольем простой деревенский кузнец Савелий. Долгой слепой зимой, нетерпеливо меняя в затейливом светце лучину за лучиной, ладил он большие перья из «воронова пера», а по весне, в самый разлив, велел мужикам вкатить на горку, которую с той поры и зовут Савельевкой, пустую телегу с подвязанными оглоблями. С затаенным вздохом перекрестивши чумазый лоб, положил кузнец на тележные борта доску, стал в нее в рост, сложил по бокам руки, плотно вдетые в черные мягкие крылья, свистнул заливисто – помчалась телега, гремя и подпрыгивая, давя тяжелым колесом первую траву, прямо к крутому обрыву, каким кончается над затопленным лугом ровный скат горы. Ахнули мужики, обомлели. И которые покрепче, которые не прижмурили глаза в великом испуге, те видели: грянула телега на мокрый луг, взлетела обломками вместе с солнечными брызгами к самому небу. И в последний миг простой русский кузнец широко, рывком разбросил руки – крылья, блеснувшие серебром в весеннем свете, взмыл, поднятый неведомой упругой силой, и закружил по-над черным лесом. А мужики стояли, заслонясь от солнца корявыми ладонями, и молча смотрели, как носится черная бесшумная тень, забирая все выше и выше. (По В. Гусеву.) (204 сл.) Путь в школу Серенькина школа километра четыре от деревни, и он выходит из дому затемно, чтобы не опоздать. Санная накатанная дорога спускается к речке. Тропа, пробитая в снегу, как траншея, ведет его мимо проруби, затянутой поутру льдом. Бабы, полоская белье, разбивают лед, и тогда хищно и маняще – жутко колышется большой квадрат зеленовато – темной воды. В домах ни огонька. Ветлы в инее застыли, как неподвижные призраки. Тихо. Только треснет с мороза ветка, да скрипнет под валенками снег. Видно, рано разбудил Сереньку оглашенный петух. Немеют на морозе нос и щеки, и Серенька трет их колючей шерстяной варежкой, пока не становится больно. Мороз пробирается под просторный ватник, щиплет колени, и Серенька бежит вприпрыжку по дороге к лесу. Матерчатая сумка болтается, колотит по боку, соскальзывает. Но вот дорога вползает в лес. Деревья кажутся то притаившимся зверем, то неизвестным человеком. Сердце Сереньки, вздрагивая, замирает: на память приходят рассказы о диверсантах, немецких лазутчиках. Ему чудится, что в темноте окруженных снегом еловых веток кто – то прячется, вот – вот схватит. Сердце мальчика сжимается до просяного зернышка, а сам он становится невесомым, но наперекор страху бежит через лес. Из леса выныривает, как из неприятного сна, и не торопясь шагает к школе. Сердце вернулось на место и колотится туго. В темноте угадывается большая деревянная школа, и скоро Серенька влетает в длинный коридор. (По Н. Сомову) (209 сл.) Жизнь на мельнице Однажды летом я жил в степях под Воронежем и все время проводил в одичалом липовом парке или на мельнице-ветряке, тесовая крыша которой была наполовину сорвана воздушной волной в годы войны. В отверстие крыши виднелось небо, и я, ложась на глиняный пол, читал или просто смотрел в отверстие над моей головой. В нем непрерывно возникали все новые облака и медленной чередой уплывали на север. Сияние облаков достигало меня, и я прикрывал глаза, чтобы уберечь их от яркого света. Я растирал на ладони венчик чабреца, и мне чудилось, что за ветряком открылось море, что пахнут травой не степи, а наглаженные прибоями пески. Иногда я задремывал возле жерновов. Они, высеченные из розового песчаника, переносили меня в древний мир Эллады. Несколько лет спустя я увидел статую Нефертити, египетской царицы, высеченную из такого же песчаника, и был поражен нежностью, какая заключена в этом грубом камне. Гениальный ваятель извлек из его сердцевины дивную голову молодой женщины и подарил ее векам, своим потомкам, тоскующим по нетленной красоте. Через два года я увидел во Франции мельницу одного писателя, в который он устроил жилище. Очевидно, жизнь на ней хороша, особенно на воронежской, потому что она не каменная, как во Франции, а деревянная. Она полна запахов травы и света облаков, переливов жаворонков. Ничто не идет к русскому пейзажу так, как мельница. Так же, как русской крестьянской девушке очень идет цветистая шелковая шаль. Од нее глаза становятся темней и даже голос звучит ласково и нежно. (По К. Паустовскому.) (234 сл.) Сивый Я не знаю, сон ли явь это: на коленях матери я сижу у открытого окна, и мать, и теплота нагретого солнцем, еще не выкрашенного подоконника сливается в один звучащий, ослепительный мир. Я еще плохо различаю в этом мире отдельные черты – пыльную дорогу, стволы сосен, небо с недвижными облаками. Все сливается в блаженное ощущение тепла, света и удовольствия, и я прутиком изгибаюсь, тянусь к свету, бью кулачками и смеюсь, смеюсь. Смутно, словно сквозь слой воды, помнится мне бревенчатый дом, цветная картинка в золоченной раме “Барышня – крестьянка”. Приятны окружавшие дом сосны, отец, пропахший в лесу смолой и ветром, как поднимает он меня сильными руками, борода и усы его колются и холодят. «Сивый, - говорит он, подбрасывая меня под потолок, - смотри, Сивый Заяц, Москву!» Помню как обозный солдат Серега, мой друг и приятель, возвращаясь домой, ловко соскочил с повозки, присел на корточки и подал гостинец – глиняную раскрашенную игрушку, - свистульку-пастушка. Во многих отдаленных воспоминаниях я не могу отличить яви от сновидений. Многое, может быть, снилось, и я запомнил это, как пережитую явь. Многое бывшее наяву, стало как давно веденный и забытый сон. Я смотрю на сохранившуюся фотографию, где на пне сидит мальчик с печальными глазами. Какая черта отделяет меня, нынешнего, от него? Я не нахожу такой черты, но знаю, что будет жить во мне, в каждом моем слове этот мальчик с печальными глазами, некогда говоривший: «Буду генералом, потом офицером, потом солдатом, потом Пронькой – пастухом!..» (По И. Соколову-Микитову.) (232 сл.) Цыгане Теперь по деревням уже не водят медведей. Да и цыгане стали редко бродить: большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопченное полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкой лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам. Это было в губернском городе: недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой. Из балаганов слышался лязг железа; я заглянул в один из них: какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой; проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же занятием. Странно было видеть цыганский табор почти внутри города: дощатые балаганы, костры с чугунными котелками, в которых закутанные пестрыми платками цыганки варили какие-то яства. Цыгане шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое искусство: плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют. В последний раз приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным, испытанным средством: лечь на землю поя медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы. В последний раз их вводили в хаты, причем, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол, и сажали там, и радовались его согласию как доброму знаку. (236 сл.) Усадьба В течение прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, где было настроено и сдавалось несколько небольших дач. Никак не ожидал я этого: дачи под Москвой, никогда еще не жил дачником без какого-то ни было дела в усадьбе, столь непохожей на наши степные усадьбы, и в таком климате. В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ним малы, имея вид туземных жилищ под деревьями в тропических странах. Пруд в парке, наполовину затянутый зеленой ряской, стоял как громадное черное зеркало. Я жил на окраине парка, примыкавшего к негустому смешанному лесу; дощатая дача моя была не достроена, неконопаченые стены, неструганые полы, мебели почти никакой. От сырости, по видимому никогда не исчезавшей, мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обрастали бархатом плесени. Все лето почти непрестанно шли дожди. Бывало, то и дело и яркой синеве скапливались белые облака и вдали перекатывался гром, потом начинал сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращавшийся от зноя в душистый сосновый пар. Как-то неожиданно дождь заканчивался, и из парка, из леса, с соседних пастбищ — отовсюду снова слышалась радостная птичья разноголосица. Перед закатом по-прежнему оставалось ясно, и на моих дощатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. (200 сл.) Метель Долго мы ехали, но метель все не ослабевала, а, наоборот, как будто усиливалась. День был ветреный, и даже с подветренной стороны чувствовалось, как непрестанно гудит в какую-то скважину снизу. Ноги мои стали мерзнуть, и я напрасно старался набросить на них что-нибудь сверху. Ямщик то и дело поворачивал ко мне обветренное лицо с покрасневшими глазами и обындевевшими ресницами и что-то кричал, но мне не разобрать было ничего. Он, вероятно, пытался приободрить меня, так как рассчитывал на скорое окончание путешествия, но расчеты его не оправдались, и мы долго плутали во тьме. Он еще на станции уверял, что к ветрам всегда притерпеться можно, только я, южанин и домосед, претерпевал эти неудобства моего путешествия, скажу откровенно, с трудом. Меня не покидало ощущение, что предпринятая мною поездка вовсе не безопасна. Ямщик уже давно не тянул свою безыскусную песню; в поле была полная тишина, белая, застывшая; ни столба, ни стога, ни ветряной мельницы—ничего не видно. К вечеру метель поутихла, но непроницаемый в поле мрак — тоже невеселая картина. Лошади как будто заторопились, и серебряные колокольчики зазвенели на дуге. Выйти из саней было нельзя: снегу навалило на пол-аршина, сани непрерывно въезжали в сугроб. Я насилу дождался, когда мы подъехали наконец к постоялому двору. Гостеприимные хозяева долго нянчились с нами: оттирали, обогревали, потчевали чаем, который, кстати сказать, здесь пьют настолько горячим, что я ожег себе язык, впрочем, это нисколько не мешало нам разговаривать по-дружески, будто мы век знакомы. (230сл.) Ночь в Балаклаве В конце октября, когда дни еще по-осеннему ласковы, Балаклава начинает жить своеобразной жизнью. Уезжают обремененные чемоданами и баулами последние курортники, в течение долгого здешнего лета наслаждавшиеся солнцем и морем, и сразу становится просторно, свежо и по-домашнему деловито, точно после отъезда нашумевших непрошеных гостей. Поперек набережной расстилаются рыбачьи сети, и на полированных булыжниках мостовой они кажутся нежными и тонкими, словно паутина. Рыбаки, эти труженики моря, как их называют, ползают по разостланным сетям, как будто серо-черные пауки, исправляющие северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над глухо рокотавшим бескрайним морем, еще не улегшимся после недавней бури. Понемногу море очищалось ото льда, и только одинокие глыбы покачивались на волнах. Вокруг не было ни души, и лишь на одной из льдин неясно выделялся силуэт высокой фигуры. Это был не кто иной, как Сорока. Одетый в некрашеный дубленый полушубок, он искусно работает багром, и гибкий шест бурлит и пенит воду. Кругом простирается необъятная белая равнина, над которой низко стелются дымчато-серые облака. Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блеснула золотая Медведица. Сорока толкает вперед тяжелую льдину, а в голове теснятся невеселые думы: далеко в море вынесло, вторые сутки ни разу не ел. Из последних сил бьется охотник, понимает, что нельзя шутить с морозом. Старик помор знает, что, если останешься без движения, морозище обоймёт, повеет и проникнет насквозь холодным дыханием. Каких только ужасных историй не рассказывают на побережье! Сон постепенно овладевает человеком... (229 сл.) Андрейка Солнце невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздухе, неподвижно стоит над морем, в котором на недосягаемой глубине синеет опрокинутое небо. Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает из тянущейся вдоль лодки сети добычу, которой набилось туда множество. Жара, усталость мало-помалу смиряют Аидрейку, и негодование на деда у него улегается. А дед, и не подозревая Андрейкиных каверз, преспокойно посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он доволен сегодняшним уловом, и его нависшие, лохматые брови несколько приподнялись. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и ночью вернуться домой. Вдруг Андрейка услышал голос: «Андрейка, спускай сеть да ставь парус!» Андрейка уставился на деда: что с ним случилось? Ведь еще и половину сетей не досмотрели — видно, прошел косяк и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи и не возвращались домой. Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть, выполнил приказание, не смея расспрашивать деда. Парус обыкновенно подворачивали внизу и приспускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем кругом стоял все тот же неподвижный зной, — нечем было дышать, и все так же на недосягаемой высоте и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз. «Садись на весла», — приказал дед. Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал грести, обливаясь потом. Вверху, не особенно высоко, над морем, неслось белое, ослепительно блестящее облачко с разорванными краями. (234 сл.) Летний дождь Мы возвращались с охоты с далеко не заурядной добычей - восемьюдесятью четырьмя дикими утками, настрелянными в течение нескольких часов. Обессилев от охоты и совершенного пути, мы разместились для отдыха под старым вязом и по-товарищески стали угощать друг друга съестными припасами, взятыми из дому. Солнце, почти невидимое сквозь свинцово-черные тучи, обложившие небо, стоит высоко над горизонтом. Дальше серебристые горы, обвеянные мглой, кажутся диковинными. Легонький ветерок колышет травы, не успевшие засохнуть. Сквозь ветви деревьев виднеется темно-синее небо, а на сучочках кое-где висят золоченые листья. В мягком воздухе разлит пряный запах, напоминающий запах вина. Неожиданно низкие, черные тучи с необыкновенной быстротой поплыли по небу. Нужно не медля убираться из лесу, чтобы R пору укрыться и не вымокнуть под ливнем. К счастью, невдалеке избушка лесного объездчика, в которой приходится задержаться на добрых полчаса. Но вот отблистали молнии, отгрохотал гром. Яростный ливень вначале приостановил, а затем и вовсе прекратил свою трескотню. Стихии больше не спорят, не ссорятся, не борются. Расстроенные полчища туч уносятся куда-то вдаль. На очищающемся небе резко вырисовывается чуть-чуть колышущаяся верхушка старой березы. Из-за облачка вот-вот выглянет солнышко. Осматриваешься вокруг и поражаешься, как мгновенно после дождя преображается все окружающее. Освеженная рожь благодарно трепещет. Все живое суетится и мечется. Над камышом ручья кружатся темно-синие стрекозы. Шмель что-то жужжит не слушающим его насекомым, уже не чувствующим опасности. Из ближних рощ, с пашен и пастбищ - отовсюду доносится радостная птичья разноголосица. (225 сл.) На охоте Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо было ясно; утренняя заря не пылала жаром, а разливалась кротким румянцем. Солнце, еще не раскаленное, как во время знойной засухи, но тускло-багровое, как перед бурей, светлое и приветливо-лучезарное, всплывало над длинной тучкой, освежая ее. Тучка блистала, и блеск ее был подобен блеску кованого серебра. В такие дни около полудня обыкновенно появляются высокие облака; они почти не трогаются с места, но далее, к небосклону, они сдвигаются, и кое-где между ними пробиваются сверху вниз сверкающие солнечные лучи. Точь-в-точь в такой день я охотился за тетеревами. В течение дня я настрелял довольно много дичи; наполненный рюкзак немилосердно резал мне плечо. Вечерняя заря погасла, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами восходящего солнца, начали густеть и разливаться холодные тени. Быстрыми шагами прошел я кусты, взобрался на небольшой холм и вместо ожидаемой знакомой равнины с белой церковью в отдалении увидел совершен но другие, незнакомые мне места. У ног моих тянулась узкая долина, а справа возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении и оглянулся. «Да, — подумал я, — куда же это я попал? Видимо, я чересчур забрел влево». Я поскорее выбрался на другую сторону холма и пошел, забирая вправо. Я добрался до леса, но там не было никакой дороги: какие-то нескошенные низкие кусты широко расстилались передо мной, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. (231 сл.) Состязание Поднявшись по лестнице, мы очутились на длинном чердаке, южный конец которого был отгорожен и превращен в голубятню. Здесь жили знаменитые птицы, и на этот день было назначено состязание между пятьюдесятью молодыми голубями. Владельцы голубей и многие соседилюбители держали пари на разных птиц, установив приз для победителя, и меня пригласили быть судьей в этом состязании и определить, который из голубей окажется выигравшим. Таковым должен был считаться не тот, кто вернется первым, но тот, кто первым войдет в голубятню, потому что голубь, возвращающийся только в окрестности своего жилья, но не являющийся немедленно домой, — плохой письмоносец. Голубь, всегда и отовсюду возвращающийся домой, зовется возвратным голубем. Эти голуби не отличаются особой окраской и лишены причудливых украшений, годных для птичьих выставок, и разводят их не напоказ, а потому, что они быстрокрылы и умны. И вот предстояло подвергнуть испытанию способности голубиной молодежи. Несмотря на множество свидетелей, я посчитал более надежным запереть все дверцы голубятни, оставив открытой лишь одну, и стать внутри наготове, чтобы тотчас захлопнуть ее, как только первый голубь влетит в голубятню. В таких случаях всегда надо держать ухо востро: голуби вихрем врываются в голубятню, и победителя можно легко прозевать. И в самом деле, как я ни готовился, а все-таки был застигнут врасплох; белое облако, едва возникнув на горизонте, за две секунды пронеслось над городскими крышами и оказалось возле голубятни. Синяя стрелка просвистела мимо меня, задев мне лицо крыльями, и я еле-еле успел спустить ту единственную открытую дверцу, возле которой караулил победителя. (По Э. Сетон-Томпсону.) (237 сл.) На полустанке В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на двадцать верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод и крепок, горяч и глуп. На меня, уроженца севера, степь, раскинувшаяся во все стороны, действовала как вид заброшенного кладбища. Летом она своим торжественным покоем: монотонным треском кузнечиков и прозрачным лунным светом, от которого никуда не спрячешься, — наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром. На полустанке жило несколько человек: я с женой, глухой телеграфист да три сторожа. Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем. Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии не чаще одного раза в месяц — прескучнейшая жизнь. (По А. П. Чехову.) (183 сл.) Окаянные дни Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, и мысли путаются, и окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но еще держишься на ногах и чего-то ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил. А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик о том, что генерал Корнилов — мятежник и предатель революции и родины. Потом было третье ноября, и Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась и смирилась. Все стихло, все преграды пали, и победители свободно овладели каждой ее улицей, каждым ее жилищем и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней — над Кремлем. После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дома, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались в поисках врагов и оружия ватаги борцов за светлое будущее, совершенно шальных от победы, самогонки и скотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, какое освящено традициями всех революций. (По И. Бунину.) (199 сл.)