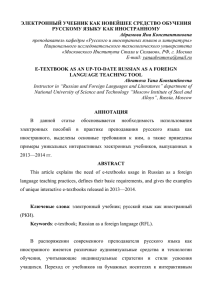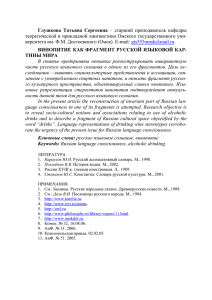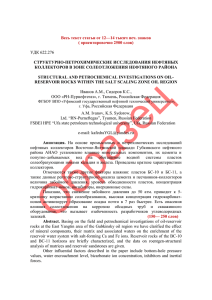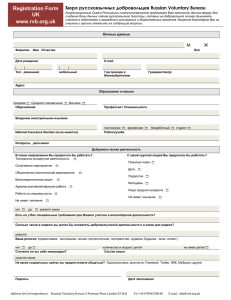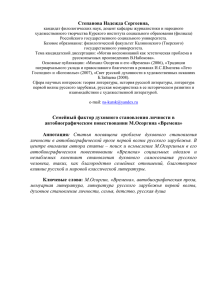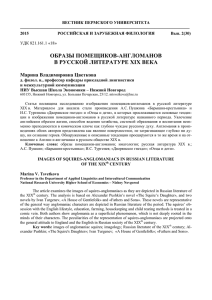Русская история глазами русского немца: В. Эртель и его
advertisement
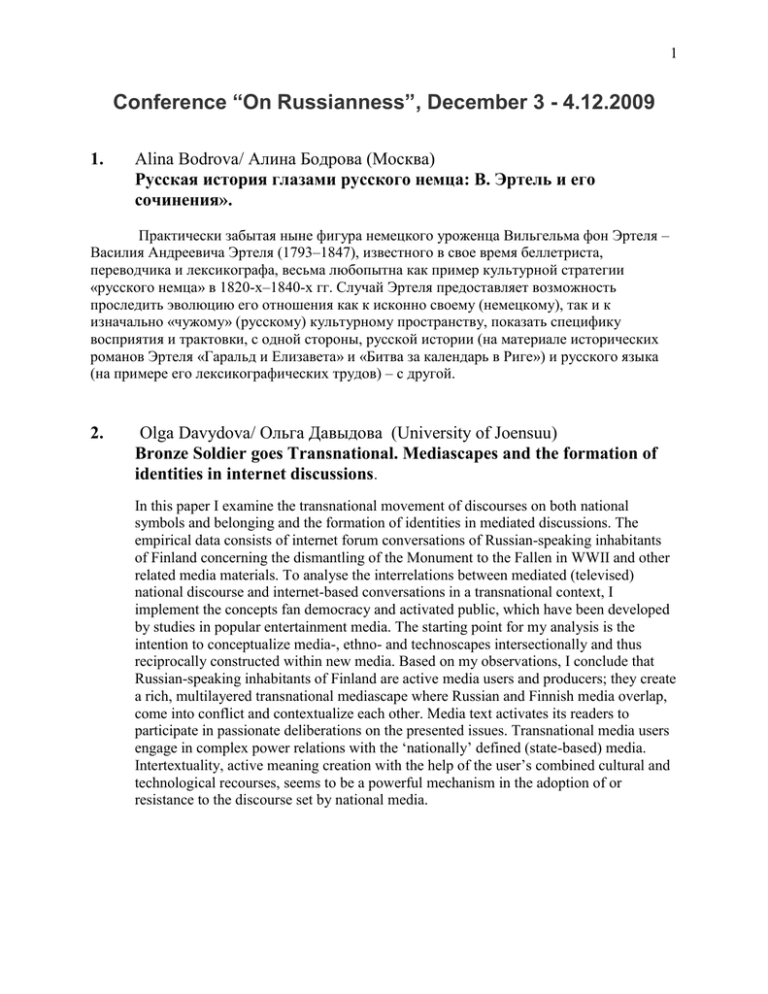
1
Conference “On Russianness”, December 3 - 4.12.2009
1.
Alina Bodrova/ Алина Бодрова (Москва)
Русская история глазами русского немца: В. Эртель и его
сочинения».
Практически забытая ныне фигура немецкого уроженца Вильгельма фон Эртеля –
Василия Андреевича Эртеля (1793–1847), известного в свое время беллетриста,
переводчика и лексикографа, весьма любопытна как пример культурной стратегии
«русского немца» в 1820-х–1840-х гг. Случай Эртеля предоставляет возможность
проследить эволюцию его отношения как к исконно своему (немецкому), так и к
изначально «чужому» (русскому) культурному пространству, показать специфику
восприятия и трактовки, с одной стороны, русской истории (на материале исторических
романов Эртеля «Гаральд и Елизавета» и «Битва за календарь в Риге») и русского языка
(на примере его лексикографических трудов) – с другой.
2.
Olga Davydova/ Ольга Давыдова (University of Joensuu)
Bronze Soldier goes Transnational. Mediascapes and the formation of
identities in internet discussions.
In this paper I examine the transnational movement of discourses on both national
symbols and belonging and the formation of identities in mediated discussions. The
empirical data consists of internet forum conversations of Russian-speaking inhabitants
of Finland concerning the dismantling of the Monument to the Fallen in WWII and other
related media materials. To analyse the interrelations between mediated (televised)
national discourse and internet-based conversations in a transnational context, I
implement the concepts fan democracy and activated public, which have been developed
by studies in popular entertainment media. The starting point for my analysis is the
intention to conceptualize media-, ethno- and technoscapes intersectionally and thus
reciprocally constructed within new media. Based on my observations, I conclude that
Russian-speaking inhabitants of Finland are active media users and producers; they create
a rich, multilayered transnational mediascape where Russian and Finnish media overlap,
come into conflict and contextualize each other. Media text activates its readers to
participate in passionate deliberations on the presented issues. Transnational media users
engage in complex power relations with the ‘nationally’ defined (state-based) media.
Intertextuality, active meaning creation with the help of the user’s combined cultural and
technological recourses, seems to be a powerful mechanism in the adoption of or
resistance to the discourse set by national media.
2
3.
Tatiana Filimonova / Татьяна Филимонова (Northwestern University,
Chicago)
Joseph Brodsky: Great Poet, Great Patriot? / Иосиф Бродский:
великий поэт, большой патриот?
This paper focuses on Joseph Brodsky’s 1987 poem “Nazidaniie.” Challenging its
previous readings, a close analysis of the poem reveals that “Nazidaniie,” if examined in the
context of Brodsky’s other works handling the issues of Russia’s place between East and West,
attests to Brodsky’s deliberate choice of a particular poetic rhetoric. His rhetoric is one of a great
national poet (Pushkin serves as the role-model), who simultaneously castigates and contends for
his nation.
A close reading of “Nazidaniie”will be at the center of the paper. However in order to
reveal patterns allowing for the attribution to Brodsky of the poet-critic-patriot rhetoric, other
texts will be briefly introduced. They include Brodsky’s “Puteshestviie v Stambul,” polemical
essays between Brodsky and Milan Kundera on Russian literature, and excerpts from Alexander
Pushkin’s and Adam Mickiewicz’s poetry and correspondence.
4.
Arja Kirvesmäki / Арья Кирвесмяки (University of Helsinki).
Выражение обобщенно-личного значения в русском языке.
Традиционно обобщенно-личными называются такие бесподлежащные предложения, в
которых сказуемое выражено глаголом в форме 2-го лица ед. числа (реже – в других
личных формах), а обозначаемое глаголом действие относится к обобщенному, любому
лицу, например: Слезами горю не поможешь; Чем старше становишься, тем больше
начинаешь ценить стабильность. На мой взгляд, значение отнесенности действия
(состояния, характеристики или т.п.) ко всем людям или к любому человеку может
передаваться не только традиционно выделяемыми обобщенно-личными предложениями,
но и другими конструкциями. Ср.:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
В Интернете можно найти информацию почти на любую тему.
Друзей легко потерять, но тяжело найти.
Человек быстро привыкает к комфорту.
Как купить подержанную машину и не разочароваться?
Мы часто оскорбляем чувства других, сами не замечая этого.
В канун Нового года традиционно подводятся итоги уходящего года и строятся
планы на будущий год.
Каждый должен уметь плавать.
Разные средства выражения обобщенно-личности не тождественны по всем своим
смысловым элементам. Каждое из них накладывает свой отпечаток на выражение и посвоему передает семантику обобщенности лица. Разные средства выражения отличаются
друг от друга и тем, какие (контекстуальные, семантические, синтаксические,
стилистические и другие) ограничения и тенденции употребления с ними связаны. При
этом между средствами выражения имеются различия в частотности употребления.
3
Обобщенно-личные высказывания отличаются друг от друга по степени
обобщенности лица. Высказывания типа Люди смертны, содержание которых относится
ко всем людям без исключения, – достаточно редки. В моей концепции исходной точкой
при определении обобщенно-личности служит желание говорящего представить
положение дел так, как будто оно касается всех, хотя на самом деле объем множества
может варьироваться от всех представителей класса людей до одного лица. Очень часто
говорящий рассказывает о своем личном опыте и распространяет его на всех других в
подобной ситуации.
Языки отличаются друг от друга тем, какой набор средств говорящий имеет в своем
распоряжении при выражении обобщенно-личного значения. Если в двух разных языках
имеется одно и то же средство выражения, они обычно отличаются по своему
употреблению и оттенкам значения. Чтобы раскрыть, какие особенности характерны для
выражения обобщенно-личности в русском языке, нужно сравнить русский язык с
другими языками. В докладе приводятся примеры того, как русский язык отличается от
финского в плане выражения обобщенно-личного значения.
5.
Yakov Klots / Яков Клоц (Yale University, New York)
Interests: contemporary Russian poetry; postmodernism in literature and
culture; literary linguistics; bilingualism and language-contact in literature;
translation practice and translation theory; Russian narratives of GULAG
survivors as a literary fact.
Нью-Йорк Иосифа Бродского и «нью-йоркский» текст русской
литературы.
Хотя Нью-Йорк и играл важнейшую роль в жизни Бродского и, очевидно, не мог не
повлиять на его творчество, поэт посвятил ему лишь несколько коротких стихотворений.
Сам Бродский объяснял это тем, что город столь гигантских масштабов «невозможно
переварить ритмически», что он несовместим с внутренним ритмом стихотворца. Однако
вряд ли можно довольствоваться таким ответом, не предприняв попытки более глубокого
изучения мифопоэтики Нью-Йорка, присущей ему системы образов и собственно причин,
препятствующих, согласно Бродскому, «вписать» этот город в стихи.
Цель моего доклада – кратко охарактеризовать эволюцию художественных
произведений о Нью-Йорке, вышедших из-под пера русских писателей, начиная с конца
19-го («Без языка» Владимира Короленко) и первой половины 20-го века (Маяковский,
Есенин, Пильняк, Горький, Ильф и Петров). Особое внимание будет уделено ньюйоркским мотивам в поэзии третьей волны русской эмиграции, а также будет предпринят
подробный анализ нью-йоркских стихов Бродского (с использованием архивных
материалов, в т.ч. переписки). Теоретической базой подобного анализа послужат работы
В.Н. Топорова и Ю.М. Лотмана о «петербургском тексте» русской литературы, с которым,
несмотря на все очевидные различия двух городов, «нью-йоркский» текст имеет
определенные параллели на мифопоэтическом уровне.
4
6.
Mariya Kotova / Мария Котова (Москва)
Писатель и его читатели в конце 1920-х гг.: формирование
советской идентичности (На материале сборника М.Зощенко
«Письма к писателю»).
В 1929 г. М. Зощенко издал книгу «Письма к писателю», составленную из
читательских писем, которые автор получал во второй половине 1920-х гг. Публикация
сопровождалась предисловием и авторскими комментариями. Первая мысль издать
подобную книгу появилась у Зощенко в 1927 г., но свет она увидела лишь в 1929, вызвав
неоднозначную реакцию критиков. Несмотря на постулируемую в авторском поясняющем
предисловии документальность материала, часть писем, отобранных для сборника, была
подвергнута правке. С одной стороны, правка должна была сохранить
конфиденциальность писем и скрыть настоящие имена их авторов. Значительная часть
правки, носит, как кажется, концептуальный характер.
В докладе будет сделана попытка проанализировать соотношение отвергнутых и
правленых писем с текстами, опубликованными в сборнике. Подобное сопоставление
позволит сделать ряд выводов о писательской стратегии Зощенко, которого массовый
читатель отождествлял с малограмотным рассказчиком из его произведений, а также дать
ответ на вопрос о прагматике сборника в контексте литературно-исторических
обстоятельств конца 1920-х гг., среди которых важными представляются: усиление
идеологического диктата, интерес к литературе факта, шаткое положение Зощенко как
писателя и др. Кроме этого, анализ читательских писем позволит реконструировать облик
советского массового читателя и описать его роль в модели писатель-читатель,
претерпевшей после революции значительные изменения.
7.
Olga Кoveneva / Ольга Ковенева (Kandidat of Philological Sciences
(PhD). Teacher at the Faculty of Translation and Interpreting. Lomonossov
Moscow State University. PhD Student in Sociology: at EHESS (Group of
Political and Moral Sociology) (Paris) and at the Institute of Sociology
(Russian Academy of Sciences, Moscow)
Considering the Principles of Living Together in Human Communities:
Comparative Franco-Russian Research.
The aim of our presentation is to approach the problem of the setting up of political
communities on the basis of a comparative study of practical conditions their members should
fulfill for living together. Instead of considering human communities as homogeneous entities
brought in line with a common dominator (“national character”, “political system” or “cultural
context”), we’ll turn down to a pragmatist methodology that makes it possible to follow the
constitution of the common life from the angle of experiences in progress. Thus, we’ll carry out
an analytical breaking down of sociocultural entities, such as “cultures” or “societies”, generally
regarded as stable and permanent, in order to examine, from a comparative perspective, the
coordination of divergent or similar human conducts in dynamics.
5
This approach to politics from an analysis of the way plural forms of being can be put
together within the community is inspired by the works in social and human sciences that
attempted, in the wake of Hannah Arendt, to extend the notion of “politics” to that of “living
together” wondering about the possibilities given by our modern societies of receiving plurality
and making room for every one in the common world (The Human Condition). The attention
paid to the real experiences of the common life meet the political pragmatist ambition clearly
expressed in the works of John Dewey (The Public and Its Problem) and takes mainly advantage
of the analytical and methodological tools developed by the French pragmatic sociology (Luc
Boltanski, Laurent Thévenot) that suggested to study politics and the being-in-common as the
meeting point of “plural regimes of engaging the world” that confront human beings to other
persons and to their environment.
Our analysis will be based precisely on the data of a substantial empirical investigation
(2004-2009) that led us to observe the practical conditions of sharing and reconciling plural uses
of common spaces (environments that combine natural and urban elements) in Russia and
France. A special emphasis in our presentation will be put on the role of the language in the
coordination of various human conducts.
8.
Jussi Lassila / Юсси Лассила (Aleksanteri institute, University of Helsinki
/ University of Jyväskylä)
Youth Movement Nashi and “Innovative Patriotism”: Narrated Rituals
for Post-Communist Russianness.
My paper examines communication of the pro-Kremlin Russian youth movement Nashi as a part
of post-communist Russian national identity formation during the era of Vladimir Putin. The
starting point of my examination is that Nashi’s political communication in the construction of
“the new ideal young Russian” is a controversial practice. On the one hand, the political position
of the movement as a supporter of the current political power – although not as a youth section of
any pro-power parties – evidently underscores Nashi’s reputation as a rubber stamp of Kremlin
policies. On the other hand, broad empirical data have shown that clear majority of young
Russians has unresponsive, or apolitical, attitude towards existing political formations, except
Putin, or the prseident. It follows that Nashi’s relatively strong position as an official youth
organisation from the viewpoint of political elite is much weaker from the viewpoint from
Nashi’s major target group, i.e. Russian youth. In this regard, at the general level of Nashi’s
communicative work, construction of the ideal young Russian can be illustrated as struggle over
social and political cogency between communicative demands of political elite and apolitical
Russian youth; how to be politically apolitical, or unofficially official?
In my presentation I focus on those features of Nashi’s communicative tension in question which
can be illustrated in terms of political ritual. A successful ritual can be defined as a fusion of
particular components of a communicative situation while a failed ritual is the case when these
components remain de-fused. In contemporary modern societies – including present day Russia –
de-fusion of the components is an undeniable starting point for all rituals. By few examples from
the main web site of Nashi I will show that a distinctive feature of Nashi’s identity discourse is
6
an attempt to re-fuse explicitly de-fused elements into one, a supposedly credible representation
of ideal national identity. I suppose that the concept of political ritual as a tool for discourse
analysis opens those controversies and tensions which are present in the national identity work of
Nashi, and it may partially help us to understand communicative practices of the current Russian
nation building in general as well.
9.
Olga Lyashevskaya / Ольга Ляшевская (The University of Tromsø)
Национальный корпус русского языка как зеркало российской
истории.
Большие электронные корпусы текстов, созданные в последнем десятилетии для разных
языков и аннотированные на уровне слова, предложения и произведения в целом, дали
мощный импульс для развития лингвистики и литературоведения, расширив
представления исследователей о том, что можно изучать и какими методами. Корпус –
наряду со словарем и грамматикой – стал неотъемлемой частью описания и документации
языка, так именно он дает более полное и объективное представление об употреблении
слов и выражений в живой речи. Вместе с тем, представляется, что корпус также обладает
определенным потенциалом для исследования истории, общества и социальных
взаимоотношений, и этот потенциал в настоящее время еще мало оценен.
В докладе речь пойдет о Национальном корпусе русского языка и о созданном на его
основе частотном словаре современного русского языка, представляющем тексты,
созданные в период с 1950 года по настоящее время. Данный словарь, с одной стороны,
является обновлением авторитетного словаря под редакцией Л.Н.Засориной, представляя
«статистический портрет» языка послевоенного советского и постсоветского времени. С
другой стороны, корпус, на котором базируется наш словарь, имеет в 100 раз больший
объем, но главное, в нем сбалансированно представлены не только публицистика и
художественная литература, но также производственная, бытовая, церковная и другие
виды нехудожественной литературы, а также устная речь.
Среди прочего, частотный словарь позволяет проследить распределение частоты
употребления отдельных слов по разным десятилетиям. В этой связи особый интерес для
гуманитарных исследований представляют «всплески» употреблений слов в те или иные
периоды. Например, вполне предсказуемо, что на 1950-е годы приходится пик
употреблений таких слов, как парторганизация, артель, механизатор, комсомолец,
колхозник, трудящийся, пропагандист, горком (они представляют язык советской
политики и экономики). В 1980-е годы им на смену приходят слова перестройка,
мышление, нравственный, воспитание, молитва и т.д. Однако, помимо этого, интересна
история самых простых, бытовых слов. Так, частота слова подушка неуклонно снижается,
с 86 употреблений на миллион слов (ipm) в 1950-е до 31 ipm в 2000-е. Анализ корпусных
данных показывает, что это слово характерно для художественных текстов 1950-1960-х
годов, а наиболее типичные для него контексты – "рыдать в подушку" и "письмо,
спрятанное под подушкой". Тем самым, выделенность подушки в культуре описываемого
времени можно связать с этическими нормами, в данном случае в сфере эмоций и всего
личного. Другой пример – частое употребление глагола исправиться в 1950-х годах –
7
нельзя объяснить без обращения к сценарию партийных и т.п. собраний, которые
созывались для обсуждения провинившихся товарищей, их общественного покаяния
обещания исправиться. Фраза «обещаю исправиться» служила также формой извинения и
в бытовых ситуациях.
В докладе предполагается также обсудить явления словообразования (ср. перестройка vs.
перестроечный), обращений и др. вопросы – с точки зрения того, как статистически
значимые языковые явления отражают микросдвиги в развитии русской культуры.
10.
Vitaly Nikolaev / Виталий Николаев (Georgetown University)
Transitivity and Aktionsarten in Russian za-perfectives.
My work aims to explore how transitivity is related to the completive and ingressive
Aktionsarten in Russian perfective verbs prefixed with za- (za-perfectives). I show that the
notion of DESTINATION in the context of the determinacy category of Russian za-perfective
motion verbs can be extended to capture Aktionsart patterning in relation to transitivity across
the rest of za-perfectives. I test my hypothesis against a 1593-item corpus, which constitutes all
za-perfectives included in the Russian Morphological Database Project (Augerot).
Methodologically, I draw from Langacker’s Cognitive Grammar (Langacker, 1987) and work by
Tyler (Tyler & Shakhova, 2008) and Janda (Janda, 1986; 2007) on Russian prepositions and
prefixes. First, I discuss the class of Russian motion verbs, the category of determinacy, and how
it interacts with the abstract notion of DESTINATION in relation to the meaning profiled by the
perfectivizing prefix za-. In particular, verbs of determinate motion (e.g., бежать ‘run’
imperfective determinate) which profile a scene with a discrete destination are characterized by
the completive meaning when prefixed with za- (Он забежал во двор. ‘He ran into the yard.’).
On the other hand, verbs of indeterminate motion (e.g., бегать ‘run’ imperfective indeterminate)
don’t profile a single discrete destination and demonstrate an ingressive meaning when prefixed
with za- (Он забéгал по двору. ‘He started running around the yard.’).
Next, I observe that non-motion verbs also demonstrate a variation in the completive vs.
ingressive meaning distribution across za-perfectives (загасить ‘extinguish’ completive vs.
забарабанить ‘start to drum’ ingressive). Departing from the idea that syntactic patterns are
‘meaningful’ (Langacker, 1987), I argue for correlating the notion of destination in motion verbs
with the notion of transitivity in non-motion verbs, as they similarly interact with the meaning of
the prefix za-. I claim, in line with Janda (2007; forthcoming) and Chaput (forthcoming), that the
patterns, which persist through the interaction of aspect and determinacy in motion verbs, are in
fact largely representative of the whole verbal category in Russian. In particular, the distribution
of the completive vs. ingressive meanings in all za-perfectives appears to closely align with
transitivity of non-motion za-perfectives:
1. When transitive non-motion verbs are prefixed with za-, they signify a completed action
(загасить), similar to determinate motion verbs perfectivized by za- (забежать).
2. When intransitive non-motion verbs are prefixed with za-, they signify the beginning of an
action (ingressive: забарабанить), similar to indeterminate motion verbs perfectivized by za(забéгать).
8
Finally, I undertake a corpus analysis of 1593 za-perfectives from the Russian Morphological
Database Project (Augerot) to support my claim.
11.
Lev Oborin / Лев Оборин (РГГУ, Москва)
«Наша бурса национальна»: семинаристы и истоки русской
революции (На материале произведений Н.Г. Помяловского и А.К.
Воронского).
Среди писателей, оказавших влияние на русское революционное движение,
много бывших семинаристов (Добролюбов, Чернышевский, Помяловский, Н. Успенский и
др). Особняком стоит Воронский – революционер, основатель группы «Перевал». Самый
известный его роман – «За живой и мертвой водой» – начинается описанием семинарского
бунта, после которого изгнанные семинаристы организуют коммуну. Встает вопрос:
почему дети священников, которых готовили к служению, в бурсе становились
революционерами и атеистами?
Впервые об этом размышляет Помяловский в «Очерках бурсы». Он
полагает, что становлению атеизма способствует сама порочность бурсацкого воспитания.
О нравах бурсы, о «чисто русских» ее чертах пишет и Воронский: «Наша бурса
национальна…» - далее отрывок, в котором перечисляются чуть ли не все национальные
беды, оказывается, происходящие из бурсы.
Следует взглянуть на этот вопрос глубже, рассмотрев тип сложившегося в
бурсе детского/подросткового сообщества. Важна как роль детского фольклора, особенно
его пародийного пласта, так и социальное устройство сообщества – иерархия,
противопоставление «товарищества» «начальству» и т.д. В этих условиях возникает
«детское подполье», преодолевающее запрет: общество «тугов-душителей» у Воронского
от обычных детских проказ постепенно переходит к тайному просвещению, открывает
«запретную» библиотеку, где не последнее место занимают очерки Помяловского.
Позднее схожее явление опишут Г. Белых и Л. Пантелеев в «Республике ШКИД»: бывшие
беспризорники втайне от начальства организуют «ячейку».
Несмотря на отчетливую тенденциозность авторской задачи Воронского,
нужно признать аутентично описанное им «детское подполье» важным этапом
подростковой инкультурации – что подтверждается фольклористическими
исследованиями. Необходимо, таким образом, сделать вывод о месте тайных семинарских
сообществ в русском революционном движении.
12.
Kirill Ospovat / Кирилл Осповат (Queen Mary, University of London)
Socializing culture: court society, patronage and culture in eighteenthcentury Russia.
National Identity, International Politics and Cultural Patronage in 18 thCentury Russia.
In this paper I suppose to discuss some cultural aspects of the symbolic self-assessment
of the Russian monarchy in the mid-18th-century. Russian rulers, who between the reigns of
Peter I and his daughter Elizabeth were able to achieve the acknoldgement of their imperial title,
9
claimed not only a place, but a leading position within the symbolic unity of the Christian
Europe. Political strategy and symbolic ambitions of the Russian government coincided in such a
way, that the semiotics of prestige were essential for the political practice of the day, its
Realpolitik, and at the same time constituted a framework for cultural patronage, responsible,
among other things, for what is traditionally called “the birth of the new Russian literature”.
The European public opinion was essential for the kind of acknowledgement that the
Russian government since Peter I wished to gain. The Seven Years’ War (1756-1763) once again
made Russia into a visible participant of the West European politics and simultaneously brought
forth a rich polemical literature on the collective identities of the nations involved. Challenging
the widely used stereotype of the “barbarian Russia”, the Russian state sponsored a wide range of
works in French and German praising Russia and its politics. Cultural patronage appeared in
these works as an important proof of the imperial status of Russia and its affiliation with the
community of civilised Christian states. Among these works was Voltaire’s “Histoire de l’empire
de Russie sous Pierre le Grand” (1759-1761), sponsored by Elizabeth’s influential favorite and a
significant patron of the arts Ivan Shuvalov. In his work, Voltaire called Shuvalov the “most
ardent protector of the arts in Europe”, thus broadcasting the pretensions of the Russian court to
international prestige based on cultural and intellectual progress achieved through court
patronage.
The political significance of cultural patronage helps explain the policies of Shuvalov, the
favorite of Empress Elizabeth and the “Russian Maecenas”. He sponsored literary activities and
made them into important prestige symbols that constituted the self-asserted identity of the
Russian monarchy. Shuvalov’s client, the poet and polymath Mikhail Lomonosov, revived the
old notion of Russia as an ancient Christian All-Orthodox empire as a basis for the ‘new’
historiography, as well as court-sponsored literary and linguistic theory, at the same time
refuting the unfavorable judgements of “barbarian” Russia in the European polemical writing.
13.
Philipp S. Penka / Филипп Пенка (Harvard University)
“Все должны стать словолюбцами”: Word and Cultural Identity in
Gustav Shpet and Osip Mandelstam.
This presentation will focus on a little-studied aspect of the philosophical writings of
Gustav Shpet: his work on the relationship between language, literary tradition, and cultural
identity. Contrary to what some scholars have asserted, Shpet’s understanding of culture relies
neither on naïvely essentialist notions such as russkii dukh, nor on a positivistic attitude. Instead,
to borrow a term from sociology, Shpet posited the constructivist notion of a collective sociocultural consciousness that is rooted in his specific understanding of dynamic linguistic meaning.
A reading of passages from his Esteticheskie fragmenty (1922) will attempt to outline how the
production and reception of literature engenders what Shpet termed “literary consciousness”
(literaturnoe soznanie). Furthermore, it will show that the social ontology of language not only
endows cultural artifacts with common meaning, but also requires a careful kind of hermeneutic
reading of literary texts in order for culture to continue existing as a meaningful whole. Finally,
the presentation will argue that Shpet’s theory has important parallels in Post-Revolutionary
culture by examining similarities between his “cult” of the “living word” and Osip
Mandel’shtam’s writings on the poetic word and Russian cultural identity (“O prirode slova,”
“Slovo i kul’tura”).
10
14.
Ekaterina Popova / Екатерина Попова (University of Edinburgh)
"A Socio-cognitive Study of Self-Other Representation in
Contemporary Russian Migration Discourse: An Application of
Conceptual Blending Theory".
The study presented in this paper is based on a socio-cognitive analysis of a multimodal corpus
consisting of two sub-corpora: 1) Verbal Corpus of Russian newspaper articles on the topic of
migration (2006-2007) and 2) Visual Corpus on migration (post-2005).
The first part of the study investigates discourse metaphors in relation to the negotiation of the
concept SELF-OTHER in contemporary Russian migration discourse. Discourse metaphors are
seen as comparison-based verbal expressions, which are negotiated in a discourse community
over a certain period of time (Zinken et al. 2007). Discourse metaphors are claimed to originate
at the conceptual level and they are explored from the point of view of the Conceptual Blending
Theory (Turner 1996, Fauconnier 1997, Fauconnier and Turner 2002). Certain discourse
metaphors, such as NATION IS HOUSE, NATION IS FAMILY, MIGRATION IS CONFLICT
etc. employ cultural knowledge and may be coined to advance certain interests at the expense of
others as the study demonstrates. Their pragmatic function with regard to the representation of
SELF and OTHER in migration discourse is identified through discourse-specific strategies of
social actors’ representation (Van Leeuwen 1996). Drawing on the most prominent examples
from both Verbal and Multimodal Corpus, the study explores how the aforementioned discourse
metaphors and strategies have been consistently employed in contemporary Russian discourse on
migration.
15.
Jeffrey Riggs (University of California, Los Angeles / Graduate Student,
Dual Ph.D track in Slavic Languages and Literatures and Musicology)
Native Subtexts: Elements of Russian Liturgical Chant and Orthodox
Religiosity in Viacheslav Ivanov’s Kormchie zvezd.
Viacheslav Ivanov’s Kormchie zvezdy presents the reader with a wealth of subtexts which
evoke diverse currents in Russian and Western cultural history. Among the various sources of his
poetic inspiration, Ivanov refers to music as a fount of poetic creativity - the
‘mogushchestvenneishee iz iskusstv’ (Ivanov 2007: 45) – which is capable of regenerating
ancient religious sensibilities in the twentieth century. Considering the philosophical and poetical
significance which Ivanov ascribes to music, it ranks as one of the most prominent subtexts in
his early works. While it is explicit that Ivanov posits music as a Dionysian element present in
the culture of the late nineteenth and early twentieth centuries, the question of whether he
conceives of the spiritual significance of music in a Christian context is largely undetermined. It
is my aim in this paper to bring to light some of the extensive subtexts of Orthodox religiosity in
Kormchie zvezdy which draw from Russia’s native tradition of liturgical chant, while likewise
considering the theological and philosophical underpinnings of Ivanov’s early poetry in the
context of nineteenth-century Russian Orthodox thought. By these considerations I intend to
pose the problem of the Orthodox religiosity of a poet who so consistently avows pre-Christian
11
forms of belief, while opening a broader inquiry into the role of Orthodox subtexts in Russian
metaphysical symbolism as a whole.
16.
Hanna Rinne/ Ханна Ринне (University of Helsinki)
САМОИСПРАВЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ОСОБЕННЫЙ ТИП –
ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ.
В ходе любых разговоров говорящий часто исправляет свою речь, т.е. редактирует то, что
уже сказал. В рамках конверсационного анализа подобное явление называется
(постпозитивным) самоисправлением (Schegloff, 1979; Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977).
В финском языке самоисправления могут быть разделены на три типа: замещение
(replacing an element), прибавление (adding an element) и отказ от построения
высказывания (abandoning the ongoing utterance) (Sorjonen & Laakso, 2005; см. также
Haakana, 2009; Sorjonen, 1997).
Для всех трех типов общим является то, что производимое высказывание каким-то
образом прерывается. При первом типе говорящий замещает определенную языковую
единицу другой, часто относящейся к той же грамматической и семантической категории.
Второй тип включают случаи, когда говорящий прибавляет что-то к уже сказанному. При
третьем типе говорящий полностью отказывается от построения начатого высказывания и
выстраивает его по-новому при помощи другой синтаксической конструкции (Sorjonen &
Laakso, 2005: 245–251; см., также Sorjonen, 1997).
В своем докладе мы сосредоточимся на рассмотрении отклонений от первоначального
замысла при построении высказываний. Хотя вышеупомянутые авторы, М.-Л. Сорьенен и
М. Лааксо, подчеркивают именно роль синтаксиса при выделении данного типа
самоисправлений, мы, опираясь на данные экспериментального материала, докажем, что
по крайней мере в русском языке говорящий может разнообразно использовать тот
языковой материал, от которого он уже отказался в синтаксическом плане, в процессе
построения нового высказывания. Такие случаи можно назвать частичными
отклонениями от первоначального замысла при построении высказывания.
Мы покажем, как языковой материал, синтаксическая роль которого больше не
востребована, продолжает все же работать как платформа, на которую опирается
говорящий, перестраивая свое высказывание, при этом не повторяя сказанного ранее
дословно. Мы обратим особое внимание на следующие вопросы: От чего говорящий
отказывается и что он сохраняет? Как можно обнаружить следы предыдущего варианта
построения высказывания в новом варианте? Кроме того, мы постараемся обсудить,
почему в русском языке люди исправляют свою речь таким образом. Возможным
объяснением является ориентация русских при общении и взаимодействии на т.н.
положительную вежливость, т.е. собеседники легко предполагают, что люди думают
одинаково (Leinonen, 1985), в равной степени осведомлены о происходящем и имеют
сходные фоновые знания, а также разделяют общую картину мира (Nikunlassi, 2002: 327).
12
Наш материал представляет собой четыре фрагмента телевизионных разговоров,
представленных на российском телевидении в конце 1990-х гг. Общая продолжительность
фрагментов составляет 1 ч. 15 мин.
17.
Lara Ryazanova-Clarke/ Лара Рязанова -Кларк (University of Edinburgh)
How Upright is the Vertical? Ideological norm negotiations in Russian
Public Discourse.
In 1991, at the time of the collapse of the Soviet regime, in the minds of the generation of
liberals, the noun vertikal’ was most likely associated with the Vladimir Vysotskii’s song from
the eponymous film, his husky voice calling for life free from the clutches of communist
ideology. The paper deals with the afterlife of those thaw-inspired linguistic associations.
Following Bakhtin’s basic tenet that language has no “innocence”, the paper traces the semantic
journey of the word vertikal’ in post-Soviet public discourse, taking the media as an example. It
analyses the texts of Rossiiskaia Gazeta as a sample of the dominant mainstream discourse, and
maps the establishment of the term vertikal’ as a marker of the emergent normative ideology.
Sampling the counter-discourse, represented by Viktor Shenderovich’s radio programme
Plavlennyi syrok, the paper examines the contestation over meaning of the noun vertikal’ and the
alternative meaning production which marks a different ideological discursive formation. While
the dominant discourse achieves stability and ideological normalization of the word acquiring the
status of an ideologeme, Plavlennyi syrok produces the counter-meanings by playing on the
destabilization and delegitimization of the dominant norm.
18.
Sergei Say / Сергей Сай (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург).
Таксономический класс ЛИЦО («человек») сквозь призму
валентностных свойств русских возвратных глаголов.
Хорошо известно, что семантика многих предикатных единиц задает ограничения
на онтологические свойства тех участников, которые занимают при соответствующих
предикатах
аргументные
позиции.
Объекты
внешней
действительности,
характеризующиеся сходством онтологических характеристик, часто объединяют в
«таксономические классы», такие, как, например, ЛИЦО, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО,
ВЕЩЕСТВО, ПРИРОДНАЯ СИЛА, СОБЫТИЕ, УСТРОЙСТВО и т.д. При описании
моделей
полисемии
предикатов,
в
частности,
полисемии,
обусловленной
метафорическими и метонимическими переносами, часто можно заметить подвижность
таксономических ограничений этих предикатов в разных значениях, ср., например, такие
употребления глагола входить, как входить в комиссию, где второй участник должен
относиться к таксономическому классу МНОЖЕСТВО, и такие его употребления как
входить в чемодан, где второй участник относится к классу ВМЕСТИЛИЩ (пример
Е.В.Падучевой).
В связи со сказанным интересно рассмотреть свойства различных классов русских
возвратных глаголов. Традиционно считается, что в центре этого класса находятся так
13
называемые собственно возвратные глаголы, т.е. возвратные глаголы, которые 1)
являются производными от переходных глаголов, в базовой диатезе которых
синтаксические позиции подлежащего и прямого дополнения соответствуют двум
семантическим ролям, А и B, и при этом 2) в диатезе самого возвратного глагола
участник, занимающий позицию подлежащего, имеет одновременно ролевые
характеристики, соответствующие А и B. В литературе давно отмечается, что в русском
языке класс собственно возвратных глаголов в таком узком понимании весьма невелик —
для передачи собственно возвратного значения обычно используются конструкции с
возвратным местоимением себя (увидел себя в зеркале, ср. *увиделся в зеркале), к тому же,
по всей видимости, диахронически имеет тенденцию к сужению (ср. классическое
воображаясь героиней своих возлюбленных творцов из «Евгения Онегина» при том, что
для современного русского языка более естественно было бы воображая себя героиней...).
В то же время в русском языке последних десятилетий активно расширяется
другой класс возвратных глаголов — класс так называемых глаголов «включенного
неодушевленного объекта», или «посессивно-рефлексивных» глаголов. Большу9ю часть
глаголов этого класса составляют глаголы, производные от таких переходных глаголов,
при которых позицию прямого дополнения может занимать участник, относящийся к
таксономическому классу ЧАСТЬ ТЕЛА: ср. зажмуриться и зажмурить глаза,
ссутулиться и ссутулить плечи, спину. По всей видимости, появление таких глаголов на
базе собственно возвратной модели представляет собой метонимический процесс по
модели persona pro re. Другими словами, в каком-то смысле перед нами синтаксическое
проявление того факта, что ЛИЦО в определенной мере отождествляется с его
(неотчуждаемой) принадлежностью, в данном случае — с частью тела.
В пользу такой трактовки говорят многочисленные глаголы типа бриться,
намылиться, причесаться, мыться. Действительно, отнесение этих лексем к одному из
классов в рамках русских возвратных глаголов напрямую зависит от того, какого типа
употребление считать для них исходным. Так, например, если считать, что глагол бриться
образован от таких употреблений глагола брить, где позицию прямого дополнения
занимает участник из таксономического класса ЧАСТЬ ТЕЛА / ПОВЕРХНОСТЬ (брить
подбородок), то их следует отнести к числу «посессивно-рефлексивных» (т.е. значение
«дефолтной» для бритья части тела как бы абсорбируется в семантику возвратного
глагола). Однако если заметить, что и сам переходный глагол брить может употребляться
в таком значении, где позицию прямого дополнения занимает участник из класса ЛИЦО
(являющийся «обладателем» соответствующей ЧАСТИ ТЕЛА / ПОВЕРХНОСТИ, ср.
солдата побрили налысо), то его дериват бриться можно считать собственно возвратным
образованием от этого метонимического по природе глагола. Независимо от того, считать
ли, что метонимическая идентификация ЛИЦА и его ЧАСТИ ТЕЛА происходит
независимо от рефлексивизации или что это процесс, связанный именно с образованием
возвратных глаголов типа бриться, важно то, что изучение подобных подвижных в плане
таксономических ограничений глаголов позволяет вскрыть природу метонимических
процессов, связанных с таксономической категорией ЛИЦО.
Интересно заметить, что метонимические возвратные глаголы обсуждаемого типа
представлены в русском языке значительно шире, чем метонимические употребления
соответствующих переходных лексем. В случае глаголов, требующих в качестве прямого
дополнения названий ЧАСТЕЙ ТЕЛА, это можно объяснить ограничениями,
заложенными в лексической семантике самих переходных глаголов. Так, например, уже
14
упомянутые глаголы зажмуриться и ссутулиться невозможно трактовать как собственно
переходные, так как соотносительные переходные глаголы (зажмурить, ссутулить)
могут обозначать только действия, направленные на собственные части тела (*зажмурил
глаза сына / сыну), и, вероятно, именно поэтому не могут иметь метонимических
употреблений, где позицию прямого дополнения занимает участник таксономического
класса ЛИЦО (*зажмурил сына).
Однако асимметрия между метонимическими употреблениями переходных
глаголов с ЛИЦОМ в позиции прямого дополнения и возвратными глаголами
«включенного объекта» наблюдается не только в случае с глаголами, описывающими
действия, направленные на ЧАСТИ ТЕЛА. Так, например, в посессивно-рефлексивном
значении употребляются такие глаголы как застегнуться, потратиться, строиться, а
соотносительные переходные глаголы не могут употребляться с аргументом из класса
ЛИЦО (ср. застегнулся на все пуговицы, но *застегнул сына на все пуговицы). При этом
соответствующие переходные глаголы, в отличие от глаголов типа зажмурить, уже не
имеют обязательного требования на кореферентность деятеля с обладателем того
неодушевленного объекта, на который направлено действие (ср. ОКзастегнул сыну пальто
на все пуговицы). Таким образом, возвратные глаголы «включенного объекта»
представляют собой особенно удачный плацдарм для изучения метонимических связей
таксономического класса ЛИЦО, открывающий бо9льшие возможности, чем изучение
полисемии обычных переходных глаголов.
Стоит заметить, что модель образования возвратных глаголов включенного
неодушевленного объекта значительно активизировалась в последние десятилетия.
Наиболее регулярно встречаются такие возвратные глаголы, в семантику которых
инкорпорируются объекты, обозначающие предметы одежды, деньги, жилища (см.
примеры выше), а также транспортные средства (загрузиться), явления духовного мира
(сосредоточиться, изъясняться), продукты творчества (печататься). В устной речи
фиксируются и сотни употреблений возвратных глаголов включенного объекта, не
отражаемые пока в лексикографической практике:
(1)
Ты уже завелся? (= Завел машину). {Пассажир задает вопрос водителю}.
(2)
Зачем же вы тогда вместе с ним поставились? (= Поставили свои лекции на то
же время, когда идут его лекции). {Ср. мою лекцию / меня поставили на 15-40}.
(3)
Я его не купила, потому что к этому времени уже совсем набилась (= Набила
(свою) корзину в магазине). {Интроспективный отчет: «представляла себя вместе с
корзиной, набила как бы и ее, и, тем самым, себя»}.
Более того, включать все такие употребления в словари, по всей видимости,
бессмысленно — это продуктивный процесс, позволяющий говорящему образовать
нужный возвратный глагол ad hoc в случае, если имеются достаточные основания для
когнитивной метонимии.
Таким образом, на материале этих употреблений можно проследить сферу тех
физических объектов, используемых человеком, а также более абстрактных сущностей
(мыслей, чувств, продуктов творчества и т.п.), которые осмысляются носителями русского
языка как своего рода «части» тех участников, которые относятся к таксономическому
классу ЛИЦ (ср. металингвистический комментарий «автора» последнего высказывания).
По всей видимости, описанное грамматическое явление типично для современного
русского языка в большей мере, чем по крайней мере для большинства родственных
языков, имеющих морфологические аналоги русских возвратных глаголов. Цель
15
предполагаемого доклада состоит в том, чтобы выявить на материале обрисованной
продуктивной грамматической модели те связи, которые устанавливаются в русской
картине мира между таксономической категорией ЛИЦО и другими таксономическими
классами.
19.
Dmitry Sichinava / Дмитрий Сичинава (ВИНИТИ РАН, Москва)
Вертикальное измерение в русской картине мира: «высокое» и
«низкое» в тексте через призму служебных слов.
Проблема речевых жанров («типов текстов»)
стоит на грани лингвистики и
литературоведения; она является одной из наиболее актуальных в современной теории
дискурса, ей интересовались М. М. Бахтин и другие учёные. Выделение этих типов
зависит от целого ряда параметров, в том числе лингвистических. С другой стороны,
речевые жанры начиная с поэтики классицизма делились на «высокие» и «низкие», по
степени близости к реальному и абстрактному, идеальному. Оказывается, что такой
параметр, как соотношение частотности предлога под и предлога над в тексте,
представляет собой интересный материал для классификации жанров текстов (в основном
нехудожественном) в современном языке. Этот лингвистический критерий является
важным ключом к русским представлениям о «высоком» и «низком». Данные предлоги
входят в семантические поля «верха» и «низа», которые во многих языках мира, в том
числе и в русском, допускают активнейшее метафорическое развитие (разработка этой
темы начинается с классической работы Лакоффа и Джонсона; ср. сапоги выше
Шекспира, низкий поступок, Ваше Высочество, нравственное падение и т. п., ряд
примеров, который легко умножить); соответственно семантика этих предлогов очень
богата, а кроме того — что особо интересно в связи с сопоставительной частотой —
отношения между ними далеки от зеркальной симметрии.
У под больше число дополнительных значений, чем у над, с бóльшим акцентом на
«дистанции» между объектом и ориентиром, на сей раз уже метафорической. Для над
характерно непространственное употребление с ограниченным количеством предикатов,
«обозначающими господство, направленное эмоциональное или ментальное воздействие и
некоторые другие типы отношений» [Плунгян В. А. Предлоги как ключ к поэтическому
миру: над и под у Ахматовой // Сокровенные смыслы. М., 2004, с. 319—333], такими, как
преобладать, господствовать, тяготеть, смеяться, издеваться; для предлога же под
гораздо более характерны и многообразны, чем для над, «локативно-функциональные»
[Плунгян В. А., Рахилина Е. В. По поводу «локалистской» концепции значения: предлог
под. // Исследования по семантике предлогов. М., 2000, с. 115–133] употребления,
связанные с сильным, часто физическим, влиянием ориентира на объект: под дождем, под
топором, под флагом; последние два примера могут употребляться и метафорически, и
отсюда уже один шаг до чисто метафорических под впечатлением или под именем.
Предлог под вообще сильнее грамматикализован, чем над: можно назвать, прежде всего,
временны́е употребления вроде ей под тридцать или под утро пили чай, а также значения
«дирижирование» (под музыку Россини), «имитация» (кролик под котик)
и
«предназначение» (создать партию под предвыборную кампанию).
16
Статистические данные по коллекции русских текстов демонстрируют следующую
«иерархию жанров», выставленных по принципу соотношения абсолютных частот под и
над:
.
Религия
Поэзия
Песни
История
Фантастика
Детская литература
Политика
Фэнтэзи
Статьи
Приключенческая литература
Проза
Материалы конференций сети
Fido
Детективы
Юмор
Путешествия и туризм
Справочники
Эротика
Учебные пособия
Медицина
Всё для дома
Криминал
Законы
Абсолютная Абсолютная
частота под частота над
4043
3436
1848
1414
1960
1470
8121
5032
23837
13839
4514
2512
5347
2901
33343
17697
1549
806
2831
1302
11241
5141
4206
1462
14856
9400
3241
3372
1812
1510
1437
3431
3231
811
5043
3150
1067
1008
537
446
400
723
650
108
Коэффициент
под/над
1,18
1,31
1,33
1,61
1,72
1,80
1,84
1,88
1,92
2,17
2,19
2,88
2,95
2,98
3,04
3,35
3,37
3,39
3,59
4,75
4,97
7,51
По значению коэффициента под/над заданные тексты разбиваются на три крупных
группы — условно обозначим их «поэзия», «художественная проза» и «нехудожественная
проза» — и отдельные, не образующие групп типы, расположенные на самых полюсах
шкалы и демонстрирующие тем самым максимально аномальные значения признака.
Общая конфигурация шкалы (но не всегда её частности) достаточно близко отражает
интуитивное представление о «низости» и «высокости» текста: этот факт, на наш взгляд,
не случаен, лежит в русле общеязыковой метафорики «высокого» и «низкого» и доступен
научному исследованию, которое должно обязательно опираться на представления о
семантическом спектре русских пространственных предлогов.
Наиболее свободные в стилевом и тематическом отношении категории текстов —
«поэзия» и «проза» (=беллетристика) — демонстрируют предельно широкий разброс
значений коэффициента, который в гораздо большей степени зависит от творческой
индивидуальности автора, чем это имеет место в других типах текста. Таким образом,
пространственные предлоги выступают и как примета индивидуального авторского стиля,
и как примета «коллективного» стиля, присущего типу текста как «единому тексту».
17
20.
Mikhail Velizhev/ Михаил Велижев (Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ, Москва)
Russia and the Russians in the unpublished works of Sergej Uvarov: a
comment on the Russian national ideology in the age of Nicolas I.
My presentation deals with a particular period of Russian history – the reign of Nicholas I
(1826-1855). Why this period? Because starting with the reign of Nicholas the Russian official
national ideology emerged and new problems were posed. The creation of official nationalism in
Russia immediately after the Decembrist rebellion of 1825 changed the cultural and political
framework of Russian society. The public space where Russian history, Russian idea, so defined,
or Russian nationalism could be discussed was changed as well.
I also have to define more precisely what I mean by “nationalism”. I use the distinction
between “patriotism” and “nationalism” drawn by David Bell in his recent monograph “The cult
of the nation in France”. According to Bell’s definition, “patriotism” is, quoted, “an emotional
attachment to a place thought as a “home”, and more specifically… to that territorial entity
whose rulers possess final coercive authority over the persons living within it”. From my point of
view, this emotional attachment could be also reinforced by rational elements, for example, by
the consciousness of a common past without obtaining any political dimension. On the contrary,
nationalism is “a program to build a sovereign political community grouping together people
who have enough in common – whether language, customs, beliefs, traditions, or some
combination of these – to allow them to act as a homogeneous, collective person”.
My research is focused on the unpublished works of Sergej Uvarov, one of the most
important ideologists of Nicolas I’ reign. First of all, I examine his wide study called “Etude sur
la Russie” (1829) where he analyzed Russian political order, economy, social and cultural sphere
in the comparison with the contemporary European (first of all French) situation. In particular I
put an emphasis on Uvarov’s definition of Russian exclusiveness, on the criterias of
“Russianness” and “Europeanness”, and on the basis for the construction of the theory of
Russian national identity.
21.
Vitaly Volk / Виталий Волк (МГУ, Москва)
АДЪЕКТИВНЫЕ ДЕРИВАТЫ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мой доклад будет посвящен так называемым адъективным дериватам
притяжательных местоимений в русском языке и их специфической роли в русской
социолингвистической картине мира.
Адъективными дериватами я называю лексемы, образованные от притяжательных
местоимений с помощью адъективных суффиксов – то есть лексемы евойный, нашенский,
ихний и подобные.
Следует сразу заметить, что сама по себе идея адъективации притяжательных
местоимений для славянских языков достаточно типична. Так, например, известно, что
18
старославянские формы притяжательных местоимений 1 и 2 лица множественного числа
(нашь и вашь) представляют собой формы родительного падежа соответствующих личных
местоимений с присоединенным адъективным суффиксом –ь ([Вайан 2002]). Известно
также, что в современных южнославянских языках все притяжательные местоимения 3
лица являются результатом адъективации родительного падежа личных местоимений
старославянского языка. Например, в болгарском языке притяжательные местоимения 3
лица мужского и женского рода имеют вид негов и неин соответственно. Таким образом,
сам способ образования адъективных дериватов с точки зрения славянской картины в
целом не представляет собой чего-то необычного. Однако их место в
социолингвистической картине мира примечательно.
В первую очередь, примечателен их промежуточный статус. С одной стороны,
прямой опрос носителей современного русского литературного языка показывает, что
адъективные дериваты воспринимаются носителями как внелитературные([Волк 2009]). С
другой – они регулярно встречаются в литературных русских текстах. Причина этого
состоит в том, что адъективные дериваты воспринимаются как особые «маркеры
просторечья». Авторы сознательно вставляют их в прямую речь персонажей,
социолингвистический статус которых они хотят охарактеризовать как просторечный. Вот
несколько примеров:
(1) ― Барин, ― сказала она, плача... ― Напишите евойному начальнику, чтоб он
женился... Два года, подлец, обещал... забрал более тридцати рублей, окромя
подарков, а теперь бьет и просит еще двадцать рублей. [К. М. Станюкович.
Петербургские карьеры/ Агафья (1880)]
(2) На мой прямой вопрос о том, чем его привлекает скучный Мельников, Пескарев
ответил, что уважает Печерского за "евонную обстоятельность и спокой".
"Евонную" и "спокой" Елпидифор употреблял намеренно, умея говорить правильно
и чисто. [Виктор Конецкий. Начало конца комедии (1978)]
(3) Владислава с ее овощными рагу и тушеным мясом! Владислава с ее
малороссийским выговором и вечным поминанием "ихних и ейных"! "Мне о-очень,
о-очень понравилось ейное платье!" [Татьяна Устинова. Подруга особого
назначения (2003)]
Довольно ясно, что просторечная речь в текстах писателей представляет собой не
копию настоящей просторечной речи реальных людей, а конструкт, создаваемый из тех
черт просторечия, которые бросились писателю в глаза (то же, конечно, верно и по
отношению к любым другим носителям литературного языка). Адъективные дериваты
оказываются в числе таких черт регулярно, и находят себе в этом качестве дорогу в
литературные тексты.
Сразу следует обратить внимание и на вторую примечательную черту адъективных
дериватов. А именно, «просторечность» свойственна разным дериватам в разной степени,
и притом меняется в зависимости от времени, для разных дериватов по-разному.
Наименее просторечным из них оказывается дериват 3 лица множественного числа
«ихний», который еще в середине 19 века – а в 18 веке и ранее адъективные дериваты в их
современном виде практически не зафиксированы – употребляется в текстах на
19
литературном языке не в прямой речи (хотя до сих пор литературного статуса он не
приобрел; тем не менее, некоторые носители и до сих пор отличают его от других,
признавая «более литературным»([Волк 2009]).
(4) Черкесы были совершенно опрокинуты и многие из них убиты, одно ихнее тело
осталось у нас, 1-я мушкетерская, бывшая впереди, пришла на помощь немного
позже по случаю крутого подъема на гору. [Н. В. Симановский. Дневник 2 апреля
– 3 октября 1837 г., Кавказ (1837) // "Звезда", 1999]
(5) Петров уверял, что меня пустят на одно из первых мест, как бы ни был набит
битком театр, на том основании, что я, как богаче других, вероятно, и больше
дам, а к тому же и толку больше ихнего знаю. [Ф. М. Достоевский. Записки из
мертвого дома (1862)]
Напротив, наиболее просторечными оказываются дериваты 3 лица единственного
числа мужского рода (наиболее распространенные из них – «евонный» и «евойный», но
встречается еще около десятка менее распространенных), до сих пор не употребляемые
вне прямой речи. Прочие дериваты располагаются между этими крайностями, в основном
начиная проникать в литературные тексты в районе границы 60х – 70х годов XX века. Это
различие тем более замечательно, что замена старых местоимений адъективными
дериватами в южнославянских языках происходила, насколько мне известно, практически
одновременно для всех клеток парадигмы – в XIII–XIV веке, в зависимости от языка
([Мирчев 1978],[Конески 1981] и др.).
Итак, с одной стороны, адъективные дериваты проникают в литературные тексты
«с заднего хода» – как одна из ярких черт имитируемого просторечья, а с другой –
постепенно попадают и в сам литературный язык, причем скорость этого проникновения
для разных дериватов разная. В контексте исследования феномена «русскости»
адъективные дериваты показывают, как соотносятся между собой реальный язык
просторечия и «конструкт русскости», создаваемый на его основе писателями.
При этом важно понимать, что просторечный статус адъективных дериватов не
определяется их деривационной историей как таковой. В этом позволяет убедиться как
ситуация других славянских языков, в которых адъективные дериваты стали регулярной
литературной формой, так и история русского языка. А именно, до появления в текстах
адъективных дериватов в их современном виде (около конца XVIII века), адъектвные
дериваты совершенно другого вида уже появлялись в русских текстах в другой период. В
XV–XVI веках зафиксировано местоимение iегов, условия употребления которого
совершенно отличны от современных русских адъективных дериватов. Оно употребляется
практически исключительно в церковных текстах и, по-видимому, его появление является
результатом второго южнославянского влияния. Таким образом, в принципе, русский язык
допускает и другие формы сосуществования адъективных дериватов и обычных
притяжательных местоимений. Их оппозиция в 19 веке определялась реальным
соотношением форм говоров и форм литературного языка, а сейчас определяется
традицией.
В докладе я планирую также рассмотреть некоторые смежные темы – статус
адъективных дериватов в современных городских диалектах России, свойства отдельных
классов адъективных дериватов и причины их появления и некоторые другие.
20