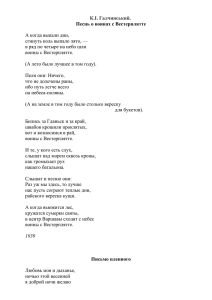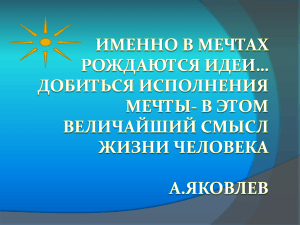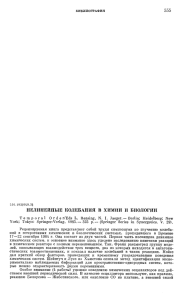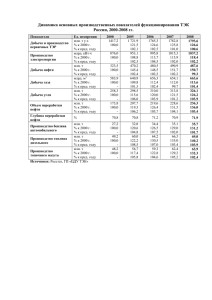С. Гудзенко
реклама
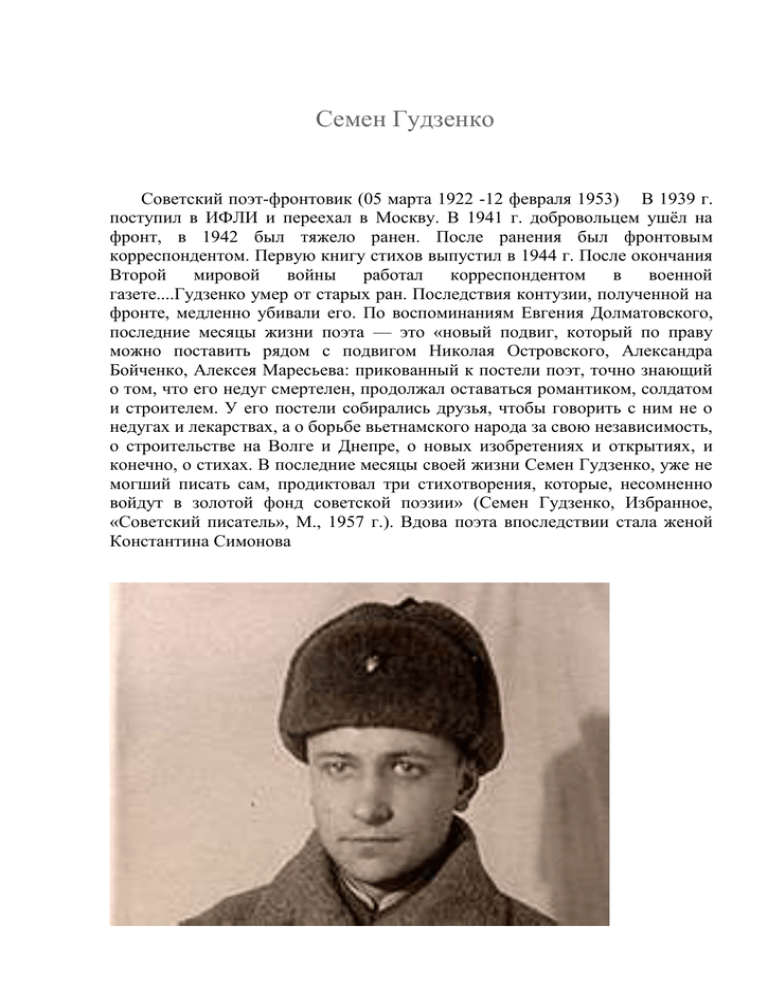
Семен Гудзенко Советский поэт-фронтовик (05 марта 1922 -12 февраля 1953) В 1939 г. поступил в ИФЛИ и переехал в Москву. В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт, в 1942 был тяжело ранен. После ранения был фронтовым корреспондентом. Первую книгу стихов выпустил в 1944 г. После окончания Второй мировой войны работал корреспондентом в военной газете....Гудзенко умер от старых ран. Последствия контузии, полученной на фронте, медленно убивали его. По воспоминаниям Евгения Долматовского, последние месяцы жизни поэта — это «новый подвиг, который по праву можно поставить рядом с подвигом Николая Островского, Александра Бойченко, Алексея Маресьева: прикованный к постели поэт, точно знающий о том, что его недуг смертелен, продолжал оставаться романтиком, солдатом и строителем. У его постели собирались друзья, чтобы говорить с ним не о недугах и лекарствах, а о борьбе вьетнамского народа за свою независимость, о строительстве на Волге и Днепре, о новых изобретениях и открытиях, и конечно, о стихах. В последние месяцы своей жизни Семен Гудзенко, уже не могший писать сам, продиктовал три стихотворения, которые, несомненно войдут в золотой фонд советской поэзии» (Семен Гудзенко, Избранное, «Советский писатель», М., 1957 г.). Вдова поэта впоследствии стала женой Константина Симонова МОЕ ПОКОЛЕНИЕ Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали... Проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордится сыны. Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется? Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен? Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется,у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Кто вернется - долюбит? Нет! Сердца на это не хватит, и не надо погибшим, чтоб живые любили за них. Нет мужчины в семье - нет детей, нет хозяина в хате. Разве горю такому помогут рыданья живых? Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. ...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. А когда мы вернемся,- а мы возвратимся с победой, все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы,пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду, чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы. Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям, матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя. Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя. 1945 Семен Гудзенко, Константин Симонов и их фронтовые друзья *** Мы не от старости умрем,от старых ран умрем, так разливай по кружкам ром, трофейный рыжий ром! В нем горечь, хмель и аромат заморской стороны. Его принес сюда солдат, вернувшийся с войны. Он видел столько городов! Старинных городов! Он рассказать о них готов. И даже спеть готов. Так почему же он молчит?.. Четвертый час молчит. То пальцем по столу стучит, то сапогом стучит. А у него желанье есть. Оно понятно вам? Он хочет знать, что было здесь, когда мы были там... 1946 АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ МОЕ ПОКОЛЕНИЕ Очерк На ступенях магазин «Молодежный» сидел солдат-афганец, без ноги. Перед ним лежала газета, на которую прохожие изредка бросали монеты, тут же водка и хлеб. Лицо его краснело, но не от стыда. Рядом стоял невзрачный человек с непокрытой головой, в потраченном молью пальто, с блокнотиком. «Это мой командир», - кивнул мне на него афганец, когда я подошел. Командир читал вслух собственные стихи о войне, пытаясь привлечь публику. Некоторые останавливались на минуту, давали деньги, да молча отходили. Стихи были плохие. Поэт то слишком увлекался темой, отчего рифма совсем пропадала, а повествование получалось сбивчивым, сумбурным, то наоборот вдруг ловил какую-то рифму и простенький размер, и расходился до самозабвения, как частушечник. Когда возникла небольшая пауза, и афганец принялся разливать в пластмассовые стаканчики водку, я, неожиданно для себя, спросил, не хотят ли они послушать стихи Семена Гудзенко, и начал негромко: Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. Я читал все отчетливее, постепенно отдаваясь могучему потоку слова, то с наслаждением взлетая на гребне размера, то, с бесстрашием проваливаясь в пучину исповеди солдата, чтобы снова подняться. Слово «вернемся» воин-поэт повторяет, как заклинание: «А когда мы вернемся…», « когда мы вернемся, - а мы возвратимся с победой…» Вижу по-детски восторженные глаза афганца; вижу, людей собирается вокруг много, как на скандал. Может, это и есть мой катарсис? Почему именно здесь, на улице, при всем честном народе я дотронулся до себя и вдруг взорвался? Почему сейчас, когда все поздно менять, увидел, как велика взрывоопасная сила того дела, которым занимался так неосторожно, бестрепетно. Смешно сознавать, что сейчас я в тысячу раз больше имею отношение к литературе, чем, когда просиживал штаны в редакции, выхолощенный, и уже никакой не писатель, обезвоженный интригами, как футболист после двух дополнительных таймов. Во мне вдруг закипала злость на газетку с милостыней, хлебом и водкой, на безразличных прохожих, на то, что солдат Гудзенко молодым умер от ран. За то что у нас весь город переполнен язвами и смрадом погибших людей, - имперским смрадом, а беспризорников больше, чем после войны. И казахи, и узбеки, не только русские. Людей скапливалось все больше, а слова выходили из меня уже свободно без усилий, сами по себе, я даже мог теперь оглядеться по сторонам: И твои костыли, и смертельная рана сквозная, И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, – это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты… Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты… Когда я закончил, после последнего отчаянного «вернемся», на словах «… и ремесла найдем для себя», у афганца задрожали плечи, он опустил голову и весь напрягся. Комбат сразу как-то отрешенно стал смотреть по сторонам и вздыхать. Люди тотчас разошлись, мелочи немного прибавилось, а трое выступавших сразу стали опять незаметны. Зря я все это сделал, подумалось, опять влез не в свое дело. Может, правы они, бегущие с каменными лицами вверх и вниз по лесенке, выносливее что ли? Афганец посмотрел на меня почему-то виновато. Что он сейчас скажет? «Ты мне запиши это, пожалуйста». Он достал блокнот, ручку, но я не стал писать, сказал, что это слишком длинное стихотворение, почти поэма, лучше я отксерокопирую его с книги и принесу завтра, живу в соседнем доме. На том и порешили. На следующий день этих двоих на месте не было, и на другой тоже. Так они и лежат у меня эти отксерокопированные листочки, вложенные в книгу Семена Гудзенко. Теперь я сожалею, что не переписал прямо там, на ступенях, времени пожалел, хотя его навалом, так и надо было сделать.