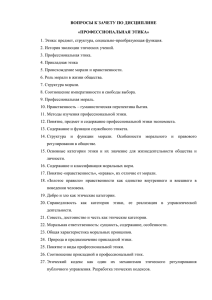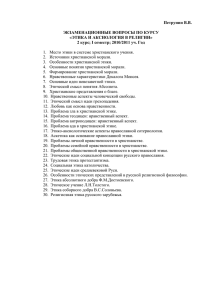ЭТИКА КАК НАУКА
реклама

ЭТИКА КАК НАУКА А. Ф. Лосев «Человек» — 1995 № 2 I Целью настоящей статьи является рассмотрение понятия этики как научной дисциплины и исследование тех принципов, на основании которых можно было бы судить о возможностях такой науки. С первых же шагов в отыскании этих принципов мы поставлены в необходимость дать ясную и определенную формулировку таких сложных понятий, как «наука», «этика», «нравственность» и т. д. Из всех областей человеческого знания как раз философия имеет в наибольшей степени эту печальную привилегию — вносить невообразимую разноголосицу в содержания понятий, с которыми оперируют различные ученые. Кажется, можно было бы писать целые сочинения по истории таких терминов, как например «философия». Поэтому мы не будем ничего выводить из понятий «этика» и «наука», пока не определим этих понятий и не узнаем из анализа их содержания о возможности подчинения первого второму. Решивши вопрос, что такое наука, и отыскавши то, чем и как должна заниматься этика, мы сравним результаты наших исследований, и только тогда произнесем окончательный приговор относительно научности нравственной философии. Найти какоенибудь одно определение этики, подходящее ко всем моралистам, едва ли представляется целесообразной попыткой, а потому наше заключение о научности этики, как это, впрочем, и было в идеале у каждого философа, может быть верным только при нашем же понимании науки и только при нашем понимании нравственной философии. Имея это в виду, попробуем начать с определения науки. Итак, что тако наука? Прежде всего то, из чего составляется наука, есть акт нашего мышления, результат познавательной способности. Но так как подобное широкое определение, конечно, требует весьма значительных ограничений, то мы зададим себе такой вопрос: что такое само наше знание и каковы вообще его виды? Я думаю, со мной согласится каждый, если я скажу, что знание есть результат нашего самонаблюдения. Что бы мы ни воспринимали, откуда бы ни шло наше познание, но предметом наших размышлений, знанием, оно может сделаться только тогда, когда оно вошло в наш внутренний мир, когда оно сделалось нашей собственностью. Об этом не может быть никакого спора, потому что здесь я даю знанию только тавтологическое определение. Теперь вообразим себе дикаря, наблюдающего ежедневно какое-нибудь явление природы, например смену дня и ночи, и ученого, также наблюдающего то же самое явление. И у дикаря, руководствующегося только своими мифическими представлениями, и у культурного человека, приступающего к изучению внешнего мира во всеоружии своей науки, вырабатывается знание об известном факте, но какая разница между этими двумя знаниями и существует ли она вообще? Без решения этого вопроса мы не можем идти дальше, так как для нас необходимо выяснить сейчас же различие между научным и ненаучным отношением к наблюдаемым явлениям. Между знанием дикаря и знанием ученого существует то сходство, что как и первый, так и второй уверены в объективности своих построений. Но уже в этой уверенности мы сейчас же видим и пункты различия между знанием того и другого. Дикарь верит потому, что он не знает, можно ли думать как-нибудь иначе, чем думает он; он даже не задает себе подобных вопросов. Ученый же верит потому, что знает о возможности иных построений, чем те, которые выработались у него. Отсюда первый основной признак научного отношения к мыслимым объектам — критицизм знания, точное исследование причин явления, сущности его и последствий в противоположность догматизму в сознании первобытного человека, принимающего построения своего ума так, как они сами возникают, без критической их проверки, или в лучшем случае с обращением внимания только на самые процессы и предметы, а не на их причины и результаты. Однако критика не может ограничиваться только установлением логической связи между изучаемыми явлениями внешнего и внутреннего мира, или, короче говоря, логикой самонаблюдения. Наука стремится познать истину, которую еще Аристотель определил как соответствие действительности. Значит, соединяя найденные признаки научного отношения к данным самонаблюдения, мы можем сказать, что наука есть критическое исследование данных самопознания, устанавливающее соответствие мыслимых построений объективной реальности вещей. Но здесь вполне уместен вопрос: где же тот критерий истинности наших суждений, т. е. степени соответствия их действительности? На основании чего мы, в самом деле, говорим, что данный физический закон соответствует действительности? Ведь дикарь тоже уверен, что в мире все совершается точно так, как об этом он сам думает. Вопросы эти касаются исключительных по своей важности предметов и представляют громадные трудности для их разрешения. Но некоторые вехи для попыток установления искомого нами критерия и мы можем наметить. Прежде всего, должно стать очевидным каждому, что этого критерия нельзя искать во всей сумме нашего познания изучаемых объектов, т. е. нельзя судить о будущем или даже об истинности в настоящем на основании того, что мы вообще знаем о мире. Попробуйте разубедить человека, отвергающего постоянство так называемых точных законов естествознания и проповедующего, что через 100 лет эти законы перестанут существовать,—ваша попытка не удастся. Равным образом, вы не сможете доказать и того, что закон о равенстве углов падения и отражения лучей существует на самом деле, т. е. присущ самим вещам, а не только нашему уму. Ведь может же быть, что все законы природы — только продукт нашего ума, который иначе и не может воспринимать и усваивать объекты, как только в их закономерной связи. Таким образом, и факты внутреннего опыта и данные внешнего познания одинаково составляют предмет нашей уверенности в своем бытии, не имея совершенно никакого рационального доказательства своей реальности, обязательного для всех. Разумеется, вопрос о критерии истины этим не решается, ибо здесь совершенно уместен вопрос: а где же критерий этой уверенности? Размышляя над этим последним вопросом, мы приходим к заключению, что раз факт сомнения в объективной реальности наших построений налицо, то вследствие этого такое же сомнение должно быть и по поводу истинности критерия вне нас, т. е. того критерия, который ищет опоры в самих вещах и явлениях. Но если критерий не вне нас, то он должен быть в нас, так как все, что существует, есть или наше «я» или «нея». Со слов «В начале XIX века» до слов «подвергся существенным изменениям» отрывок взят в скобки и перечеркнут карандашом 1 Итак, предположим, что критерий истины в нас. В этом случае мы должны принять одно из следующих условий: или 1) критерий истины есть сумма всего нашего знания о существующем, или, точнее говоря, о мыслимом, он есть содержание нашего интеллекта; или 2) критерий истины есть система принципов знания (в противоположность содержанию знания), которые или врождены нам или появились в качестве конечной формы обобщений данных нашего самонаблюдения; или, наконец, 3) критерий истины есть непосредственное чувство истины, развивающееся параллельно с накоплением знания и требующее для своей эволюции того критицизма, который мы сочли нужным приписать научному знанию. Относительно первого условия сказано выше; содержание нашего интеллекта, меняющееся самым коренным образом по мере развития научных знаний, меньше всего может служить критерием истины, тем более, что и элементы этого содержания тоже не имеют за собой общезначимого обоснования. Возьмем второе условие, определяющее критерий истины как систему принципов нашего знания, а не содержания. Прежде всего, как понимать эту систему? Если мы будем здесь иметь в виду общие законы логического мышления, то исключительно формальный характер этих законов делает возможным и применение их, например, в мифическом представлении, т. е. там, где соответствие мысли действительности может и не преследоваться. Ведь можно создать миф, который будет вполне логичен в своем построении, но который не будет иметь никакой реальной связи с объективным бытием. А мы ведь ищем критерий именно признания реальности за мыслимой вещью. Но положим, что система принципов знания — наш второй критерий — будет не только совокупность логических законов, но и сумма тех законов, которые мы вывели из продолжительного наблюдения какого-нибудь явления. Однако и здесь, не говоря уже о том, что эти законы могут быть построениями нашего ума и только построениями, на основании этого критерия нельзя судить о достоверности вновь познаваемых фактов действительности. (В начале XIX века де-Кастеле на основании своих опытов пришел к выводу, что для появления некоторых живых существ (например иглокожих) иногда необходимо участие только одного женского начала. Такой же ученый представитель точной науки Реомюр назвал этот эмпирически найденный закон абсурдом. Открытие радия и установление сложности тех веществ, которые раньше считались в химии простыми элементами, коренным образом переменило наше научное представление о мире. Здесь, значит, и самый критерий истинности подвергся существенным изменениям.)1. Остается третий критерий, который я обозначил как непосредственное чувство истины, возникающее путем самой медленной эволюции и зависящее от того, что, как и сколько мы знаем о существующем. Здесь нужны большие оговорки и ограничения. Во-первых, я усиленно подчеркиваю ту особенность этого критерия, которую можно было бы назвать взаимной проницаемостью с другими переживаниями человека, в особенности с его чувствами. Поясню это такими словами Мальбранша; «Если бы признание формул квадрата гипотенузы или бинома Ньютона было соединено с какой-нибудь нравственной обязанностью, то и математика бы сделалась предметом сомнений». Я думаю, едва ли кто, положа руку на сердце, не признается в том, что трудность оставления дурных привычек есть один из главнейших факторов нашего сомнения в тех умозрительных истинах, которые многим кажутся самоочевидными. Разумеется, это не мешает тому, чтобы существовали и такие чувства, которые бы давали нашему критерию и существенную помощь. Во-вторых, этот критерий ни в каком случае не может считаться чем-нибудь вполне сформировавшимся, вполне определенным и установившимся. Он не есть вещь, предмет, закон; он — явление, становление, процесс. Постоянно в нем лишь то, что он обладает достоверным (хотя бы только и субъективным) бытием, ибо прежде всего так или иначе познается нами, переживается во внутреннем опыте, а затем он есть гораздо больше чувство, чем знание, и как таковой переживается несравненно интенсивней. Мы не будем настолько близоруки, чтобы верить в существование этого критерия истины в каждом человеке. Как о человеческой воле нельзя сказать, что она всегда свободна или что она всегда подчинена необходимости, и можно только утверждать, что с психологической точки зрения она управляется определенными и необходимыми законами, а например, с этической может иногда достигнуть полнейшей свободы, т. е. управляться сама собою, так и в рассуждениях о критерии истины, который мы принимаем в смысле внутреннего чувства, мы должны занять позицию эволюционного взгляда на предмет. Весьма вероятно, что мельчайшие зародыши этого внутреннего чувства истины, как и элементы нравственного чувства, заложены в нас изначала, так как выведение того и другого чувства из чуждых и не связанных непосредственно с ними переживаний всегда встречало на своем пути значительные трудности и давало малоосновательные результаты. Но в данном случае для нас неважно, как произошел критерий истины, понимаемый в смысле чувства, ибо нас тут интересуют вопросы только чисто методологического характера. Мы должны только согласиться, что этот критерий налицо и что он эволюционирует. Дальнейшие же выводы ... последуют сами. Наконец, существенная черта этого критерия истины заключается в отсутствии в нем исключительности, в его способности находить себе поддержку (и поддержку довольно осязательную) в тех условиях, о которых мы говорили при обсуждении возможности критерия в нас самих. Внутреннее чувство истины не обладает исключительностью, или лучше сказать, избегает исключительности, которая бы не позволяла ему выходить из его собственных рамок и искать вне себя еще иных подтверждений. Внутреннее чувство истины черпает себе вящие силы и из содержания нашего интеллекта и из системы принципов знания, если оно может допустить эти заимствования при всех особенностях своей природы. Чтобы закончить о критерии истины, я должен еще немного задержать на нем ваше внимание, именно с целью высказать некоторые более общие мысли.— Сказанное мною об особенностях этого критерия должно сделать очевидной ту истину, что о соответствии наших построений объективной реальности мы судим на основании степени соответствия этих построений какому-то внутреннему туманному предчувствию истины. Найденные нами законы в физике и химии устанавливают гармонию мысли, касающейся известной области действительности. И мы верим в их реальность до такой степени, что даже забываем о том, что и они зиждутся на вере, и торжественно заявляем: это — истинное знание, а что вне этого — то произвольная вера. Однако такие утверждения рушатся сами собою, как только открывается новый закон, ограничивающий какой-нибудь найденный раньше принцип или вовсе обнаруживающий ложность последнего. Аксиомы математики тоже есть совершенная гармония мысли, и вот они непоколебимы. Мы верим в них, хотя они и недоказуемы. В результате наших обобщений мы могли бы сказать следующее: 1. Мы познаем мир внутреннего и внешнего опыта сквозь призму особенностей нашего познающего субъекта, и о соответствии наших построений объективному ходу вещей мы судим на основании большей или меньшей гармонии мысли и внутреннего предчувствия истины. 2. Мир и человеческое «я» есть один мировой процесс, бесконечно эволюционирующий. Человек — та часть этого процесса, которая познает самого себя. 3. Так как человек — часть мирового процесса, то он — носитель законов этого процесса. Так как он существо с самопознающей душой, то он еще и сознает эти законы. Так как, наконец, мысли и весь человек невозможны без эволюции, ибо жизнь есть движение, а где абсолютный покой — в неорганической природе, в растении, в животном, в человеческом чувстве, в мысли — там смерть, то познание этих законов мирового процесса совершается постепенно, путем медленной эволюции в самопознании. 4. Наука — это и есть самонаблюдение, постепенно эволюционирующее самопознание, под которое мы и подводим данные внешнего и внутреннего опыта. 5. Для науки нужен критерий истины. Он открывается по мере того, как мы вслушиваемся в ту гармонию и научаемся примирять наши научные построения с той гармонией, которая очевидно существует и в нас и вне нас. 6. Наше знание — это нечто совершенно иное, чем вера. Но оно может быть только результатом веры. Если же вера имеет этот характер самостоятельности и непроизвольности, то мы вполне вправе назвать наш основной критерий внутренним чувством истины. Раньше я дал определение науки как критического исследования данных самопознания, устанавливающего соответствие мыслимых построений объективной реальности вещей. Теперь очевидно, что в этой формуле нужно отбросить и заменить другим тот ее член, который касается «соответствия объективной реальности вещей», так как рационального доказательства этого соответствия мы дать не можем. И, прибавляя еще один член, именно член систематичности знания, без которой, конечно, наука тоже невозможна, я дал бы такое определение науке: Наука есть критически-систематическое исследование данных самопознания, относимых нами к внутреннему и внешнему миру, действующее на основании внутреннего чувства истины, которое открывается по степени духовного, главным же образом, умственного и морального, развития. В этой формуле сохранен и член эволюционности научных знаний, и член, указывающий на фактор этой эволюции (степень общего духовного развития), могущий быть поэтому и прогрессом, и регрессом. Я согласен, что в моей формуле критерий истинности научных суждений может показаться неясным и расплывчатым. В самом деле, вам говорят о каком-то внутреннем чувстве истины! Не правда ли, это очень странно — строить науку на каком-то чувстве?— Но ведь вы же согласитесь с тем, что если не при современном положении науки, то уж во всяком случае в ее историческом развитии о различных предметах так называемых точных наук имелись взгляды диаметрально противоположных характеров. А ведь это и значит, что самый критерий истины был неясен и расплывчат. Как же я могу давать точную и как 2х2=4 определенную формулу для критерия истины, если я не знаю, что будет ли наука через 200-300 лет изучать те же предметы и те же области знания, что и теперь, и останется ли этот критерий до тех пор неизменным? Исторический опыт учит нас быть осторожными, и я удовлетворяюсь только самым общим определением науки, которое будет пригодно для всякой стадии ее развития и притом для всех видов научного знания. Индукция через простое перечисление, в котором не встречается противоречащих случаев (лат.),— один из логических законов. Inductio — наведение, в широком смысле слова форма мышления, посредством которой мысль наводится на какое-либо общее правило, присущее всем единичным предметам какого-либо класса. 2 Уже из самого определения науки вытекает то, какими методами должна пользоваться она для достижения своих целей. Существует один критерий истины, этим критерием пользуется наука. Но критерий этот может быть при двух различных методах исследования, индуктивном и дедуктивном. Поэтому всякая наука (сознательно ли это происходит для ее представителей или бессознательно) пользуется как индукцией, так и дедукцией. Научное исследование начинается обыкновенно с частичного изучения отдельных фактов действительности, идет через связывание одной идеи с другой для отыскания закономерной связи между явлениями и кончается выработкой системы знания об изучаемых фактах. Когда мы изучаем каждое явление в отдельности и не задаемся больше никакими целями, то у нас не будет науки в настоящем смысле, так как наука есть прежде всего критика и система. А потому здесь не будет ни индукции, ни дедукции. Если же мы захотим воспользоваться индуктивным методом, то нам вместе с тем нужно будет и взять нечто из дедукции. Именно, уже тот мыслит дедуктивно, кто ищет закономерности в изучаемых явлениях. В .самом деле, когда химик приступает к изучению свойств известного состава, то не пользуется ли он предвзятой мыслью, что здесь должны действовать какие-то законы, подобные тем, которые он наблюдал в другой раз? А ведь в его распоряжении всего-навсего inductio per enumerationem ubi non reperitur instantia contradictoria 2, т. е. индуктивный закон, верный до первого противоречащего случая. Но дедуктивный метод исследования помогает ученому и в других случаях. Уже из элементарных учебников логики вы знаете роль дедукции при открытии законов природы. Поэтому я не буду много говорить о значении дедукции для индукции и вообще для научного исследования. Скажу только, что как индукция не существует без дедукции, так и один дедуктивный метод не может дать реальных результатов без индукции. Вернее было бы сказать, что существует один метод исследования и что он может проявляться в двух видах в зависимости от изучаемого объекта и от тех или других условий познающего субъекта. Чистая индукция слишком громоздка, беспорядочна во всей своей массе сырых фактов; каждая минута грозит ее идее противоречащим случаем, или в лучшем случае она просто безыдейна. Чистая дедукция — малосодержательна, она без плоти и крови реальной жизни, ей нужна индуктивная проверка. Теперь мы можем дать уже окончательную формулу определения науки: Наука есть критически-систематическое исследование данных самопознания, относимых нами к внутреннему и внешнему миру, действующее на основании внутреннего чувства истины, которое открывается индуктивно-дедуктивным путем по степени духовного, главным образом, умственного и морального, развития. II Что теперь скажем мы о научности этики? Согласимся ли мы с теми, которые не признают за моральной философией никакого научного значения, или, наоборот, последуем за теми, которые оперируют с материалом этики как с предметом вполне достойным научного исследования? 3 Со слов «Здесь не входит в мои планы» до слов «Такие люди» отрывок взят в скобки и перечеркнут карандашом. Одна сторона этого вопроса выяснена. Анализируя понятие науки, я, как вы видели, не мог. найти в нем тех элементов, которые бы делали ее положения рационально доказуемыми. Очевидно, что колоссальный предрассудок целых веков,— что наука есть знание и только знание. (Здесь не входит в мои планы говорить о причинах особенной живучести этого. предрассудка. Но если бы меня спросили о них, то я указал бы их несколько, а в числе главнейших упомянул бы ту, которая состоит в соответствии научных изобретений более насущным, более близким и, надо договорить, более низким потребностям человека. В самом деле, признание иной метафизической точки зрения принуждало бы, пожалуй, к исполнению известных нравственных обязанностей. Понятно, что кому до нравственно-доброй жизни мало дела или кто не имеет сил расстаться с прежней, не всегда, быть может, хорошей жизнью, тому для последовательности в мыслях надо отрицать всякую метафизику, которая якобы живет верой, и признавать одну науку, для которой якобы нужен только разум. Такие люди) 3 Слепые приверженцы позитивной науки обыкновенно наивно закрывают глаза перед той истиной, что отрицание одной метафизики есть в то же время исповедание веры в другую метафизику. Вот почему в формуле определения науки я употребил слово «моральный». Поистине прав Соломон: «в злохудожну душу не внидет премудрость». Итак, наука радушно открывает двери к себе всякой дисциплине, желающей и могущей повиноваться ее началам. Теперь и посмотрим, желает ли этика и может ли она стать наукой. Как и везде, точное определение понятий имеет здесь решающее значение. Что же такое этика? Я пока буду намеренно избегать употребления слова «нравственность». Понятие нравственности — одно из самых неопределенных, и моя статья, преследующая методологические цели, не должна входить в разрешение тех вопросов, которые решаются самой наукой. Поэтому мы возьмем понятие не «нравственность», а просто «человеческая деятельность». Этика, значит, есть (не скажем пока: наука) учение о человеческой деятельности. Если две части этого равенства, как мы утверждаем, совершенно равны, то для подобного разделеия этики на отдельные дисциплины нужно анализировать понятие человеческой деятельности. Человеческая деятельность составляется из отдельных поступков. Возьмем один такой поступок и будем его изучать. Прежде всего, с точки зрения этики возникает вопрос: можно ли данный поступок считать подлежащим изучению этикой? Разорвать никому не нужный клочок бумаги или присвоить себе кусок камня, который лежит на улице,— это не значит совершить поступок, который можно оценивать с моральной точки зрения. Разорвать же вексель, из-за которого какая-нибудь бедная вдова, бравшая у вас деньги, должна сидеть в тюрьме, или поднять на улице какой-нибудь драгоценный камень, принадлежащий чужому лицу, и присвоить его себе — это уже нечто иное. Главнейший и самый первый вопрос этики поэтому состоит в определении границы доброго и злого, в определении того, что нравственно и что безнравственно. А так как анализом одного частного случая здесь удовлетвориться нельзя, то первый вопрос этики мы можем формулировать как учение о добре и зле в мире и человеке. Исследователь может, конечно, прийти к тому выводу, что ни добра ни зла нет в человеке, что существует только человеческая деятельность, в которой добро и зло являются не больше, как разными сторонами одного и того же явления. Это во всяком случае требует доказательства, т. е. разработки учения о добре и зле, а потому эта часть этики должна существовать независимо от того или иного взгляда на ее предмет. Найдя границу, отделяющую добро от зла, мы должны далее отдельно изучать как первое, так и второе, порознь и во взаимоотношении. Мы увидим тогда, что учение о добре и зле неизбежно придет к вопросам о 1) их сущности, или говоря менее обще, о современной их сущности, о 2) происхождении добра и зла и, наконец, о 3) судьбах их. С другой стороны, найдя границу между добром и злом, т. е. найдя минимум добра, мы уже по одному тому, что нашли добро, должны определить и его максимум. Получается проблема высшего блага. Это все вопросы, относящиеся к проблеме добра и зла. Мне кажется, что вам очевидна та общая особенность этой проблемы, которую можно было бы назвать отрешенностью. В самом деле. Мы брали исходным пунктом эмпирически познанный человеческий поступок. Но значение эмпирии этим и закончилось. Как в вопросах о сущности, происхождении и судьбах добра и зла, так и в проблеме высшего блага мы стоим на чисто умозрительной точке зрения. Здесь наше знание конструируется уже на почве неэмпирического исследования нравственных проблем, и наши утверждения не должны считаться здесь с реальной жизнью, если не принимать во внимание первоначальной исходное(tm) исследуемого нами предмета из опыта. Но есть еще один вопрос, который нужно отнести к той же части этики, к которой относится учение о добре и зле. Ведь до сих пор речь шла о предметах чисто умозрительных, как будто даже оторванных от постоянной жизни. Но получивши формулу высшего блага, мы задаемся целями его реального осуществления, и прежде чем говорить о средствах этого осуществления, мы, естественно, исследуем возможности применения формулы в жизни. Возникает проблема свободы воли. Учение о сверхчувственном мире вообще называется метафизикой. Да будет позволено мне назвать все упомянутые мною до сих пор этические дисциплины метафизикой нравственности, хотя проблема свободы воли и совмещает в себе элементы рационального и эмпирического познания действительности. Итак, вот схема первого отдела этики: I. МЕТАФИЗИКА НРАВСТВЕННОСТИ. А. УЧЕНИЕ О ДОБРЕ И ЗЛЕ. а. Проблема о добре и зле в мире и чеовеке. 4 1. Сущность, 2. Происхождение и 3. Судьбы добра и зла. б. Высшее благо. В. УЧЕНИЕ О СВОБОДЕ ВОЛИ. Очевидно, пропущено слово «отдел». В метафизике нравственности мы, таким образом, 1) решаем вопрос о добре и зле, чтобы иметь критерий для оценки нравственных поступков, и 2) определяем возможность применения этого критерия в человеческих поступках. Если мы в результате наших исследований метафизики нравственности придем к отрицанию принципиального различия между добром и злом или к признанию абсолютной невозможности поступать свободно, то дальше нам в этике делать нечего. Этика будет окончена, так как все вопросы, которые могут возникнуть вне метафизики нравственности, разберут по рукам история, социология и психология. Если же мы придем к этическому дуализму, если будем различать добро и зло, но не признаем человека в силах осуществить хоть минимум добра, то у нас остается еще один большой (?) 4 этики, именно ее психологическая часть. Если же наряду с признанием добра и зла мы убедимся и в возможности для человека достижения идеалов, то у нас, кроме этих двух частей, появится третья — психологическая часть, трактующая об условиях, приемах и средствах осуществления идеалов в жизни. Итак, этика состоит из трех частей. Но что такое психология в этике? И для чего нужна этике особая психологическая часть, когда в метафизике нравственности уже есть вопросы о сущности и происхождении добра и зла в человеке? Я отвечу прежде всего на последний вопрос. Метафизику нравственности я потому и назвал метафизикой, что она имеет в виду именно ту сущность, то происхождение и те судьбы добра и зла в мире и человеке, которые не подлежат нашему непосредственному восприятию. В психологии же нравственности нам предстоит решить вопросы именно о воспринимаемых в повседневном опыте явлениях, о том, например, как при стечении известных психологических условий может совершаться тот или другой поступок. Психология морального чувства — главный вопрос этого отдела этики. В метафизике нравственности мы имеем в виду факт существования добра и зла независимо от того, как при различных условиях в каждом отдельном человеке это добро и зло может осуществиться. Психология же нравственности изучает явления добра и зла в человеке, т. е. задается вопросами чисто эмпирического характера, оставляя этические вопросы рациональной психологии на попечение метафизики. Эти же особенности психологической части этики проводят демаркационную линию и между нею и обыкновенной психологией. Задача этической психологии совпадает с задачей обыкновенной психологии до тех пор, пока она старается изучить факты нравственной жизни безоценочно с моральной точки зрения. Обыкновенной психологии нет дела до той метафизики нравственности, которую выработал себе занимающийся этикой, и ее задача ограничивается описанием, классификацией, установкой возможной закономерной связи психических явлений. Этическая психология идет гораздо дальше. После изучения нравственной жизни, так сказать, в сыром ее виде, изучающий этику начинает применять тот нравственный критерий, который у него выработался раньше. Соответственно с тем, будет ли изучаться нравственная жизнь отдельного человека или всего человечества, психологическая часть этики будет больше направлена или в сторону психологии, или истории с социологией. Надо сказать еще, что как психология, так и социология, старающиеся найти законы психической жизни человека и общества, принуждены оперировать с настолько сложным материалом, что об установлении теперь каких-нибудь законов, подобных тем, которые существуют в естествознании, едва ли может идти речь в настоящее время. Психология и социология обязаны учитывать бесчисленные факты психической жизни, чтобы на основании их достичь возможности научного предвидения явлений. Поэтому я не делаю большого различия между этографией, т. е. описанием нравов, и этологией, т. е. установлением законов нравственной жизни. Эти две дисциплины идут параллельно. Итак: II. ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОСТИ (этография и этология) А. ПСИХОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОСТИ (ПСИХОЛОГИЯ). В. СОЦИОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОСТИ (ИСТОРИЯ). Наконец, третья часть этики, часть исключительно практическая. III. ТЕХНОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОСТИ. Я не делаю подробного деления второй и третьей части этики на отдельные дисциплины, так как это деление зависит от того, как и что у нас будет в первой части этики, т. е. как мы будем понимать добро, зло и свободу воли. III. Итак, перед нами два раскрытых понятия: «наука» и «этика». Можно ли второе из них подвести под первое? Разделение этики на дисциплины дает нам возможность говорить о научности отдельных частей этики и не давать окончательного приговора всей этой науке. 5 Из ничего ничего не возникает(лат.} Возьмем сначала вторую — социально-психологическую — часть этики. Кто считает психологию за науку, тот, разумеется, не будет отрицать за этой частью этики возможность стать когда-нибудь точной наукой. Предметы и средства познания здесь совершенно одинаковы. Но тут я должен сделать одну очень важную оговорку. Когда я определял науку, то под словом «критика» я разумел, во-первых, изучение причин явления и его результатов (а не одной только его сущности), т. е. нахождение законов явления, а во-вторых, определение соответствия нашей мысли и объективной реальности. В психологии (а значит и в социологии) предмет изучения непосредственно переживается во внутреннем опыте и потому вполне обладает для нас объективной реальностью. Но соответствуют ли действительности те законы душевной жизни, которые хочет открыть психология и возможны ли вообще эти законы? Так ли оно происходит на деле или нет, но что в наших мыслях каждый объект должен иметь свою причину, что ex nihilo nihil fit 5 (прибавим: самим собою),— это становится, кажется, азбучной истиной. Закономерность эта существует и в психической жизни. Но если факт нарушения этой закономерности налицо, если известная причина не всегда может вызвать в психической жизни одно и то же последствие, то понятие закономерности только тогда и может оправдывать права психологии на науку, когда мы придадим ей вместе с каузальным еще и финальный смысл. Другими словами, там, где в психологии нарушается закон с точки зрения понятия причины, там он справедлив с точки зрения понятия цели. Это не отнимает у психологии прав на науку, но устанавливает существенное различие между ее законами и законами в естествознании. Насколько ясна научность второй части этики, настолько должна быть отвергнута научность третьей части — технологии нравственности. Наука всегда там, где возможно установление единых и всеобще необходимых (по крайней мере в. пределах этой науки) принципов, всеми признаваемых как закон. Технология же нравственности, имея, быть может, исключительное по своей важности значение (ведь есть же ценности и поважнее науки!) должна считаться с такими особенностями каждой индивидуальности, которые не могут всегда переносить действие постоянного и неумолимого закона; иногда (как это бывает и во всякой технологии) здесь нужна просто практика, глазомер, опыт, смекалка. Было бы возмутительным абсурдом выработать одни правила нравственного поведения и навязывать их каждому. Если есть что постоянного в технологии нравственности, так это те основные принципы, которые обладают такой общностью, что лежат в основе всех нравственных правил. Но эти принципы — предмет уже не технологии нравственности, а метафизики нравственности. И мы сейчас посмотрим, может ли эта — первая — часть этики быть наукой. Наука есть прежде всего критика. Может ли метафизика быть критикой? Другими словами, может ли учение о добре и зле, о высшем благе, о свободе воли подчиняться требованиям критического отношения к мыслимому объекту, т. е. обращать внимание не только на самые факты, но и на их причины и результаты, объективно считающиеся сущими? Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо принять во внимание, что понятия добра и зла, как бы ни произошли они вообще в человечестве, мы не воспринимаем во внешнем опыте; они привносятся нами в суждения об эмпирической достоверности. Само собою разумеется, что если даже эмпирически познанный факт .может внести в познающий ум различное его понимание в зависимости от свойства субъекта, то умозрительная истина, которая не подлежит эмпирической проверке, должна быть еще более противоречивой у различных субъектов, ей предстоят еще более трудные препятствия перед тем, как стать истиной, ясной и определенной для всех. Я говорил выше, что моральные противоречия человеческой жизни всегда были одной из главнейших причин отрицания некоторых метафизических истин. Какую же силу должна приобрести эта причина, если предметом преподавания становятся сами эти моральные противоречия, самое добро и зло? Математика и естествознание потому и ушли далеко от философии в открытии истин, принимаемых всеми, что эти науки пусты, и так как они пусты, то их можно было заполнить каким угодно содержанием. Философия же, как раз наоборот, не может быть изначала в одних своих голых принципах; раз найдены принципы, то сейчас же наполняются они соответствующим содержанием. Я усиленно подчеркиваю эту незначительность связи математических и естественнонаучных суждений с нашими наиболее интимными переживаниями. В этой незначительности связи и кроется причина успешности естествознания, как все равно причина неуспешности философии от чересчур близкой связи ее с нашим внутренним существом, связи, достигающей иногда такой близости, что изучение философских дисциплин становится равносильно изучению нас самих. Поэтому на вопрос: «Есть ли метафизика нравственности критическое исследование предмета?», мы должны ответить: да, метафизика есть критика степени соответствия нашей мысли объективной реальности, потому что у нас тот же критерий истины, что и у позитивной науки. Но предмет этой метафизики гораздо сложнее предмета так называемых точных наук, и, кроме того, он имеет непосредственное отношение к нашим интимнейшим переживаниям, к которым, вообще говоря, трудно относиться объективно. Все это и заставляет нас согласиться с тем, что метафизика, несмотря на свое вековое существование, есть еще наука очень молодая, что ей приходится учитывать только небольшую часть из тех законов, которые вообще подлежат ее ведению, что теперь нельзя говорить о невозможности для нас тех точных определений, которыми гордится совершенная наука. Опираясь на обобщения из обобщений отдельных наук, метафизика уже по одному этому не нуждается в эмпирической проверке, почему и идет медленнее этих наук, и если произвольная метафизика существовала во все времена, не имея определенных границ с мифологией, религией, наукой и искусством, то настоящая научная метафизика есть достояние грядущих времен, но времен очень отдаленных. Отрицать же теперь научность метафизики было бы так же наивно и близоруко, как для древнегреческих физиков думать о невозможности таких колоссальных изобретений, которыми прославился XIX и XX век. Но греку это было извинительно, так как у него не было исторического опыта в науке. Для нас же это является по меньшей мере недомыслием, чтобы не сказать больше. Итак, самый главный признак науки — практическое (в философском смысле) отношение к изучаемому объекту — служит в то же самое время и признаком метафизики нравственности. Астроному надо поверить, что в мире изначала существовала космическая материя,— тогда он начнет строить свои научные космогонические гипотезы. Физику надо поверить, что все в природе подчинено строгим законам, что эти законы не есть только произвольные построения его ума,— тогца он научно найдет свои законы и постарается применить их на практике. Метафизику надо тоже поверить во что-то, и тогда он научно выведет свои положения, как метафизика выводит свою науку из небольшого числа принятых на веру аксиом. Это «что-то» и есть предмет, к разрешению которого известная нам метафизика пыталась приступить много раз и который остается ближайшей задачей будущей метафизики. 6 С точки зрения вечности (лат.) Итак, из трех частей этики полными правами на науку обладает первая часть и вторая. Метафизика и психология нравственности должна стать наукой в том же смысле, что и математика и естествознание. Для нас, конечно, всеща будет оставаться в этике некая иррациональная часть, которая одинаково и увеличивается и уменьшается по мере развития наших знаний. Но такова судьба и всякой другой науки. Доселе было различие между наукой и произвольной метафизикой, а не между наукой и просто метафизикой. Научное знание одно, различны только его отдельные области, неодинаково усвояемые нашим существом. И это знание, как равно и религия, и искусство, дано нам, так сказать, sub specie aeternitatis 6. То знание и есть наука, в котором существует непонятная нам иррациональная часть, служащая предметом наших изысканий. А что без тайн, что все понятно, то не есть настоящая наука. Современной науке, т. е. метафизике и позитивному знанию, открылись бесконечные горизонты, объять которые возможно только бесконечными способностями. Но мы не имеем этих бесконечных способностей, нами вместо этого управляет вездесущий закон эволюции. То, что составляет теперь предмет метафизики и что многим кажется непостижимым, без сомнения, станет самой точной и всеобще-необходимой наукой в будущем. Это не значит, что мы будем иметь когда-нибудь абсолютное познание о мире и что перестанем повторять чеховское: «О, если бы знать! О, если бы знать!» Судя по некоторому развитию мысли, у нас будут открываться еще дальнейшие горизонты по мере разгадывания тайн метафизики. Но для нашего-то исследования важно, что этика может и должна быть наукой. Будучи одной из молодых наук, этика имеет впереди блестящую будущность, как эта будущность существует для всей человеческой мысли, для всего мира. 1912 ЭТИКА КАК НАУКА Тезисы 1. Наука есть критически-систематическое исследование данных самосознания, относимых нами к внутреннему и внешнему миру, действующее на основании внутреннего чувства истины, которое открывается индуктивно-дедуктивным путем по степени духовного, главным образом, умственного и морального развития. 2. Этика есть учение о человеческой деятельности, исследование которой может совершаться с трех точек зрения. a) Первая, метафизическая часть, решает вопрос о добре и зле, чтобы иметь критерий для оценки нравственных поступков и определить возможность применения этого критерия. b) Вторая, социально-психологическая, изучает эмпирическую сторону нравственности, как она является у отдельных индивидуумов и у народов. c) Третья, технологическая часть, дает способы осуществления идеалов. 3. а) Метафизика нравственности есть и должна быть критикой, как в логическом, так и в гносеологическом смысле. b) Для нее нет критерия истины как внутреннего чувства, потому что рационального обоснования положения ее не имеют. c) Внешний опыт не может создать понятий о добре и зле. Метафизика нравственности не мыслима без оперирования с этими понятиями. Значит, этика должна пользоваться дедуктивными методами. d) Метафизика должна пользоваться дедукцией. Но так как человек не есть голый рассудок, то у него много причин, чтобы дедуктивно выведенный закон имел только видимое соответствие с внутренним чувством истины. Значит, этика должна иметь индуктивную проверку соответствия дедуктивно выведенного закона с внутренним чувством истины. e) Итак, метафизика нравственности есть 1) система, 2) критика, 3) имеет тот же критерий, что и наука, 4) пользуется теми же методами. Значит, она есть наука. f) Главная причина неуспешности метафизики по сравнению с наукой заключается в чересчур близкой связи ее с нашим внутренним существом. 4. Психология нравственности есть тоже наука, так как и здесь установление законов. К противоречивости же и неточности этих законов мы приходим как благодаря нашему незнанию всех условий изучаемых явлений, так и вследствие того, что закономерность в психологии может иметь и каузальный и финальный характер. 5. Технология нравственности не может быть наукой, так как она не есть система, то есть в ней нельзя установить точных обозначаемых законов. *** К первоначально найденным тезисам и третьей главе сочинения «Этика как наука» теперь можно присоединить предыдущие две главы, обнаруженные мной буквально на днях. Таким образом, мы обладаем полным текстом работы 1912 года под названием «Этика как наука». Сохранился надорванный титульный лист с заглавием и годом (1912), так что предполагаемое наименование оказалось вполне правильным. Сочинение написано, видимо, не без влияния профессора Г.И. Челпанова, чьи лекции «Введение в философию и логику» слушал Лосев и в чьих просеминариях по экспериментальной психологии активно участвовал. (На эту тему см.:Тахо-Годи А.А. «А.Ф. Лосев и Г.И. Челпанов»//Начала. 1994.№ 1. С. 36-39.) Публикация, примечания и комментарии А.А. ТАХО-ГОДИ