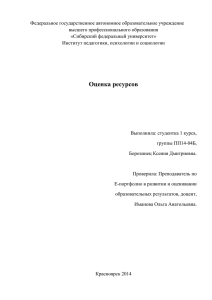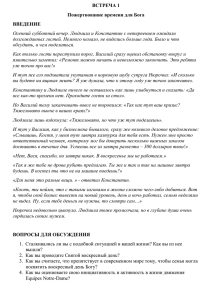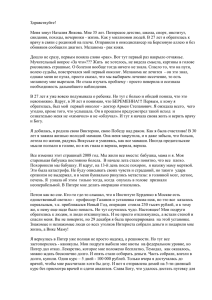Выпуск 52
advertisement
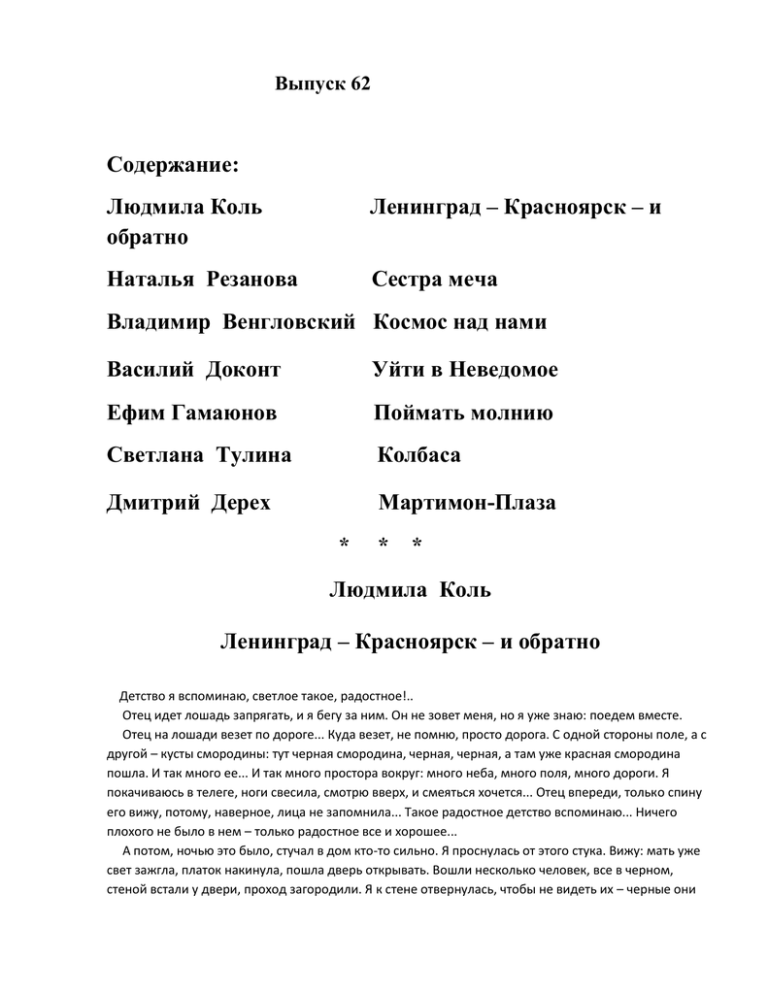
Выпуск 62 Содержание: Людмила Коль обратно Ленинград – Красноярск – и Наталья Резанова Сестра меча Владимир Венгловский Космос над нами Василий Доконт Уйти в Неведомое Ефим Гамаюнов Поймать молнию Светлана Тулина Колбаса Дмитрий Дерех Мартимон-Плаза * * * Людмила Коль Ленинград – Красноярск – и обратно Детство я вспоминаю, светлое такое, радостное!.. Отец идет лошадь запрягать, и я бегу за ним. Он не зовет меня, но я уже знаю: поедем вместе. Отец на лошади везет по дороге... Куда везет, не помню, просто дорога. С одной стороны поле, а с другой – кусты смородины: тут черная смородина, черная, черная, а там уже красная смородина пошла. И так много ее... И так много простора вокруг: много неба, много поля, много дороги. Я покачиваюсь в телеге, ноги свесила, смотрю вверх, и смеяться хочется... Отец впереди, только спину его вижу, потому, наверное, лица не запомнила... Такое радостное детство вспоминаю... Ничего плохого не было в нем – только радостное все и хорошее... А потом, ночью это было, стучал в дом кто-то сильно. Я проснулась от этого стука. Вижу: мать уже свет зажгла, платок накинула, пошла дверь открывать. Вошли несколько человек, все в черном, стеной встали у двери, проход загородили. Я к стене отвернулась, чтобы не видеть их – черные они были, страшно мне стало. Помню только еще, спросил кто-то из них у матери: «Муж твой где?» – и я уснула. А утром узнали, что во всей деревне ни одного хозяина не осталось – всех в одну ночь забрали и увезли. Куда, что – ничего мы не знали. Потом, когда реабилитация была, я документы видела: пятьдесят восьмая статья – за связь с иностранцами. И расстрел. Так всех мужчин из деревни и расстреляли. А какая связь? Кто с ними связан был? С какими иностранцами? Всё в нас врагов видели. А почему? Жили мы всегда рядом: тут вот мы, финны, а тут вот – русская деревня. Один раз иду по дороге, а навстречу девчонка идет, остановилась, смотрит на меня, говорит: «Чухня!» А я ей в ответ: «Рюсся!» И разошлись. А школа общая была, конечно, русская, по-фински нельзя было учиться. Значит, вместе ходили. На пригорке школа стояла, рядом с сельсоветом. Потом время уже прошло. Иду я как-то раз по деревне – из школы возвращалась, днем это было, соседка увидела меня: «Говорят, отец ваш вернулся?!» Я домой лечу со всех ног... Первое апреля было... Пошутила она... Господи! Как же можно так с ребенком, а? Ну вот, остались мы одни: мать и четверо детей. Я самая старшая, потом брат с сестрой младшие, а самый младший брат еще грудной был, три месяца ему было, мать его кормила. Какие мы помощники ей? Вот и пришлось ей сразу все самой поднимать. Мать с отцом работящие очень были, как все финны, аккуратно у них все всегда было, хозяйство не большое и не маленькое: всем хватало. Лошадь была, конечно, корову держали, несколько свиней, куры были. И дом: две большие половины. В одной мы спали, в другой – родители. А третью часть, тоже большую, отец еще строил, заколоченная стояла, так и осталась, не достроил... Но это еще ничего было, хотя как клеймо на нас стало: отца забрали. Привыкли потихоньку. Жизнь ведь всегда, как ручеек, – пробьет себе дорожку. Вот и мать приспособилась: масла набьет, сметаны бидончик возьмет, яиц наложит в корзинку, творог делала – и на рынок, в Ленинград. Два дня там, у сестры переночует – сестра у нее там жила. А потом – обратно. Нам всего навезет: платьишек разных, костюмчиков. Хорошо нас одевала. У меня матросский костюмчик был, все тогда в городе ходили. А в деревне – ни у кого такого не было: только у меня! И ели хорошо: молока вдосталь, мясо варили, хлеб с нутряным салом любили. Намажешь тоненьким слоем, солью сверху чуть присыпать нужно – вкусно! А на зиму мать солонину заготавливала, грибы, конечно. Какие хочешь грибы были в лесу! Как только они начинаются – я с лукошком, а то прямо в подол наберу, матери принесу, высыплю перед ней: во сколько набрала, скажу. Она перебирает, хвалит. А всего-то – по опушке только и походишь. Солнце сквозь листву пробивается, играет, ласкает... Земляники, черники наешься... Мать в белой косынке выйдет на крыльцо, рукой глаза прикрывает от солнца, смотрит, как я возвращаюсь... Сначала вроде хватало всего – отец много наработал. Года два хорошо было. А потом хозяйство стало все меньше и меньше давать: мать с трудом, видно, справлялась. Да выкарабкались бы, если бы не война – мы-то подрастали! А тут война! Как черной полосой всю жизнь надвое разрезала! Та, прошлая, светлая, и другая... в которой одно мученье потом было. Вот и думаешь: если мученье все, зачем, значит, я родилась? Если потом всю жизнь мучилась только? В самом начале войны мать заболела и слегла. Лежала худая-худая и слабая, вставать не могла. Я ее с ложечки кормила. А она и есть не могла совсем почти. Смотрит на меня и говорит: «Ты хоть поживи, жизнь посмотри за меня, какая она будет». Я в сундуке пороюсь, платьишек наберу, которые раньше мать покупала, из Ленинграда привозила, красивые такие платьишка, несу менять на хлеб, на муку. Сразу почти все исчезло, как война началась. Мать, пока еще жива была, нам наказывала: «Картофельные очистки не выбрасывайте, весной сажать будете». Вот мы и собирали их, а как весна пришла, сажали. Зашел однажды в дом к нам солдат. «Лиха! Анна лиха!» – говорит, по-фински сказал. Мы стоим, не шелохнемся. Он – к печке и забрал все, что в ней было. Мы только смотрели, как он выгребал: свой же, вроде, солдат, а у нас, у детей, все отнял и ушел. Тоже голодный был... Ну вот. Мама умерла. Тетушка, отцова сестра, в деревне с нами жила, говорит: «Идите ко мне». А у нее самой трое. Есть нечего было. Весной, как мать наказывала, посадили картошку. Я все платьишка менять ходила. Корова была, а резать не разрешали. Вот мяса бы было! Зимой она молока почти не давала, может, литр всего, да и кормить ее нечем было. Тетушка свинью еще когда морозы были, зарезала, нам принесла – приглядывала за нами, конечно. Вот ночью кто-то из сеней мясо и украл. И уж такие голодные мы стали, что кто-то потихоньку корову все-таки зарезал. Тетушка мясо сварила, нам принесла. А тут вдруг сказали: увозят нас, быстрее собирайтесь. Мы блокадники ведь считаемся теперь. Я схватила, что можно было, в узел связала, сестру и братьев собрала, тоже в руки им узелки дала. Мясо это с собой взяли в котомку. И повезли нас на станцию. Едем в кузове, а рядом солдаты идут. Развезло все дороги. Солдаты в жиже глинистой утопают, лица почерневшие. Отступают, говорят. Привезли нас на станцию, стали по вагонам распределять, чтобы везти на Ладогу. Если бы не она, как бы мы выжили? После Ладоги ехали мы долго-долго. Если под обстрел попадем, поезд стоит. Меня куда-то на верхнюю полку положили. Я лежу, в небо смотрю: вагоны товарные, деревянные, крыша как решето – небо видно и видно, как пули летают туда-сюда. А если под бомбежку попадем, я замираю вся. А потом говорят: этот вагон полностью разбомбили, этот, этот... Вот сестру и брата так потеряла. Они в соседнем вагоне ехали, а я ехала с младшим братом. Поезд стоит на каком-то полустанке, я смотрю из окна: они сидят на обочине, играют. Вдруг сразу налетели истребители, никто спрятаться не успел. И на том месте, где они сидели, – только воронка. А наш вагон остался, даже не царапнуло, сказали... Судьба распорядилась... Одна я выжила. Всех потеряла. Пока составы формировали, я возьму что-нибудь обменять – и на станцию. Путей много, составов много. И как свой состав найду потом? А всегда находила. Как – и не понимаю теперь. На какой-то станции младший брат отлучился, не заметила я. Ждала я его, ждала, бегала взад-вперед, звала, искала. Тут уже наш вот-вот отойдет, а его все нет. Мне говорят: залезай, а то останешься. Так и уехала без него. После войны долго искала, не нашла, не объявился. Погиб, значит. А уже когда к Красноярску подъезжали, менять почти нечего было – три месяца ехали. Худая я была, на ногах еле держалась. Взяла платок – от матери остался на память, берегла я его, красивая такая шаль шерстяная, – за пазуху сунула и пошла на станцию. И одна женщина с хлебом стоит, большие такие буханки у нее, белые, румяные, ни у кого таких нет. Я подхожу, этот платок ей протягиваю. Она отрезает мне полбуханки, огромный такой белый хлеб отрезает, дает, а я ей – платок. А она руку мою отводит и говорит: «Не надо, детка, иди!» И я потом не нашла ее, не поблагодарила! Возле Красноярска она жила, запомнила я это место, знала его. А так и не поблагодарила ее. Думаю я теперь: как же это я так нехорошо поступила? А в Красноярске в детдом сразу определили. Спросили: «Тебя как зовут?» Ни бумаг у меня не было, ни документов. Назвала я себя: «Майя», – говорю. И записали меня: Мария. Мария Егоровна. Финка. И больше финского языка я не слышала и никогда на нем не говорила – одна я финка в детдоме была. Стала прислушиваться, как правильно по-русски говорить надо, потому что в деревне у себя говорила в школе, да ведь никто тогда не исправлял, неправильно я говорила. А тут все только по-русски говорили. И я стала слушать и про себя повторять, как слова правильно произносить. Жили мы неплохо, кормили нас хорошо, помогали детдомовцам американцы и продуктами, и одежду присылали, поэтому даже платьишка нам красивые давали. А та жизнь счастливая, что в моем детстве была, кончилась. Отрезало ее навсегда. Я испугалась, притихла: все ведь вокруг меня знали, что моего отца забрали в тридцать седьмом, что не русская, финка – значит, чужая, что на мне вина лежит за что-то. В школе я старалась. Тихая была очень и исполнительная: что скажут, сразу сделаю в лучшем виде, никогда не отказывалась ни от чего. Все мне казалось, что за моей спиной на меня пальцем указывают: финка. А если финка, не наша, значит. Откуда это? Вот если бы не война... Хорошо ведь мы жили, вместе все были, рядом: тут – мы, финны, тут вот – русские... Пережили бы мы, может, даже то, что отца забрали тогда. А война все перечеркнула... На две части жизнь разрезала... Школу я закончила. Семь классов только. Так неграмотной и осталась, потому что потом только в училище два года училась еще – специальность получала. А после училища – на завод. Поздравили нас, дипломы вручили и всех детдомовских перевели в общежитие. И детство мое закончилось. На заводе я тоже старалась изо всех сил, чтобы никогда обо мне никто не мог сказать: она не любит работать, ленивая, мол. И на заводе тоже исполнительная и послушная была, спортом занималась и в соревнованиях участие принимала, в велосипедных гонках, а зимой на лыжню вставать приходилось. Подходят ко мне как-то на заводе и говорят: «Ты, Рантанен, умеешь на велосипеде ездить?» А откуда мне ездить? Когда это было, когда я ездила? «Вы все, финны, хорошо на велосипеде ездите и на лыжах ходить умеете, мы знаем, – говорят. – Поддержи честь завода – через два дня велосипедные соревнования будут». Я – ни в какую. Думаю: как я поеду? Разучилась давно. А они настаивать стали: одна ты лучше всех ездить должна, потому что финка, другие совсем ездить не умеют, а участвовать надо. Вот и пришлось. Второй пришла, сама не знаю как. Обгонять меня стали. Я думаю: что же это я? Жму на педали изо всех сил, потом узнаю: второе место заняла. Грамотами меня награждали не один раз. Сначала даже и не думала об этом. А потом само собой стало получаться: как же я отстану, как же меня обгонят? Нельзя! И первые места стала занимать. Вот так и жила: работа, спорт, кино, на вечеринки ходили. Один раз меня подарком наградили: резиновые боты, высокие, выше щиколотки, с застежками и на каблуке. Тогда модно было, все в них ходили. Сунула я в них внутрь туфли, лодочки, тоже на каблуке, чтобы не так холодно было, и так всю зиму ходила гордая. И жили мы все дружно, четыре девушки в одной комнате. Чисто у нас всегда было, аккуратно постели застелены. Деньги под подушкой держали, все об этом знали, никто никогда ничего не прятал, открыто жили. И никто ни у кого никогда ничего не взял. Ведь ничего особенного тогда не было, денег мало, а никто ничего ни у кого не взял... Вот я и думаю: почему так дружно тогда жили? А в сорок седьмом году семнадцать лет мне исполнилось. Получила я отпуск летом, в июле это было, и решила поехать к себе на родину, в деревню, во Всеволожский район. Может, думала, найду кого-нибудь, дом свой увижу, поговорю с соседями нашими. Может, жив кто из них остался. Надеяться не на что было, потому что блокада была, но все-таки... Может, думала, и остался кто... И вот приехала я тогда. Иду по дороге, через лесок, как раньше ходила. Далеко от станции идти, но пешком мне хотелось этот путь пройти, не на попутке ехать. Выхожу из леса и деревню вижу, школу на пригорке рядом с сельсоветом... Все как раньше стояло, так и стоит, и дом наш тут, с краю, у излучины реки... Не видно никого. Я постучалась в один дом – в наш стучаться не стала. Люди чужие вышли, говорят: никого не знаем, все теперь другие живут, финнов нет, русские теперь тут. А ты, говорят, зачем сюда приехала? Вам, финнам, сюда ездить нельзя. Поэтому, девушка, уезжай, пока никто не узнал, что ты тут. Вот так и побывала я на родине! Переночевала потихоньку, потому что куда же было на ночь глядя ехать? А утром пошла обратно на станцию. И с первым поездом уехала. Ехала обратно и всю дорогу думала: что же я расскажу в Красноярске? Ведь спросят, как меня родная деревня встретила – все знали, куда я поехала. Приехала я и ничего никому рассказывать не стала: сказала просто, что повидалась со всеми, кто в деревне был, и дом свой видела. Ничего больше рассказывать не стала. Разве можно было рассказать такое? И поняла я тогда, что жизнь та моя кончилась навсегда, что обрубилась она войной и что возврата в нее никогда не будет. И больше я о ней не думала. А то ведь гложило что-то внутри все время, тянуло... И стала я думать, что то вот, что у меня теперь, – это и есть теперь мое до конца... И платьишка у меня красивые были, и туфли, как у всех девчат, и на танцы в заводской клуб ходила, и в кино с ребятами... Как-то письмо из Ленинграда получила: тетушка меня, мамина сестра, разыскала, позвала к себе в гости. Я-то ведь не знала ее адреса, а она искала меня, оказывается, долго. Их тоже из блокадного Ленинграда вывезли, а после войны она вернулсь, жила с семьей. Обрадовалась я, что не одна всетаки, что есть у меня кто-то на белом свете. Опять я собралась, поехала. В дорогу взяла кое-что, чтобы на станциях менять, то, из чего я уже выросла, что мне не нужно было. Поезд был «Чита – Челябинск», пересадка, значит. Ехали-ехали, я узел свой при себе держала, потому что народу набивалось в вагоны на станциях столько, что не продохнуть, только и гляди в оба. Ночью пристроюсь, лягу где-нибудь в уголке, а узелок – под голову. Один раз, Урал уже переехали, попросила я соседей за вещами моими присмотреть, пока я на станцию сбегаю обменять платьишко на хлеб и сало. Вернулась: ни соседей, ни узелка, люди другие, никто ничего не видел, не знает. А в узелке все мои деньги были!.. И осталась я в чем была: ни денег, ни обменять ничего не могу на еду. Добиралась до Ленинграда потом как могла. Люди-то ведь всегда добрые найдутся, правда? Молодые люди вокруг меня были, конечно. Но у меня ни к кому сердце не лежало. «Рано мне еще, – думала я, – замуж выходить». И так моя жизнь текла спокойно: дружила с ребятами просто. А потом один стал за мной ходить: куда я, туда и он. Всех вокруг отвадил и сказал: «Не отстану, пока за меня замуж не выйдешь!» А я думаю: как за него замуж выходить – он на четыре года меня младше? Объяснила ему это, а он опять: выходи и выходи. Было это уже в пятьдесят седьмом году. Финнам уже разрешили вернуться. Стала меня очень тетушка звать, чтобы я к ней переехала жить, в Ленинград. Я уже Красноярск своим считала, но к тетушке поехала погостить. И перед отъездом загадала: если он напишет мне туда письмо, значит, пойду за него, значит, судьба. Так и получилось. Пришлось выйти за него замуж. Завод дал нам комнату двенадцать метров с печным отоплением. И там мы прожили четырнадцать лет, пока дети не выросли. Двое детей там родилось: сын и дочь. Потом уже, когда строить стали много, трехкомнатную квартиру мы получили. Сыну было четырнадцать лет, а дочери двенадцать. А до того так и жили в одной двенадцатиметровой вчетвером, с двумя взрослыми детьми. Разве это жизнь? Была я в том месте, где мой отец похоронен. Левашово, под Ленинградом. В сорок втором году их на машинах вывозили... Лес красивый такой там вырос теперь... И опять я думаю: зачем в ней, в жизни моей, все это было? Зачем я мучилась столько? И почему радостного было так мало? Шла она потом, как поезд идет – мелькало все вокруг: работа сменная была и у меня, и у него; дети одни дома, без родителей, в ясли не брали – мест не было; болезни: сын в гипсе долго лежал, долго лечился, ходить не мог; муж инвалидом стал – двух пальцев на руке лишился; меня паралич разбил, правая нога отнялась, до сих пор холодная, в шерстяном носке хожу зимой и летом. О деньгах не думали, не в них дело. Что было, тому и радовались. А вот страдания зачем были? Зачем мне все это выпало? На дачу мы поехали в выходные. А я понервничала, видно, перед этим, плохо себя чувствовала. Лекарств напилась, полегче стало, ну и поехала. А весна была, картошку мы сажали, десять соток у нас. Пенсию платят вовремя, но без огорода не проживешь, вот и сажаем капусту, морковь, лук, чеснок, главное, конечно, – картошка, всю зиму кормимся. Вот сажали мы долго, большой участок засадили картошкой, а грядки в углу только сделали. И вот вошла я в домик – и сознание потеряла. Речь потом восстановилась, а ногу приволакиваю. А на участок все равно езжу – он ведь не справится один! Я теперь приспособилась сорняки полоть: лягу рядом с грядкой на подстилку и палочкой с гвоздем их из земли тяну. Аккуратно так все грядки обработаю, соседи удивляются: ни у кого так грядки не прополоты, у всех то там, то тут сорняки торчат, а у меня – ни одного! Он помогает, жалеет, видно. И думаю я: хорошо, что рядом кто-то, заботится обо мне... Если бы я была одна, хуже мне было бы, правда? Я в Финляндии недавно была. Родственники у меня теперь там. Несколько лет назад насовсем переехали, когда финнам разрешили переехать на жительство в Финляндию. Обжились уже. И язык выучили – не чужой все-таки, в детстве слышали, говорили. Живут хорошо, дети работают. Квартиры у всех хорошие, удобные, красивые. Нравится им. А я – нет! Не хочу пока туда ехать. Может, когданибудь, конечно, перееду... И в Красноярске тоже не хочу жить... Я иной раз лежу ночью, не сплю, таблетки не помогают, и вижу: весна начинается, мы идем из школы, книжки в ранце за плечами. До речки дойдем и решаем: кто первый не боится по бревнышку речку перейти? И вот я иду через речку, а бревно вдруг переворачивается, я хватаюсь за него обеими руками и провисаю над водой. Все уже впереди давно, на берегу. Я кричу изо всех сил, а голоса моего не слышно из-за шума воды. Сил, чувствую, уже нет, вот-вот руки отпущу. И в этот момент кто-то оборачивается и видит, что я падаю вниз, утону сейчас, бежит на помощь, бросают мне палку, вытягивают... А вот, вижу, травка уже зеленая пробивается. А вода в реке все прибывает и прибывает, с каждым днем все выше поднимается, к дому нашему подбирается все ближе, ближе… И остается маленький такой кружочек земли, на котором только наш дом стоит. Собака бегает по берегу, на воду лает, и мы за ней бегаем – весне радуемся. А наверху, на взгорке, – дом наш... Москва – Хельсинки, 2003 Наталья Резанова Сестра меча Мы прибыли к Высоким Вратам Агелата на рассвете, а к полудню, после суда, нам предстояло их покинуть. Гимел спит мало и не заботится об отдыхе остальных. Никогда не заботился, а теперь – тем паче. Впрочем, теперь есть резон для спешки – через два дня конец божьему перемирию, нужно срочно завершать дела. Миновав наружную, а затем внутреннюю цепь укреплений, мы выехали на церковный двор. Люди Сантуды называют нас язычниками и обычаи наши – языческими, хотя все это вранье – еще наши деды приняли новую веру и порушили храмы Реты. И в крепости у нас есть церковь, и важные дела без молитвы не начинают. Здесь Гимел спешился и пошел к церкви; я еле поспевал за ним – нога мешала, прежний боец я теперь только в седле, а быстро ходить и вовсе не могу. Челядь шарахалась в стороны, и, глядя как они жмутся к стенам, я вспоминал, как после избрания он шел по этому самому двору, чтобы получить благословения епископа, и какими глазами люди смотрели на него тогда. Будь я проклят, что за мысли лезут в голову! Правда, был он тогда молодым, и лицо без этих рубцов… а разве в них дело? Сквозь раскрытые церковные врата я видел горящие свечи, но был уверен, что в неф Гимел не войдет. И, ясное дело, не ошибся. Он сразу спустился в склеп. Теперь я мог спокойно уйти. В это время в крипту никто не сунется. Не решится. Все думают, что он там молится. Я один знаю, что он там молится, а просто стоит на коленях, прижавшись лбом к камню саркофага. Время, когда он пытался разбить голову об этот камень, давно миновало. Да, шрам у него на лбу с того дня, когда я скрутил его и вытащил из склепа. А теперь даже я туда не захожу. Ради чего я вам все это рассказываю? Старое трепло! А я ведь не старый, если считать по годам. Но, если вспомнить все, что произошло за последние десять лет – глубокий старик. Из всей тогдашней верхней дружины Агелата осталось два человека Гимел и я, правая рука, друг и свойственник, это так считается у нас в государстве. Умерли все друзья и половина врагов. Враги вообще живут дольше, вы замечали? И уж если даже враги начали уходить – дело дохлое. А вот ради чего я терплю все это… Из верности присяге? Ради праха, который раньше был моей сестрой? Ради чудовища, которое раньше было моим другом? Ради служения королевству Агелат? А вот этого я вам не скажу. Потому что сам не знаю. Ну, завелся. И вместо того, чтоб хоть поспать до начала суда, я сижу здесь и отвечаю на ваши вопросы. А вы и рады. А вы и сразу ко мне. Я у нас считаюсь добрый. Злой правитель и добрый советник. В любой истории, какие рассказывают на постоялых дворах за миску похлебки, если правитель злой, то советник непременно добрый. И наоборот. Чушь все это собачья. Вовсе я не добрый, я просто не злой. Да и он не был злым. К чему я сейчас об этом заговорил? Просто вспомнил, как один длиннорясый сказал мне, что несчастья умудряют сердце. Вот уж глупость так глупость. Если что и делает человека злым, так это несчастья. А наши несчастья начались не со смертью Тао, и даже не с ее замужеством. Нет, они начались с того дня, когда Отшельник решил не отдавать в монастырский приют младенца неизвестной женщины, забредшей к нему в землянку и умершей там, а вырастить сам. Если ты ушел от мира, отказался от всего, что у тебя было, и даже от собственного имени, так забудь о детях! А он решил, что это ему знамение. Мол, вот что он должен сделать, прежде, чем умрет – вырастить и обучить. Если б он поступил, как положено, она стала бы монастырской крепостной, или монахиней в соседнем монастыре, не скажу, что это завидная доля, но она была бы жива, а если бы и нет, ее смерть не потянула бы за собой целой цепи злосчастий. Но что я говорю – разве уже не все равно, ведь уже ничего не изменишь! Однако добавлю, что старик был величайшим безбожником, хоть и считал, что служит Богу. …Конечно, я его знал раньше, мальчишкой я учился у него искусству боя. Так что не стоило бы мне дурно о нем говорить. Да, до того, как он ушел в лес. Какая вам разница, как его звали? Он уже тогда был старый, еще застал языческие времена. А потом на него вроде как снизошло. Решил послужить Богу. Но при чем тут Бог? Служить человеку, это понятно, это совсем иное. Тао, по крайней мере, точно знала, кому служит. Она служила верно. И погубила того, кому служила. Так что лучше – служить плохо или служить хорошо? Ладно, все не буду больше орать. Я постоял у окна, успокоился. Уже совсем светло, отсюда сверху хорошо видны и крепость, и дорога, и город. Только крепость в Высоких Вратах и некоторые ее постройки сложены из камня. Все дома в городе деревянные либо глинобитные. В Агелате мало камня и много лесов. Трудно было построить даже эту крепость, а раньше все укрепление были деревянные. И храмы были из дерева, а чаще храмами служили дубравы, где люди приносили жертвы огню и Рете, своей богине. Мое имя? Да, конечно, Ретиан – от имени Реты. Рета-- богиня войны, она скачет по небу на огненном коне, с мечом, освящая каждую битву, и ей посвящали детей воинов, чтоб они тоже стали воинами…. Что? Нет, добрый христианин, и отец мой тоже… Моя крепость Наухат – тоже из камня. Но она ближе к горам. Сантуде легко, он захватил в горах укрепления, оставленные римлянами… Но я отвлекся. Я хотел рассказать об Агелате. Не было такого государства – Агелат, была полоса земли между горами и страной Желтой Гадюки. Это мы собрались, те, кто не терпел чужих властителей на земле, и выбрали предводителем лучшего из нас. Не самого храброго, не самого умного. Лучшего. Я, например, ни дураком, ни трусом себя не считаю. Вдобавок я и годами старше. Но я никогда не рвался в первые, я согласен служить – но служить достойному. А достойный – это тот, кто способен собрать всех, держать в кулаке и повести за собой. Сказано ведь “пред-водитель”. Так оно и было. И крепости стали строить, и войско укреплять. И назвали все это “Агелат” -- “земля войны”. Потому что мы все время воюем. И пока что никто не смог нас победить. И люди стали приходить к нам, сами приходить, в одиночку, а то и целыми отрядами, я как сейчас их вижу, все белобрысые либо рыжие, Тао среди них здорово выделялась, не знаю, откуда она такая взялась, судя по темной коже и таким черным волосам, каких в наших краях и не увидишь, она вообще чужих кровей. Но у нас не было желания подробнее узнавать ее происхождение, и у нее, я думаю, тоже. Для всех она была дочерью Отшельника. Что? Конечно, не была, а про что же я вам с самого начала толкую? Люди ничего не помнят. О Тао, кажется, помнят только то, что она жила, а потом умерла, не помнят даже того, что она не была моей родной сестрой. Впрочем, про это я и сам часто забываю. Да, то было родство не прирожденное. У нас это называется “братство меча”. Повашему, побратимство. Только побратимами могут стать, какие угодно люди, а братьями меча – только те, кто вместе рисковал жизнью с оружием в руках, и одолел опасность, а опасность должна быть непременно смертная. Тогда они смешивают свою кровь, и выпивают ее с вином, и при свидетелях дают клятву меча. Такой у нас обычай в Агелате, и задолго до Агелата. Так вот, Тао была моей сестрой меча… А вы, конечно, не слыхали. Зачем же вы тогда вообще ко мне пришли? Когда-то эту историю знали все, у кого были уши, а теперь, через десять лет… Тогда Гимел побился об заклад с Сантудой, что выставит двух бойцов против его десятерых. В то время Сантуда еще не был нашим злейшим врагом, и у нас бывали перемирия помимо божьих, и это приключилось во время одного из них. Все хотели идти, но Гимел выбрал нас. Против десятерых двое, из двоих – одна женщина, он плюнул Сантуде в глаза. А тому оставалось лишь утереться. С той поры, верно, он и ненавидит нас так сильно… Что значит “на верную смерть”? Он верил, что мы победим, и ведь победили же! Потому что он знал, кого выбрать. Какое еще безрассудство? Хотя, конечно, безрассудство… но не забывайте, что мы былимолоды тогда, и я был молод, иславная драка была для меня праздником, а это бой я до сих пор вспоминаю с наслаждением, его недаром воспевали в песнях, он сам был, как песня. Рубились пешими, в низине, у крепости Энол… Верхами? Нет, верхом легче, ты пешим попробуй! Правда, я тогда не был хромой… Вот тогда-то, когда все войско опьянело от нашей победы, и вся долина кричала наши имена, мы и дали клятву меча перед верхней дружиной, и слова этой клятвы были единственными словами, которые люди услышали от нее в том походе. Это верно – брат и сестра, даже если умрет один из них, останутся братом и сестрой навечно. Иное дело – муж и жена; эти имена снимает с них смерть, и разрушает эту связь, так установлено Богом, а кто идет против этого, тот идет против Бога и против закона жизни. Я знаю это, потому что видел сам. Ладно… спать все равно не придется. Поэтому я еще расскажу о своей сестре. Тао, Сестра Меча, Королевская Гончая и Каменная дева. Это все ее прозвища, которые сейчас забылись. Насчет “Сестры меча” уже все ясно. Каменной девой прозвал ее я. В шутку, конечно, но лучше разве скажешь, когда она не смялась и не плакала, и вообще неделями не говорила. А вот “Гончая”… так ее звали все, иные даже считали это ее именем. Это все Отшельник. Он с младенчества вбивал ей в голову, что она должна служить, служить, служить своему хозяину! Я уже про это говорил, все время долблю об этом, мы все должны служить, и я служу, но Тао на это натаскали. И больше ее ничто не волновало. Раньше, наверное, было бы все по иному, она была бы посвящена храму, “дева Реты” – так это когда-то называлось, была бы жрицей при войске, в потом ушла бы в капище. А теперь это богопротивная вера забыта, и Тао о ней ничего не знала. Ничего не знала и не умела, кроме военного ремесла, которому старик ее обучил. Но уж это она знала в совершенстве. А во всем остальном…Не было здесь, в крепости у Высоких Врат такого бедного – что бедного – такого нищего человека. У нее не было ничего, кроме того, что старик ей оставил. То есть оружия и одежды на первое время. И она не могла ни у кого попросить , даже в долг, хотя никто бы ей не отказал! Даже если это было ее право. Долго рассказывать, что там приключалось, но если бы я, как брат, не заботился о ней, она бы ходила в лохмотьях и босиком. И никто бы не обращал внимания. Никому до этого не было дела. Она была Гончая, понимаете? Отличная гончая, превосходных кровей, королевская Гончая. И, как положено гончей, лучше действовала в одиночку, чем в стае. Гимел это сразу распознал и гонял ее туда, куда в здравом уме никто б не сунулся. А для нее это было неважно. Она была Гончая. Да, на этом имело бы смысл остановиться, если бы речь шла о мужчине. Но, на свое несчастье, она не родилась мужчиной. То есть все могло быть не так плохо, если б старый негодяй не отступил от новых обычае, а они, говорят, господом Богом дадены. Что, и в святой Книге Записано? Сам-то я не видел, у нас здесь только епископ хорошо по-писанному разбирает. Обучить-то ее как мужчину старик обучил, но мужчиной она от этого не стала. То есть, конечно, от всех прочих женщин она отличалась. Если для обычных женщин мучение – молчать, то для Тао сущим мучением было говорить. Чтобы заметить это, большой наблюдательности не требовалось, но, возможно, только я понимал причину. Я уже упоминал: для нее самая страшная вещь была – попросить о чем-нибудь. Просить – спрашивать – одно и то же. А когда говоришь, спрашивать поневоле приходится. Лучше все время молчать – так она это чувствовала. И я, в отличие от других, никогда не принуждал ее говорить, и это была одна из основ нашей дружбы. А со временем я научился понимать ее без слов. Не то, чтобы я мысли ее читал, просто научился правильно истолковывать движения ее рук или головы. Не лица – лицо у нее обычно было совсем неподвижно. Гимел добился от нее потом гораздо большего – он научил ее выражать свои мысли словами. Я вначале сам не мог в это поверить, и, когда он при мне ссылался на те или иные ее слова, я думал, что он просто по-своему перетолковывает ее молчание. Но потом мне пришлось убедиться, что он говорит правду. Однако я опять забежал вперед. Я уже не помню, когда до меня стало доходить, что не в одной только ее исключительной преданности дело. Конечно, она мне ничего не говорила. Но мне этого и не требовалось. Я тоже никому ничего не сказал, а остальные ни за что бы не догадались. В сущности, к этому все и шло. Какая б ни была, она родилась и осталась женщиной, и эта самая преданность только ухудшила дело. Почему ухудшила? Потому что я уже тогда понимал, что ни к чему хорошему это не приведет, хотя всего не предвидел. Я надеялся, что при всем том так оно и останется. Лучше было бы ничего не менять. Она бы себя не выдала, ни слова бы об этом никому не сказала, даже под пыткой. И я бы молчал. Она, ясно, понимала, что я все знаю, хоть и не говорила. Такой между нами был немой уговор Ведь мы были братом и сестрой, ясно же. А насчет него я был спокоен. Для него она была не больше чем Гончая, и только так он на нее смотрел. Нет, в этом не было никакого сомнения. Года три ведь уже прошло с тех пор, как она появилась у нас. Нет, несмотря ни на что, все могло оставаться, как было, все могло быть хорошо. Умный человек – плохой пророк. Недаром все настоящие пророки были безумны. Вот я, например, умный человек, и в этом мое несчастье. Да нет, я совсем не это хочу сказать, попробовали бы они! Нет, обычные люди, я не хочу сказать – дураки, вовсе нет, они не размышляют, они сразу действуют, и все. А тот, кто понимает связь вещей, и мысли, и стремления других людей, он, прежде чем начать сперва выстраивает перед собой какой-то рисунок… Карту? А, понимаю, о чем вы. Да, примерно так. А пока ты это выстраиваешь, чертишь, малюешь… все уже изменилось. И все уже другое, ты опоздал. Вот что я называю своим несчастьем. Вот я вам расписал, как оно было. Так и было, разрази меня Господь! А потом все изменилось. Про Тао я все понимал, и, как сказано, все сложилось так, что она не могла не полюбить его. А с чего вдруг он ее полюбил, не знаю. Только вовсе не потому, что она любила его. Этого он не знал и не замечал, как все вокруг. Ни чего, говорю вам. А как они договорились между собой, я сказать не могу. Уж оченб быстро все произошло, даже для Агелата, где все делается быстро. А я, дурак, обрадовался. Я обрадовался, дурак! Ну не славно ли все сладилось – мой лучший друг женится на моей сестре. И многие, я думаю, радовались, хотя и слепому было ясно, что она не та женщина, которая годится ему в жены. И вообще кому-либо в жены. Ну, недолго мы радовались… В дверь колотят. Пора собираться на суд. Наверняка набрали с полдюжины дел, пока Гимел у высоких Врат. И со всем этим надо разобраться до полудня. Как будто не знают, змеиное отродье, чем это кончится. Один я бы еще мог помочь. А при нем – нет. Досказать? Но ведь я все почти завершил. Тоже все сначала было хорошо, а потом… Одно могу добавить – я всегда знал, с самого начала, с первого дня, когда она здесь оказалась, что ей не жить долго. Но это ладно, все умирают, и большинство умирают молодыми. Так было всегда. Но Тао, Сестра Меча, заслуживала лучшей смерти. Мы дрались с ней рядом в долине у крепости Энол, и в десятке других сражений, и я говорю вам – уж этого она заслуживала. Нет, не отравили. Об этом много болтали тогда, но я-то знаю, что это неправда. Много утешительней думать, что ее отравили, только зачем? Ну, конечно. Родила мертвого ребенка и умерла. Я не хотел для нее такой смерти – а умирала она долго и мучительно – но, что было, то прошло, ничего не изменишь, а он? Разве у него одного умерли жена и ребенок? Да, господи, почти у каждого. И никто в этом не виноват. Мужчины гибнут на войне, женщины умирают в родах – так заведено. Но он считает, что виноваты все. Раз так устроен мир – значит, весь мир виноват в том, что она умерла. И должен поплатиться. И многие уже поплатились. Горе? Все горюют, когда у них несчастье, но не у всех есть власть. А власть – мы сами собрали и отдали ему в руки. И он – как мы и рассчитывали – держит ее крепко. Только выбирали мы на власть одного человека, а правит нами другой. А что делать? И – что верно, то верно, победить нас еще никто не смог. Здесь мы не потеряли ничего. Почему я не тороплюсь? А незачем. Когда он меня заставил в суде дела разбирать, вытащил из Наухата – мне даже понравилось по-первости. Занятно. Бывали трудные дела. Например – было два приятеля. Один, не помню уж по какой причине, убил брата второго. Они долго враждовали, потом помирились. Устроили по этому случаю пир, созвали гостей, а потом, когда все напились, брат убитого вышел, заложил дверь и поджег дом. И что тут делать? Нельзя не отомстить за брату, по закону он прав, но он пожег и тех, кто был и вовсе не при чем? А были и вовсе смешные дела. Тут у нас под горой женский монастырь есть, невдалеке от города, так монашки тягали к суду настоятельницу, знаете почему? Она монастырскую баню сдавала горожанам. А она говорит – в городе баню перестраивает, людям где-то мыться надо? И такой шум подняли склочные бабу, епископского суда им показалось мало, настоятельница горожан к оружию призвала, чуть до войны дело не дошло. Я думал, сдохну со смеху. Да, всякие случались дела. Но это было раньше. Колокол бьет. Осень спокойная, церковь каменная, слышно хорошо. А раньше храмы были деревянные и колоколов не знали, и людей резали на жертвенных камнях, а мертвых сжигали. Теперь мертвых у нас хоронят, а живых уже давно не приносят в жертву. Только казнят. Я должен идти, все собрались, почему должен, никому я ничего не должен, а ведь иду же! Вот договорю и пойду, а почему я с вами говорю – тоже не знаю, и откуда вы взялись – тоже. Одно хорошо – скоро отъезжать. Перемирию конец, мы двинем к горам, к границе, а Сантуда со своими уже ждет-поджидает, и что будет – еще неизвестно. Там, во главе отряда, под холодным ветром, на коне. С мечом в руках – я Ретиан из рода воинов, воин Реты, я весел, я волен, мне хорошо! И не только там – в Наухате, в Гадючьей чаще, у Энола – где угодно. Только не здесь, у Высоких Врат. С ним покончено, но я-то еще жив, силен и в своем уме! Ладно, с Гимелом все ясно. От большой любви происходит большое несчастье, а от несчастий человек становится не лучше, а хуже. Но и она тоже виновата, не он один. Уж если старик вышиб ее из обычной жизни, ей и следовало оставаться там, где есть только сестры и братья, а не там, где мужья и жены. Она заслужила лучшую смерть. Он заслужил лучшую жизнь. А я? Знаете, что я вам скажу напоследок? Я хочу, чтобы этого ничего не было. Чтобы все исчезло, ясно? ----------- Он проснулся, потому что начинался дождь. Покуда он медленно поднимался , всадники, промчавшиеся по дороге, обдали его грязью из-под копыт. Хорошо, что он уснул в канаве, а не у обочины, они могли бы его затоптать. От привычно стер грязь с лица, попытался было выбрать ее из бороды, когда-то рыжей, а теперь седой, потом оставил это дело – все равно дождем смоет. Поплотнее укутал арфу – свое единственное достояние – куском холста, и с трудом, упираясь клюкой, выбрался на дорогу. На его деревяшке и по ровному-то ходить нелегко, не то, что по мокрым склонам ползать – но там безопаснее. А дождь, похоже .будет сильный. Надо поискать пристанища. Ничего, дорога проезжая, не может быть, чтоб он не набрел на постоялый двор. А там он отогреется у очага, и сможет снова рассказывать истории. Надо прикинуть, что он будет рассказывать сегодня. Может, эту? За нее, бывает, помимо похлебки, выставляют и кружку вина. Народ любит вымыслы, то, чего никогда не было. “Жил некогда храбрый воин. Жена его умерла, детей он не имел, и, достигнув преклонных лет, решил он уйти от мира, чтобы служить Богу. Пришел он в монастырь, но и монастырь показался ему сущей ярмаркой, и отправился он в глухой лес, вырыл там землянку и зажил один. Однажды на закате прибрела к его землянке женщина с малым ребенком на руках. Была она, по всему видать, чужеземка, потому что говорила на непонятном языке и обличия была странного. И была она совсем больна. Только одну ночь промучалась она, скончавшись к утру. Отшельник похоронил женщину, а дитя, как видно, посланное ему Богом, решил оставить у себя. И тогда…” Владимир Венгловский Космос над нами Пить вино с Великим Инквизитором Премом – то еще удовольствие, я вам скажу. Под его цепким взглядом даже шелтское тридцатилетней выдержки приобретает вкус ягодного уксуса. Бокал в моей руке подрагивал, отбивая едва слышную дробь по зубным пластинам. А Великий Инквизитор пил баснословно дорогое шелтское, словно дешевое вино в прибрежном кабаке, – залпом опрокидывая содержимое бокала в рот и тут же наливая следующую порцию. Пил и не пьянел. Это у Према называлось «выходом в люди». Читай – домой к несчастному профессору Тарду. То есть – ко мне. Угораздило же меня... Нечистый его знает, чем Инквизитора привлекла моя скромная персона. Хотя было бы гораздо хуже, пригласи он меня туда. Так что – сиди, Тард, пей вино и делай вид, что поддерживаешь дружескую беседу. Терпи. У Великого Инквизитора белая гладкая кожа. Почти прозрачная. «Такую кожу скверна не возьмет, – подумал я. – Еще эти глаза его, синие… Уставился, как змея на добычу». Черные волосы Инквизитора сползали на бордовый плащ. А если на Према посмотреть вот так – сквозь бокал, то Великий Инквизитор не кажется таким страшным. Преломляется его лицо, плывет в шелтском. Смешно даже. – Как работа, доволен? – поинтересовался Прем. Я вздрогнул. Вино расплескалось на одежду. – Нормально, ваше святейшество, не жалуюсь. Спасибо. – Нашел что-нибудь интересное? Я старался отвечать размеренно, тщательно подбирая слова, а то еще сболтну, чего не следует. – Ваше святейшество, вам же известно, что все, что я нахожу… Все, что к скверне относится, я сдаю инквизиции. – Знаю-знаю. «Хлоп», – вылил шелтское в рот Великий Инквизитор. Потекли по тонким губам красные капли, впитались в бордовый плащ. – Знать-то знаю, но мало ли… Вдруг скверна и в твой дом проникла? И – зырк на меня синим глазом. Аж мороз по коже. – Ладно, не напрягайся ты так. Давай, пей лучше. Да минет нас скверна! – Великий Инквизитор поднял ладони вверх, к Белой Луне. – И так с каждым циклом все больше и больше оскверненных на вознесение отводим. Жалко будет потерять своего ручного профессора. Надо же, еще и ехидничает. Ползун несчастный. – Я постараюсь не поддаться скверне, ваше святейшество, – выдавил я робкую улыбку. – Пойду я, – Великий Инквизитор поднялся, с сожалением глядя на пустой бокал. – Бутылку тебе оставляю. Угощайся. Может, девицу какую пригласишь. Великий Инквизитор заговорщицки подмигнул. А у меня сердце – бу-бух, чуть из груди не выскочило. – Ну что вы, ваше святейшество… – Ладно-ладно, – хихикнул Прем. – Дело молодое. И исчез в коридоре. Ровной походкой пошел, зар-р-раза, будто и не пил. «Раз, два, три, четыре», – начал считать я. «Бум», – хлопнула входная дверь. Все – ушел. Я прислушался – тишина, никого. Бросился к шкафу, открыл дверцы. – Играда, вылезай. Уже ушел, – я протянул руку. Из вороха одежды появилось миловидное улыбающееся личико, обрамленное копной всклокоченных желтых волос, затем женская рука схватилась за мою ладонь, и из шкафа выбралась Играда. – Чего он приходил? – кивнула Игра на дверь. – Да так… Нечистый его знает. Игра все не отпускала мою ладонь. Рукав ее халата сполз к локтю, и я невольно опустил глаза. Вся рука от локтя до кисти была покрыта, словно коростой, серой твердой кожей. Скверной. *** Впервые я встретил Играду три цикла назад во время инквизиторской облавы. – Впустите, пожалуйста, впустите! Кто-то настойчиво колотил во входную дверь. – Иду уже… Что случилось? «Облава! Всем оставаться на своих местах, инквизиция. Расстегнуть одежду», – доносились крики издалека. С одной и другой стороны квартала. Выхода не было. Только спрятаться по домам, разбежаться, как мыши по норам. Нет, если ты не поражен скверной, то чего бояться? Правильно – нечего. А если поражен?.. – Да впустите же вы! Я открыл дверь. В дом ввалилась девушка, упав мне на руки. Ее желтые волосы пахли солнечным ветром. Она прижалась ко мне, и я почувствовал нервную дрожь тела. И маленькие упругие груди под тонкой тканью платья. – В дом, быстрее! Девушка заглянула мне в глаза. Ее зрачки были зелеными, как морской прибой. – Прячься, – указал я на шкаф. Девушка, словно маленький, выкопанный на поверхность подземник, зарылась в груду белья. И тут же раздался стук в дверь. – Инквизиция, открывайте! Я открыл. На пороге стояли трое – двое гвардейцев с заряженными метательными трубками и молодой инквизитор. Совсем еще мальчишка. Кажется, его недавно приняли. – Расстегивай одежду! – рявкнул усатый краснолицый гвардеец. Мальчишка-инквизитор слегка покраснел. Видимо, не доставляло ему удовольствия разглядывать голые мужские тела. Сочувствую. Я расстегнул пуговицы. – Чист, – проворчал гвардеец. – Кто еще в доме? – Никого, – ответил я. Нечистый его забери! Не умею я врать. Кажется, голос ломкий стал. И лоб испариной покрылся. – Идемте, – сказал инквизитор. – Это же профессор Тард. Он под защитой Великого Инквизитора. У нас служит. Уф-ф, пронесло. Когда патруль утопал дальше, я вернулся к шкафу. Помог выбраться девушке – маленькому желтому солнышку. – Спасибо, – пробормотала она, опустив глаза. – А вы правда профессор? Такой молодой? «Да уж, – хотел было сказать я, – у нас в Академии нынче большая текучка кадров». Но вместо этого произнес: – Покажи. Девушка закатала рукав. По руке расползлось серое, цвета Луны Нечистого, пятно скверны. – Меня зовут Играда, – сказала девушка и улыбнулась. *** Играда сидела на диване, поджав под себя ноги, и держала бокал с вином. Элегантно сидела, словно аристократка. Не скажешь, что была детской учительницей в своей прошлой – до скверны – жизни. А сейчас скверна с каждым днем все выше и выше поднимается по ее руке. Скоро серая твердость переползет на тело, затянет голову… А дальше? Дальше оскверненные становятся образом не Создателя, а Нечистого. Я с тревогой бросил взгляд на Играду. Совсем кожа у нее на лбу тонкой стала. Вот-вот третий глаз, порожденный скверной, прорежется. – Что там? – спросила Игра. – Ничего, – поспешил я обнять девушку. – Все нормально. Я обязательно найду лекарство. Мы вылечим тебя. – Вылечим, – Играда тяжело вздохнула. – Это же не болезнь. Это не заразно. Это проклятие Нечистого. Девушка попыталась спрятать лицо в ладонях, но я схватил ее за руки. Заглянул в глаза. – Понимаешь, мне надо разобраться, что такое эта скверна. И тогда я пойму, как от нее избавиться. За окном ярко светили Луны. Белая Луна Создателя оставляла на полу светлые пятна. Серая Луна Нечистого добавляла к пятнам темные тона. Сегодня начало цикла – период Вознесения. Праздник, отмечающий дни, когда Создатель и Нечистый покинули наш мир и создали Луны. Луна Создателя – рай для душ, куда после смерти попадают праведники. Те, кто не копаются в земле в поисках старинных предметов. Не задают подозрительных вопросов: «Что было раньше? Отчего нам так сложно постичь мудрость древних книг? Почему все древнее – скверна?» Вот такие умники, которые хотят слишком много знать, являются одержимыми Нечистым. Они попадают в ад – на Серую Луну. Они и еще те, кто носит на себе печать скверны. Доблестная инквизиция ускоряет их вознесение. Сегодня, в начале дней Вознесения, Луны приближаются друг к другу и опускаются к самой земле. Море поднимается высоко, пытаясь бурными волнами разбить скалы. Если когда-нибудь это случится, то наш город рухнет в воду. Даже до моего дома в центре города доносится шум ударяющихся о камни волн. Защити нас, Создатель! Я поднял ладони к Белой Луне. А над Лунами висело ночное небо, расцвеченное белыми и серыми красками. Сейчас дальше Лун ничего не видно, но в другие дни… Когда заканчивается праздник Вознесения и цикл достигает середины, Луны отдаляются, становятся намного меньше, и далеко-далеко на небе загораются маленькие желтые звезды. Говорят, что это фонари Создателя и Нечистого, которые освещают им небесный путь. Но мне кажется совсем другое… – Покажи, куда уже поднялась? – обернулся я к Играде. Девушка расстегнула пуговицу и медленно опустила халат. Серая скверна с ее руки уже протянула свои щупальца на плечо. Я прикоснулся – твердая скверна едва прогибалась под пальцами. Медленно я опустил ладонь ниже – на гладкую и теплую женскую кожу. – Я с каждым днем все больше и больше похожа на Нечистого, да? – Не говори ерунды, – я обнял Играду. Звякнул о доски пола упавший бокал. – Кажется, мы разлили вино, – горячее дыхание девушки щекотало мне ухо. – Ну и Нечистый с ним, – сказал я. Через час, когда я уже засыпал, обнимая Игру, перед моим взором вновь возникла старинная картина, которую я нашел давно, еще в начале своей службы в инквизиции. На картине было изображено черное небо, наполненное сверкающими звездами. Небо дышало бесконечным пространством, манило неведомыми далями. И мне показалась, что там, из черных глубин, кто-то смотрел на меня пристальным вопрошающим взглядом. Звал. А в небе замерла непонятная конструкция, в которой переплелись металлические кубы и цилиндры. У меня не было тогда другого выхода – я отдал картину инквизиции. Как старинную вещь – источник скверны. И я подумал, а что, если Создатель живет не на Белой, а вот в этом непонятном небесном доме, изображенном на картине? Но потом я прогнал эту мысль – глупость какая. Странное сооружение не вызывало у меня священного трепета. Мне хотелось его изучить, понять, использовать… А Создатель, он… Я вновь почувствовал манящий взгляд из звездных глубин. А Создатель давно нас покинул… Когда я подумал это в первый раз, то сам испугался собственных мыслей. Да! Создатель покинул мир! Он ушел в эти далекие дали и зовет за собой нас – своих детей. А мы… Мы не слышим его зов. Мы покрываемся скверной и не понимаем, что это такое. Вот за такие мысли можно запросто угодить в инквизицию и вознестись. Я поднялся и зажег газовый светильник. Приподнял одну доску с пола, запустил руку в тайник и достал древнюю книгу. Белые страницы были сделаны из неизвестного мне гладкого твердого материала. Я изучал книгу уже целый цикл, пытаясь найти ответ. Понять суть бытия. – Что там у тебя? – сквозь сон спросила Игра. – Опять твоя книга? – Да. Ты спи. Извини, что зажег свет. Текст в книге был и понятен и чужд одновременно. Привычные буквы складывались в совсем незнакомые слова. Древние. Отмеченные Нечистым. Да, полно – верю ли я в Нечистого? В Создателя – верю. А в Нечистого? Почему инквизиция останавливает развитие науки, прикрываясь защитой от скверны? Ерунда какая-то. Вновь и вновь я возвращался к книге, вчитывался в древние слова, с трудом улавливая их смысл. «История довоенных космических исследований и колонизаций». «Планета с орбитой в зоне жизни». «Два спутника, чей период обращения…» «Космическая станция…» Книгу я обнаружил случайно. *** Была середина цикла. Море, уведенное за собой Лунами, ушло далеко от берега, обнажив дно и прибрежные пещеры в отвесных скалах. По мокрому песку бродили группы охотников за ползунами и мидиями. Кое-где бордовыми силуэтами стояли инквизиторы, наблюдая за процессом: не приведи Создатель, если кто найдет и утаит скверну – древнюю вещь. А море порой было богато на подобные находки. Конечно же, тут находился и я – ученый – представитель инквизиции. Охотники вначале подзывали к древним вещам меня, а я уже относил скверну инквизиторам. Я успевал бросить лишь один взгляд, только на мгновение прикоснуться к тайнам прошлого. Обидно, Нечистый его забери. Но в тот раз древнюю вещь нашел я сам. Краешек книги выглядывал из здоровенной кучи водорослей. Я нагнулся… И едва успел уклониться от мощной газовой струи, выпущенной скрывающимся в водорослях ползуном. Толчок подбросил ползуна, и неуклюжее на вид создание резво зашлепало по песку, перебирая пятью плоскими лапами. За фыркающим ползуном тут же погнались охотники. А я схватил книгу. Материал прочный, буквы целы, не размыты водой. О Создатель, что же мне было делать? Не мог же я отдать инквизиции такое сокровище? Рядом в водорослях я увидел большую мидию. Она приоткрывала створки панциря, выставляя напоказ белое склизкое тело. «На! На – ешь! Быстрее!» – я затолкал книгу прямо в мягкую плоть. «Хлоп!» – защелкнулись створки раковины. – Ну, что у вас здесь? Нашли что-нибудь? – ко мне тут же подскочил один из бордовых плащей. – Да! – кивнул я. – Славный обед получится. Давно я таких мидий не ел. – Повезло, – пробормотал инквизитор и потерял ко мне интерес. Я подозвал мальчишку-охотника. – Хочешь заработать пять монет? Глаза мальчишки зажглись, и он согласно кивнул. – Притащи-ка эту мидию ко мне домой. Держи задаток. Так я стал обладателем древних запрещенных знаний. Если об этом узнает инквизиция – быть мне вознесенным. *** Поскрипывали страницы книги. Пламя газовой горелки, неровное, вспыхивающее, тускло освещало древний текст. «Первые поселенцы…» «Колонизация планеты…» «Всепланетная война с применением орбитального оружия». «Смерть и хаос». «Война», – это я понял. Значит, была война? Наша цивилизация разрушена войной? Мы – поселенцы, чужие в этом мире? Неужели наши предки могли путешествовать в черном небе меж звезд? О Создатель, моя голова не выдерживала такого наплыва знаний. Мы не помним себя. Мы живем только текущим днем. Только здесь и сейчас. Маленький город, стоящий на обрыве над огромным морем. Кучка деревень, где крестьяне выращивают корнеплоды и пасут скот, при этом подозрительно поглядывая друг на друга – не завелась ли где скверна? Вот весь наш известный мир. Но что было раньше – тысячу циклов назад, десять тысяч? Мы находим старинные предметы – таинственные, непонятные, порождающие неясные воспоминания. Мы обнаруживаем крупицы прошлого, но они никак не хотят складываться в единую мозаичную картину. Мы жаждем знаний. Но все это – скверна. Древние вещи – скверна. Сведения о прошлых циклах – скверна. Области науки, не разрешенные инквизицией, – скверна! «Всепланетная война». Мы выжили в этой войне? Мы – это кто? И против кого воевали? «Космическая станция». «Орбитальное оружие». Получается, что инквизиция решила прекратить развитие науки, чтобы не повторить древнюю войну, где использовались научные изобретения? Или бордовые плащи просто не хотят упустить власть из своих рук? Вновь и вновь я возвращался к книге, по крохам впитывая знания. А пятно скверны на Играде разрасталось с каждым днем все больше и больше. *** Как всегда, очередной праздник Вознесения был ярким и красочным. Играла музыка. Веселились разодетые горожане. Взлетали вверх ракеты с обреченными на вознесение, вспыхивая в вышине разноцветными фейерверками. В общем, было весело. Я стоял на берегу. Смотрел на бушующие волны, добрасывающие брызги до моих ног, и вспоминал страницы книги. Слова пробегали перед моим взором, складываясь в цельную картину. «Орбитальное оружие». Отвесные скалы на берегу ровные, словно срезаны огромным ножом. Где-то внизу вода бурлит в темных разветвленных пещерах, многие из которых имеют рукотворное происхождение и укреплены толстыми плитами. Я когда-то спускался в подземелья вместе с инквизиторами. «Скверна, скверна, скверна… Именем инквизиции доступ закрыт!» «Ну что, ручной профессор, хочешь еще раз спуститься со мной?» Я помотал головой, прогоняя навязчивые воспоминания. «Ф-ш-ш-ши», – ринулась ввысь очередная ракета с привязанным к ней оскверненным. Ракеты, наполненные газом ползунов, взлетали вверх, по пути расцвечивая небо фейерверками. А там неведомая сила подхватывала несчастных и уносила ввысь – в небо меж двух Лун, Белой и Серой. – Видишь, сынок, – сказал стоящий неподалеку от меня папаша своему малышу, – вот так очищают от скверны. А Создатель с Нечистым, выходит, там, на небе, разберутся, куда грешную душу – в ад, значится, или в рай. «Ба-бах», – расцвел яркий бутон фейерверка. Теперь я знаю, как это называется – гравитационный туннель. Аномалия, возникающая при сближении двух Лун. Любое тело, подброшенное достаточно высоко в небо, утягивается в черноту пространства. В космос. «Ф-ш-ш-ши!» «Ба-бах!» – Папа, папа, посмотри, как красиво! Отражаются в глазах малыша яркие вспышки. Сначала на вознесение отводят под конвоем оскверненных. А потом идут добровольцы. Психи, прости меня Создатель. Кто точно знает, что ждет нас там? Бегут строчки книги, соединяются в понятный смысл, дарят знания. «Межпланетное пространство». «Вакуум…» «Звезды, галактика, вселенная…» Брызги волн порождают новые слова, стекающие перед глазами. – Ой, вон еще добровольца ведут! – Толстенький какой, думаете, сможет взлететь? – Люди! Вознеситесь к Создателю! Нет больше сил ждать и ощущать скверну этого мира. Последуйте за мной, и Создатель примет вас на свою Луну. И через несколько минут: «ф-ш-ш-ши, ба-бах!» Небо вспухает красными цветами, словно истекает кровью. – Папа, я тоже хочу летать! – А ну, домой! Ишь чего удумал! Я те щас полетаю. Придем домой, налетаешься у меня! – Что с вами? Вам плохо? Я обнаружил, что к руке прикасается молодая девушка. И смотрит на меня с тревогой. – Я думала, вы вот-вот вниз свалитесь. Раскачивались… – Спасибо, – улыбнулся я. – Все уже нормально… Быстрее домой. Закрыться от всего этого ужаса и углубиться в книгу. Понять и постичь. Но еще больше хотелось увидеть Играду. *** – Я вернулся! – Да, я ждал тебя. Проходи, присаживайся. На столе стояла откупоренная бутылка шелтского. На стуле, вольготно развалившись, сидел Великий Инквизитор Прем. Словно у себя дома. Я осторожно присел на краешек стула. «Создатель, где же Играда?!» – Ищешь кого-то? – поинтересовался Инквизитор. Я молчал, не отводил глаз от его змеиного взгляда. – Может, ты ищешь девушку со скверной на руке? Ту, что ублажала тебя по ночам? Я вскочил, задев стол. Разлетелась от удара о пол упавшая бутылка шелтского. – Что?! Что вы с ней сделали?! Прем прищурил свои синие глаза. – Ты хорошо рассмотрел сегодняшних возносящихся? Ее взяли утром… – А-а-а! Великий Инквизитор уклонился от моего удара, но я все-таки задел его краем сжатого кулака. Тонкие губы лопнули в уголке рта, и по подбородку Према потекла красная струйка крови. Словно пролилось дорогое вино. – Тварь! Удар в челюсть отбросил меня на пол. В зубных пластинах что-то противно хрустнуло, и я ощутил сладковатый вкус во рту. Я вновь попытался ударить Инквизитора, но он навалился сверху, прижал коленями мои руки к полу. – Выродок ползуна! – я плюнул в Према кровавой слюной. Великий Инквизитор схватил меня за горло, его рука высунулась из бордового рукава. Она была очень сильная, эта рука, полностью покрытая серой скверной. Перед глазами поплыло. Я стал задыхаться. – Что, не ожидал? Прем стукнул меня затылком о пол. – Что, скотина, не думал, что Великий Инквизитор может быть оскверненным? Снова удар. – Тварь… Тварь… Тварь, – повторял Инквизитор, дубася меня о пол. Его слова долетали до меня сквозь туман боли. – Я создал тебе все условия – ищи лекарство, узнавай, тварь, как избавиться от скверны. Не для меня ищи – для девки своей ищи! Что тебе еще надо было? Так нет же… Прем слегка ослабил хватку. – Хр… Хр… Кха, – я закашлялся, захлебываясь кровью. Глаза Према вновь вспыхнули ненавистью. – Вот тебе, тварь! Для меня бы ты никогда не смог. Даже в застенках не смог бы. Везде уши. Не мог я тебя заставить работать взаперти. Инквизитор отпустил меня и устало сел на стул. Полы его плаща разошлись, и я увидел, что Прем почти весь поражен скверной. Сколько ему осталось? Один цикл, два? И еще я вдруг понял, что Великий Инквизитор очень молод, едва ли старше меня. – Надо было придумать для тебя причину, подтолкнуть в нужном направлении. Вот тут эта девка и подвернулась как раз вовремя. Надо же было этой дуре выйти сегодня из дома. Как раз в лапы моих доблестных инквизиторов. – Кха… Куда?.. – К ребенку своему побежала. Надеялась увидеть. А ты не знал, что у твоего солнышка есть ребенок? – спросил Прем, заметив удивление в моих глазах. – Надо же, тебе не сказали. А как, думаешь, я мог иначе заставить ее доносить о каждом твоем шаге? – Скотина ты, Инквизитор, – сказал я, приподнимаясь. – А ты – почти мертвец. Ищи лекарство, тварь. Не найдешь за этот цикл – сдохнешь, как ползун. Вместе со мной сдохнешь. Великий Инквизитор встал и вышел из комнаты. «Раз, два, три, четыре…» – хлопнула входная дверь. Я подполз к тайнику, поднял доску – книга лежала на месте. Я прижал ее к груди и без сил повалился на пол. Играда не рассказала Инквизитору про книгу. Не выдала. Я засмеялся. Ответ… Я найду ответ, но не для тебя, Инквизитор. *** Я шел сквозь толпу к стартовой площадке. Шел медленно, воспринимая окружающие звуки как однообразный гул, сквозь который изредка прорывались понятные фразы. Установленная на площадке ракета ожидала добровольца, готового совершить вознесение. Никто, даже Великий Инквизитор, не вправе отменить это решение. Или помешать. – Какой молодой. Жалко… – А он высоко полетит, да? Он встретится с Создателем? Кажется, рядом мелькнуло лицо Великого Инквизитора. – Дурак! Что ты делаешь?! Край скверны налезал на шею Према уже заметным серым пятном. На Великого Инквизитора косились и старались быстрее убраться с его пути. Синие глаза Према блестели начинающимся безумием. – Прощай, Инквизитор, – сказал я. А может быть, только подумал. До ракеты оставалось двадцать долгих шагов. Можно было успеть о многом вспомнить, мысленно пролистывая страницы книги. «Направленная генная модификация». «Защитная реакция организма». «Существование в условиях космического вакуума». Я почувствовал спиной холод ракеты. Грудь и руки обхватили крепкие веревки. – Соединись с Создателем в Вознесении! Счастья тебе на Белой Луне. Это сказал стоящий рядом со мной инквизитор. Его рука потянулась к ракете. А где-то на границе моего восприятия в чьих-то руках бился Великий Инквизитор Прем. «Биологическая броня». «Защита от стартовых перегрузок и радиации открытого космоса». – Берегись! Инквизитор открыл на ракете клапан и, пригнувшись, отбежал в сторону. Лопнула тонкая мембрана, мощная струя газа вырвалась из сопла. Удар сдавил грудь. Веревка впилась в руки. Рывок! Снова рывок! Это лопались в ракете межъемкостные мембраны, позволяя вырываться наружу сжатому газу. Словно стальным обручем сжало голову, перехватило дыхание. Гравитационный туннель подхватил меня и стремительно понес ввысь – в бесконечное небо, в космос между двух Лун. Мне нечем дышать. Воздух, наполняющий мои легкие, сейчас разорвет их изнутри. От внутреннего давления лопнут кровеносные сосуды. Перед глазами серость – я больше ничего не вижу. Наверное, так приходит смерть. А что такое смерть? Я уже умер? Я – это кто? Я не помню. Я не ощущаю своего тела. Я лишь комок огненной боли. Судороги волнами пробегают по мне, напоминая, что я все еще жив. И вдруг в глубине меня, где-то далеко-далеко, шевельнулось нечто непонятное. Чужое. Вспыхнуло новой болью. Но это страдание было приятным. Сладостной пульсацией оно разлилось жаром от встрепенувшегося сердца. И я почувствовал, как в моем организме включается механизм трансформации. Как кожа начинает твердеть, превращаясь в упругую броню, защищающую от вакуума и радиации. Как то, что мы называли скверной, наползает на рот, полностью закрывает нос и глаза, образуя живую маску. Как ранее спавшие железы теперь вырабатывают кислород, а на лбу открывается затянутый защитной оболочкой новый глаз. Именно им я смотрю на мир. На черное космическое пространство. Где-то внизу проплывает зеленая планета со своей свитой – двумя большими Лунами. А вокруг – бесконечность, наполненная мириадами звезд. Я напряг мышцы, и связывающие меня веревки лопнули, словно тонкие нитки. И я ощутил свободу. Счастье и свободу. Потому что я вернулся домой. «Под действием неблагоприятных условий наш организм трансформируется, включается генетически заложенный механизм защиты. На протяжении тысяч циклов мы жили в космических станциях, и космос стал нашим домом. При нормальных условиях жизни мы вновь возвращаемся в свою первичную форму. Так было, и так будет, и не нам менять порядок вещей, заложенный далекими предками. Но помните о том, что мы – космические странники. Даже если мы осядем на планете, забудем про свое предназначение, то все равно рано или поздно механизм космозащиты даст о себе знать. Ибо космос – наша сущность, наша душа и смысл нашего бытия. Историк Крумос. Послевоенное время. История в назидание потомкам». Космическая станция висела неподвижной массой совсем недалеко от меня. Я достал из сумки самодельную маленькую ракету, пробил мембрану и, словно космический ползун, рывками полетел к станции. Я попаду на станцию. Благодаря точным указаниям автора книги я знаю, как это сделать. Я активирую древние механизмы, пробужу сотни межзвездных кораблей. Соберу всех своих собратьев, выброшенных в космос. Большинство из них живы и перемещаются в пространстве неподалеку от станции. В состоянии космозащиты, когда заканчиваются внутренние ресурсы, мы впадаем в анабиоз. И можем просуществовать очень долгое время. Почти вечность. И я скажу своим собратьям, кто мы есть и кем мы были. Но среди всех спасенных я непременно найду ту, чьи волосы похожи на маленькое желтое солнышко. А потом… Потом мы улетим туда – в далекое бесконечное пространство. Откуда я не перестаю слышать зов Создателя. Василий Доконт Уйти в Неведомое 1. Лекция о… – …Миры никогда и нигде не существуют поодиночке, – Ромка для убедительности помахал указательным пальцем перед моим носом и в опасной близости от моих же глаз. Пришлось отклониться, заранее признавая своё поражение в споре, чем мой гость не преминул воспользоваться. Ухватив со стола гроздь местного (мелкого, но очень сладкого) винограда, он продолжил: – Миры, подобно этому винограду, существуют гроздями, с той лишь разницей, что все ягоды миров, заключенные в оболочки времени и физических законов, одновременно находятся в одном и том же месте. Представь себе ящик, наполненный смесью из железных опилок, песка и древесной стружки… – Ромка оборвал с грозди половину ягод и сыпанул их в рот, пожевал, возможно, демонстрируя приготовление указанной смеси, но самой смеси не предъявил, а проглотил её и улыбнулся: – Ты за мыслью следишь? Я кивнул: слежу, мол. – Помести этот ящик сразу в несколько полей: в магнитное, в, скажем так – древесное, и, конечно же, в песочное. Каждое поле будет определяющим для сформированного им мира, а на прочие миры его влияние окажется ничтожным или вовсе нулевым. И мы получим в ящике три независимые вселенные, живущие по свои законам каждая, и совершенно не касающиеся двух остальных – вселенная магнитная, вселенная древесная и вселенная песочная, – Ромка доел виноград и уколол меня неуютным вопросом: – Пиво есть? Тащи! И рыбу, рыбу давай! Некоторое время он колдовал молча, точнее, священнодействовал, наслаждаясь пенным напитком и солёной – аж губы пекло – рыбой. Так уж повелось в наших с ним отношениях, что Ромка предпочитал рассуждать о мировых проблемах, потягивая именно моё пиво с моей же воблой, таранью или иным к пиву угощением. Когда-то я охотно на это шёл, поскольку рассуждения у Ромки случались и интересные, и довольно неожиданные. Правда, в этот раз наша беседа проходила немного напряжённо. Признаюсь – я давно отвык от этих нахальных набегов на мои припасы. Пиво – что! Пиво я покупал в ближайшем киоске, и пива мне жалко не было. Что же касается рыбы, то здесь история получалась иная – рыбу я ловил сам, засаливал сам и, после засолки, вялил тоже сам. И по своему вкусу. С плодами собственного труда всегда тяжело расставаться, если их отбирают. Хотя бы и друзья… Поэтому лёгкий налёт досады окутывал все мои мысли, слова и поступки, направленные на гостя – Ромку. Чего он упорно не замечал, поглощая лещей, бычков и щучек из моего не слишком большого запаса. – …Мы живём в паутине, – заявил гость, утолив первую жажду и первый рыбий голод. В смысле, голод на насоленную к пиву рыбу. В городе её так легко не возьмёшь, как в моей хибарке – протянул руку к связке, ухватил, на что упал взгляд, дёрг – и ты уже с добычей. – Мы всегда жили в паутине, – давил на психику мой гость, отрывая голову очередному лещу, раздирая тушку и вышелушивая из чешуи вяленное рыбье мясо – волоконце за волоконцем, волоконце за волоконцем... – …Мы всегда будем жить в паутине, – отхлебнув пива, продолжал Ромка. – Потому что мы – суть амёбы этого бренного мира, тесно связанного с бессчётным количеством миров, в которых водятся хищники покрупнее и поопаснее нас. Некие всеядные инфузории… И их тоже кто-то жрёт – ещё более крупный и ещё более жадный, чем они… Я с Ромкой не был согласен, потому что на амёбу не походил. Костистый и жилистый – ни одного мягкого места на всём теле. Даже сидел я на двух жгутах мышц, в которые медсестричка, делавшая мне когда-то уколы, с неимоверным трудом втыкала иголку шприца. Ничего общего с бесформенной амёбой. Но, не соглашаясь, я с Ромкой и не спорил – заведётся пуще прежнего, не остановить потом. А так была надежда, что насосавшись, пересохшим от долгой болтовни и разъедаемым солью, ртом, моего покупного пива, Ромка отвалится, наконец, и от изрядно прореженной рыбной связки. И завтра я, в одиночестве, смогу посмаковать её остатками, вспоминая несусветный Ромкин бред о паутине… – …Всё, что есть вокруг нас, за что не возьмись – всё паутина. Или отдельная, или часть всеобщей… Дороги грунтовые, асфальтовые, железные – огромная сеть паутины, раскинутой от океана до океана по всем материкам планеты. И мы, амёбы, бьёмся в этой паутине, изображая жизнь. На самом же деле – в ожидании, пока нас кто-нибудь не схарчит… Ромка победно посмотрел на безмолвного оппонента, то есть – на меня, и смачно отрыгнул пивом. – Загибай пальцы, – скомандовал он мне и, не встретив понимания, начал загибать свои. Не выпуская, впрочем, уже очищенного щучьего хвоста. – Дороги – р-раз! Р-раз – дор-роги! Сюда же прибавь улицы городов и прочих селений – самая, что ни на есть, паутина. Бр-р-р! Дороги – раз! Видимая внешне, то бишь, снаружи, паутина. А есть паутина скрытая – все подземные коммуникации городов. Целые лабиринты из паутины ходов, коридоров, трубопроводов и кабелей. Подземные сети – два! А паутина из радиоволн! – Ромка уже почти кричал. – Радиостанции да сотовые телефоны! Три! А паутина из наших сознаний, всего человечества сознаний, которые переплетены между собой самым хитрым образом и касаются друг друга, даже если нет контакта между нашими телами! И расстояния при этом не имеют никакого значения… Я здесь, с тобой, а на другом конце планеты моё сознание выкидывает чёрти какие фортели, о которых я – ни сном, ни духом… Четыр-ре! Четыр-ре! Или возьми Интернет – сеть из сетей, паутина из паутин! А самое главное, что все эти паутины, все эти сети могут резонировать! Понимаешь меня? Резонировать! Я насторожился – слово, дважды произнесенное Ромкой, не показалось мне случайным – и не сумел своей настороженности скрыть. Ромка вдруг перестал сотрясать пространство заурядными сентенциями, а принялся разъяснять мне осенившую его гениальную идею, всё так же тщательно упрощая предложения. Для лучшего моего понимания – как-никак, а учёным из нас двоих был, всё же, он. – Паутины – это не исключительное свойство только нашего мира. Все миры опутаны паутинами. Множественность опутанных паутинами миров! И все паутины во всех мирах, случается, резонируют! Ты видел, как вибрирует от малейшего дыхания обычная круглая паутина у наших, земных, пауков? Точно так же колеблется и любая другая паутина. И совершенно не важно, из чего она соткана. И соткана ли вообще. Каждая паутина имеет свою амплитуду колебаний. Одновременно, в мириадах миров, колеблются мириады паутин! А разделяют миры тонкие мембраны времени или пустяковых отличий в физических законах. И нет ничего удивительного, что некоторые части вибрирующих паутин попадают в резонанс друг с другом. И в точке резонанса паутины разных миров соединяются, разрывая преграды между мирами. Где на короткое время – на миг, на мгновение. Где – на более долгий срок. И тогда можно легко перейти из одного мира в другой… И переходят! Это случается постоянно. Чаще всего пропадают люди, но и объекты более крупные запросто переносятся из мира в мир. Корабли, самолёты, даже города… Вспомни, например, Китеж… 2. Просьба. Да, Ромкина оговорка не была случайной. Как и его появление на озере. Как и его нежданный визит ко мне. В нашем возрасте уже не дружат искренней детской дружбой. Взять Ромку, который сегодня есть не кто иной, как действительный академик и доктор почти десятка наук, среди которых математика и физика (с разными прибамбасами, типа квази-тр-тр-излучение, в названиях) занимают далеко не последнее место… И взять меня – обычного сторожа на лодочной станции пансионата «Холодный ключ»… Нет между нами равенства. Как, наверное, нет и былой дружбы – той, что была двадцать лет назад… Двадцать лет, это вам не хухры-мухры… Двадцать лет… двадцать лет… Я и не заметил, как они пролетели. И, хотя местные зовут меня Дедом, я не чувствовал возраста, пока не увидел Ромку. А Ромка сильно постарел. Брюшко, залысины, зачёсанная с боков плешь… И лицо… Обрюзгшее лицо заезженного жизнью человека… Единственное, что сохранилось с прежних времён – это высокий рост. Но мне, всё же, показалось, что он теперь ниже меня. Из-за опущенных вялых плеч и потерявшей упругость грудной клетки – словно выпустили из человека весь воздух, оставив одну пустую оболочку. Ну, и болезненно-бледная, синюшного цвета кожа никак не радовала, особенно в сравнении с моим загаром. Нипочём не узнал бы его при встрече, если бы Ромка не назвал меня студенческим прозвищем… Странно, как я это прозвище не забыл – за двадцать-то лет, что ношу другое. Дед, подай это, Дед, сделай то… Дед я теперь, Ромка, просто седой загорелый Дед… Кое в чём мне, наверное, перепало больше, чем тебе, оттого я и седой… Ну, да всё это пустяки, мелочи… Размышления, навеянные прошлым, несколько отвлекли меня от резонансов мировых паутин, и я упустил какую-то часть Ромкиной болтовни. Собственно, похоже – всю упустил, поскольку академик и многоразовый доктор наук перешёл от повествования к вопросам: – Ты же поможешь мне? Бывают вопросы, на которые не знаешь, что отвечать. Занять тебе денег, Ромка? Из моей нищенской зарплаты сторожа? Так я не накопил ничего – на пиво, сколько ты его пьёшь, дней за пять потратится всё, что наскребу по своим карманам. Что ещё у меня есть? Эта хибарка, да старая лодка, да три ореховых удилища. Вот и весь мой багаж, но вряд ли он тебе нужен, дорогой издёрганный старый друг… – Ты поможешь мне? – сколько надежды в коротком вопросе. – Чем же я помогу? Хочешь, живи у меня, недолго. – Нет, не это! – Ну, живи, сколько надо… – Да, нет же, нет! Свези меня на Остров! – Ромка, ты приехал днём? – Да. – Ты на озеро смотрел, когда приехал? – Да. – Ты видел на озере остров? Или хоть что-то на него похожее? Блюдце воды размером с носовой платок – от берега до берега доплюнуть можно… если хорошо постараться, конечно… Я живу здесь двадцать лет – никакого острова в глаза не видел… – Резонанс паутин… Ты не слушал меня? Остров не здесь, не на этом озере. Он появляется, когда резонанс достигает максимума… У меня все расчёты с собой, – Ромка кивнул на пухлый портфель, с которым заявился ко мне. – Относительно стабильный резонанс, с выходом в наш мир только в точке максимума… Перекрёсток миров… время от времени открывающаяся для нас дверь… Отвези меня туда… – Ромка, я не видел никакого острова… – Пять лет назад ты подобрал с Острова двух потерявшихся рыбаков – я всё про тебя знаю! – Я снял их с мостков, Ромка! С мостков, которых так потом и не нашли… – Потому что мостки – на Острове! – Да не было там никакого острова! – Рыбаки пропадали где-то целых две недели! Где? – Не знаю, Ромка, и никто не знает – оба, насколько мне известно, до сих пор в беспамятстве. Тёмное это дело, не совался бы ты в него. А? Как друга прошу, Ромка! – Это я тебя, как друга прошу! Посмотри на меня внимательно: полгода – самое большее, на что я могу надеяться. Я умираю, и ничего нельзя сделать! Помоги мне, свези на Остров! – Попытка найти лечение? – брякнул я сдуру и тут же пожалел об этом – в линялых глазах Ромки мелькнули искорки гнева, напомнив о его буйном нраве в молодые годы. Жаль, преображение длилось недолго – голос Ромки потерял всякие интонации, будто умер. Голос и – умер!? Бред! Чушь! – Я хочу увидеть… Я имею право… Я к этому стремился всю жизнь… Уйти, не узнав, какое оно – иномирье… Беседа наша заглохла, и мы вернулись к пиву и рыбе. 3. В путь! Ближе к полуночи почти одновременно произошли два события. Первое – Ромка заснул, оккупировав мой диван, и сладко посапывал, по-детски подсунув под щеку кулачок… кулак… кулачище… Второе – над озером начал собираться туман: зрелище удивительное и непонятное. О туманах я мало что знаю, кроме обычных для них причин – охлаждение водяных паров воздуха до температуры конденсации либо испарение с больших водных поверхностей. Были над озером и такие туманы. Вернее, в основном такие и были. Но иногда ложился на озеро туман необычный – от него не оставалось мокрых следов даже на чувствительном к влаге асфальте. Сам убедился, разглядывая дорожку, идущую от моей хибарки до причала лодочной станции. Был этот туман плотный и вязкий – от резкого взмаха рукой появлялся хорошо видимый пустой след, который неспешно снова заполнялся туманом, словно сгущённым молоком. Но дышалось в нём легко и приятно, потому что туман обладал едва слышным цветочным ароматом. И все, вдохнувшие его впервые, называли разные цветы – не помню случая, чтобы мнения о природе запаха совпадали. Начинался туман всегда в центре озера, клубами расползаясь во все стороны. Создавалось впечатление, что там работает, надрываясь, скрытый под поверхностью воды генератор декоративных туманов. Но замеры глубин середины озера упорно давали отметку в двести десять метров, а пробы грунта приносили лишь донный ил. Ещё одной странностью было то, что во время ЭТИХ туманов никто не сумел добраться до центра озера, чтобы замерять и брать пробы. А сам туман не поддавался анализу, поскольку давал обычный для здешних мест состав воздуха. Никаких примесей, совершенно никаких. Следует, правда, отметить, что изучением необычного тумана занимались местные энтузиасты – сотрудники краеведческого музея и учитель физики с кружком любознательных школьников. Поэтому результаты нельзя было считать достоверными с научной точки зрения – оборудование самодельное, неэталонное, и точность замеров получалась в соответствии со старой студенческой шуткой – «плюс, минус трамвайная остановка». Бесспорно было установлено: компас в тумане не действовал, часы ходили только механические, но по разному – я как-то одел две пары, и разница в их показаниях составила три часа. А с будильником, оставленным дома – соответственно, пять и восемь. Ещё туман, при всей его текучести, никогда не переступал, если можно так выразиться, порога моей хибарки. Обтекая со всех сторон домишко, он избегал открытых дверей и окон. Очень удобно – сиди и жди, пока заполнится туманом проём входной двери. Что я и делал до без четверти два. Ещё около часа ушло на подготовку лодки и сборы – нарезал бутербродов, наполнил анкерок свежей водой, перенёс в лодку удочки и банку с червями, вставил в уключины вёсла и уложил их вдоль бортов. После этого начал будить гостя: – Ромка, вставай, поехали! Тш-ш, да не шуми ты так. Приспичит говорить – не громче, чем в полголоса. А лучше вообще не болтай… – А!? Что!? Ага… – Портфель с расчётами возьми! – Оставь себе – там не сложно, ты разберёшься… Четыре курса физмата – не мог же ты всё забыть… Ещё успеешь в Академии наук действительным членом сесть… – Скорее – в тюрьму, за твоё убийство. И всю оставшуюся жизнь буду на допросах отвечать, куда девал светило нашей науки… Кто-нибудь знает, что ты поехал ко мне? – Н-нет, никто… не должен… – Вспомни, это важно. Мне неприятности не нужны. – Нет, никто! Точно – никто! Я и добирался попутным транспортом, чтобы именных билетов не брать – я же понимаю, что это след… – Ладно, пошли – поспешим, пока туман не закончился. До лодки добрались без особого труда – я-то дорогу знал хорошо, не оступался даже в тумане, а Ромка старательно держался рядом со мной. Робкую попытку академика сесть на вёсла я пресёк негромким вопросом: – И куда ты будешь грести? Отчалили. Туман сразу же пленил нас, скрыв все ориентиры за белой пеленой. Мне был смутно виден неподвижный Ромкин силуэт на корме, немного чётче – мои ноги на упоре и борта лодки по бокам. Лучше всего я различал свои руки на рукоятях вёсел, когда совершал гребок. Больше ничего вокруг не существовало. Только однажды где-то глухо, словно через слой ваты, застучал подвесной мотор. Звук вскоре отдалился, потом и вовсе затих. Ромка на корме шевельнулся – молчание тяготило его, а звук мотора был хорошим поводом начать разговор. – Краеведы – туман изучают, – тихо пояснил я Ромке. Туман исказил тембр моего голоса, и силуэт на корме нервно дёрнулся – знаю, каким неприятным становится человеческий голос в тумане. И чем громче речь – тем неприятней. Режет слух, а от крика боль в ушах и вовсе становится нестерпимой. Говорить Ромке уже расхотелось, и я мерно грёб, размышляя в тишине… У тумана были и другие особенности, известные только мне. Как бы я ни грёб и откуда бы я не пускался в путь – я всегда приплывал к мосткам. Но рассмотреть, что находится возле них, и где они берут начало – не получалось. Лодка либо стояла на месте, либо уплывала от мостков и – прочь из тумана. Все мои подобные попытки завершались у берега озера. При этом ни от мостков, ни от тумана не оставалось и следа. И ещё – я в тумане иногда слышал других, как это было с моторкой, но никогда ни с кем не встречался. Кроме случая с рыбаками, о котором напомнил мне Ромка. И я до сих пор не знаю, как рыбаки оказались на мостках, почему без лодки, и почему в таком состоянии. Сегодня я впервые плыл к мосткам с пассажиром, и мне было интересно знать – доберусь до них или нет? Если не доберусь – можно быть уверенным, что Ромке здесь попасть в иномирье уже не удастся. А если доберусь? Считать это разрешением для него? Или он разделит судьбу двух рыбаков – полная утрата памяти, и начинай жить заново? Вот под какие мысли я орудовал вёслами… Ромке повезло – до мостков мы добрались. Повезло ему и ещё раз – высадка десанта из академика и многоразового доктора наук (в одном лице) прошла без заминки. Даже буднично до тошноты. – Это здесь? – спросил нервным шепотом академик, ступая на дощатый настил. – Здесь, – таким же шепотом ответил я… 4. Каждому – своё. – Последний раз спрашиваю – возьмёшь бумаги? Открытие, достойное Нобелевки… Моя лучшая работа… – Ромка заволновался, что я неправильно пойму: – Тебя не обвинят в присвоении – я ни с кем эту тему не обсуждал… А сделать расчёты самостоятельно… В общем, этих формул никто не видел… Отличный подарок человечеству… – Я не стану осчастливливать человечество, Ромка. Тебе придётся взять портфель с собой, – я положил в портфель бутерброды и протянул его своему другу. – Мне не нужны неприятности, помнишь? Так что, не оставляй его даже на мостках – мало ли как сложится…. Будет лишним – выкинешь там где-то… где можно… Вот, и воду возьми – пригодится, наверное… – Что меня ждёт?.. Там? – Понятия не имею – никогда не вылезал из лодки… – Пойдём со мной, а? – всё-таки Ромке было страшно, и я понимал его страх. – Нет, – ответил я. – Не могу… – Не каждому, видно, дано, – буркнул Ромка и зашагал по мосткам, исчезающим в тумане. Академики тоже, бывает, говорят глупости. – Если что – возвращайся, я подожду… – но мои слова остались без ответа. И туман проглотил сначала Ромку – с портфелем в одной руке и анкерком – в другой… А немного спустя – и звук его шагов... Я сказал Ромке неправду – из лодки я вылезал. Один раз, двадцать лет назад. Это тогда я стал седым… Не думал, что от боли можно поседеть… Помню – привязал лодку к мосткам и шагнул, подобно Ромке, на деревянный настил. А дальше воспоминания отрывочны и нечётки. …Я лежу, скорчившись, на краю мостков. Корма лодки совсем рядом – только руку протянуть. Мне бы двинуться как-нибудь и скатиться в неё, и боль сразу отпустит. Я знаю это наверняка, но откуда – не имею понятия… А тело сведено судорогой, и ощущение такое, будто меня разрывает напряжением мышц на части. Чувствую, что из носа течёт кровь… Из ушей течёт кровь… Ещё немного, и кровь хлынет изо рта. И всё – мне конец… Провал в памяти… или сознание потерял… …Меня приподнимают… обтирают лицо… заставляют что-то пить… Провал в памяти… …Голоса, несколько голосов… Слышу не ушами – голоса гудят внутри головы… В общем гаме даже различаю отдельные слова, но ни одного не понимаю… Провал в памяти… …Меня переносят, укладывают на зыбкое… Оставляют одного… Мне страшно… Провал памяти… Слышу, как оживает тело – судорога постепенно отпускает, вместе с ней слабеет и боль. Могу вздохнуть, и с наслаждением дышу… Долго дышу… Шевелюсь – понемногу, потихоньку… Сажусь… открываю глаза – я в лодке, сижу на дне, в луже воды – никогда не видел сухих деревянных лодок… Туман вокруг… Туман в голове… Провал в памяти… ...Боль отпустила! Боли нет! Пытаюсь сообразить, что происходило на самом деле, а что – привиделось. Вспоминаю о голосах… вспоминаю голоса… вспоминаю отдельные слова, сказанные ими… Смысла в них как не было, так и нет, но откуда-то приходит знание… Ты был прав, Ромка – резонансы миров существуют. Существуют и Перекрёстки миров – точки перехода между мирами. Резонансы иногда предсказуемы, но управлять ими нельзя. За редким исключением – когда колебания резонанса совпадают с собственным колебанием живого существа. Ты, Ромка, упустил из виду одну из сетей-паутин – нервную систему человека. Она тоже колеблется с определённой амплитудой и вступает в резонансы, в том числе, и с колебаниями миров. Связь тут взаимная, как взаимно и их влияние. Здоровый человеческий организм способен стабилизировать резонанс, и смягчить напряжение в зоне взаимодействия миров. Стабильный резонанс, в свою очередь, обеспечивает здоровье, и долголетие резонатора. В то же время болезнь или смерть такого человека может спровоцировать разрушение Перекрёстка миров. А это связано и с катаклизмами в самих мирах. Я сразу подумал тогда о критском Лабиринте, убийстве Тесеем Минотавра и страшном землетрясении, разрушившем целую цивилизацию… Индивидуальность человека накладывает определённые ограничения на его взаимоотношения с точкой резонанса. В моём случае их оказалось два – я не могу приближаться вплотную к Перекрёстку и, тем более, пересекать его. Моя боль была реакцией на изменения характеристик резонанса из-за того, что я оказался слишком близко. А вмешательство кого-то (кого?) в опасную ситуацию и их помощь мне – реакцией на мою боль и вызванное ею нарушение стабильности Перекрёстка. Потому я и не пошёл с Ромкой. В самом деле – не каждому дано. Второе ограничение – я не могу далеко уезжать от места резонанса. Мне не удалось преодолеть даже половины расстояния до ближайшего города – чуть не кончился по дороге. Что же тогда говорить о возвращении в столицу? Пришлось бросить физмат, хотя способностей я имел не меньше Ромки. Мой мир теперь ограничен размерами озера. Я – резонатор! Хочешь – гордись, хочешь – плачь, что не дано посетить иные миры, и нельзя покидать мою часть Перекрёстка. Я навсегда привязан и к озеру, и к туману – незавидная, казалось бы, доля. Но я стараюсь не роптать – от судьбы не уйдёшь – и учусь довольствоваться тем, что мне доступно. Например, здесь, у мостков, ведущих в Неведомое, прекрасный клёв, а это само по себе уже немало... И зачем же время попусту терять? Я отобрал из банки самых крупных червей, нанизал их на крючки и забросил, одну за другой, все три удочки. Тут же начались поклёвки: раз… второй… третий… только успевай подсекать да снимать рыбу с крючков… Удачи мне в рыбной ловле… И тебе удачи, попаданец Ромка… Ефим Гамаюнов Поймать молнию Легкий, но ощутимый толчок в плечо вырвал из уютного сна. Валад открыл глаза, несколько секунд моргал, вырываясь из туманной дымки сновидений, а затем узнал – косматая борода, грива волос: Лев Дмитриевич Иванофский. – Чего смотришь? – чуть грубовато спросил Лев Дмитриевич. – Вставай. – Зачем? – спросил Валад. – На рыбалку, – усмехнулся в бороду разбудивший. – Ты домой вообще-то хочешь? – Так сказали же до обеда ничего, – начал оправдываться Валад. – Вставай, давай… до обеда. Тут тебе, товарисч, не аптека, тут тебе реальная действительность. Всего не намеряешь. Лев Дмитриевич повернулся и отошел, разом освободив место для тусклого света, заставившего, тем не менее, зажмуриться на мгновенье. Здоровый он какой, словно медведь, а не… лев, еще раз удивился Валад и сел на топчане. Рожа кололась отросшей щетиной. Сколько он уже тут… два с половиной дня? Надо было вчера спросить бритву, наверняка хоть у кого-то была. Как всегда – думал, с утра успеет. Странно: почему планы так внезапно поменялись? – Перекусывай и выходи. Только пошустрей, – прервал размышления гулкий голос Льва Дмитриевича. – Ждать не будем, ехать надо, все уже готовы. Спорить, а тем более опаздывать, не хотелось никак. Поэтому пришлось «по-быстрому» вставать, умываться ледяной водой из-под блестевшего тусклой латунью крана. Странно, они везде, наверное, такие…одинаковые. На столе стояла кастрюля с теплой еще кашей, но адреналин уже так гонял в крови, что действовал чуть не до тошноты. Валад плеснул кипятку из чайника в найденную на полках шкафа пластиковую кружку, бросил пару кусочков сахара, добавил травяной заварки. Отломил булки и, обжигаясь и втихую ругаясь, принялся пить чай. Стол, стулья, лавочки – все в доме было простым: главное крепко и надежно. К бревенчатым стенам гвоздиками прикреплены непонятные карты и схемы, точками и кружками на них обведены неизвестные области этого… чужого… мира. Два шкафа, где можно отыскать, кажется, все что угодно, электроплита… сломанный ноутбук, хрень какая-то со стрелками и шкалами… В шкафах, кстати, таких малопонятных штук половина полок битком, да еще большая. Пара дверей – в спальню с топчанами и на улицу – все, ничего в комнате другого и не было. Эй, размечтался! Время не ждет. Дожевывая на ходу, накинув дареную Львом Дмитриевичем синюю непромокаемую, «сосмехом» куртку, Валад выскочил на крыльцо. Порыв холодного, сырого воздуха плеснул в лицо волной, даже дыханье перехватило. Дом ловцов кругом обступали высокие деревья, похожие на сосмы, разве что иголки чуть длиннее и цвет странный. А так – один в один. Меж стволами висел серый, плотный туман. У стоящего чуть поодаль грузовика странной конструкции – вроде и знакомой, но непривычной – стояло несколько человек: кого-то Валад знал, кого-то – нет. Среди всех выделялся странно одетый косматый дед. За спиной у деда висел бубен, стоял он, опираясь на высокую клюку, повершьем которой служил белесый череп неведомого зверя. Одет, как ни странно, дед был в линялые джинсы и зеленную вытертую «милитари»-куртку с карманамиклапанами. – Эй, Вальд! – окликнул Козтян, высокий худой парень; вчера они вместе пили пиво и играли в нурды, которые тот упорно называл по-своему – нерды, – Давай сюда! Валад спустился, подошел к грузовику. – Ага, вот и молодой, – обернулся Лев Дмитриевич. – Знакомься, Валад, это Роман Станиславович, можно просто Станиславывывыч. Я тебе говорил. Кругом рассмеялись. Валад пожал протянутую неширокую, шершавую и удивительно жесткую ладонь. Роман Станиславович…разведчик и лучший ловец, как вчера говорил Козтян. Невысокий, неширокий, лысоватый… Обычный… правда жилистый, чувствуется – крепкий. И улыбается понастоящему, с морщинками у глаз. – Надеюсь хорошее хоть? Когда, говоришь, перенесло? – голос у ловца оказался тоже не богатырский. – Два дня назад, – ответил за него Лев Дмитриевич. – С Зимли, через и? Валад кивнул. – Понятно… А год там у вас какой? – Две тысячи десятый. – Даже так? – удивился отчего-то Роман Станиславович. – Ну, хорошо. Нечего тянуть, по местам, давай. Слушай, Валад? Правильно? Если что непонятно, спрашивай. Тут такое дело, сам понимаешь, может, сегодня твоей не будет. А будет моя или вон Митрича. Ты должен знать, чего дальше делать, если нас не будет. Так что спрашивай о чем угодно, лезь везде. Такое дело, тут почти каждый сам за себя. Лады, понял? – Понял, не дурак, - хотя… какой твоей? Чего твоей? – Ага, дурак бы не понял. Вот присказка, везде одинаковая… Полезли, что ли и мы, чего стоять-то. Айла, Лукья, дийст. Странный косматый дед чуть склонил голову и взмахнул перед собой своей странной клюкой. - Айла, Роман. Дийст и тур. В небольшой кузов под тентом, с прикрепленными вдоль бортов лавками, набилось шесть человек. Валад оказался зажатым между громадным «Митричем» и молчаливым усатым дядькой, которого все звали дядей Колей. Места в самом деле оказалось мало: кроме людей в кузове стояли фанерные коробки, лежали зачехленные продолговатые свертки, а на них громоздились набросанные кое-как рюкзаки. Роман Станиславович заглянул через задний борт, осмотрел всех и все, кивнул и скрылся, словно нырнув. Хлопнула дверца кабины, грузовик вздрогнул, взревнул, затарахтел: мелкая дрожь отозвалась по всему кузову. Хрипнула коробка, все дружно наклонились набок – поехали. Под тентом висело молчание, разговаривать не хотелось: шумел грузовичок изрядно. Да и дорога – сплошь колдобины и ямы. Валад вместе со всеми послушно наклонялся, подпрыгивал и дергался, подчиняясь необъяснимой воле железного чародея, везущего его на встречу с… А чем, собственно? Так никто ничего толком и не объяснил: в первый день он вообще только обвыкал, осматривался и прислушивался. Весь второй отходил от свалившихся сведений. Понял он немного: только, что, скорее всего, умер. Для своего, тамошнего мира, здесь-то чувствовал себя… паршиво, конечно… но очень даже живым. Вот так. Да и вправду умер, как получается, не совсем… «Параллельных миров дофига. Я даже не представляю сколько», – рассказывал ему в первый вечер Лев Дмитриевич, как понял Валад, старший в Доме ловцов, – «Ты вот с Зимли, я с Семли. Вообще почти одинаково, рядышком, значит, где-то… бывают, я читал, и странные искажения. Денбе, к примеру. Хе! А почему все на этом мире сходится, это я не знаю. И никто тебе не скажет, потому как никто и не знает тоже. Особенность какая-то есть, так вот… Тут тоже не все совсем как в наших… Э-э-э, как тебе объяснить… Тут, к примеру есть места, где звук обгоняет свет. Не везде, заметь, но места есть. Круто? Но непонятно, как в учебниках по кеометрии? Так-то мирок ничего, нормально, жить можно. Попадает народу сюда, в целом, много. Кто-то обживается, привыкает, а кто-то хочет вернуться обратно. Вот ты хочешь? Во и я, и остальные, кто живет в этом доме. Ловцы… Кто-то давно, до меня, а я тут почти самый старый, придумал, прижилось. Для местных мы вроде как секта, отверженные. Раньше они получше к параллелонавтам относились: находили, изучали, записывали, помогали… Без тех записей мы фиг чего сами смогли бы… Знания – страшная сила, тут конкретно вообще понимаешь…» Грузовик чихнул, оборвав мысли, и замер. Все последний раз дружно качнулись. – Приехали, – бодро прокомментировал Козтян, – Вылазьте, господа! Нумера! Спрыгнув наземь, Валад потянулся, разгоняя кровь по застывшим жилам, и осмотрелся. Чудо– механизм привез ловцов на каменистое поле – до самого горизонта, насколько хватало взора. Лишь одинокий клык скалы, прорвав землю, угрожающе целился в светло-голубое, без единого облачка, небо. Слева, на стыке земли и небесного купола, разливалась желтизна: Соннце вскоре должно появиться над миром. Картинка попахивала сюром, только тут все так… ненормально малость. Ловцы споро вытаскивали из кузова коробки, свертки, распаковывали странные приспособления, собирали чудные конструкции. Настоящий муравейник: суета, а приглядишься – каждый делает свое, все знают, что, где и когда. Еще Валад заметил, все, прежде чем начать работать, успели одеть поверх курток нечто, типа кольчуг: жилеты из тонких железных тросов, хитро переплетенных в сложный узор. – А мне бы такую? – спросил он Козтяна, - Для чего она? Козтян распутывал клубок тонких проводов и откликнулся не сразу. Он поднял глаза, несколько секунд пустым взглядом смотрел на Валада, опомнился и хитрым движением кивнул, указывая кудато за машину. – Это… ты с Львом или со Станиславовичем поговори. Они тебе не сказали, что ли ничего? О чем не сказали? Искорка беспокойства зажгла внутри костер тревоги. Почему не сказали? Он обогнул машину-грузовик, попутно отметив «скачущего лося» на капоте, и увидел Романа Станиславовича, Льва Дмитриевича и дядю Колю. Совет старейшин, значит. Вроде подслушивать нехорошо. Но никто ведь не запрещал подходить? – Надо поставить сетки вот там и вот там, – говорил дядя Коля, указывая направления. – Если оттуда придет, то по-любому хоть одну, но зацепим. Она мимо не пройдет, негде ей будет. – Можно еще приманить перед сетками. Вывесим оба змея, пустим напряги посильней, – добавил Лев Дмитриевич, скребя в бороде, - Хватит на сегодня? – Да заряжали позавчера. А сами вон оттуда закидывать будем, – дядя Коля указал на утес. – Нет, там лучше одного змея поставить. А то, если там зацепит, не успеем спуститься, сорвется. Или впустую уйдет. А в следующий раз когда снова гроза соберется… Два месяца опять ждать? Тут-то, если чего, к змею добежим, а второго, правильно говоришь, Лева, у сеток поставим. И туда сразу полуторный прикорм, кстати, и провод будет на вычислитель. А сами вот оттуда… И, считай, все перекрыли. Если будет, должны поймать, – Роман Станиславович провел рукой по редким волосам на маковке и поглядел на небо. – Придет, уверен? – спросил дядя Коля. – Придет. И местный, Лукья-шаман сказал, что сюда. Сегодня даже навестил, напомнил. Хоть один нормальный среди местных остался. И торгаш Дарим, но тот бабки на нас делает, сам хитро сделанный. Эх! Чую, мужики, сегодня моя будет, – ловец вздохнул. – И сдерну наконец … – Ага, и в прошлый раз говорил, и чего? Отдал свой улов, поменял, так сказать, мечту на реальность, и снова невыгодно, – Лев Дмитриевич хмыкнул в бороду. – Валад, что-то хотел? Ага, наконец-то заметили. – Да вот все кольчуги понацепали, а мне не дали, – выразил Валад свою мысль. – Я спросил, сказали, если чего к в… тебе подойти. Объяснить чего-то забыли, вроде… Трое ловцов на миг переглянулись, а затем Роман Станиславович хлопнул по плечам дядю Колю и Дмитрича. – Так, мужики, давайте-ка, займитесь делами. Надо успеть как можно раньше сетки поставить. И змеев, как договорились. А то подоспеет, а мы еще ушами хлопаем. Ловцы дружно, словно по команде, мотнули головами и заспешили за грузовик к ругающемуся на провода Козтяну. – Слушай, Володь, – начал ловец, и Валад даже не обратил внимания, что он неправильно произнес его имя: в голосе Романа Станиславовича появилось нечто… пугающее. – Ты, без обид, сегодня на особом положении. Ты вообще знаешь о том, как попал сюда? – Ну, – А что он знал? – Я вроде как умер. – Не просто вроде как умер, тебя вроде как убила молния. Начисто, даже кроссовок не осталось. Влад пораженно замер. В голове шарики сталкивались с роликами, шумели, вращались…Ведь точно! Он смутно припомнил, будто давний сон: шел дождь, а до машины надо…через поле. И он пошел, побежал, не боясь промокнуть, потому что все одно – уже насквозь… а потом… – Это для твоего мира, и для того, кто там остался. Но на самом деле ты, э-э-э, как бы, провалился сюда, в этот вот мир. Такое бывает, редко конечно…в моем мире от гроз пропадает человек двадцатьтридцать в год. Остальных просто… насовсем. Ну, это в моем – тридцать, в твоем не знаю, может больше, может меньше. Ты как, нормально себя? Валад кивнул. Какое уж тут нормально! Голова реально кружилась. У него, у здорового мужика! Вот как оно получается, а то Лев Митрич нафилософствовал, запутал. – Вернуться обратно можно. В моем мире раньше древние типа, боги, могли перемещаться так свободно. Ну, там Египет, Майя, не знаю у вас такое было-нет. Хотя было, так? Валад кивнул – было. Египет и Мая, точно так. Роман Станиславович продолжил: - Я об этом сам только тут узнал, после того, как меня закинуло в эту…страну 03. Странные тут места, если еще не заметил. Некоторые вещи – вообще не как везде. Тут даже ток от плюса к минусу идет, а иногда наоборот. Почему, я не разбирался, не до того. Самое главное, здесь вообще много про параллельные миры известно. Я не все читал, тут этим целые институты занимались. Информации – тьма, выкладки, вычисления, не поверишь, расчеты когда и кто может провалиться: мужчина, женщина, приблизительно из какого мира! Я сначала даже не верил, а они на самом деле как-то умели. Только потом чего-то заглохло, а теперь совсем плохо стало. Местные все свои знания похерили, объявили лженаукой, хотя про нас, про попаданцев, в смысле, знают. Радуйся еще, что мы тебя раньше местных нашли, а то сидел бы уже где-нибудь в резервации, учил местный язык, готовился принимать гражданство. - А чего, можно? А зачем мы им вообще? - Можно, можно. Поэтому тебя и спросили – домой хочешь. Так бы оставили, тут не плохо, просто если к ним попал – все, без права выбора: или гражданство и живешь, или… А для чего мы им… Местный тут, шаман, Лукья, ты его видел утром, обмолвился как-то: генофонд у населения плохой, дети почти не рождаются. Мы типа подпитка, хм… Ладно, не важно. Ну, так вот, о важном на сегодня: тут скоро будет местная гроза, наша задача легче-легкого: поймать молнию, а лучше две или три. – То есть, как? – Вот, теперь правильный вопрос. Но не главный. Как – увидишь, поближе ко мне будь, все расскажу и покажу, заодно учиться будешь. Главный вопрос – зачем? Молния, в общем, несет не только электрический заряд, но и психофизический. Проще говоря – информацию о пространственновременной точке разрыва. А точка – это малюсенькая дверь в другой мир, понимаешь? – В этот? – И в твой, и в мой, смотря, где порвалось. И, отчего опять не знаю, этот мир, словно перекресток, все на нем сходится. Попадают сюда отовсюду, а есть такой второй или нет, даже местные не узнали. И вот еще: в моем мире, ну, шарахнула молния, ну, гром и все…ни двери в зазеркалье ничего, закрылась, а может и не было. Дерево сгорит или дыра в песке. Электрическая составляющая чересчур сильная. А тут, получается, наоборот – психофизическая: каждая молния открывает дверь, обязательно. И через три минуты восемь секунд идет обратка. Ну, молния наоборот, которая закрывает дверь. То есть не сразу, а вот именно три минуты восемь секунд задержки. Это еще здешние яйцегоовые вычислили, мы только подсмотрели. И вот за это время у таких как мы с тобой, ловцов то бишь, есть возможность – узнать: откуда молния и отправить кого-то…домой. Валад обдумал полученную информацию. Оставаться он тут не хотел, раз. Вернуться домой можно, поймав нужную молнию – два. А три… – А я…как связан? Почему особое положение? – Ага, мозгуешь немного? Ты – это вообще просто. Ты провалился недавно, молнии таких любят. Где-то, может в облаках, может еще где, о тебе информация бродит, ищет тебя. Так что ты вроде живца будешь на сегодняшней рыбалке. А кольча тебя от молний заэкранирует, не даст увидеть... Офигеть! Валад изумленно посмотрел на Романа Станиславовича. Тот выглядел нормальным мужиком, но вот так… подстава… е… живец для молнии! Он чего совсем того? Человека как живца. На молнию! – Да ты не бойся, не так все страшно. Я сам два месяца бегал с «блесной», – хмыкнул ловец, разглядев возмущение и обиду в глазах Валада. – Тоже ведь учился. Ну и свежий был. Почти безопасно. – Почти? – выдавил Валад. – Может, конечно, пробить, если электроразряд чересчур высокий… только тут не убивает. Да и редко бывает, я не припомню. И подумай, ну, закинет тебя еще куда-нибудь, здесь или в другой мир. Все равно чужой, какая разница? Так что, не боись, побегаешь, может даже понравиться. Хотя если не хочешь, неволить не буду. Только с тобой поймать лишнюю молнию вероятности намного больше, а каждая молния – чья-то дверца. Вот и думай. Мысли, мысли, как много их в голове и все про одно. Да не про то. Толпятся, мешаются. Он посмотрел на нависшие тучи. Те возникли практически мгновенно – десять минут назад чистое небо, яркое, чуть фиолетовое тутошнее Соннце. Ррраззз! Бурлят, перекатываются темные валы, надвигаясь несокрушимой стеной на каменное пустынное море. Слева и впереди висят на надутых сребристых шарах тонкие сетки, отгораживая место ловли. От сеток тянутся невидимые (тонкие-тонкие, но они есть!), ювелирные провода. Такие же бегут и от двух огромных воздушных змеев, повисших так высоко, что едва видны. У грузовика, прямо на земле, стоит загадочное устройство: вычислитель, все проводки собираются и уходят в его недра. За аппаратом присматривает Козтян, так сегодня выпало. Выглядит он несчастливо: хмурится, сплевывает, ругается. По всему видно – хотел сегодня половить. А вот Валад и не хотел, да придется… – Попробуем, – бормочет Роман Станиславович, – Гляди, Володь. Это вроде как удочка. Ничего необычного. Берешь заряд и вот сюда. Теперь «крючок»: цепляем провод, рычажок вниз. Все, готово. Как крючки мастерить инструкция, если чего, в шкафу. Там несложно, детали простые, справишься, если внимательно прочитаешь. Так… Роман Станиславович поднял штуковину, больше напоминающую гранадомет, положил на плечо, прицелился в нависшие тучи и нажал на кнопку сбоку. Громко фыркнуло, зашипело, позади «удочки» вырвался язык пламени. Зажужжала закрепленная наверху катушка, отматывая тончайший провод. – Высоту ты сам регулируешь, вот тут, – показал ловец. – Есть и выше молнии стукают, есть и совсем низко. А! Не понимаешь? Ну, тут не всегда пробой в землю идет, иногда теряется где-то в тучах, не могу объяснить, у нас не так, и у вас тоже, думаю. И сам понимаешь, чем выше, тем дольше можно водить «крючок». Только не переводи смотри, тут грозы быстро заканчиваются. Доводишься за одной, а уже все. Так что пробовать надо на разных… триста хватит, для испытания. Наверху блеснуло, и Валад увидел, как на темном фоне туч раскрылся малюсенький белый кружок. – Поплавок, – пояснил Роман. – Если рядом готовый разряд, он светиться начинает, тогда будь готов. «Поплавок» медленно дрейфовал по небу. Роман Станиславович изредка отпускал или подтягивал провод, стараясь удержать крючок в зоне между сетками и воздушным шаром («Закидушка» – вспомнил Валад, так называют такие удочки – закинул наживку и ждешь, когда колокомьчик зазвенит) на утесе. Неожиданно их со Станиславовичем «поплавок» ярко сверкнул, в тот же миг вокруг него образовалось белесое облако. Оно задрожало и съежилось. Ослепительно вспыхнуло, оставив на сетчатке глаз синее пятно… – …мать, – выругался Роман Станиславович. – Сильный заряд! Ушла, пакость! Петро, Коль, давайте на двести попробуйте, похож там! Сам он торопливо выбрал провода, достал из рюкзака новый «крючок», зарядил удочку. - Что? Роман Станиславо… – Роман, проще давай! Вот так, Володь, оборвало… Ничего, видно сильная гроза идет, может, несколько поймаем сегодня! Валад неотрывно, до рези в глазах, смотрел на небо. Там «плавало» уже два поплавка – Льва и Петра – один выше, другой чуть ниже. Видно их было плоховато, но если так светится когда цепляет. То пропустить невозможно. Время шло, быстро ли - медленно ли, белые кружки спокойно висели – ни поклевки. Тянулись минуты, волны туч плавно перекатывались в набрякшем дождем небе. В какой-то миг все заметили – ветер стих. А затем грохнуло так, что Валад от неожиданности подпрыгнул. Тяжелые капли, дождавшись команды, ринулись на землю. Вмиг стало стопроцентно мокро и настолько же ничего не видно. «Непромокаемая» куртка, фигня полная», - подумал Валад, передернув плечами: по спине тек ледяной ручеек. – Проходит, – в сердцах бросил Роман Станиславович, – Уйдет, е-мое! Ну что, ловец, твоя очередь, особая пришла, готов? Валад готов не был. Очень не был, до противной дрожи по всему телу и слабости в коленях. После объяснений, конечно, не так страшно – не умрешь вроде как… Но это пока не пришло время, а теперь до ужаса хотелось остаться возле опытного ловца, дождаться окончания бури, обдумать, решиться. – Готов, – проскрипел он, сам поразившись этим звукам. В доказательство поднял «блесну» – вытянутую железную фигню, с прикрепленными снизу обрезиненными ручками и маленькой коробочкой с круглой шкалой. – Чего делать? – из стены дождя буквально вынырнул Лев Дмитриевич, – Ни хрена не видно! Ща закончится и все, пишите письма мелким подчерком! – Скажи всем, чтобы на пятьдесят во все стороны! Я к Косте, прибавим на сетках и шарах, если чего поверху выловят. Вовка по-прямой туда-обратно, должна быть хоть одна! – Роман спешно цеплял к «блесне» провода от удочки. – Так, смотри! Сейчас включи тумблер, берись за ручки, жми на торец правой, там кнопка, и следи за шкалой. Тут типа заряд твой информативный будет, самая приманка, как к семидесяти подойдет, можно начинать. Бежишь прямо, но аккуратно смотри! Слышишь? Провода крепкие, сам не зацепись. И ни в коем случае не отпускай ручки, а то так шарахнуть может! Маму-папу вспомнить не успеешь! – Ты же говорил, не убьет! – сердце у Валада стучало, отдаваясь в ушах, заглушая шум ветра и дождя. – Считай пошутил! Давай, Вовк, уходит, чтоб ее! Мгновение – хуже не бывает, собраться с духом и то некогда. Валад на миг прикрыл глаза. Не надышишься, все равно. Погода бушевала, грохот раскатывался от неба до самых атских закоулков. Яркие вспышки в вихрях туч, хлещущие холодные струи дождя, порывы ветра. С боков и позади, везде одинаково скверно. А впереди… Вот…е…, а он раньше думал, что людей в грозу похищают пришельцы, сколько в газетах такого читал, по телеку тоже. Вранье… Знать бы раньше… И чего, типа, тогда? Иди все лесом! Валад открыл глаза: зеленоватая подсвечивающаяся шкала – семьдесят три. Он поднял «блесну» над головой: – Е-мое! А-а-а-а-а-а-а! И побежал. Шатаясь, поскальзываясь, оступаясь. Страх ушел, вместо него Валад чувствовал безбашеную лихость: будь что будет! Перед глазами стоял дом, его совака Тжек… Лина… и чего они снова поссорились? Глупые… Нужно вернуться… Я хочу домой! Дооомооооой! – А-а-а-а-а-а-а! Он бежал сквозь грозу не своего мира, не зная точно для чего, но уверенно понимая – надо домой! И если так можно, то надо бежать! Навстречу неизвестности, ветру, дождю… всему. Сверху ярко вспыхнуло и по рукам ударило, словно на «блесну» упало бревно. Валад напрягся, но все же не удержался и упал на колено. Над головой щелкало, стрекотало. Волосы встали дыбом и, похоже, шевелились. Он поднял глаза, страшась увидеть – что? Блесна трескуче искрилась и светилась синеватым светом. Попалась? Попалась! По-па-лась! – Есть! – заорал он, ошеломленный, радостный или испуганный, не поймешь, чего больше. Чего дальше делать-то? Сердце выскакивало из груди. Рядом, словно призрак, из воды материализовался Лев Дмитриевич. Борода намокла и слиплась в мочалку, ливень стекал по плечам, словно ручьи с горы. – Уфффхх! Наконец-то! Хоть одна. Где уловитель?! Валад недоуменно смотрел на него. К ним подбежали дядя Коля и Роман. В руках у Станиславовича Валад заметил «удочку» и небольшой приборчик с светящимся окошком. – Есть! Сто восемнадцать с четвертью. С Зимли, через и! – Я оттуда, – отозвался Валад. – Везунчик, мать твою! – Станиславович широко развел руками, – А ты боялся! Ничего страшного, я ж говорил. Две минуты двадцать секунд. Давай пояс скорее, времени мало. Е! А кольча-то! – Так… особое… – Да-Е! – Роман на миг замер, сунул Митричу «удочку», а затем стал торопливо стаскивать свою жилетку, – Надевай скорее, мать-перемать, не успеем! Через минуту «кольчуга» оказалась на Валаде; Лев Дмитриевич уже вытащил из нутра «удочки», переданной ему Романом, стержень, с палец толщиной, и втыкал теперь его в коробку на поясе жилета Валада. – Все вроде. Блин, ну ты удачливый, Володь. С первого раза! Свою! Пальцем в небо и прямиком в свою звезду! Очевидное-невероятное! Бывай, если вспомнишь нас, выпей за рыбалку… – Вонки? – Валад мало чего понимал, все происходило слишком стремительно. Только что он бежал, трясясь от страха или дури. Хорошо хоть знал: теперь точно трясло от страха. – Водки, водки, чего же еще. Стой прямо! Удачи, парень! – ответил Роман Станиславович. Он сжал плечо, повернулся и пропал в дожде, вслед за Львом Дмитриевичем и дядей Колей. Отчего-то резануло внутри, странно и удивительно, словно сердце чего-то знало, и не хотело, чтобы так… Впереди и слева с неба упала почти прямая, всего пару раз изломанная молния. Затрещало и Валад увидел как осветилась сетка, вспыхнув ровными квадратами. Значит… Еще одна! – Попалась, – успел выдохнуть он и улыбнулся: страха не было. Еще одна! А затем все засветилось… ... Он почувствовал щекой шершавую, неприятную траву. Все тело ломило, во рту сухость, как с похмелья, хотя не пил…вроде. Открыл глаза и увидел… а ничего не увидел: трава, трава и трава. Соннце садилось? Всходило? Свет лился откуда-то из-за спины, и он решил, что, все-таки, садилось: красным светит, по-вечернему. Чего это он разлегся-то? Валад сел и тут же схватился за голову: виски прострелило острой болью. Е-е-е… Когда стало полегче, медленно встал и осмотрелся. Ужас! Поля и луга, как он сюда попал? Вот дела… И чего думать? А – Сумасшедший, Б – все же напился, С – отравил кто-то и вывез…для чего? Ниче-го не-пом-ню. Где люди, дома, самолеты? Цивилизация вскоре обнаружилась в виде дороги с пылящей одинокой машиной. И совсем рядом. Валад поднял руки, замахал и побежал, насколько это можно назвать бегом, к обнаруженным признакам культуры. А то и вправду недолго себя за дурака принять. Машина остановилась и терпеливо дождалась, пока Валад не доберется до нее. За рулем сидел молодой парень с рыжими волосами и испаньолкой. – Где я? – не самый лучший вопрос, но вырвался у Валада первым. – А где бы хотел быть? – отозвался парень. – На Зимле в Нижнем, – честно ответил Валад. – Эк тебя, – удивился парень, - Четыреста км. – Фига се, – теперь удивился Валад. – Садись, маленько подкину, – решила «испаньолка», – А чего это на тебе за железяка? Влад посмотрел на себя. Незнакомая синяя куртка, сетка какая-то…Роман Станиславович отдал же. Кто? Словно сон вставал перед глазами – нечто эфемерное, было-небыло, неуловимо ускользающее ненастоящее. Настоящее: откуда тогда… «кольча»?... – Слушай, ты не нариг? – запоздало спросил парень за рулем. На лице промелькнуло беспокойство. – Мне домой надо, - невпопад ответил Валад и сел в машину. – Подкинь, если не трудно. Парень пожал плечами и тронул рычаг передачи. Машина медленно тронулась и понеслась вперед, все ускоряясь и ускоряясь. Валад прикрыл глаза. Он вспомнит, обязательно вспомнит… когда доедет… И выпьет вонки… обещал… кому-то… Роман Станиславович увидел как «обратка» трескуче ушла в тучи. Давай, Володь, удачи тебе. А что это там так шарахнуло за секундочку до? Сетка слева искрилась синеватыми линиями. Есть, поймалась, родимая, прямиком в сеточку влетела! Вот удача, есть справедливость – то ни одной, то сразу две! Он помчался к грузовику, заряд от сетки на вычислитель придет. Не успел добежать, как налетел на Козтяна. Тот от неожиданности отлетел, грохнувшись на землю. – Земля. Через е. Двести семь и семь! – выдохнул Козтян. Гром разодрал небосвод на тысячу маленьких кусочков, тряхнув внутренности. Роман в ступоре осмысливал сказанное. Двести семь и семь, Земля. Вот оно: это его молния, его раскрытая дверь. Мурашки пробежали по спине, в животе похолодело – домой… Волга широкой лентой несет пропасть воды. Вспышка. Все что он помнил за мгновение как… А возвращатель-то… Е! Принять правильное решение, ой, как непросто порой это дается. Вовремя – еще реже. Искать кольчугу, снимать с Кости? Некогда? Или… Не так! Роман схватил палочку уловителя из руки Козтяна и помчался вновь по дождю. Отыскать человека за две минуты в кромешном аду… Можно ли? Тут гдето…тут. – Дядя Коля, давай, скорее! Правильно бежал, вовремя увидел, нутром почуял – угадал. Подбежал, нашарил на поясе коробку, вставил уловитель. Получилось быстро и четко. Успел, вобщем. Ничего не объясняя, вроде все понятно. – Ты это чего? – дядя Коля смотрел на Романа. – Ты это брось, твоя же очередь! – Так вышло, сам же видел…Вовке отдал. Некогда, не успею. А ты, дядя Коля, успеешь, поэтому все вот так. И не спорь, времени нет. Будешь в Саратове, зайди, куда говорил, ладно? – А ты? – стоящий перед Романом никак не мог выйти из ступора. Ошарашил он человека, да. Радостная, ожидаемая штука, а все равно – не готов, как так, почему. Тысячи вопросов. – Моя следующая будет. Точно тебе говорю – следующая, по-любому, моя! Поймаю самую здоровую! Вот такую, - он развел руки в стороны. Жилет на дяде Коле белесо засветился. Роман повернулся и побежал… …Следующая будет… Светлана Тулина Колбаса «…9 сентября, 206 год после ЕР Конец света начался как нельзя более некстати. Понимаю, насколько нелепой выглядит эта фраза, особенно будучи занесенной в ежедневник, но она наиболее точно выражает мои ощущения – более неподходящего времени для вселенской катастрофы было бы трудно придумать. Только-только всё стало налаживаться после нескольких сотен лет оголтелого евгенического мракобесия – и тут Земля решила преподнести сюрприз. Природа воистину обладает странным чувством юмора. Но стоит рассказать обо всём по порядку, тем более что именно для этого я решил систематизировать свои разрозненные записи. Вчера был эпохальный день – наконец-таки окончательно утвердили и приняли в последнем чтении закон об уголовной и административной ответственности за употребление оскорбительных терминов «маленький человек» и «маленькие люди». Вместо этих унижающих человеческое достоинство ругательств для обозначения мелких как социума официально закреплено архаичное и малоупотребимое ныне, но не несущее никакой отрицательной смысловой нагрузки слово «быдло». Так же решено использовать производные от этого термина «быдлован» и «быдлоюзер» - в отношении отдельных индивидуумов. В бытовой повседневной речи разрешено употреблять самоназвание «мелкие», но из официальных документов теперь навсегда изгнано позорное словосочетание «маленький человек». Наша партия добивалась этого знаменательного события более полувека, и ещё несколько лет назад у меня буквально опускались руки, когда кто-нибудь из коллег смотрел недоумевающее, пожимал плечами и говорил: - Ну и что здесь такого? Они же действительно маленькие… А некоторые осмеливались добавлять еще и «простые» - конечно, только если разговор происходил наедине, терять драгоценные баллы личностного рейтинга никому из них не хотелось, а за подобную непристойность в публичном месте вряд ли бы всё обошлось простым штрафом или общественными работами на пару недель. Но мы продолжали свою борьбу – тогда казавшуюся безнадёжной. В старинной классической музыке, электро-периодом которой одно время увлекалась моя жена Люсиль, был такой термин – «колбаса». Это означало постоянное повторение одной и той же темы, по кругу, с минимальными изменениями. В самые тяжёлые дни мне казалось, что вся наша жизнь – такая вот колбаса, вечно крутящаяся по одному и тому же кругу и заставляющая нас снова и снова наступать на те же самые грабли. Постоянное стремление разделить людей на сверх- и недо-человеков, не важно по какому признаку, но неизменно приписывая себя, конечно же, к первой категории. И лицемерие, повторяющееся из поколения в поколение. Сурово осудить методы дорвавшихся до власти евгенистов, но при этом продолжать пользоваться плодами их преступных деяний, оправдывая себя тем, что так уж исторически сложилось – это ли не верх цинизма? Иногда мне и самому казалось, что мы ничего не сумеем добиться, слишком уж все привыкли и не хотят никаких перемен, даже перемен к лучшему. И вот – свершилось. Такое знаметанельнейшее событие! И надо же, чтобы сегодня, словно в насмешку… Но вернусь на день назад, чтобы записать в подробностях наиболее запомнившееся. 8 сентября 206 года после Евгенической Реформации. Эта дата наверняка войдет в историю как Великий День начала искоренения многовековой несправедливости – так думал я, окрылённый и пьяный почти без вина. Я удрал с официального торжества после первого же тоста – хотелось немедленно разделить свою радость с теми, кто заслужил её более всего. Дома ждала жена, но она наверняка уже всё знает, из зала велась прямая трансляция. Люсиль не могла её не смотреть, ведь этот проект – наше с нею общее детище, шестой и самый любимый ребёнок, отнимавший порою куда больше времени, чем любой из пяти настоящих, и приносивший волнений не меньше, чем все они, вместе взятые. Люсиль наверняка всё уже знает, с нею мы отметим вечером, а сейчас мне следовало навестить и порадовать тех, кто вряд ли смотрел тиви. И я отправился в Мемориал. Когда-то эти районы называли «резервациями» или даже «спальными», но те времена, к счастью, давно миновали, колючая проволока, в несколько рядов окружавшая когда-то участок города, ныне съедена ржавчиной дотла, и ужасные те слова тоже истрепались и вышли из употребления. Рыжие ошметки уничтоженного временем ограждения иногда попадаются между стенами полуразрушенных домов, они меня даже радуют, эти уродливые фрагменты прошлого. Они показывают, насколько мы изменились. Сейчас ведь даже представить себе невозможно, чтобы какое-то пространство, будь то часть города, отдельное здание или просто клочок земли, было бы окружено колючей проволокой или забором. Однажды я попытался объяснить концепцию принудительного ограничения свободы своим детям, но не добился успеха. Они так ничего и не поняли, переспрашивая все время: - Но забор-то зачем? Ведь он же мешает! Ведь если забор, то как входить? И выходить как? А потом Лайса, самая младшая, принялась смеяться и хлопать в ладошки - она решила, что папочка рассказал смешную сказку. И они все смеялись вместе с ней, и двойняшки, и старший, Тимоти – уже вполне себе такой солидный первоклассник. И я тоже смеялся, и утирал с глаз слёзы радости. Это ведь прекрасно, что дети больше не понимают такого, это даёт нам шанс, всем нам! А забор из слов – он ведь ничуть не лучше забора из колючей проволоки. Зачастую – так даже и хуже… Я шёл по знакомой улочке между привычно обшарпанных стен полуразрушенных домов с картонками в оконных проемах, аккуратно перешагивая кучки мусора и здороваясь со всеми встречными. И радовался каждый раз, когда со мною здоровались в ответ, или даже просто кивали. Ещё каких-то десять лет назад, когда я только начинал свою работу здесь, добиться ответного «првета» – или даже просто вежливого кивка! – от местного быдла считалось невиданным достижением. А сегодня со мною здоровается чуть ли не каждый пятый. И некоторые даже не в ответ, а сами. Сами! А ведь не все из них ходили в мою группу, раньше я не обращал внимания, а сегодня вдруг как громом среди ясного неба. Это ли не прогресс и не доказательство? Значит, и между собою они тоже могут общаться и обучать друг друга, значит, наши труды не пропадают даром! Поистине, сегодня знаменательный день и мне есть чем гордиться… Жену я застал в клубе. Ну конечно же! Как я мог только подумать, что моя деятельная Люсиль в столь важный и радостный день усидит дома и будет терпеливо дожидаться мужа с работы, подобно средневековой домохозяйке! Я, очевидно, совсем потерял разум от радости, что мог такое подумать. Конечно же, ей пришла в голову та же самая мысль, что и мне – праздник будет неполным без участия в нём наших развивающихся друзей, даже мысленно я не хочу называть их подопечными, это оскорбительно. Люсиль очень энергична, но не всегда правильно оценивает ситуацию. Вот и сейчас, сияя радостной улыбкой и широко размахивая руками, она уже включила большой экран во всю стену ауди-зала и отыскала новостной канал. И теперь пыталась втолковать что-то собравшемуся в зале быдлу – всё также радостно улыбаясь и широко размахивая руками, такая прекрасная в своём порыве, что у меня защемило в груди. Я хотел бы ещё немного полюбоваться ею от порога, но положение следовало спасать – кое-кто из быдлован уже начал проявлять первые признаки скуки и нетерпения, этого нельзя допустить, если не хочешь потерять аудиторию и закрепить негативный рефлекс, они ведь куда легче положительных закрепляются, иногда буквально с первого раза, природа, ничего не поделаешь... Громко хлопнув в ладоши, я шагнул в зал. Резко взмахнул обеими руками вверх, через стороны. И замер, улыбаясь навстречу обернувшимся ко мне лицам. Вот чему никак не научится Люсиль. Широкие резкие жесты чрезвычайно эффективны для привлечения внимания, кто спорит. Но ими, как и любым сильнодействующим средством, нельзя слишком увлекаться, иначе наступает привыкание, или того хуже – отторжение. Так природа устроила, и между обычным человеком и быдлованом разница не настолько уж и велика, что бы там ни утверждали евгенисты. Просто мозг обычного человека с раннего детства подвергается массовым атакам разнообразных раздражителей, по специально разработанным обучающим и формирующим методикам, а потому адаптируется со временем и может выдержать довольно массированную информационную атаку, прежде чем наступит перегрузка и отторжение. Быдловане же, несмотря на всю проделанную нами работу, всё равно остаются куда более близкими к природе, а потому быстро утомляются и теряют интерес. В работе с ними главное – вовремя делать развлекательные паузы. Вот как сейчас, например. - Дядяденс! – кричит Вьюн, я узнаю его издалека по щербатой улыбке и торчащим во все стороны рыжим косичкам. - Сбачка! Дядяденс! Меня уже окружили, радостно дергали за одежду, выкрикивали приветствия высокими голосами. Вьюн пробился сквозь толпу, сияя жутенькой улыбкой, в которой с прошлой нашей встречи, похоже, зубов ещё поубавилось. Его рыжие бакенбарды тоже были заплетены в две тугие косички, воинственными ершиками торчащие вдоль гладко выбритого подбородка. Он протянул мне маленький фонарик из стандартного гуманитарного набора и протараторил: - Првет, Дядяденс! Сбачка гавк! Кажи сбачку, а?! И я зажёг фонарик и показал им «собачку» - на стене, тенью от ладони с оттопыренным мизинцем, при движении которого собачка «гавкала». Многочисленная аудитория была в полном восторге, Люсиль же смотрела осуждающе. Она не одобряла подобные «потакания низменным инстинктам», была куда более строгой учительницей и добивалась от своих быдлован просто таки потрясающих результатов. Достаточно упомянуть хотя бы о том, что в её группе была поголовная грамотность, и отдельные личности не бросали чтения даже после окончания учебы, нам постоянно приходилось обновлять с такой же регулярностью растаскиваемую клубную библиотечку. Вот только новеньких с каждым циклом к Люсиль записывалось всё меньше и меньше… Поиграв минут десять тенями на стене, я передал фонарик одному из учеников и попытался «сделать собачку» ладонью Вьюна. Мимоходом удивился её чистоте, но потом учуял запах фисташкового мыла и понял, что Люсиль не преминула первым делом прогнать всех через процедуру умывания, с гигиеной у неё строго. Я аккуратно прижал большой палец Вьюна к ладони сбоку, чтобы крайняя фаланга торчала ушком, потом помог оттопырить мизинец, придерживая при этом вместе остальные пальцы. Нам редко удается заниматься с детьми, а у взрослых костенеют не только суставы, да и наследственность у быдла не особо хорошая. Вьюн ещё довольно способный, многие вообще не могут шевелить пальцами по отдельности, только всеми вместе. Вьюн смущённо хихикал, смотрел на тень своей руки на стене (я уже почти не придерживал, чтобы не мешать), вздувал жилы на лбу, всё пытаясь отвести мизинец и «гавкнуть». Когда же, наконец, ему это удалось, уставился на собственную руку с недоумением и даже некоторым испугом, словно на месте привычной ладони и на самом деле оказалась собачья пасть… Позже, когда мы с Люсиль возвращались домой по плохо освещённым улочкам Вьюн вызвался проводить и важно шествовал впереди, такой трогательный в своём стремлении защитить нас от мнимых ночных опасностей, - Люсиль позволила своему неодобрению обрести словесную форму: - Они же не дети, Дэнис! Я успокаивающе приобнял её за узкие плечи – Люсиль до сих пор удалось каким-то чудом сохранить студенческую фигурку, и не скажешь, что родила и вынянчила пятерых. - Все мы в чём-то дети, Лю… Спорить мне не хотелось. Люсиль в ответ фыркнула, но промолчала, только покрепче прижалась ко мне. Наверное, в этот прекрасный вечер ей тоже не хотелось спорить. Тем более – в таком красивом и романтичном месте, как бывшее гетто… Когда-то муниципалитет принял решение о сохранении местных руин в качестве национального памятника, единственного в своем роде – тогда как раз шел строительный бум, и подобные отвратительные наследия прошлого повсеместно шли под бульдозер. Нашему научному городку не повезло – или же наоборот, повезло просто неслыханно, если смотреть с моей точки зрения. Как бы там ни было, трущобы именно нашего городишки были признаны самым классическим и первозданным вариантом типичного гетто, достойным для сохранения. Ободранные стены с остатками обоев внутри и граффити снаружи тщательно покрыли мономолекулярным слоем вечного пластика и закрепили стасис-полем, препятствуя дальнейшему разрушению. Разумеется, местных отсюда эвакуировали, предоставив им вполне комфортабельное жильё. Великолепные надувные домики, я сам жил в таком, пока был студентом, и первые два года уже с Люсиль, на берег выбрались только после рождения Тима. Наводные жилища очень удобны и самодостаточны, а к легкой качке быстро привыкаешь, многим она даже нравится. У нас всё-таки не море, а озеро, и больших волн не бывает. Новая гроздь таких домиков и была создана специально с учётом стандартных привычек и потребностей быдла, но то ли психологи-разработчики в чём-то просчитались, то ли наши быдловане оказались какими-то нестандартными. Как бы там ни было, но домики им не понравились. Ещё до окончания консервации то одно, то другое семейство пыталось вернуться в привычное место обитания, не обращая внимания ни на какие уговоры или убеждения. Когда же особо опасные процедуры закончились и охрану убрали, свершился массовый обратный исход переселённых. Буквально в течение пары ночей памятные руины были заново обжиты прежними обитателями. Так и получилось, что к моменту торжественного открытия наш Мемориал оказался куда более реалистичным и достоверным, чем задумывалось его создателями. Власти отнесли это обстоятельство к разряду положительных – ну вроде как одним ключом завернули сразу две гайки. И действительно, теперь уже трудно представить Мемориал без быдла и создаваемой им неповторимой культурной среды. Вот и сейчас – руины красиво подсвечены неверным дрожащим пламенем разведённых у стен костров. Некоторые горят странно, разноцветным искристым огнём с длинными трескучими выплесками – от таких стараюсь держаться подальше. Наверняка в них жгут раздобытый где-то пластик, хотя о вреде подобного мы не устаём твердить постоянно, при каждом удобном и неудобном случае, лишь бы слушали. И в ежедневно раздаваемые гуманитарные стандарт-наборы топливные брикеты входят в достаточном количестве. Но живой огонь горючего пластика – тоже часть местной культуры. И не самая худшая её часть – по крайней мере, уже лет сорок на подобных ядовитых кострах больше не жарят еду, а раньше ведь такое практиковалось здесь повсеместно. Не удивительно, что они такие низенькие, так часто болеют и так мало живут… Ничего, ничего, с этим мы тоже справимся когда-нибудь. Главное – начало положено… ******** 9 сентября 206 года пЕР Возвращаюсь в день сегодняшний, и возвращение это не приносит ничего, кроме горечи. Как я был счастлив вчера, какие надежды питал… Боюсь, если вчерашняя дата и войдёт в историю – то исключительно как последний день, когда человечество ещё не знало о своей участи. Вчера у нас была впереди вечность. Сегодня эта вечность схлопнулась до жалких ста, ну, может быть – ста пятидесяти лет. Данные об активизации ядра нашей планеты подтвердились, и последние зимы отнюдь не случайно были такими теплыми. Дальше будет только хуже. По предварительным прогнозам, не пройдёт и ста лет, как температура в наиболее глубоких океанских впадинах превысит точку кипения воды. Антарктида продержится ещё какое-то время, такое количество льда не растопить сразу даже всепланетарным чайником, но через двести лет вся вода нашей планеты перейдёт в парообразное состояние. Люди, конечно же, вымрут намного раньше… Я не всё понял в докладе того яйцеголового с Холма, слишком много научных терминов и малопонятных графиков, а я всё-таки специалист несколько в иной области. Но главное не понять было бы трудно Для предотвращения паники сегодняшнее заседание не транслировали в прямом эфире – редкий случай, мне бы сразу насторожиться или хотя бы проявить недоумение по поводу отсутствия надоедливых летающих камер, но я был слишком упоён вчерашним триумфом. Хорошо, что заседание не транслировалось – поведение некоторых профессоров оказалось до омерзения непристойным. Это уже потом, после ответного доклада ведущего инженера, когда стали делить места в «ковчегах». Проект, задуманный как научно-исследовательский, неожиданно обрёл чрезвычайно весомое практическое значение, на сегодняшний день окончательно достроен был лишь один из четырёх кораблей, и каждый из моих коллег, разумеется, желал получить место именно в нём. Я единственный сохранял спокойствие, в силу профессиональной специфики, и лишь в лёгком оцепенении думал – хорошо, что нет прямой трансляции и всё это безобразие не видит Люсиль. Она ведь со многими из них знакома и даже дружит, вот с этим, например, русским со странным именем Саныч. Как она сможет его уважать, если увидит вот таким – стучащим по кафедре огромными кулаками, с налившимся дурной кровью лицом, выпученными глазами и растопыренным ртом? Я так и не понял, чего он хотел от меня, почему так кричал? Почему вдруг убежал, махнув лопатообразной рукой, и начал кричать уже на кого-то другого. Конечно, меня мучила совесть – надо было бы попытаться их успокоить, хотя бы кого-то, подойти, поговорить, чисто по-человечески… Но я как никто в этом зале понимал всю безнадежность подобных действий сейчас – любой из них воспримет меня как врага и потенциального конкурента, и только, и слушать не станет. Слова забудутся, негативное отношение останется навсегда. И пусть даже это «навсегда» сейчас выглядит довольно жалко, на наш век его хватит. И потому я просто сидел, наблюдая и радуясь отсутствию прямой трансляции. Ко мне подошли уже после заседания, когда большинство разбежалось паковать чемоданы – с сегодняшнего вечера городок переходил на военное положение, избранным предлагалось переселиться в гостиницу рядом с доками и принести посильную помощь во внутреннем благоустройстве того из «ковчегов», что был уже завершён. До чего-то важного всю эту братию, конечно же, не допустили бы, но отделка жилых помещений вполне им по силам, и на истерики меньше времени будет. Правильный подход. Да и оборонять гостиницу в случае чего гораздо удобнее, чем весь городок. Подошел тип в штатском, я его и раньше видел иногда на заседаниях, всё гадал, что за ведомство он представляет, слишком уж мундирно выглядел на нём даже самый цивильный пиджак. Он представился, я сказал, что очень приятно, и сразу же забыл его фамилию – беда у меня с именами. Так и буду теперь его называть – просто тип в штатском. Он сказал, что мне присвоено звание старшего лейтенанта, и что в состав экипажа я включён на правах полноценного офицера, а не как остальные учёные. Потому что я лучший в своей области, и штатский мне доверяет. Я молчал, и тип добавил, что пассажирский талон распространяется на всю семью офицера. Хорошо быть лучшим в своей области – по основной профессии я ведь адаптационный психотренер, специализирующийся на катастрофах, развивающие игры с мелкими – это так, хобби. - Можно глянуть список? Штатский поморщился, но список достал – оговорившись, что это пока очень приблизительный и неточный вариант. Я просмотрел его мельком, чтобы лишний раз убедиться в том, о чём и без того уже догадался. Меня интересовала лишь одна графа, практически одинаковая у всех. И теперь настала моя очередь морщиться. В списке были одни лишь представители генетической элиты. Сплошные синие карты. Ладно бы не было красных или чёрных – таких я бы и сам забраковал, но ни одной желтой или белой, даже зелёной! Виват, евгеника… Я отложил список и поднял на штатского взгляд – очень надеюсь, что взгляд этот был достаточно тяжёл. - У меня есть одно условие. И оно не обсуждается… ******* 22 сентября 206 года Моим обязательным условием было присутствие на ковчеге быдла – причём в количестве, достаточном для создания полноценного социума. Конечно же, обсуждать пришлось, и ещё как! Даже голос сорвал. С десятого числа впервые выдались свободные полчаса – меня выставили из зала на том основании, что даже своим молчанием я влияю на коллег и не даю им высказываться откровенно. Спешу записать хоть что-то, пока в зале решается моя судьба. Официальные СМИ пока еще молчат – прослушиваю краем уха новостную выжимку ежедневно, чтобы быть в курсе. Но какие-то слухи уже просочились, Саныч ходил в город и говорит, что в продуктовых магазинах не протолкнуться, метут всё подряд – верная примета наступления скверных времён. Какой-то богатенький, но не слишком умный энтузиаст пригнал экскаваторы и затеял рядом с кампусом рыть убежище. Смешно. Нынче не та катастрофа, которую можно пересидеть под землёй, и тот, кто зароется глубже прочих, просто умрёт немножечко раньше. «Ковчеги» - единственный шанс. Говорят, заложили ещё пару десятков где-то на других доках – плюс те три, что в спешном порядке достраиваются у нас. Я не очень верю таким разговорам - не та техника, чтобы счёт шел на десятки. Если ошибусь – буду только рад. Очень много нерешённых дел, а времени нет, совсем нет времени… что же они там так долго возятся, зря я, что ли, почти две недели не затыкался, даже голос сорвал, то с одним, то с другим, но, кажется, сумел убедить достаточное количество, мне не надо единогласного, мне чуть более половины вполне достаточно… Они же умные люди, должны понимать, в разнообразии – единственный шанс… Времени не хватает катастрофически, за эти две недели ни разу не был дома, некогда, спал урывками прямо тут, на диванчике. Люсиль видел пару раз на планёрках – она в каком-то комитете и тоже должна присутствовать. Но подойти не удавалось, только обменяться улыбками издалека. Земля горит под ногами… Очень верное выражение, очень ёмкое. Понимаю, что физически жара ощущаться ещё не должно, земля ничуть не горячее, чем обычно, ну, может быть, на пару градусов, не более – но буквально ощущаю, как она прижигает пятки сквозь тонкие подошвы ботинок. Даже здесь, в прохладном коридоре у зала заседаний, где до неё шесть этажей и толстый слой асфальта… Кажется, выходят. Сворачиваюсь Надеюсь, вечером допишу поподробнее… ********* 31 сентября 306 года Вообще-то, уже три минуты назад сентябрь кончился, но я достал ежедневник и развернул клавиатуру более получаса назад, так что пусть будет всё-таки сентябрь, только тридцать первое, а не тридцатое. Хороший день для подведения итогов. Тем более, что есть чем похвастаться. Я таки добился достаточного генетического разноцветия на борту нашего «ковчега». Четыре десятка зелёных и двадцать восемь жёлтых, пришлось остальным потесниться, а некоторым так и вообще сдать билет и дожидаться следующего рейса. Ох, и верещали же они… Зато теперь с нами будет Саныч, а он не только вполне приятный сосед, но ещё и руки имеет золотые, вечно если какая поломка в лаборатории – прямым ходом к нему бегут. Никогда бы не подумал, что у него жёлтая карта, такой здоровяк, а вот поди ж ты… Понятно, чего он тогда так разволновался. И, конечно, быдло. Правда, исключительно белокарточные, но тут я и сам не возражал – равноправие равноправием, но у нас просто физически не будет возможности развернуть на борту полноценный стационар по поддержанию жизни в хрониках. Тяжёлые случаи наверняка появятся и в процессе полёта, но я осмотрел наш медблок и понял, для чего часть криокамер оставлена пустыми. Я говорю «наше», «наш»… привык за неделю. Восьмой день ночую в своей будущей каюте. Вдали от Люсиль и детей. Так лучше. Завтра (вернее, уже сегодня) вряд ли будет время что-либо записать, послезавтра намечен старт, потому постараюсь коротко. Мои коллеги пытались поймать меня на слабо, так это, кажется, называется у примитивных народов. Они провели грязный прием, не подозревая, что грязь не липнет к таким чистым душам, как Люсиль, и, смею надеяться, я сам. Они предложили мне выбирать между быдлом и семьёй – на том основании, что система жизнеобеспечения рассчитана на определённое количество человек, и лишних мощностей взять просто неоткуда. Каюсь, в своем стремлении воспринимать их как точно таких же людей, просто выглядящих и говорящих немного иначе, я зашел слишком далеко и совершенно не подумал о том, что разработанные для стандартных человеческих особей криокамеры и гибернационные коконы совершенно не подходят для мелких. Даже по размеру, а ведь есть ещё и различия в физиологии. И поэтому семьям офицеров предложено провести часть полёта в криокамерах – пока не будут достроены и подключены дополнительные фильтры. Офицеры выразили своё согласие – при условии, если исключений не будет. Люсиль от криокамеры отказалась, и я её понимал – это ведь означало расставание с детьми, до двенадцатилетнего возраста человека опасно подвергать гибернации, а до восьми лет – так и попросту невозможно. Разница физиологии, как и с мелкими, вот ведь забавное совпадение… Нам не дали поговорить, просто объяснили ситуацию и потребовали от меня немедленного ответа. Тип в штатском ухмылялся мерзко – моя любовь к Люсиль наверняка была зафиксирована и подшита в его секретном досье, и потому он считал разыгранную карту беспроигрышной. А я смотрел на Люсиль, маленькую и гордую Люсиль, как она осунулась за последние недели, словно вишнёвое деревце под ледяными порывами зимнего ветра… Лицо бледное, глаза лихорадочно горят, губы плотно сжаты. Ты боишься, маленькая? Ты ведь тоже знаешь, как сильно я тебя люблю, но ты знаешь и цену наших надежд, и потому ты боишься… Не бойся, я никогда тебя не предам. Я ободряюще улыбнулся своей жене через зал и вынул из кармашка световое перо. - Вы правы, - сказал я, ставя подпись на контракте и протягивая его оторопевшему типу в штатском. – Исключения подрывают дисциплину. После этого я обернулся к Люсиль, но глаз её больше не увидел, только затылок – она протискивалась к выходу. Подумав, что она хотела поговорить со мною без свидетелей, я тоже постарался выйти сразу, как только смог. Только вот получилось это не слишком быстро, сначала пришлось утрясать множество деталей. Когда же я выбрался в коридор, Люсиль там уже не было. На проходной сказали, что она покинула гостиницу довольно давно. Коммуникатор не отвечал. Она всегда его выключала, когда обижалась. Это было больно и несправедливо, я ведь всё сделал правильно. Так, как мы хотели. Мне тоже нелегко дался выбор, я хотел поговорить об этом и взаимно утешиться, на что же тут обижаться? Тем более – сейчас, когда у меня совершенно нет времени играть в эти глупые женские игры. Столько дел ещё надо утрясти, столько проблем решить… Конечно же, я не поехал за ней. А она меня так и не простила. Хотя я и не виноват – ни в чём, совершенно! Не могла же она всерьёз думать, что я откажусь от идеалов всей жизни только чтобы не расставаться с семьёй? Или могла?.. Женщины иногда ведут себя так странно… Не произошло ничего страшного, они улетят вторым «ковчегом», и года не пройдёт, я узнавал, они первые в приоритетном списке. Ей должны были об этом сообщить, так чего же она обижается? Даже не попрощалась… Коммуникатор по-прежнему выключен, полчаса пытался дозвониться, не хотелось завершать земную часть записок на такой вот нотке. Но, видно, ничего не поделаешь… Эх, Люсиль, Люсиль, вечная моя боль и нежность… Удачи тебе. ******** 2 октября 206 г. Сегодня не произошло ничего особенного, если не считать планового старта с мыса Джоу корабля класса «ковчег», в чью научно-исследовательскую миссию верят разве что самые наивные из обывателей. На борту куча народу, как в живом, так и в замороженном виде, и ваш покорный слуга, который по этому случаю употребил малую толику алкоголезаменительной электростимуляции. ********** 21 октября 206 Думал, взлетим, и будет побольше времени для заметок. Ага! Щаз. Такое впечатление, словно время вообще исчезло. Вчера правительство наконец объявило народу о грядущей катастрофе. И заверило, что беспокоиться не о чём, время в запасе имеется, и космические корабли, в которых можно достойно существовать веками, будут построены в достаточном количестве, на данный момент строится восемнадцать таких, первые два будут готовы уже в этом десятилетии. Забавно – то ли слухи не врали, то ли врёт президент. Что реальнее? Дослушать речь не удалось – нас обстреляли. С лунной орбиты, мы как раз в досягаемости оказались. Хотелось бы, конечно, узнать, кто из союзников протащил сюда ракеты «космос-космос», о существовании которых настолько активно твердили всё последнее время, что всерьёз в оное никто и не верил. И чем этому кому-то так не понравился наш «ковчег»? Впрочем, спросить не у кого. Да и нечем теперь – единственной жертвой обстрела оказалась антенна дальней связи. Починить нереально, там всё оплавилось. Запасной не имеется – кто же мог подумать, что в эту огромную и очень прочную дуру влепят торпедой с близкого расстояния? Так что новостей с Земли больше не будет. Впрочем, нам и без этого хватает проблем. Не успели отойти от обстрела, прозвучал новый сигнал тревоги – полетела система генерации воздуха третьего яруса. А это, между прочим, мои мелкие, пришлось влезать в защитный костюм и мчаться чинить наравне с прочими. Хотя что я там мог починить? Так, ключ подержать. Но соседи бы не поняли, останься я в стороне, многие и так смотрят косо. Хорошо ещё, что следующая авария произошла на нашем ярусе – хотя, конечно, «хорошо» - это не тот эпитет, которым хотелось бы описывать прорыв канализации. Впрочем, это действительно хорошо – физические нагрузки выматывают тело, не оставляя на душевные переживания ни сил, ни времени. Никакой тренажёр так не вымотает. Сплю не больше трёх часов в сутки, зато никаких сновидений, и засыпаю мгновенно. В свободное время хожу на третий уровень – занимаюсь с теми, кто выражает желание. Таких мало. Последняя мелкая месть типа в штатском – среди двух сотен отобранных им для нашего ковчега быдлован нет ни одного, с кем бы я работал в Мемориале. Чужие лица, недоверчивые ухмылки, подозрительные взгляды исподлобья… Пройдёт много времени, прежде чем кто-то из них улыбнётся мне открыто и радостно и крикнет: «Првет, дядяденс!». Но я точно знаю, что рано или поздно такое время настанет. И это помогает мне жить. А пока я показываю им, как лает собачка. **** 14 ноября Сегодня очень нехороший день. Мне кажется, что Саныч сходит с ума, и это ужасно, он ведь мой ближайший сосед, его каюта рядом с моею, только вход за поворотом, из параллельного коридора. Мы иногда перестукиваемся, когда лень или усталость мешают сделать несколько шагов. Я сначала радовался такому обстоятельству, тем более, что с другой стороны у меня соседи из офицеров, с ними я стараюсь не общаться, они так до сих пор и не простили, что я временно лишил их общества жён, хотя тогда это и казалось единственно верным решением. Впрочем, давно бы стоило понять, что нет ничего более постоянного, чем временные меры. Наладить дополнительные очереди системы жизнеобеспечения никак не удаётся – да что там! На это просто нет ни времени, ни сил, починить бы то, что ломается чуть ли не каждый день и чуть ли не на каждом шагу. Не удаётся и набрать скорость, мы ещё даже пояса астероидов не преодолели, хотя по всем расчётам должны уже быть за пределами орбиты Юпитера. А вот сегодня еще и Саныч… Я не видел его несколько дней, и уже успел встревожиться. Тем более, что неизвестный шутник прошлой ночью вылил банку какой-то красной гадости прямо перед моей дверью и размазал её, словно шваброй, протянув бурый прерывистый след вдоль всего коридора к лестнице. Я, конечно, ни на секунду не поверил, что это кровь, но всё равно было неприятно и тревожно. Тем более, что у Саныча вот уже несколько дней заперта дверь и на вопросительный стук в переборку ответом служит лишь полное молчание. Он ввалился ко мне сегодня, грязный и страшный. Выхлебал почти полную бутылку воды, а потом разразился самой длинной речью, которую я от него когда-либо слышал. - Это твои сволочи виноваты! - кричал он. - Они грызут переборки! Как крысы! Им тесно, понимаешь?! Простора не хватает! Вот и ломают стенки… и плевать им, что в стенках проходят кабели! Они так привыкли, ломать всё, что им дают. Всё равно ведь дадут новенькое, так почему бы не сломать то, что уже дадено? Просто так, потому что за это не убивают. Он крутанул выпученными глазами и схватил меня за плечо. Лицо его было безумным. - Так вот, запомни, - сказал он мне почти тихо. - И передай. Я. Буду. За это. Убивать. Так и передай. Понял? Троих уже замочил, и это только начало. Отпустил моё плечо и вышел. Конечно, я никому ничего не сказал. Он совершенно обезумел, но он мой друг, и кому будет лучше, если его запрут в изоляторе?.. ******** 3 декабря Я не уверен, стоит ли записывать то, что сегодня со мною было. Я не уверен даже, что это было на самом деле. Я ни в чём не уверен… Только в том, что как следует набрался – в столовой никого не было, и работал автомат псевдоалькогольной стимуляции. Обычно его включают только по праздникам, а тут такая удача… Я прижал электроды к вискам и набрался по полной. А потом вдруг погас свет. Я хихикнул и наощупь стал выбираться из столовой. Я думал, что это удачная шутка такая, погасить свет, как раз, когда я набрался. И тут в коридоре кто-то закричал, скорее удивленно, чем испуганно. Крик смолк, но был явственно слышен лёгкий и быстрый топоток. Продолжая хихикать, я пошёл на звук, всё ещё полагая, что это шутка. Уже в коридоре поскользнулся на чём-то липком и упал. Шутка резко перестала мне нравиться. Рядом раздавались странные звуки, какая-то возня и деловитое хлюпанье. Я нащупал в кармане фонарик, зачем-то взял его в зубы и включил. Никогда не забуду того, что увидел – или того, что мне привиделось в узком луче портативного фонаря... Три окровавленных человеческих морды – именно морды, лицами такое не назвать, - смотрят на свет, щурятся, изо рта одной свисает кусок чего-то чёрно-красного, быстро двигаются челюсти, дожевывая, втягивая с уже знакомым хлюпаньем… Фонарик упал и погас. Как оказался в каюте – не помню. Вроде бы, бежал в полной темноте, не рискуя больше включить фонарик даже на миг. Как я умудрился его схватить, почему не потерял – не понимаю. Но фонарик вот он, лежит на койке… значит, я всё-таки добежал, и фонарик не потерял, и сам никуда не сверзился… Возможно ли такое? Не уверен. Ковчег огромен, в нём полно закоулков и ловушек, в темноте куда проще споткнуться и свернуть шею, чем добраться до нужного места, даже в трезвом виде, а я был далеко не трезв, киловольт триста засандалил, да на нервах, что усиливает эффект. Было ли всё привидевшееся пьяным бредом? Не уверен. Нос разбит, на руке глубокий порез, лицо и рубашка залиты кровью. Моя ли это кровь? Не уверен… ********* 22 декабря. Когда погас свет, я был на второй палубе. Шел заниматься с мелкими, но встретил знакомого и задержался. Стыдно признаться, но в последнее время занятия не доставляют уже мне такого светлого удовольствия, как ранее. Я зарёкся употреблять электростимуляторы после того кошмара, но всё равно никак не могу отделаться от воспоминаний. Понимаю, что виноват сам, нафантазировал всяких ужасов, да ещё Саныча наслушался, вот всё и сложилось. Но ничего не могу поделать – каждый раз, когда они мне улыбаются, меня пробирает дрожь. Понимаю, что это слабость, недостойная настоящего психотренера, и борюсь с собою по мере сил. Не пропустил ни одного занятия. Но если по пути выпадает малейшая возможность хотя бы чуть задержаться… Вот и сейчас – заболтался с малознакомым техником, с которым утром оказались рядом в столовской очереди. В этот раз свет не просто погас – ещё и тряхануло крепенько так. Я упал на пол, как и техник, только вот он сразу же вскочил, чертыхаясь и громогласно требуя объяснений непонятно от кого, я же вставать и не подумал. Вжался в щель между полом и навесной консолью, и постарался не дышать, жалея лишь об одном – что щель слишком узкая, целиком не влезть, так, чуть-чуть. И уже потом услышал легкий и совсем нестрашный топоток, от которого сердце моё пропустило удар, а потом забилось быстро-быстро, словно у зажатой в кулаке птицы. Топоток стёк по лестнице единым потоком, и распался на отдельные ручейки, я слышал их все, несмотря на громогласно матерящегося рядом техника. Внезапно техник замолчал на полуфразе. Сказал словно бы удивлённо: - Что за черт?.. Забулькал, захрипел сипло, и рухнул на пол. Пару раз еще дёрнулся, скребя ногтями пластик, но топоток уже окружил его, и дёрганья прекратились. А потом стихло и бульканье. Его сменили звуки волочения, удалившиеся в сторону лестницы. Я ещё полежал в своем ненадёжном убежище, глядя, как медленно разгораются лампы аварийного освещения. Потом вылез из щели и сел на полу, обессилено привалившись спиной к стене и стараясь не вляпаться в тёмную лужицу, от которой тянулся длинный смазанный след в сторону лестницы. Я долго смотрел на эту лужицу, как заворожённый. Пока в неё не опустился с размаху грязный офицерский ботинок. Подняв глаза, я понял, что окружён. Их было много, очень много. И они мне улыбались, радостно и предвкушающе, так улыбается хозяйка аппетиному куску бекона прежде, чем бросить его на сковородку. Ножи были только у четверых, но этого вполне достаточно, даже будь я вооружён – видел, с какой скоростью и мастерством они орудуют мелкими и бритвенно острыми заточками. За углом вскрикнула женщина, крик был приглушён дверью каюты и оборвался быстро. - Месть, - сказал один из тех, что был без ножа. – Нчего лчного. Дсять ваших за кждого ншего. Тбе не пвезло. Двое с ножами шагнули ближе, кто-то схватил меня за волосы, запрокидывая голову. Говорят, в предсмертный момент человек видит всю свою прошлую жизнь… интересно, кто это говорит? Кто мог рассказать? Ведь оттуда не возвращаются. - Сбачка! – вдруг закричал тот, что держал меня за волосы. – Сбачка, куси-куси! Наш чел, кажет сбачку! Дядяденс, кажи сбачку! Куси-куси! Это был один из моих новых подопечных. Как же его зовут, не помню… Кажется, Клык. Точно, Клык – оскалился, и подпиленный острым треугольником левый хорошо заметен. Как он ест, ведь неудобно, наверняка все губы в кровь исцарапывает, господи, о чём я…. Они расступились, размазывая ботинками кровь по светлому пластику и продолжая смотреть на меня и улыбаться. Но это были уже совсем другие улыбки – детские и восторженно-просительные. И я показывал им собачку. Прямо тут, на забрызганной кровью переборке, стараясь не вслушиваться в отчаянные крики из глубины коридора. По счастью, крики были короткими и быстро кончились. ********* 21 апреля 207 года. Полгода не брался за ежедневник. А вот взялся – и понимаю, что писать толком и не о чём. Ну, разве что, о том, что совсем недавно во время распила одной из переборок мелкие перерубили кабель электропитания систем гибернации. Всё бы ничего, там пятикратное дублирование. Только вот этот кабель как раз и был пятым. Последним. Прежние четыре нашли и повыдирали из переборок месяца три назад, тогда как раз была мода на плетёные фенечки, а у кабельных проводочков такая красивая разноцветная оплётка, как же тут было устоять… Что меня в них потрясает – так это вот эта самая бездумность. Когда в переборке выжигается дыра просто потому, что кому-то лень пройти полсотни метров и завернуть за угол, чтобы попасть в соседний коридор. И ведь быстрее всё равно не получится – расплавленный пластик жжётся, приходится ждать, пока остынет. Все равно прожигают и ждут. Или вот фенечки эти опять же… Впрочем, это даже и к лучшему, что из криокамер никто не встанет – продовольственные склады разграблены. Месяц пировали до кишечных расстройств, вонь стояла просто чудовищная, думал, очистители не справятся. Ничего, справились. Думал ли я, что смогу выжить в таком вот, даже не знаю, как его назвать? Ничего, тоже справился. Человек способен привыкнуть к любому миру. Если в этом мире для него есть ниша. Мне повезло – я местный кинематограф и цирк в одном лице. Пытаюсь сеять разумное, доброе, вечное… Вру. Ничего я уже не пытаюсь. Только выжить. За мною присылают почти каждый вечер – и я иду демонстрировать своё искусство. Иногда удаётся привлечь их внимание песней или сказкой, но чаще от меня требуют примитивный театр теней. За мной присылают отвратительного жирного типа по имени Дохляк. Примитивный юмор, как же иначе обозвать пузанчика? На нём драная офицерская форма, на ремне болтается палка сырокопчёной колбасы – своеобразный символ власти, подобными мягкими дубинками Клык одаривает только самых приближённых. Съесть такой атрибут для получившего – верх глупости, но некоторые съедают. Просто так, хохмы ради. Они очень многое делают ради этой самой хохмы. Мне грех жаловаться - я ведь и жив-то тоже только из-за этой их любви к бессмысленному веселью. Но всё же – интересно, что это за колбаса? Несколько раз пытался прочитать название, но никак не удается, Дохляк вертит её в руке, словно специально дразня. Знает, паскуда, что я готов убить за эту палку, вот и дразнится. Я легко мог бы его убить – он слабый и низенький, даже по меркам мелких. Ручонки тонкие и шейка хлипкая, несмотря на пухленькое пузичко. Схватить за цыплячью шейку и треснуть мордой о переборку, все мозги наружу и вылезут. Только вот что потом? Вряд ли Клык пошлёт кого другого, если я так поступлю с одним из его посланцев. Без театра теней им будет скучно, но прожить они смогут. Я же без гонорарных консервов загнусь очень быстро, столовская автоматика давно уже не работает, очевидно, её кабели тоже пошли на фенечки. Так что представления у Клыка – мой единственный шанс выжить. Я это знаю. И Клык знает, что я знаю. Потому и не боится присылать Дохляка со столь вожделенным символом власти на поясе. Знает – я не лишу себя шанса на будущее из-за одноразовой возможности полакомиться. Хотя иногда и очень хочется… ************* Начало мая. Числа точно не знаю, провалялся в отключке довольно долго, если судить по отросшей щетине. У мелких не спросишь – для них всё, что больше перерыва между двумя хавками – уже «долго-долго», уточнять бесполезно, то ли сутки, то ли двое, то ли вообще неделя прошла. Хотел поинтересоваться у кого-нибудь из соседей – и понял, что отстал от жизни. Соседей у меня больше нет. Ну, ладно, двери… я ещё могу понять, зачем их разломали буквально на куски, в этом есть какаяникакая, но всё-таки логика. Но зачем выворачивать из стены экран коммуникатора? И чем им помешал противоперегрузочный кокон? Он ведь прочный, это же как постараться надо было, чтобы на ленточки… В каюте Саныча стены больше не серые – грязно бурые, в разводах уже подсохшего и свернувшегося. Похоже, он таки успел доделать свою пилу. А я-то думал – откуда эта вонь… хорошо, что моя каюта за углом, а то бы вообще жизни не стало, кондиционеры-то почти не справляются. От непродолжительной прогулки разболелась нога и в глазах зеленеет – оно и понятно, я ведь последний свой гонорар до дома так и не донёс, значит, кормёжка была за двое суток до отключки, да и что там есть-то? Банка несчастной спаржи, с детства её терпеть не мог. Ничего, ничего, сейчас доползу до каюты, а там и Дохляк припожалует, они же знают, что я очнулся и даже на прогулку выбрался, они всегда и всё знают… Значит, скоро позовут и накормят. Я им нужен. Моя каюта – единственная во всём коридоре с почти целой дверью, только замок словно бы выгрызен огромной крысой – если, конечно, есть такие крысы, зубам которых поддаётся армированный керамопласт. Теперь понятно, чем они двери дербанили, хорошая у Саныча пила получилась… Полежу на койке, отдышусь, запишу всё. Я ведь давно понял, только признавать не хотел – не для кого-то пишу, для себя. И с самого начала только для себя и писал – знал же, что не будет читать никто. Кому интересны чужие дневники? Разве что будущим историкам. Но тогда мне надо было вырубать свои послания в камне, они сохранились бы на века. А в ежедневнике заряд не вечен. Хотя, конечно, неизвестно ещё, кто из нас переживёт другого. Чаю надежду, что всё-таки я, меня подкармливают, хотя и скудно, а раздобыть исправный зарядник в наших условиях – из разряда малонаучной фантастики. Впрочем, я уже мог бы быть мёртв, а ежедневник всё так же помигивал бы жёлтеньким сигналом наполовину разряженного аккумулятора. Мне повезло, не успел далеко отойти, кормильцы оказались буквально рядом – прибежали, отбили у диких, донесли до каюты – я к тому времени, получив удар какой-то железякой в висок, представлял собою вполне готовый к употреблению продукт, кто-то из наиболее шустрых нападавших даже успел разрезать куртку и оставил на груди довольно длинную царапину. Правда, не очень глубокую. Повезло. Ещё более повезло, что выбранный потрошителем нож оказался довольно чистым – ни одной целой аптечки я ведь так и не нашёл, и мелкие, если не врут, тоже, а я ведь им за неё обещал последний бенгальский огонь и три раза прокукарекать на палочке, они почему-то высоко оценивают эту глупость. Приходится дозировать и кукарекать только по особым случаям. Всё-таки я им нужен. Клык скалит острые зубки, похлопывает по колену ободряюще, щебечет: - Сами съедим! Никому не дадим! И заливается дробным смехом, довольный. Поэт. Это он шутит так. И уже убил двоих, которые не поняли юмора. Ну, или подумали, что в каждой шутке есть доля чего-то другого, кроме. Зря они так подумали. Думать вообще вредно. И я, наверное, зря привередничал – последний был вполне себе ничего, здоровый такой, и прожарен в меру… а консервов всё равно надолго не хватит… *** Середина мая. Так и не удалось узнать более точной даты. Впрочем, это не та проблема, на которую стоит тратить время и силы. Главное сейчас – продержаться. Я всё-таки добился! Я был прав! Боже, какое же это счастье – знать, что ты был прав, что ты нужен, что тебя ценят и уважают, и готовы порвать пасть любому, кто покусится… Слава Создателю всего сущего, что позволил мне дожить и воочию увидеть торжество справедливости и триумф толерантности. Быдлоюзеры – такие же, как и мы! Они тоже способны на большие чувства, надо им только помочь – и они раскроются во всей своей первозданной красе и величие. Чему я и явился свидетелем шесть дней назад, и что – льщу себя надеждой! – произошло не без моей скромной помощи. Сегодня - шестой день после того, как появилась надежда. Схватка с зарвавшимися дикими была около двух недель назад, переломный момент, надо обязательно записать! Вдруг повезёт, и ктонибудь всё-таки… или даже я сам – когда-нибудь, потом, тихо и спокойно состарившись, буду зачитывать внукам… Но – по порядку. В тот день, когда я пришёл в себя, меня не просто пригласили показать очередное представление на потеху Клыку со товарищи – меня приняли в свои. По высшему разряду. И Клык сказал речь. Прочувствованно так. Какое бешенство и какую горечь утраты они ощутили, когда увидели надо мной того дикого с окровавленным ножом. Раньше они не понимали, насколько я им дорог и как без меня будет плохо, а тогда сразу всё поняли. И решили торжественно принять в почётные братья, и даже жён мне предложили – любых, на выбор… Как я мог отказаться от столь щедрого и по-детски наивного дара? Конечно же, никак не мог. Их было пятеро, и недостаток мастерства они с лихвой искупали избытком энтузиазма. Сказали, что я могу прогнать любую, если не понравится, или же оставить всех. Пожалуй, склоняюсь к последнему, девочки так старались. А потом меня торжественно проводили до каюты, и Дохляк опять вертел своей колбасой чуть ли не перед носом, но мне было плевать, пусть сам ею давится. Я был доволен и сыт – перед тем, как предложить мне жен, Клык разделил со мною копченый окорок того дикого, что так резко изменил мою жизнь, попытавшись её забрать. Я аж прослезился от умиления – они же специально не стали просто жарить, а закоптили, чтобы и я мог причаститься, когда оклемаюсь. А кто-то ещё смел утверждать, что им чужды благодарность и благородство?! Пусть теперь подавятся этими утверждениями, как Дохляк своей колбасой! *** Вроде бы конец. Кажется, июля… . Колбаса оказалась тухлой… Дмитрий Дерех Мартимон-Плаза Расслабляться нельзя. Подходя к лифту в глубине роскошного холла «Царей и Фараонов» Карвен цепким наметанным взглядом окинул случайного попутчика. Нескольких минут плавного подъема хорошему профессионалу вполне достаточно. И, уже идя по устланному восточным ковром коридору к своему номеру, тоже пару раз обернулся. Ковер - совсем нехорошо, глушит шаги. А перед тем как зайти, он тщательно осмотрел замок: нет ли царапин, трещинок. Ариксона так и сделали – поджидали в ванной гостиничного номера, черт знает, как пробрались туда. Просто это такая игра. Когда ты двенадцать лет торгуешь оружием по всем обитаемым мирам нашей бескрайней Вселенной, когда знаешь много разного – жди незваных гостей, и не забывай оборачиваться перед каждым поворотом. С кривой усмешкой стукнул по отделанной золотом кнопке слива. И сиденье унитаза здесь подогревают, и бумага нежная. Люкс, мать его. А вот здоровье уже не то, совсем не то. Сколько лет мотался по окраинным мирам... Там выращивали дурманы, дающие иллюзию свободного полета в океане любви, там добывали вещества, один грамм которых взрывал небольшой астероид, но главное - там воевали: все против всех и каждый за себя. Старый знакомый третий мир, только в бесконечном космическом пространстве. Кряхтя, Карвен взобрался на огромную круглую кровать, улегся на перины и подушки, источающие слабый аромат лаванды. Что-то с кишечником: или съел лишнее, или, действительно, возраст и стрессы сделали свое дело. Включил экран, пощелкал пультом, тоже с золотым ободком: несколько развлекательных передач, музыкальный канал, спорт... Срочное сообщение. Сегодня утром повстанцы на Веренне-20 взорвали космодром. Также напоминаем, что с прошлой недели они контролируют рудники, удерживая в заложниках десятки специалистов с Земли. Лидеры движения заявили, что... Карвен раздраженно ударил по кнопке - экран погас. Рудники, повстанцы... Такие новости пробуждали в нем странную, тяжелую тоску: так бросивший за отсутствием перспективы карьеру в музыке сжимается от боли при первых звуках партитуры Баха. Веренна 20... славные, хорошие рудники... Нет, дружок - наигрался уже, теперь твое место - роскошный унитаз в роскошном отеле на роскошной Мартимон-Плаза.. И радуйся, что еще дышишь... Море, пляжи, отели всех мастей, казино и рестораны целыми кварталами, красивые и считающие себя красивыми девушки... Они ехали сюда, набившись шпротами в железные банки грузовых кораблей, и за один сезон пытались заработать на учебу, квартиру, жизнь - в других, более серьезных мирах. Только одно правило существует на Мартимон-Плаза – не задавай лишних вопросов. Если кто в шортах и с обвисшим пузом спросит соседа по лежаку на пляже: а бизнес у вас какого рода? – сразу видно, человек нездешний, случайный, не понимающий. Сначала Карвен развлекался: играл по-крупному, делал бешеные ставки, потом выискивал в местных ресторанах что-нибудь экзотическое, вроде медуз с Прозерпины под соком обычного лайма... Но последнее время накатила легкая апатия – хотелось целыми днями валяться под цветастым зонтиком, посасывать трубочку коктейля и в легком опьянении наблюдать красоток в бикини. Те собирались стайками, смеялись неестественно громко и цепляли его голодными акульими взглядами. И носится по пляжам прислуга в белых форменных кепках, разносят напитки, мороженое, сушеную рыбку, спрашивают украдкой, одними губами: не хотите-сс развлечься? - Еще «легкий бриз», пожалуйста! Холодная ножка бокала тут же удобно легла в его ладонь. Подсел здесь на эту штуку: водка, ягода какая-та и лимон. - И мне. Такой же. Карвен скосил глаза: молодое, красивое тело в вишневых мини-шортах и черном лифчике от купальника примостилось на соседнем шезлонге. - вы меня не помните?- девушка улыбнулась белозубой мартимонской улыбкой. – Мы играли в шахматы. На Палладе 7. Карвен вспомнил. Да, Паллада 7... Огромный сверкающий шар вращается в открытом космосе... Официально семизвездочный отель, а вообще еще-то злачное место... С недоумением осмотрел девушку – каре цвета темного ореха подчеркивает красивый изгиб шеи. Нет, та не шатенка... Девушка засмеялась, взлохматила прическу: - А, ну да, я же постриглась и перекрасила волосы! - О! Вот теперь вспомнил! Трудно не запомнить блондинку, которая лениво так говорит: шах и мат. Цвет волос - тоже последствия разрыва? - Да. Не старайтесь вспомнить имя, слишком жарко сейчас для раздумий: Алиса. Теперь я вот такая... и кажется, что бросили ту, другую. А вы... - Джонсон. Паспорт некого Ала Джонсона, гражданина Австралии, верой и правдой служил Карвену последние несколько лет. - Вы давно здесь, Алиса? - Не очень, но уже, как видите, скучаю. - Девушка вытянула длинные загорелые ноги. – А на Мартимон–Плаза нужно веселиться. Эти бесконечные пляжи, и эти бесконечные девушки... Они както злобно смотрят на меня, Джонсон. - просто Вы божественно выглядите, Алиса: цвет, стрижка – все ваше. Поверьте, я разбираюсь в таких вещах. А здесь действует двигатель прогресса, то есть конкуренция. Она засмеялась, повернулась на бок, и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрела ему прямо в глаза. Карвен улыбнулся в ответ. Как она тогда, во время игры, вдруг трепыхнулась, съежилась, ушла в себя. Он заметил, спросил... Сначала, бедняжка, отнекивалась, а потом призналась: бывший стоит возле бара, с новой пассией. Карвен купил ее бокал вина, чтобы утешить – того вина, что стоит как средний автомобильчик. Бедная Алиса. - по правде говоря, Джонсон, я еще не пришла в себя. Но здесь так много солнца, коктейлей, красивых мужчин – едва уловимое движение всем телом в его сторону, – так что надеюсь наконец отвлечься от грустных мыслей... Карвен мысленно поставил девушке жирный плюс: он любил профессионалов, любых профессионалов своего дела. - Я бы развлек Вас, Алиса, но, кажется, уже слишком стар... Она уселась, скрестив ноги, игриво прикрылась бокалом: - Вы видели здешних юнцов? Все одинаковы: ошалели от местного раздолья и изображают загадочных крестных отцов. А я просто хочу послушать интересных историй, что-нибудь забавное, смешное... Вы справитесь, Джонсон? мелодично звякнули, скрестившись, бокалы: - За нашу встречу, Алиса, и за будущий вечер. Договорились встретиться в ресторане «Клобука», Карвен пообещал заранее заказать столик. - Одно условие, Джонсон: если мой бывший и здесь случайно объявится, Вы набьете ему морду. - Теперь он утопится от отчаяния, едва завидев Вас! На этом расстались. Давно пора встряхнуться, сбросить эту меланхолию – размышлял Карвен. А Алиса забавная девочка – как она вдруг дернулась тогда, за шахматами... Но вот играет хорошо, слишком хорошо. Долгая жизнь на планетах и астероидах научила его, что любую ниточку нужно вить до конца. Поэтому он заставил себя вспомнить очень важный момент. Тогда, на Палладе 7, она вызывала его интерес, улыбалась, покачивала туфелькой? Нет, точно нет. Сидела спиной, белые волосы до пояса, и он, очумевший от скуки, подошел первый. Разговор почему-то зашел про талисманы, те вещи, которые храним с детства, и он рассказал про шахматы – выиграл на школьном турнире, и возит с тех пор с собой. Первая заслуженная победа, так и сказал. Она предложила сыграть, он уже рассчитывал на продолжение банкета, и тут такая незадача... Победила, но ушла пьяная, чуть ли не заплаканная. Облом. Или просто всему свое время? короткая стрижка действительно придавала Алисе особую изюминку, Карвен в этом не соврал. Значит, вино в номер, и пистолет на всякий случай под подушку - главное, потом, кидая шахматистку на кровать, случайно не оголить его - еще спугнешь девушку. «Клобука» утопала в полумраке, и под легкую, со сладким оттенком музыку бесшумными расторопными тенями летали официанты. Столик в уютной нише давал хороший обзор: и справа и слева напыщенные толстяки угощали девочек в одинаковых коротких черных платьях. Карвен чуть не захлебнулся от смеха: за обоими столиками девушки сняли туфли и водили босыми ступнями по обвисшим штанинам своих лысеющих кавалеров. И тут все повернули головы: мертодель вел Алису к столику, услужливо показывая дорогу. Персиковое платье перетянуто широким кожаным поясом, неожиданно высокие каблуки и осанка – именно осанка отличала ее от местных пляжных шлюшек. Карвен привстал, мертодель подвинул стул: - Надеюсь, Вам здесь понравится. Мистер Джонсон выбрал лучшее заведение побережья. - Он умеет - Алиса одарила его многообещающей улыбкой. - Думаю, ты понимаешь, как прекрасна? Они решили пройтись по набережной: после душной атмосферы ресторана ветер приятно щекотал лицо, и игриво подмигивали огромные звезды - каждая размером с обычное зимнее солнце на Земле. Алиса прошла вперед, играя высоким разрезом платья, и Карвен отметил ее походку - слегка от бедра, и хорошо поставленный поворот головы - девушка явно занималась танцами. - Джонсон, милый, Вы обещали забавную историю. - Ну, не капризничай. Давай просто спрячемся от холодного скучного вечера. - И где? - Я знаю одно место. - Сначала история. Он взял ее за талию, сильным, отвергающим малейшее сопротивление движением – именно так, как нужно брать красивых женщин. Она положила свои ладони ему на руки, и медленным, плавным движением опустила их чуть ниже. – я хочу историю. Удиви меня, Джонсон. сели на мраморную, с изогнутой спинкой скамейку – Мартимон-Плаза отличалась странной претензией на эдакую королевскую старинность. В черной воде плескались отражения звезд, шуршали волны и пахло морской солью. - Представь себе лохматых обезьян-питекантропов, которым до людей еще развиваться около полумиллиона лет. Бегают с автоматами Калашникова, палят как ненормальные, кидают гранаты в лысых австралопитеков, и над всем этим носятся такие небольшие летучие динозавры. Дивный мир, не находите? Это была моя цитадель – Эродус.... - Скучно. – перебила Алиса. – Скучно, скучно, скучно. Пойду, наверное, в свою уютную кроватку. А что-то, я не знаю, совсем экзотичное? не зеленые с щупальцами, не жукообразные, не обезьяны, а такое, что бы я даже не могла поверить. Ну же, Джонсон, вы столько путешествовали... - Так, сейчас подумаю... Вы слышали о душманах, Алиса? - тоже какие-то аборигены? - Да, и вот эти действительно экзотичны. Сначала их даже не заметили, думали пустая планета. Всетаки, мы, люди, очень ограничены, и другая форма жизни, по-настоящему другая, просто не укладывается в наше понимание мира. Вот у тебя есть душа, или сознание: то, что играет в шахматы и заставляет меня рассказывать истории... и у тебя, дорогая Алиса есть еще тело. тут он положил руку на персиковое бедро, но она шутливо шлепнула его, отодвинулась дальше по скамейке: - О моем теле позже. И что, эти душманы? -Вообще без тел. Только сознание. То есть они живут в чем-то материальном – костях животных, камнях, растениях, могут перемещаться, но как мы поняли, всегда разделяют себя с носителями. - не понимаю... А как они выглядели? - А как выглядит твое сознание? Забавные они... представь себе маленький злобный сгусток интеллекта, проникающий в твой мозг и посылающий тебя таким сочным трехэтажным матом. Алиса захохотала: - Вот это мне уже нравится. Уважаю, Джонсон. - Толку от них не было никакого. На той планете нас интересовал один особый газ, его выуживали из атмосферы, закачивали в огромные цистерны... Представь, кто-то пищит у тебя в мозге: развивается импотенция, развивается импотенция, импотеееенция!.. Брехали, чтобы насолить. Но это самые умные из них. Остальные просто материли. Алиса снова захохотала. - Но, милый Джонсон, вы сами виноваты – пришли как захватчики, делали что хотели... - Это было очень, очень давно... Корпорации нанимали нас решать проблемы с местными. Потом я решил работать только на себя, ушел в свободное плавание. Но не жалею, опыта тогда поднабрался. - Вы, Джонсон, заслужили приз. История занятная. Но жалко бедняжек: они же не могут нанести своим врагам даже малейший физический вред. Совсем беззащитны. - Нас, милая Алиса, больше волновало, можем ли мы им причинить вред. Мы жгли, взрывали все эти камни, кости, растения, а они переселялись в другие... мы одевали шлема, чтобы не слышать их гнусностей... Правда, душманы теряют силы при переселении, и, сменив два-три носителя, просто подыхали. В целом, все прошло нормально, и мы увезли, что было нужно... - А чем занимались эти сгустки разума, пока вы не приехали? Пересказывали друг другу бородатые анекдоты? В лифте она сняла туфли, и, приподняв подол платья, босиком прошлепала до двери. - Устала от каблуков... Прошла кругом по комнате: - Удачное получилось свободное плавание, Джонсон. Я видела такие номера только на рекламных буклетах, там еще пишут: для самых дорогих гостей... - Да, плавание... Но я уже давно на берегу. Все в прошлом. Он разлил вино в два бокала: - За благословенную солнечную Мартимон-Плаза! Сейчас, после вечерней прогулки она стала еще прекрасней: горели вишневые губы, сияли глаза, и босые ноги придавали ей особую свободную дерзость... - Джонсон, помните, наш разговор про талисманы... Ты действительно возишь с собой те шахматы? Он достал из шкафчика коробку, приоткрыл: - Вот они, мои любимые. Белые вырезаны из слоновой кости, черные – из антрацита. Но не в этом дело... - Я помню, Джонсон. Первая победа самая сладкая... – она подошла ближе, утопая узкими босыми ступнями в пушистом ковре. Над круглой, застеленной темно-красным покрывалом кроватью висело такое же круглое огромное зеркало. Он удобно уселся, запрокинув голову, улыбнулся своему отражению, Алиса в это время играла с поясом, с длинной кожаной змеей... - Учти, я староват для долгих игр. - Не поворачивайся! – она обошла сзади, и по тому, как запружинила кровать понял, что залезла с ногами. - Не поворачивайся! Ремень от платья лег повязкой на глаза, и Карвен вдохнул аромат ее духов: цветы и деревья юга, обещающие и дразнящие одновременно... И хрустнули, сцепившись, зубы, и выгнулось дугой тело, и он уже лежит, скрючившись, лицом в ковер, и жует ворсинки... Электрошокер. - Все, Карвен. Игра закончилась. пистолет под подушкой... приподняться... дотянуться... одним волевым усилим... тьма вспыхнула в глазах, и когда он утер кровь, то увидел холодные, жестокие глаза наемника, профессионала, знающего свою работу... Как он сразу не догадался ... - Шахматистка... – прошептал беззлобно. Она сдернула покрывало: - Что припрятал, Карвен? Отлично, пистолет. То что нужно. Она исчезла на секунду, а потом Карвен увидел прямо перед собой дуло направленное прямо в лицо и черного ферзя – пистолет в одной руке, ферзь в другой. - А это зачем? – спросил, сплевывая кровь. - Вспомни, Карвен. Вы сжигали траву, долбили камни... Он нашел силы сменить носителя еще раз. Шахматы были с тобой и тогда. Карвен невнятно выматерился, просипел: ничего не понимаю... - А знаешь, как я удивилась? Когда ты играешь в шахматы, и одна фигурка, только что послушно переставленная в следующую клетку, вдруг говорит твоему мозгу: убей его. - Что? - Мы с тобой оба люди ушлые, и видали много, но ферзь, который предлагает убить своего хозяина... У меня чуть глаза не вылезли, Карвен. Я потом соврала, что увидела парня. Карвен посмотрел в дуло – пистолет не дрожал, не колебался, он удобно лег в руку нового хозяина... потом перевел взгляд на блестящую черную фигурку. - А я говорю – про себя, конечно, - мне вообще –то, все равно, кто заказчик, но как оплатишь? И он мне в башку первые числа твоего банковского счета, но не все, не до конца... Хитрый, гад. Я должна была заставить тебя вспомнить. Алиса прижала ферзя к уху: – Он уже угасает, осталось совсем немного сил... Он умирает, Карвен. Вот что нужно сказать: Во имя Сузара или Сойзара – не понимаю, во имя Анкхалара-Уйкрео... И тут Карвен закричал: - Алиса, это бред, бред! Забирай мои деньги, все! Я сам скажу номер счета! Просто выкини эту дрянь! - осужден на смерть – продолжала она, прижимая ферзя к уху. Прошептала: давай, последнее усилие... - Карвен, ты осужден Анкхалара-Уйкрео, правда не знаю что это... -это бред. Это какой-то бред. – проговорил под звук глухого выстрела, уже ныряя в вечную тьму. Девушка обтерла бокал о подол платья, так же вытерла пистолет, положила его рядом с неподвижным телом. Присев на кровать, надела туфли. Потом положила шахматную фигурку на ладонь, провела по гладкой блестящей поверхности пальцем: - Давай, король. Я свое дело выполнила. Еще три цифры. Давай.. три, семь, девять. Девять? последняя девять? она прижала фигурку к голове, потрясла ее. - Кажется, все. Как долго ты ждал этого дня... И положив ферзя в коробку, девушка вышла из номера, повесив на дверь табличку: не беспокоить.