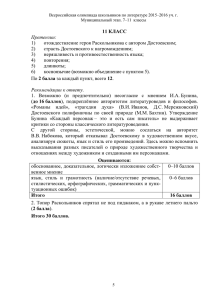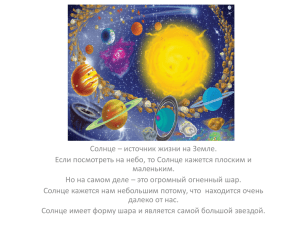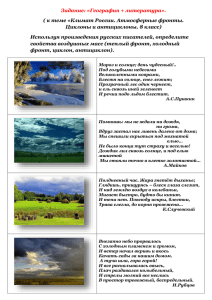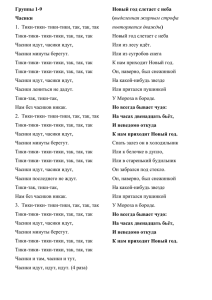Пороль, О
advertisement

Пороль, О.А. Изучение произведений с библейскими мотивами / О.А. Пороль // Литература в школе – 2007. – №6. – С.23. Ключевые слова: Культурологический подход, интерпретация художественных произведений с библейскими мотивами, христианские традиции, анализ реминисценций, аллюзий, интертекстем и логоэпистем. Краткое содержание статьи: На современном этапе тема «Библия и русская литература» в методическом аспекте изучена недостаточно, делаются первые попытки решить вопрос, как анализировать произведения, содержащие библейские мотивы. Мысль о необходимости изучения художественного произведения в контексте христианской культуры встречается в методических работах Н.В.Давыдовой, М.Г.Качурина, А.Г.Кутузова, М.В.Черкезовой, О.О.Соловьевой и др., а также в ряде адресованных старшеклассникам учебников1. Книга Н.В.Давыдовой «Евангелие и древнерусская литература» явилась едва ли не первым учебным пособием для учащихся среднего возраста. В ней автор предложила школьникам изучение Евангелия в контексте культуры Древней Руси и Нового времени, осуществила первую попытку показать связь Священного Писания с важнейшими жанрами древнерусской литературы, проанализировала библейские традиции в творчестве Пушкина, Гоголя, Достоевского. В книге М.Г.Качурина «Библия и русская литература» рассказано о разнообразном влиянии, которое оказала Библия на русскую поэзию и прозу с X века до наших дней, объяснен смысл использования библейских сюжетов в наиболее известных произведениях русской литературы. Понимание необходимости изучения художественного произведения с учетом роли библейских идей и образов, интерпретированных писателем, обнаруживается в большинстве школьных программ по литературе: например, «Сочетание фантастичного сюжета с философско-библейскими мотивами в романе "Мастер и Маргарита"» (Программа 2003 г. под. ред. В.Я.Коровиной), «"Вечные образы" в поэме "Двенадцать"» (Программа 2003 г. под ред. Т.Ф.Курдюмовой), «Оправдание символики имени главного героя романа "Доктор Живаго"», «Религия и искусство, влияние религиозных идеалов на литературу», «Христианская веpa и христианские образы в романах Достоевского», «Религиозные искания русских писателей», «Христианская концепция писателя, символическая структура романа "Преступление и наказание"» (Программа 2000 г. под ред. А.Г.Кутузова) и др. В диссертации О.О.Соловьевой «Изучение произведений с учетом роли христианских идей и образов в художественном мире писателя» (2001) определены формы обращения к христианским идеям и образам в культурологическом аспекте: комментарии к библейским реминисценциям, сопоставление с соответствующим фрагментом библейского контекста, знакомство с христианской традицией. Автором разработаны обзорные уроки по проблеме, представлены библейские темы, образы и сюжеты в произведениях русской литературы XIX—XX веков, изучаемые в школе, предложена инновационная методика изучения романа Достоевского «Преступление и наказание». Но изучение произведения — это прежде всего работа над словом. Значения слов в художественных текстах с библейскими мотивами отличаются от современных, что затрудняет их чтение. Разрешить эту проблему одним культурологическим подходом невозможно, хотя на раннем, обзорном этапе знакомства с произведением и на завершающем он, несомненно, необходим. В произведениях с библейскими мотивами зачастую активно используется христианская символика, являющаяся для современного юного читателя закрытой кодовой системой, знание которой помогает «расшифровать» многие мотивы и сюжеты этих произведений, постичь их смысл. Рассмотрим символическое значение слова «солнце» в стихотворении И.Бунина «Солнечные часы». В.Г.Маранцман в рекомендации по изучению творчества Бунина подчеркивает: «Обращение к образам христианства и православному церковному календарю — органическая черта поэтического мировосприятия Бунина» (Программа по литературе для XI класса). Предлагаем возможный вариант анализа поэтического произведения с библейскими мотивами в XI классе. Для постижения смысла стихотворения важно проследить организацию пространства по вертикали: снизу вверх. В первой строфе читатель видит затерянные часики среди крапивы: Те часики с эмалью, что впотьмах Бежали так легко и торопливо, Давным-давно умолкли. И крапива Растет в саду на мусорных холмах. Во второй строфе они «обнаружены» в пыли чердачного архива: Тот маятник лучистый, что спесиво Соразмерял с футляром свой размах, Лежит в пыли чердачного архива. И склеп хранит уж безымянный прах. Далее взгляд поэта (и читателя) переходит на небо: «диск циферблата» становится солнцем, солнечными часами, отсчитывающими жизнь Вселенной: Но мы служили праведно и свято, В полночный час нас звезды серебрят, Днем солнце озлащает до заката. Позеленел наш медный циферблат. Но стрелку нашу в диске циферблата Ведет сам Бог. Со всей Вселенной в лад. Если первые две строфы текста прозрачны, потому что в них содержится конкретная лексика и изображаются конкретные картины, то третья строфа вызывает у неподготовленного читателя недоумение: почему «те часики с эмалью» «служили праведно и свято»? Отождествление неодушевленного предмета (часов) с праведным и святым служением становится более понятным после прочтения стихотворения М.Цветаевой «Я счастлива жить образцово и просто...» (1918): Я счастлива жить образцово и просто: Как солнце — как маятник - как календарь. Быть светской пустынницей стройного роста, Премудрой - как всякая Божия тварь, Знать: дух - мой сподвижник, и дух - мой вожатый! Входить без доклада, как луч и как взгляд. Жить так, как пишу: образцово и сжато, Как Бог повелел и друзья не велят. Образ светской пустынницы — монахини в миру — выражает мысль о служении Богу в суетном мире, перекликается с бунинским: «Но мы служили праведно и свято». Строка Цветаевой: «Знать: дух — мой сподвижник, и дух — мой вожатый!» — объясняет мысль Бунина о вечном мироздании, в котором солнце совершает свое величавое движение по воле Всевышнего: «Но стрелку нашу в диске циферблата / Ведет сам Бог. Со всей Вселенной в лад». Неслучайно сходство поэтической лексики двух стихотворений: маятник лучистый, солнце, Бог, служили праведно и свято, циферблат — у Бунина; маятник, луч, солнце, Бог, счастливо жить образцово и просто, календарь — у Цветаевой. Центральным в обоих лирических стихотворениях является образ солнца. В произведении Бунина изображено медленное восхождение к нему: от конкретной вещественной лексики до понимания глубокого философского смысла произведения, от малого («затерянные часики») до глобального — «всей Вселенной». В произведении Цветаевой высота задана сразу: «Я счастлива жить... как солнце». Для понимания библейских мотивов в этих стихотворениях важно сообщить учащимся о том, что Христос в русской культурной традиции отождествляется с образом солнца. Например, в праздничной песне Рождеству Христову встречается выражение: «Тебе кланяемся Солнцу правды», в акафисте Иисусу Сладчайшему: «Воссия вселенней просвещение истины Твоея» (воссияло для всей Вселенной просвещение Твоей Истины, то есть воссияло как солнце). В святоотеческой традиции принято считать, что «праведники, возрожденные словом Божиим, воссияют некогда, как солнце в царствии Отца их». Для Бунина и Цветаевой, как и для всякого интеллигентного русского человека начала XX века, подобные ассоциации были закономерными. Особого внимания заслуживает образ света бунинского стихотворения: «лучистый», «серебрят», «озлащает», перекликающийся с поэтическим образом Цветаевой: «жить... как солнце», «входить... как луч». Вполне уместно дать справку о глаголе «озлащает». Данное слово было выбрано Буниным совсем не случайно. Глагол «озлатити» в церковнославянском языке означает «вызолотить кругом снаружи и внутри». Зная это, можно понять, что речь в стихотворениях поэтов идет не только о внешнем, но и о внутреннем свете — святости. Подобная мысль встречается у автора «Полного церковнославянского словаря» Г.Дьяченко2: «слова свет и свят филологически тождественны». Ф.Буслаев в книге «О влиянии христианства на славянский язык» также утверждал, что «слова свет, цвет и свят совершенно родственны между собою» 3. Итак, в стихотворении «Солнечные часы» автором показано, как солнце распространяет свет в вещественном мире и в мире духовном, нравственном. Интерпретация стихотворения Бунина «Солнечные часы» может оказаться неполной без прочтения другого поэтического произведения Бунина «Свет»: Ни пустоты, ни тьмы нам не дано: Есть всюду свет, предвечный и безликий... Вот полночь. Мрак. Молчанье базилики, Ты приглядись: там не совсем темно, В бездонном, черном своде над тобою, Там на стене есть узкое окно, Далекое, чуть видное, слепое, Мерцающее тайною во храм Из ночи в ночь одиннадцать столетий... А вкруг тебя? Ты чувствуешь ли эти Кресты по скользким каменным полам, Гробы святых, почиющих под спудом, И страшное молчание тех мест, Исполненных неизреченным чудом, Где черный запрестольный крест Воздвиг свои тяжелые объятия, Где таинство сыновнего распятья Сам Бог-отец незримо сторожит? Есть некий свет, что тьма не сокрушит. В этом стихотворении «предвечный свет», «мерцающий тайной», пробивается сквозь «подслеповатое окно» обыденности и освещает то, что свято: «кресты» (символ святого распятия), «гробы святых», «страшное молчание» тех мест, где «чудо», «запрестольный крест», «таинство сыновнего распятья», «сам Бог-отец». Предложим следующее задание: подчеркнуть слова, передающие значение света (в данном случае они выделены нами разрядкой). При анализе текста трудным для восприятия учащихся может оказаться слово страшный. Вполне уместен вопрос: почему страшное молчание мест, где чудо, где святость и свет? В этом случае необходимо обратиться к внутренней форме слова. Слово страх в данном контексте вовсе не означает боязнь, оно ближе к слову трепет. Образуем синонимический ряд страшный — благоговейный, удивительный, величественный, чудный, светлый (Г.Дьяченко). Таким образом, страшное молчание можно интерпретировать как особое состояние неземного светлого покоя. Стихотворение Бунина «Солнечные часы» по программе Маранцмана изучается в V классе. Известно, что для учеников V—VI классов характерен «наивный реализм». Наряду с эмоциональным восприятием они обладают целостным впечатлением и предметным воображением, поэтому в V классе необходимо использовать предложенный выше анализ произведений с библейскими мотивами в несколько упрощенном виде. В ходе проведения урока в V классе детям по мере прочтения текста стихотворения предложили задуматься над тем, где находятся часы, и сделать зарисовки. В результате получилось графическое изображение часов, восходящих снизу вверх (от вещественного к духовному, от света к святости), расширение пространства (от «часиков» до «Вселенной»), что соответствовало построфному смысловому комментарию: «часики с эмалью» в крапиве; «маятник лучистый» «в пыли чердачного архива»; «стрелку... циферблата / Ведет сам Бог». Только после наблюдения над тем, как часики поднимались на небо и становились солнечными часами, учащиеся прочитали стихотворение Цветаевой «Я счастлива жить образцово и просто...». Вслед за поиском текстовых параллелей (школьникам было дано задание найти одинаковые слова в стихотворениях Бунина и Цветаевой) ученикам предложили подумать над последней строфой и попытаться объяснить: почему «часики» «служили праведно и свято»? Но мы служили праведно и свято, В полночный час нас звезды серебрят, Днем солнце озлащает до заката. Позеленел наш медный циферблат. Но стрелку нашу в диске циферблата Ведет сам Бог. Со всей Вселенной в лад. Чтобы учащимся было легче ответить на этот вопрос, учитель предложил исторический комментарий к слову «озлатити». После того как учащиеся узнали, что «озлатити» означает «вызолотить кругом снаружи и внутри», их внимание было обращено на слово «внутри». Заданы вопросы: Может ли физический (вещественный) свет, способный освещать лишь поверхности, вызолотить часики внутри? О каких часах говорит автор: об обычных, благодаря которым мы узнаем время, или о часах вечности в жизни каждого человека? Почему стрелку циферблата ведет сам Бог? (Потому что «служили» (жили) «праведно и свято».) Так может проходить раскрытие сложного текста, помогающее преодолению только материального восприятия, пониманию того, как «часики с эмалью» «перебрались» на небо и стали солнечными часами, олицетворяющими праведную жизнь человека, живущего по воле самого Бога (примечательно, что к концу VI класса дети об анализе «Солнечных часов» помнили в подробностях). Таким образом, изучение лирических произведений с библейской тематикой вызывает определенную сложность, что требует точного, иногда пословного комментария. Предложенный нами путь изучения произведения с библейскими мотивами включает четыре этапа. На первом учащиеся знакомятся с текстом. На втором рекомендуется наблюдение над языковой стороной текста, которое предполагает обращение к этимологии слова, рассмотрение его значения в разных контекстах (например, свет, как категория внешнего мира и внутреннего мира человека), выяснение используемой поэтом символики (крест, солнце), выяснение значений церковнославянской лексики (озлащает), выделение ключевых слов (солнце, свет, свят, праведно, Бог). Третий этап — поиск текстовых параллелей (слов, образов, сюжетов) внутри одного произведения, в разных произведениях одного писателя, в тематически сходных произведениях разных авторов, в художественном произведении и тексте Библии. В заключение работы произведение интерпретируется на основе конкретных языковых фактов. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Давыдова, Н.В. Евангелие и древнерусская литература: Учеб. пособие для учащихся среднего возраста / Н.В. Давыдова — М., 1992.; Качурин, М.Г. Библия и русская литература / М.Г. Качурин — СПб, 1995.; Черкезова, М.В. Библейские мотивы в русской литературе / М.В. Черкезова // Литература в школе - 1997. - № 2. - С. 142.; Соловьева, О.О. Изучение произведения с учетом роли христианских идей и образов в художественном мире писателя (старшие классы гуманитарного профиля): Дис....канд. пед. наук: спец. 13.00.02. — теория и методика обучения и воспитания (литература). / О.О.Соловьева. - М., 2001. 2 Дьяченко, Г. Полный церковнославянский словарь: Репринт, изд. / Г. Дьяченко. — М., 2001. 3 Буслаев, Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык: Опыт истории языка по Остромирову Евангелию, написанный на степень магистра кандидатом Ф.Буслаевым / Ф.И. Буслаев. – М., 1848.