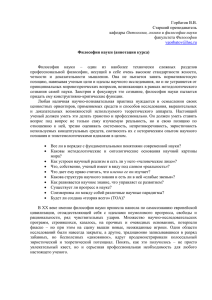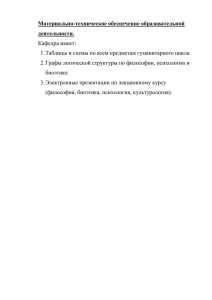23.08_Mahlin_V.L._ch1_rasshifrovka
реклама

23.08 Махлин В.Л. ч1 Верховский. Доброе утро, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу. Как мы говорили вчера, у нас сегодня лекция чуть более длинного формата, соответственно, нам нужно рассчитывать где-то часа на три. При этом мы договорились с уважаемым докладчиком, что мы сделаем в серединке перерыв, небольшую остановку минут на 15, а потом вернемся и дальше продолжим. Соответственно, я представляю вам Виталия Львовича Махлина. Тема лекции «Перевернутая предпосылка: смысловые трансформации в современной философии гуманитарных наук», если я ничего не переврал. Махлин. Все вроде правильно. Задачу моего выступления можно формулировать в виде следующего общего вопроса: каким образом и почему так называемые гуманитарные науки стали проблемой самой философии и когда, уже начиная с конца XIX и в XX веке привели к радикальным смысловым трансформациям в понимании и бытия, и мышления, и языка. В сущности, к новой революции в способе мышления, как это называл Кант, к настоящей смене парадигмы, выражаясь более новым языком. Поскольку содержание достаточно плотное, я буду идти по тексту, чтоб не растекаться, и фиксировать какие-то моменты, для того чтобы это было удобнее, видимо, для восприятия. Но одновременно я буду импровизировать и вообще в основном пытаться понять. Гуманитарные науки. Начнем с этого. Все как бы знают, что это такое, до тех пор, пока не возникнет нужда отдать себе отчет в этом само собой разумеющемся. Отметьте себе это понятие, оно будет центральным или по крайней мере сквозным для всего, о чем пойдет речь: «само собой разумеющееся». То есть разобраться путем рефлексии особого рода, а именно путем прояснения истории понятий. Как сказано у Аристотеля, известное известно немногим. Попробуйте сейчас мысленно в порядке самопроверки… У меня нет возможности, как это обычно я делаю на лекции, конкретно спрашивать: «Как вы понимаете, что такое… Перескажите это своими словами, не употребляя слова "гуманитарные науки", что это такое, то есть как вы это понимаете». А я пока дам не столько определение, но некоторое уточняющее переопределение, выработанное современной философской герменевтикой наиболее отчетливо, на мой взгляд. Гуманитарные науки – это очень просто – это науки исторического опыта, в отличие от так называемых опытных наук, то есть наук естественно-научного порядка, как физика, химия, биология и т. п. Опытные науки называются также экспериментальными науками. Совершенно понятно, почему: знания, приобретаемые опытным путем, приобретают посредством экспериментов. Над природным явлением нужно поставить некоторый эксперимент, для того чтобы получить некоторое знание об этом явлении. Ставить эксперимент над историей – это, согласитесь, звучит достаточно одиозно. Очевидно, исторический опыт – это все же что-то другое. И можно даже сразу предварительно сказать, почему другое: исторический опыт в отличие от опыта так называемых опытных наук, не научен в опытно-научном смысле слова или донаучен. Это не только так называемые эмоции и психология, но также смыслы, логика, но здесь качественно другие смыслы и принципиально иная логика. Вот эти отличия для нашей темы главные. Итак, речь пойдет о науке и науке, опыте и опыте. Историк науки Зайферт(?) очень характерно сказал, что когда он писал историю наук в плане аналитической философии или естественных наук, все было достаточно просто, но абсолютно невозможно объяснить этим исследователям, что такое наука с точки зрения гуманитарных наук. Это очень характерное такое как бы примечание. Следующий пункт. Назовем его «Философия и время». Если науки исторического опыта (а ниже мы еще уточним это понятие) отличаются от опытных наук и по смыслу, и по способу осмысления, то уместно спросить, когда собственно и почему на это различие обратила внимание философия. Иначе говоря, когда и почему возникла философия 1 23.08 Махлин В.Л. ч1 гуманитарных наук или, как мы теперь знаем и можем так говорить, философия исторического опыта. И здесь тоже возникает некоторое само собой разумеющееся. По инерции традиции мы часто именуем философией такое представление (нужно подчеркнуть, наверное, это слово, не просто слово, а представление о философии) и такое само собой разумеющееся, которое сложилось на самом деле в начале нового времени, в начале XVII века и до сих пор убедительно как внутри науки и философии, так и в популярном сознании. Философия нового времени, новая философия, как ее принято было называть, – это первым делом Бэкон и Декарт, а потом уже все то, что за ними последовало в XVII, XVIII, XIX и отчасти еще в XX веке, то есть в новое время. Новая философия была прежде всего прочего философией природы, естествознания и философской рефлексией естественных дисциплин. Новым в новой философии была не вообще природа, она всегда была предметом философии, но подготовленная Ренессансом возможность исследовать и мыслить природу совершенно имманентно, непосредственно, то есть вполне независимо от религиозно-метафизических привнесений, ближайшим(?) образом(?) независимо от церковно-христианской ортодоксии, при этом не вступая с ней в прямой конфликт, избегая, символически и не символически говоря, костра (это судьба Бруно или Галилея, судьбы Галилея). Новая философия была, можно сказать, грандиозной лазейкой в поисках свободы мышления и достоверности мышления. Историческое прошлое стало уже недостоверным. Очень характерно это заметно по рассуждению о методе Декарта, это как бы исходный главный текст, с которого начинается новая философия. Недостоверным. Постолькупоскольку оно было заставлено (хорошее хайдеггеровское слово «заставлено») схоластической традицией, охраняемой к тому же официально. Исторический опыт прошлого был заставлен книжной премудростью. Здесь мне предстоит сделать еще один такой первый экскурс, назовем его «Сова Минервы». Это знаменитый образ понятия «история философии» у Гегеля в начале предисловия к его «Философии права» 1821 года. Философия вопреки представлениям, за которые ответственны, пожалуй, сами философы, никогда не начинает с самого начала, с чистого листа, иначе она бы не столько мыслила истины, сколько выдумывала бы собственные истины. То есть представление о философии как о некоторых заоблачных выдумках очень устойчивое, древнее на самом деле, начиная с «Облаков» Аристофана, допустим, и сегодня оно, по-моему, живуче. Очень интересно, почему. Это отдельный вопрос. Философия не порождает просто какой-то новый смысл, но скорее переосмысливает, подвергает рефлексии уже существующие, исторически сложившиеся в повседневном опыте и в общественно-политическом сознании представления, понятия, слова и образы. В этом смысле определение философии Гегеля очень характерно. «Философия, – говорит он, – рисует серым по серому, и сова Минервы, то есть слова(?) мудрости, вылетает в сумерки». Это значит, философия – поздний и довольно бледный цветок культуры. Философия приходит на исходе исторического дня, в сумерки, когда основные формы общественного сознания уже сложились: миф, религия, язык, поэзия, нравы, обычаи, государство. Философия собственно не начинает, а как бы переначинает, переиначивает само собой разумеющееся, смыслы, значения, для того чтобы придать им ясность и отчетливость, как это четко скажет Декарт в своем манифесте. Философия – это, собственно говоря, всегда критика. Критика на самом деле само собой разумеющегося. И, как мы будем еще говорить, на самом деле сегодня (а на самом деле «сегодня» – это означает в нашем контексте «после Гегеля») это некоторая критика уже существующих и гуманитарных, и естественных наук. Это некоторая метанаука, метакритика. Поэтому и определение философии Витгенштейном ровно сто лет назад после Гегеля в «Логико-философском трактате», казалось бы, совершенно не гегелевское, тем не 2 23.08 Махлин В.Л. ч1 мене, поясняет * Гегеля на свой лад: «Цель философии – логическое прояснение мыслей, критика языка. Не философские предложения являются предметом философии, но прояснение предложений». Мы бы сказали на более нам, может быть, внятном языке, это прояснение высказываний. Мы еще вернемся, наверное, к этому слову – «высказывания». Иначе говоря, философия – это не вообще мышление и не вообще рефлексия, но мышление уже преднаходимого, но утратившего свою непосредственную достоверность мышления. В любом случае это некоторое после, потом, это действительно некоторая «сова Минервы». Критика преднаходимого мышления, то есть само собой разумеющегося, и есть собственно критика языка в смысле Витгенштейна, то есть прояснение уже существующих суждений, высказываний, представлений и т. д. Почему это общее положение дел важно в интересующей нас связи? Потому что новое понимание слова и дела философии связано исторически с выдвижением (я это подчеркиваю) гуманитарных наук в центр философской рефлексии. И это произошло через 250 лет после появления так называемой новой философии. Новая философия, то есть бэконовская, картезианская парадигма, возникла, как мы знаем, в начале XVII века, и это была философия, еще раз, естественных наук по преимуществу и теория познания, эпистемология. Опять-таки само собой разумеющееся. Мы говорим «эпистемология». Что мы имеем при этом в виду? То есть какое представление стоит за словом, за текстом, как я говорю иногда? Вот это очень для нас важно. Под эпистемологией мы обычно разумеем не вообще теорию познания, но теорию познания, ориентированную все-таки на естественные науки. Это традиция вот эта самая. То есть на экспериментальное познание природы вообще. Попутно где-то предварительно замечу, что таким является в основном советское и постсоветское понимание эпистемологии и вообще философии вплоть до сегодняшнего дня. Нам же в дальнейшем предстоит говорить о гуманитарной эпистемологии, то есть теории познания исторического опыта или, иначе говоря, о философии исторического опыта. В этом смысле в названии нашей лекции собственно и стоит «философия гуманитарных наук». Итак, это философия исторического опыта. Здесь сразу сделаем такое важное характерное историческое замечание. У нас часто пишут, добавляют «социогуманитарное знание». Это чисто советская рефлексия, это советская инерция на самом деле. Предполагается, что гуманитарные науки – это, конечно, хорошо, но есть же настоящая все-таки наука, а это значит, как бы социальная наука. И это, в общем-то, продолжение такого марксистского понимания, в значительной степени, ориентированного на естественные науки тоже. Нет никакой необходимости, когда мы говорим о гуманитарных науках и философии гуманитарных наук, добавлять «социогуманитарное знание». «Науки исторического опыта» – это определение Гадамера, оно включает в себя обязательно социальность. Обязательно. То есть «историческое» означает «социальное», но только в особом плане. Историческое предполагает в новой философии гуманитарных наук две вещи: история как прошлое и история как современность. Вот это будет очень важно. И немножко непривычно, может быть. Вот это, скажем так, «новая философия – 2»… Я не люблю эти «2», «3»… Но, условно, «новая философия – 2» возникла в последней трети XIX века. Это очень важно, когда. Потому что все это возникает не вообще, а это возникает в определенный исторический момент в силу совершенно определенного давления новой исторической ситуации. О слове «новое» мы еще будем говорить специально в связи со словом «современное». Инициатором философии гуманитарных наук был, в общем, это известно, немецкий философ и историк гуманитарного знания Вильгельм Дильтей, 1833–1911 годы (это важные тоже даты). Кстати, здесь должна быть, и я пытался распространить, есть литература по моей проблеме. Если это кому-то интересно, наверное, Катя это сможет дать. И я даже написал такие тезисы… Может быть, это кому-то интересно, а может быть, у кого-то вопросы. В общем, прошу. Это есть, насколько я понимаю. Там в частности первая книга о Дильтее у 3 23.08 Махлин В.Л. ч1 нас замечательная совершенно, русская, Николая Сергеевича Плотникова, нашего… Я их называю «новыми русскими» в философии, совершенно без иронии. То есть сейчас появились новые русские в философии. Это совершенно попутно я говорю. Вот этот человек, да, русский абсолютно, живущий в Германии, поскольку он женился на немке, и работающий там в русском институте. Вот он – один из лучших наших новых русских в философии. И вот это замечательная, по-моему, книга, великолепное введение, в хорошем, таком, знаете, основательном, без глупостей, без болтовни введение в Дильтея, причем современное (это очень важно, современное введение, а не вообще, про прошлое). Философия гуманитарных наук появилась в тот исторический момент, когда сами гуманитарные науки определились институционально как дисциплины и исследования и университетского образования. Это произошло на протяжении XIX века. Напомню, что XIX век – век великих историков и филологов. Не только естественников, но филологов и историков – немецких, французских, английских, ну и русских тоже. История и филология XIX века (я не могу говорить об этом подробно) сделали две вещи. Во-первых, стало понятно, что исторический мир, то есть собственно общественный и социальный мир прошлого, как и современности, – это иная реальность, чем реальность природы в естественно-научном смысле этих наук, как объекта естествознания, опытных наук. Во-вторых, исторический мир, история, как оказалось, не поддается обобщению и осмыслению (для нас это слово важно) с точки зрения того, что на языке гегелевской философии называлось тотальностью. А в современной эпистемологии такого англосаксонского образца называется холизмом (от английского слова hol*(?) – «целый» или holness(?)). Иначе говоря, стала невозможна метафизика истории, то есть некоторое рационализированное целостное представление и осмысление исторического процесса в целом. Стала невозможна философия истории в еще известном нам, привычном смысле слова или, тем более, так называемая историософия. В сущности это одно и то же, только во втором случается имеется в виду скорее религиозный контекст, а в случае философии истории имеется в виду скорее мирской или секулярный контекст. Кстати, само выражение «философия истории» принадлежит еще Вольтеру. Грандиозная попытка Гегеля (я сейчас раскрываю контекст появления философии исторического опыта, вот что мне важно) осмыслить и изобразить мировую историю (Weltgeschichte) как тотальный диалектический(?) процесс реализации христианского откровения, богооткровения провалилась. И это стало понятным уже в 30-е и, тем более, в 40-е годы позапрошлого, то есть XIX века. Вот это и было осознанно и показано именно гуманитарными науками XIX века на протяжении и прежде всего немецкой так называемой historische Schule (историческая школа). С тех пор собственно никакая философия истории, как мне кажется, в прежнем холистском или тотальном осмыслении ее уже невозможна или, иначе говоря, непродуктивна. Но не потому, что история утратила смысл, а, наоборот, потому что исторический опыт взорвал обобщенные образы смыслов истории вообще, Истории с большой буквы. Был взорван метафизический образ, опять-таки представление, образ истории, эстетика истории в сущности. Обобщение по смыслу оказалось меньше (вот это важно с точки зрения всего нашего семинара, насколько я понимаю) того, что оно обобщает. И вот здесь оказался вот этот переворот. Повторяю, обобщение оказалось меньше того, что оно обобщает. Оно как бы не закругляет или, закругляя, оно не познает то, что находится внутри этого круга. Исторический опыт своей конкретной осмысленности, то есть плотности, воплощенности, уже в 30-е – 40-е годы позапрошлого века оказался в глубоком противоречии с теологией истории у Гегеля и вообще этой эпохи. Это отдельный разговор, там была своя научно-гуманитарная революция, это отдельная просто вообще тема, конца, 90-х годов XVIII. Но все это вышло прежде всего в лице Гегеля, как бы победило. 4 23.08 Махлин В.Л. ч1 Вот из этого кризиса и прорыва, революционного прорыва мышления, как это назовет ученик Хайдеггера Лёвит… Я еще скажу об этой книге, к сожалению, я забыл включить ее в нашу библиографию. Вот из этого поворота или прорыва собственно на самом деле возникла даже уже современная философия. Как это хорошо выразила Ханна Арендт в своей ранней статье о Кьеркегоре 32-года: «Философ восстал против философии». Это очень хорошее определение еще совсем молоденькой Ханны Арендт того, что на самом деле произошло в XIX веке и на ее собственных глазах, в лице ее собственного учителя и, как известно, временного любовника. Уже после Гегеля возникла ситуация, с тех пор повторявшаяся неоднократно и, как ни странно, более чем актуальная в наше время, как мне кажется. А именно: те смыслы, те осмысления, те значения, те знания, которые доставляют конкретные специализированные науки (disciplines по-английски, * Wissenschaft(?) по-немецки), оказались, так сказать, больше того большего, на которое претендовала гегелевская философия истории и гегелевская диалектическая логика вообще. Это и показала в особенности немецкая историческая школа XIX века – Ранке, Дройзен… Особенно Дройзен, обращаю внимание, теоретически наиболее осмысленно… И отмечаю, у нас издали «Историку» Дройзена… Она сама-то была издана бог знает насколько позже, в 1937-м(?)… уже при Гитлере она была издана. А у нас она была издана в 2002 году или в 2004 году в Санкт-Петербурге. И вот отсюда, с этого логического и исторического места начинает Дильтей в своем «Введении в науки о духе». Подчеркиваю, 1883 год. Вот последняя треть XIX века. Начинает, заметьте, не сначала, для меня это очень важно, но в ответ, а именно в ответ на современную историческую ситуацию в самом познании, в самой философии. Дильтей ставит задачу создания гуманитарной эпистемологии, то есть такой философии, которая должна опираться уже не столько на опытные науки, сколько на науки исторического опыта. На языке Дильтея «науки о духе», так это было названо, Geisteswissenschaften, знаменитый термин. Это страшно интересно, у меня нет времени подробно об этом говорить, и даже можно было бы показать на доске. Поразительно, что термин Geisteswissenschaften, который как хайдеггеровское Dasein, вы, наверное, знаете, оно непереводимо как бы ни на какие языки. Поэтому все плюнули и пишут просто в любом англоязычном, отчасти русскоязычном, французы, тот же самый Левинас, они просто пишут Dasein, потому что это непереводимо. Поразительно, Geisteswissenschaften – тоже непереводимо понастоящему ни на какие языки уже, но поразительно, что сам термин оказался переводом с английского, а именно с понятия moral sciences, употребленного в последней главе «Логики» Милля. И вот немецкий переводчик перевел это moral sciences как Geisteswissenschaften, и это попало на почву постгегелевского мышления, где само понятие Geist, опять-таки тоже не вполне переводимое, «дух», все знают, оно оказалось уже настолько своим в доску, что оно оказалось уже непереводимым ни на какие другие языки и меньше всего, кстати сказать, на английский. Human sciences звучит плохо, потому что, я подчеркиваю, слово science, отсюда «сциентизм», – это как раз логика естественно-научного мышления. Естественные или опытные науки – это sciences. А как раз то, чем занимается гуманитарное познание, – это скорее, как переводят иногда, human studies. Это, в общем, правильно, и здесь чувствуется латинский. А это значит, эпохи(?) студии(?), вот эти самые ренессансные, и в этом смысле это правильно. Слово human sciences – это немножко как масляное дерево, потому что это как бы немножко не стыкуется. Это у меня было такое замечание. Следующий пункт, прошу вас отметить, «Спор древних и новых». Казалось бы, совершенно причем здесь… Я сделаю небольшое исключение, историческое и теоретическое, очень важное с точки зрения того магистрального сюжета в современной философии, который я попытаюсь вот здесь прочертить хотя бы вот так, как можно, пуантерически(?) что ли. 5 23.08 Махлин В.Л. ч1 Инициатива противопоставить естественно-научной эпистемологии нового времени эпистемологию гуманитарную, она принадлежит исторически не Дильтею. И в скобках я здесь замечу одну очень важную вещь, прощу прощения, она нуждается в отдельной главе. В гуманитарном познании, а иначе говоря, в самом историческом опыте никогда (я на самом деле уже отчасти это говорил) не бывает ничего абсолютно нового, исключительно нового. Этот момент очень важен, когда мы дойдем (если вообще дойдем… ну, дойдем, конечно) до хайдеггеровского переворота вообще во всей философии и в частности до его понятия герменевтического круга, которое он перевел в пласт(?) социальной онтологии. Никогда не бывает ничего нового. Вот это очень важно. Мы никогда не… Причем не просто в том смысле, что новое – это хорошо забытое старое. Это неверно в данном случае, точнее, это не совсем верно. Новое – это новое. Но новое никогда не бывает только новое. Мышление… Я предваряю вообще основную мысль всего, о чем у меня идет речь в связи со смыслом. Мышление никогда не автономно, оно находится внутри чего-то большего, чем оно само. Это важнейший момент вообще переворота, который произошел не просто в гуманитарном мышлении, а в историческом мышлении, то есть в социально-историческом мышлении. А значит, и в понимании философией самой себя, о чем, я надеюсь, еще скажу. Это теоретически очень важно, что мы никогда не начинаем просто с начала. Первым гуманитарным эпистемологом, противопоставившим гуманитарное, то есть историческое, знание и опыт естественно-научному и картезианской науке был итальянский мыслитель, преподаватель риторики… это важно, хотел преподавать право, но его провалили… ну, это попутно… В общем, преподаватель риторики в Неаполе Джамбаттиста Вико. Даты его жизни 1668–1744, что важно, чтобы вы сразу поняли время. Это конец XVII – начало XVIII века, примерно через полвека после… Это эпоха, когда картезианство абсолютно овладело всей наукой. Вот в этой ситуации Джамбаттиста Вико, которого откроют через 100–150 лет после его смерти, очень интересна тоже судьба, такое, значит, бывает не только в России, откроют очень поздно и именно одновременно с Дильтеем, что характерно, и, кстати, с Марксом… Джамбаттиста Вико был первым, кто противопоставил вот этим новым, по-французски les modernes… я еще скажу об этом слове les modernes, очень важное для нас – «современные», «новые». По-русски два корня. У нас не получается совместить, поэтому «модернизм» – у нас столько нависло на нем значений, оно не дает прорваться… Слово так заставлено, что мы не прорвемся так просто к нему без специальной герменевтической операции, откуда это. И поразительно, что у Джамбаттиста Вико была такая… Он вообще был странный, конечно, человек, недаром упал в детстве и чуть не умер, или сказали, что будет идиотом. Идиотом он не стал, но странность в нем, конечно, осталась. У него была, например, такая странность – он переиначивал все фамилии философов на итальянский лад. Допустим, Гоббс у него был Гоббессио, вот так. А главный враг Вико назывался Ренато де Лекарте(?) или попросту Ренато. Он так и называл – Ренато. Ренато был главный враг. Почему? Потому что Вико выставил идею, совершенно поразительную и, на мой взгляд, до сих пор актуальную, причем интересно, что обоснованную католически, он же был правововерный католик, богословски обоснованную. А именно: вы, новые, со своим Ренато, зря вы думаете, что вы познаете природу, природа – есть создание Бога, и поэтому мы не можем знать и познать, что такое природа на самом деле. Мы можем измерять, мы можем вычислять, мы можем находить те или иные знаки, значения… вот как раз не знаки скорее, а какие-то понятия, значения. Но что такое природа – мы не можем знать, потому что знает это только Творец. И, наоборот, историческое знание делают сами люди. И поэтому парадоксальным образом исторический мир, mondo civile, знаменитое понятие Вико, гражданский мир, очень важно… Все это связано и выводит нас как бы неожиданно на политику. «Гражданский мир» или «Мир наций», книга Вико сперва 1725го, потом 1744 года, года его смерти, и вот, по-моему, русский перевод был сделан с 6 23.08 Махлин В.Л. ч1 последнего перевода. На самом деле переводить надо заново. Вот только что была конференция в Вышке, мы там обсуждали русско-итальянское, посвященное Вико, и как раз встал вопрос о том, что надо переводить даже «Новую науку», тем более его латинские сочинения, вообще у нас этого ничего нет. Вообще! Но сейчас разговор о другом. Вико противопоставил новым или современным, или les modernes (сейчас увидим, почему здесь французская ассоциация) мысль о том, что на самом деле древние были ближе к пониманию гражданского мира, чем вы, современные философы-сциентисты. Он, конечно, не говорит «сциентисты», а это скажем мы, но смысл того, что он говорит, примерно или даже совсем как раз в этом. Здесь я делаю еще отступление к этому экскурсу. Именно в это время, в конце XVII – XVIII века (тоже опять-таки мне очень важен исторический момент) происходит знаменитый спор, о котором естественники вообще ничего не знают, философы тоже, между нами, не очень знают. Но книга, между прочим, издана у нас в 80-м году, под названием «Спор о древних и новых». На самом деле правильнее переводить «Спор древних и новых» ( La Querelle des Anciens et des Modernes). Les Modernes – это новые. То есть спор древних и новых. Это спор, который проходил совершенно в другой сфере – в сфере литературной критики эстетики, когда буквально в январе в такой-то день (он известен) 1687, по-моему, года Шарль Перро, которого у нас знают как сказочника, а он был членом Французской академии, выступил с поэмой в академии на выздоровление Людовика XIV, короля-солнце. И в этой поэме шла речь примерно о том: да, мы поклоняемся, конечно, древние поэты и писатели – это, конечно, авторитет, это главное, это абсолют, но разве мы, живущие в эпоху короля-солнца, мы не создаем нечто адекватное все-таки этим… ну, пусть не адекватное, но все-таки приближающееся? Разве мы не имеем права на собственное слово? Вот основная мысль. Тогда знаменитый Николя Буало, автор «Поэтики» (наверное, известно, это основная, как бы классицистская «Поэтика»), он чуть не набил ему морду прямо в академии. Короче, возник спор, который продолжался 25 лет. И чрезвычайно существенно, как во всяком серьезном споре… Вот это очень важная мысль с точки зрения нашей темы. Во всяком серьезном споре важна не риторическая сторона этого спора. Я бы так сказал, риторически в споре не рождается истина. Истина стоит в онтологии. Хотя это слово тоже уже заставлено ужасно, и мне немножко придется об этом говорить. Но смысл находится за текстом, за словами, за риторикой, лучше сказать, за риторикой спора. Оказалось, что на самом деле вот этот спор la querelle древних и новых – это основная конструкция, если хотите, хотите – структура, которая абсолютно воспроизводится на протяжении всего нового времени, потому что именно новое время поставило проблему о новом. И как только оно поставило проблему о новом, уже там через 80–90 лет, а на самом деле и раньше, уже и у Паскаля встал вопрос о том, в каком отношении новое находится к старому. С точки зрения философии исторического опыта в гуманитарных науках, о чем у нас идет речь, это можно передать так… Как связано настоящее, современность с прошлым? Вообще как это связано? Для Вико, как потом для Дильтея и в еще большей степени для Хайдеггера, Гадамера… Я называю известные имена, а на самом деле их очень много, если я начну перечислять, это отдельная работа. Это очень много. Но, к сожалению, это почти все не русские имена. Я об этом буду говорить, почему, это тоже исторически абсолютно правильно, то есть детерминировано историей. Значит, в философии гуманитарных наук Спор древних и новых важен потому, что… По двум основаниям. Первое – сама оппозиция прошлого и модерна для нового времени характерна и принципиальна. Более того, здесь я делаю важнейшее для нас заключение. Когда мы мыслим, вот это cogito, основная проблема как бы, когитальный разум, наше мышление, наше сознание, оно не может выпрыгнуть из реальности, внутри которой оно находится, подобно тому, как мы сами не можем выпрыгнуть из собственного тела. Я обращаю внимание, почему проблема тела, пусть уже в 7 23.08 Махлин В.Л. ч1 карикатурном и даже извращенном в наше время варианте, уже в постмодерне, постпостмодерне, деконструктивизме… Но эта проблема вышла на самом деле без всякого постмодерна гораздо раньше. Проблема телесности и проблема тела на самом деле уже в христианстве, вопреки распространенному такому платоническому воззрению. Итак, сама оппозиция прошлого и настоящего отныне будет вечной, отныне будет всегда, на протяжении всего нового времени. Не вечной, а, скажем, нового времени. А это значит, вплоть до конца XX века по крайней мере. Второй момент. Суть спора, вот этого la querelle, не в риторике, как я сказал, а в онтологии спора, то есть проблемы исторического опыта, в котором прошлое и современность (вот это очень важно) взаимно опосредованы. Вот можно теоретически выразить то, что я сказал как бы в виде сравнения, что нельзя выпрыгнуть из своего собственного тела. Причем они предполагают друг друга на некотором дотеоретическом, дориторическом, дорефлексивном уровне, по ту сторону того, что, между прочим, у Вико называется очень характерным выражением «варварство рефлексии». За 200 лет до того, как один из выдающихся проблематизаторов гуманитарной эпистемологии XX века, немецко-американский религиозный философ Ойген РозенштокХюсси, у меня есть ссылки на него… У нас издано его четыре книги, его все равно никто не знает. 1883–1973. Это одна из главных на самом деле фигур, абсолютно аналогична Гадамеру, но Розенштока только все ненавидят, я знаю, в Германии встречал, его терпеть не могут, это отдельный разговор, почему. Это то же самое, что говорят они все и в особенности Гадамер, абсолютно. Но Розеншток очень четко выразил основные вот такие… Тезисно, резко и риторически он выразил нериторическую сущность того поворота, который произошел уже в XIX и особенно в XX веке у философов, которых он называет «post war thinkers». Это в книжке, которую он написал уже по-английски. То есть философы после великой войны, после Первой мировой войны. Это на самом деле вот это и есть современная философия как парадигма, о чем я буду говорить. У него текст, который напечатан, между прочим, в «Вопросах философии», посмотрите, если кому интересно, библиографию, в 97-м году. Очень характерно, Farewell to Descartes это называется по-английски, «Прощание с Декартом». 1936 год. Текст, посвященный 300летию выхода в свет. Вот это Farewell to Descartes – это на самом деле основная как бы вот такая линия. Ее на надо понимать буквально. «Прощание с Декартом» – это не значит, что мы тебя сбрасываем с корабля современности, так не бывает вообще в подлинной науке. Но вот сама идея того, что мы отталкиваемся от нововременного представления о cogito как о некоторой инстанции, с точки зрения которой весь основной мир может объективироваться и опредмечиваться, – вот это он выразил лучше Гадамера. Потому что Гадамер – это очень трудно, как вы понимаете. У Розенштока это гениально примитивно, если можно так выразиться, он выразил это очень резко. Вот в такой форме. Гадамер бы так в жизни, конечно, никогда не сказал, как академический немецкий профессор просто он бы никогда не посмел вот так сказать. Итак, законы гражданского мира, mondo civile – это совсем другие законы, чем те, которые конструирует картезианская наука. Воспроизводя так мысль Вико, я, в сущности, воспроизвожу уже и мысль Дильтея, и мысль Хайдеггера, и Гадамера, и нашего Бахтина, и вообще их там тьма… Одни ученики Гадамера(?), первого особенного поколения – Лёвит, Гадамер и Ханна Арендт – это сами по себе… У нас это просто ничего не состоялось, говорю заранее, с точки зрения того, о чем пойдет речь. Итак, законы гражданского мира не конструируются, они, употребляя слово Достоевского, кстати, в его споре с социалистами, перестройщиками XIX века, они выживаются. Законы гражданского мира прежде всего выживаются постепенным образом. Мы хорошо с вами знаем ситуацию, когда возможно издать самый лучший закон, который, как известно, абсолютно не работает. Почему? Потому что население глупое? Вико сказал бы: «Нет, извините, оно не глупое. Так исторически сложилось. Нельзя 8 23.08 Махлин В.Л. ч1 навязать реальной исторической плотности, истории нельзя навязать собственный закон». Вот этот момент очень важен, и он уже присутствует, я подчеркиваю, у Вико, что и сделало возможным ренессанс Вико в XX веке, не в России пока. Наоборот, именно потому… Я уже говорил, что гражданский мир создан людьми, в их исторической жизни история и общество, в принципе, познаваемы нами. Как Бахтин бы сказал, общество и история, и познание сделаны из одного куска. Здесь возникают свои проблемы, я сейчас их обхожу, но вот этот момент очень важен. То есть есть некоторая соприродность, мы познаем нечто соприродное себе, а не просто конструируем. Борьба идет на самом деле с беспредпосылочным познанием или знанием. То, что на самом деле от Ренато начнется и на Гуссерле это в значительной степени и закончилось. И Хайдеггер, ученик Гуссерля, он собственно перевернул и врезал, грубо говоря, своему собственному учителю со страшной силой, причем тот первоначально этого не заметил, он совершенно перевернул вообще всю… Вот это мы и будем дальше называть гадамеровским термином «перевернутая предпосылка», как и называется наша… В истории мышления, включая сюда историю культуры, существует важнейшая для нас проблема предрассудка, немецкое Vorurteil(?), очень точно, как по-русски «предрассудок», Vorurteil. Как негативное опорное понятие европейского Просвещения. И мы остановимся, если успеем, на этом ниже, поскольку это один из важнейших разделов главной книги Гадамера «Истина и метод». Критика негативного понятия предрассудков Просвещения как предрассудок самого Просвещения. Следующий раздел пятый у меня (я не знаю, как так) «Гуманитарная эпистемология». Вот уже просто. Итак, Вико открыли через 100–150 лет после опубликования «Новой науки». Книга называется «Новая наука об общей природе наций». И это как бы второе рождение совпало с обоснованием гуманитарной эпистемологии Дильтеем в последней трети XIX века. В Дильтее, как в философии вообще и в историческом опыте вообще, интересно не то, что в нем было снято в будущем, а скорее то, что в его мышлении уже нельзя отменить. Вот это тоже очень важный момент гуманитарной эпистемологии, гуманитарной философии(?). Нет этого вот снятия, вот этого гегелевского. Ничего нельзя серьезное… невозможно отменить. Оно приобретает новое качество. Это я говорю немножко наперед. Совершенно замечательно его определил гениальный русский мыслитель, физиолог, сталинский академик, богослов, потомок Рюриковичей (вот такое совершенно немыслимое сочетание) Алексей Алексеевич Ухтомский, которого старшее поколение, может быть, знает, потому что это все начало возвращаться в 70-е годы, вот его письма, дневники. Все это уцелело абсолютно не так, как в западном мышлении, но вот у Ухтомского, когда он описывает в 27-м году, очень интересно, в письме своей ученице Бронштейн-Шур (видимо, он был в нее влюблен, я так думаю), он описывает, на самом деле что такое научная эволюция вообще и что такое научная эволюция сегодня, в отличие от картезианской революции. Это страниц 5–6. Он говорит, ничего не исчезает, то, что было в центре старого мышления или, мы бы сказали, прежней парадигмы, оно становится, как это называется у Ухтомского очень здорово, частностью и провинциализмом. Два момента я отмечу в связи с Дильтеем, вот что он сделал, причем сделал не в том смысле, что дальше будут другие делать что-то другое, а он был снят, а в том смысле, что он сделал такого, что уже не может не быть сделанным и делаться дальше. Вот так. Кстати, отсюда… Извините, я сам себя прерываю, но это очень важная мысль. Почему нам не удается это целое… ну, это вообще тема лекции… Почему нам не удается вступить в диалог с западной философией? Одна из причин – что мы пытаемся схватить самое новенькое, самое современное, а на самом деле это нельзя сделать. Нельзя понять, что такое, например, неоструктурализм… У нас чаще говорят «постструктурализм», я пользуюсь термином Манфреда Франка, гораздо лучше, мне кажется, «неоструктурализм», то есть Фуко, Деррида, Лакан, вот это вот. Это нельзя понастоящему понять, если не знать то, из чего все это произошло. А это произошло, грубо 9 23.08 Махлин В.Л. ч1 говоря, из Гуссерля и Хайдеггера, французы все из немцев. И нельзя просто так: давайте возьмем французов, они самые такие по-нашему горячие, врубают сразу всё… Это не получится. Вот это очень важно. Нельзя освоить именно вершки, нужно действительно копать корешки. Это попутное такое… Итак, два момента у Дильтея, которые отныне будут всегда. С Вико, без Вико – это неважно. Первое. Обоснование наук о духе, то, что он дал, то есть некоторая предметная и методологическая рефлексия и проблематизация смысла и специфики исторического опыта. Вот это первый момент. Второй момент – критика метафизики как устаревшей, то есть несовременной формы знания вообще. Это момент проблематичный, сразу скажу, но сейчас мне важен Дильтей. Я начну со второго пункта. Мы готовы к нему отчасти, когда говорили о Гегеле, почему гегелевский проект и логики, и философии истории провалился. Причем провалился, в 40-е годы уже стало понятно… Читайте книгу Лёвита, там это описано блистательно. Но книга Лёвита, извините, издана в 41-м году, а у нас в Петербурге она издана в 2002 году. Обратите внимание, кстати, в библиографии, интересно то, что… Посмотрите разницу, когда издано это произведение у себя, на своем языке и когда издан русский перевод. То есть происходят вещи, которые уже нельзя… Понимаете, нельзя включиться в смысл, потому что время упущено. Вот это очень важный совершенно момент, вообще отдельная тема. Дильтей утверждает: отвлеченный метафизический подход к историческому опыту больше невозможен. Нужно исходить из самой жизни, * Leben*(?), как он говорит, то есть из самого исторического опыта, с которым имеют дело науки исторического опыта (ну, он говорит Geisteswissenschaften, науки о духе, исторического опыта), с которыми имеют дело эти науки, науки о духе. Поэтому нужна, говорит Дильтей, вот это важный момент, новая критика разума. Не кантовская, но и не антикантовская, а вот скорее посткантовская. И вот отсюда знаменитый термин Дильтея, который на самом деле уже никто не будет так специально употреблять кроме исследователей Дильтея, комментаторов, но на самом деле это останется навсегда: «критика исторического разума». Этот термин поставлен эпиграфом к вступлению(?) его «Введению в науки о духе», его исходный проект 1883 года. Не буду вдаваться в подробности, это связано с графом Йорком… ладно, сейчас нет времени… Итак, новая критика разума, критика исторического разума – это именно критика того, что Кант не мог дать, потому что Кант опирался на ньютоновскую парадигму, иначе говоря, на естественно-научное мышление. Нужно дать философскому мышлению и философской рефлексии новое основание. Причем новое основание не просто вообще, вот я сейчас придумаю новое основание, а новое основание уже существующим, преднаходимым в философии гуманитарным наукам. То есть нужно обосновать сам факт бытия этих наук, что они делали. Сами эти науки, говорит Дильтей, и это очень важно для всей последующей истории философии и для самосознания философии, сами науки исторического опыта, они не в состоянии осмыслить собственную методологию, они мыслят только себя в предмете. Они не мыслят себя запредметно, затекстно, я бы сказал. Вот это может делать как метанаука, только философия должна дать критику исторического разума как критику наук исторического разума. Вот так можно передать название. Это второй пункт. А первый, я как бы поменял это… Отсюда задача Дильтея – разработать предметные категории исторического, а значит, социального, мы это уже знаем, опыта и методологии наук о духе. Дильтей провел знаменитое методологическое определение Naturwissenschaft и Geisteswissenschaften, науки о природе и науки о духе. Оно совершенно правильно, но, как пишет Бахтин в поздних записях, оно было опровергнуто в XX веке. Не надо понимать это как некоторую вообще нестыковку по смыслу. Оно было опровергнуто, но оно уже не может быть опровергнуто. Поэтому Бахтин добавляет к этому, что необходимо четкое методическое разделение того и другого ряда наук. Вот мой 10 23.08 Махлин В.Л. ч1 коллега Толя Ахутин этого не учитывает, потому что у него несколько другая, конечно, ориентация, при том, что он пытается освоить Бахтина как бы через Библера, что, на мой взгляд, проблематично, скажем так. В историческом опыте что прежде всего происходит? Исторический, то есть социальность. Что такое социальность, социально-исторический опыт, что это за опыт? Прежде всего мы его переживаем. Немецкое слово erleben. Для науки это слово, конечно, очень подозрительно, и придется об этом сказать. Но сразу я начну с языка. Обратите внимание, что английское слово experience – это собственно то же самое, что erleben, das erleben или Erlebnis. Вот это переживание. Причем заранее говорю, значение Гуссерля в философии исторического опыта(?)… Гуссерль, который был вообще математик! Это как бы основной упрек Гуссерлю, он же вообще… извините, я выражаюсь ненаучно, он же вообще кретин! Ну, с точки зрения нашей сферы. Он же математик! Поразительно, что Гуссерль проделал грандиозную эволюцию. Будучи математиком и оставшись им в значительной степени, он сделал чуть ли не самое главное в философии гуманитарных наук. И начал он с чего? Это поразительно, и это не замечают, потому что второй том «Логических исследований»… Первый том был издан, как известно, под редакцией Франка в 1910 году. А второй том вышел, по-моему, в 2002 году в переводе, по-моему, Молчанова. Понимаете, то, что у нас не было второго тома «Логических исследований», основного, где все начинается с понятия переживания… Гуссерль, математик! Вы понимаете, что это было уже за время, уже другой рубеж века, XIX – XX. Все начинают с переживания. И вот собственно философия XX века (очень грубо я сейчас это выражу, но это иногда нужно), она началась собственно с понятия интенциональности. Мы не просто переживаем, говорит Гуссерль и в дальнейшем критикует Дильтея… И только в 20-е годы Гуссерль осознал: мы же идем по одному пути! Он сперва завалил, опустил, как известно, Дильтея перед смертью, и была переписка… Но это отдельный разговор. В 20-е годы он признал, что я не понял, на самом деле у нас интенция-то общая. Гуссерль дал понятие интенциональности, что означает: мы не просто что-то переживаем, мы переживаем смыслы, предметные смыслы. Интенциональность – это то, что на самом деле… Бахтинское выражение здесь абсолютно уместно, потому что Гуссерль имел для него определяющее влияние, он сам об этом писал в 60-е годы, определяющее влияние прежде всего Гуссерля и еще Шелера. Это то, что мы переживаем не себя как бы просто – мы переживаем некоторую реальность вне себя. Переживание, выражаясь по Бахтину, выходит за себя. Очень хорошее выражение, гротескное совершенно: выходит за себя. А это значит, мы переживаем некоторые предметные, запредметные, непредметные смыслы, которые находятся за пределами меня как переживающего. Вот это стало гигантским открытием уже. Причем сам Дильтей в своем позднем произведении «Построение исторического мира в науках о духе», он собственно попытался уже инкорпорировать в себя вот это открытие Гуссерля, которое он сам назвал Epochen*… как это по-русски… «сделавший эпоху». Эпохально. Вот, русское слово «эпохально». Вот эта эпохальность(?) создала вот этот момент. Понимаете, повторяю, исторический опыт – это прежде всего нечто переживаемое нами, но осмысленно переживаемое. Другое дело, что сама эта осмысленность, и это, как правило, характерно вообще для переживания, она имеет очень часто недифференцированный характер. Особенно это заметно в эстетике. Они говорят: «Вот здорово!» А если его спросить: «Слушай, а что здорово?» – «Да иди ты на! Здорово, и всё! Здорово и хорошо!» Что это значит? Мы переживаем некоторый смысл, но он не дифференцирован, грубо говоря, он не вполне может быть отрефлексирован, но он есть. Он есть, мы переживаем не просто душевно. Собственно дух – это и есть некоторая предметно-осмысленное переживание. Отсюда науки о духе, отсюда науки исторического опыта. У Дильтея слово Constructionen(?) – это такое пиеративное(?), ругательное слово. Он подчеркивает, в историческом опыте он сам по себе не конструируется, и это конструирование не должно 11 23.08 Махлин В.Л. ч1 быть практикой или операцией гуманитарных наук. Они так вообще не работают. И философия должна это учитывать, она должна отказаться от Constructionen(?). Поэтому он разработал характерную категориальную… Впервые. Хайдеггер потом сделает это с понятием «экзистенциалы», но первый, кто был… И Хайдеггер идет за Дильтеем совершенно четко. Особенно предлагая… Вообще тут я сразу, извините, немного забегаю вперед. Главное, книгу Хайдеггера «Бытие и время» людям, сидящим здесь, но не знающим немецкого языка, я не рекомендую читать в переводе Владимира Вениаминовича Бибихина. Но другого перевода пока нет. Другой перевод делает сейчас, насколько мне известно, Женя Борисов, совершенно замечательно переведший книгу, которую как раз надо прочитать, если мы хотим понять, как произошел поворот в XX веке. Эта книга называется, она обозначена в библиографии, «Пролегомены к понятию времени». Это его курс лекций 25-го года. Это собственно уже «Бытие и время», но оно абсолютно, как Хайдеггер так, по-немецки, абсолютно все выстроенное: первое, второе, третье, Дильтей, Ницше, Гуссерль, потом я. Ну, понятно. То есть там вся концепция уже на самом деле есть. Вот эту книгу я рекомендую читать, она очень удобна для работы. Вот если вы хотите разобраться… А в философии самое главное – это на самом деле… Что значит осмыслить? Понимайте это абсолютно прозаически – это значит разобраться. Вот я тоже пытаюсь разобраться. В том числе и потому, почему невозможно разобраться. Почему закрыт подход(?). Эти основные категории мира жизни, как потом скажет Гуссерль, Lebenswelt, у исторического мира, как говорит Дильтей, они известны. Знаменитая троица: переживание, выражение… Потому что всё в историческом мире есть некоторое выражение. Не потому, что я хочу что-то выразить, а потому что это есть некоторое… Дильтей говорит Leben*(?), это жизнепроявление. Совершенно замечательный, отметьте себе, пожалуйста, гениальный, по-моему, абсолютно русский термин «овнешнение». Он мне очень нравится. Это термин, его разрабатывает специально и замечательно Шпет в первом из его «Эстетических фрагментов», вот «овнешнение». И сразу после этого… Но Шпет это делает очень импульсивно, это совершенно не по-шпетовски написанный, совершенно гениально написанный первый из «Эстетических фрагментов» 22-го года. И Бахтин тогда же, в 23-м году, пишет свою работу «Автор и герой в эстетической деятельности», где специально дает теорию… Бахтин абсолютно по-русски и совершенно по-немецки. Он в неокантианстве воспитался – все должно иметь свое место. Поэтому он выстраивает картину. Он дает настоящую теорию овнешнения. Мы не внутри смысла, как говорит Шпет, пора покончить с немецкой идей innerlich*(?), то есть «внутренний мир». Не внутренний мир! Все дело в овнешнении этого внутреннего мира! Вот это важнейшее понятие, и очень характерно, оно абсолютно ушло даже из русского языка. Это очень смешно. Один мой студент, наслушавшись меня, пошел сдавать экзамен… Извините, но это очень характерно и относится на самом деле к нашей теме исторического опыта. Он пошел сдавать экзамен. Знаете, как молодые, вот наслышатся, пошел сдавать экзамен, говорит: «Это овнешнение!» Экзаменаторы сделали вот такие глаза: «Это чего?» – «Это такой термин Бахтина, вот Виталий Львович Махлин нам читал, он это говорил» Они замерли, филологи, подумали. Бахтина принято уважать. И дальше они сказали: «Вы знаете, мы, конечно, Бахтина уважаем, но, пожалуйста, пользуйтесь традиционной терминологией». Это правильно они сказали. Ну а как они могут? А чем они виноваты, что им никто, никакой философ об этом сказать не мог? А прочитать Бахтина попробуйте, или Шпета. Вообще опыт нашего времени… Сегодня единственная революция, которая удалась, на мой взгляд, за последние 25 лет – это книжная революция. В принципе, сейчас можно читать все, даже не зная иностранных языков. Всё! И переводы сейчас пошли лучше. Всё можно читать. И тут мы и обнаружили, что да, прочитать-то мы можем, а понять мало чего можем. Понимаете, мы уже не можем в это войти. Это важнейший опыт нашего поколения, ну, двух поколений. Это то, что, Господи… Я уж не говорю про книгу, 12 23.08 Махлин В.Л. ч1 перевод Бибихина, который нельзя читать русскому человеку, в смысле русскоязычному человеку, это можно читать только – вот у меня немецкий и вот у меня русский. Очень интересно, это замечательная лаборатория, он человек очень талантливый, не подумайте, что я что-то плохое хочу сказать. Но недаром Женя Борисов сказал на Гадамерской конференции в конце 2002 года, по-моему: «Да, перевод Владимира Вениаминовича, конечно, гениальный, но я пытаюсь перевести по-русски». Вот это, понимаете. Это очень корректно, замечательно он это передал. Это нечитаемо! Я бы сказал так, он перехайдеггеризировал Хайдеггера! Это совершенно… Это даже талантливо! Я же не… Он талантливый человек, он сделал это талантливо. Но читать это нормальному человеку, чтобы разобраться, о чем там идет речь, просто я очень не рекомендую. Теперь раздел «Смена парадигмы». Верховский. И сделаем, может быть… Махлин. И сделаем, может быть, паузу, если вы позволите… Муж. Виталий Львович, Вы сказали, переживание и выражение, триада… А еще что? Махлин. Понимание. Ну конечно. Самое главное, прошу прощения… Вот иногда реплики… Верховский. Вот на нем закончим. Махлин. Вот давайте на понимании закончим, чтобы дальше говорить в основном только об этом. Ну, не только, но прежде всего о парадигме понимания. Хорошо? Сделайте себе такой подраздел, это пункт 6, по-моему, у меня называется, просто «Смена парадигмы». И в скобках «гуманитарная». Вот это для нас очень важно, потому что… Ну, я буду говорить о этом. В общем, можно перекурить, да? Щедровицкий. Максимум 10 минут! 13