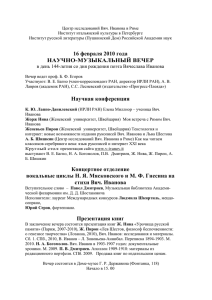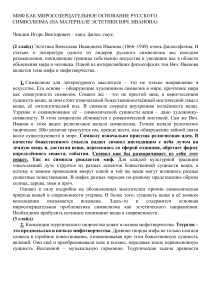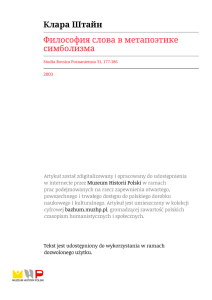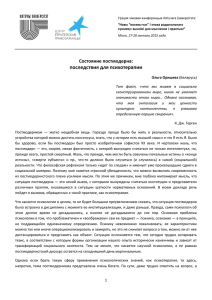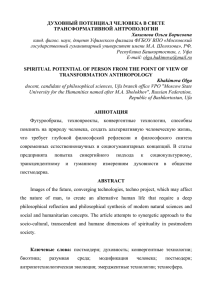ПОЛИСТИЛИЗМ ПОСТМОДЕРНА В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИИ НЕОСИМВОЛИЗМА Е.А. Певак
реклама
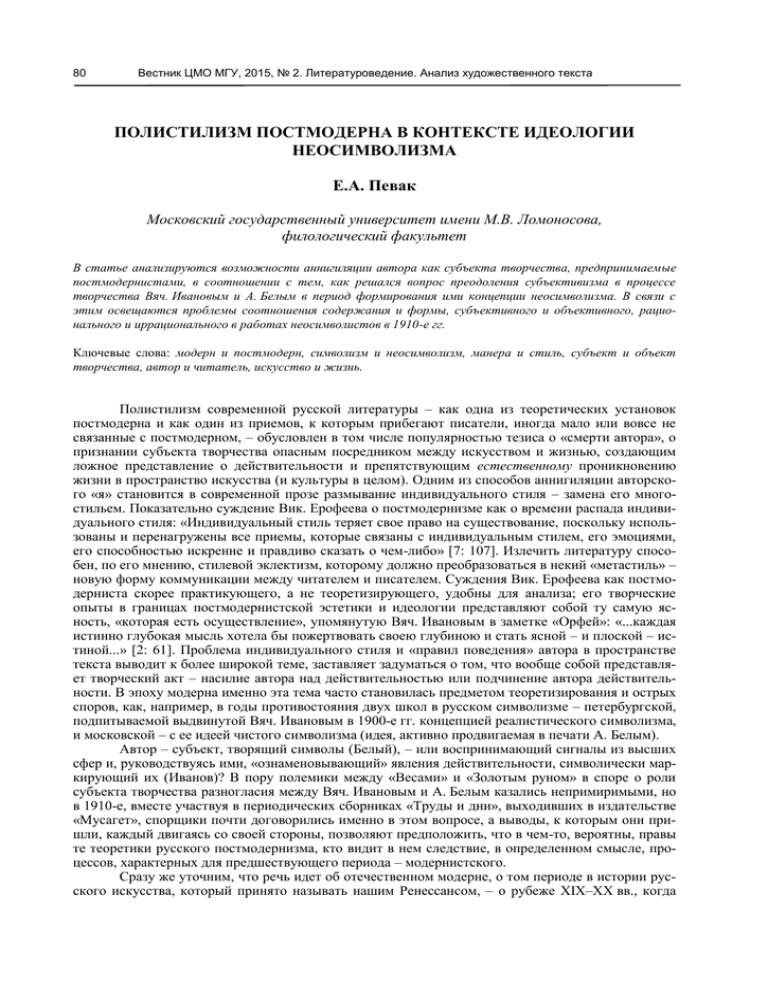
80 Вестник ЦМО МГУ, 2015, № 2. Литературоведение. Анализ художественного текста ПОЛИСТИЛИЗМ ПОСТМОДЕРНА В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИИ НЕОСИМВОЛИЗМА Е.А. Певак Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет В статье анализируются возможности аннигиляции автора как субъекта творчества, предпринимаемые постмодернистами, в соотношении с тем, как решался вопрос преодоления субъективизма в процессе творчества Вяч. Ивановым и А. Белым в период формирования ими концепции неосимволизма. В связи с этим освещаются проблемы соотношения содержания и формы, субъективного и объективного, рационального и иррационального в работах неосимволистов в 1910-е гг. Ключевые слова: модерн и постмодерн, символизм и неосимволизм, манера и стиль, субъект и объект творчества, автор и читатель, искусство и жизнь. Полистилизм современной русской литературы – как одна из теоретических установок постмодерна и как один из приемов, к которым прибегают писатели, иногда мало или вовсе не связанные с постмодерном, – обусловлен в том числе популярностью тезиса о «смерти автора», о признании субъекта творчества опасным посредником между искусством и жизнью, создающим ложное представление о действительности и препятствующим естественному проникновению жизни в пространство искусства (и культуры в целом). Одним из способов аннигиляции авторского «я» становится в современной прозе размывание индивидуального стиля – замена его многостильем. Показательно суждение Вик. Ерофеева о постмодернизме как о времени распада индивидуального стиля: «Индивидуальный стиль теряет свое право на существование, поскольку использованы и перенагружены все приемы, которые связаны с индивидуальным стилем, его эмоциями, его способностью искренне и правдиво сказать о чем-либо» [7: 107]. Излечить литературу способен, по его мнению, стилевой эклектизм, которому должно преобразоваться в некий «метастиль» – новую форму коммуникации между читателем и писателем. Суждения Вик. Ерофеева как постмодерниста скорее практикующего, а не теоретизирующего, удобны для анализа; его творческие опыты в границах постмодернистской эстетики и идеологии представляют собой ту самую ясность, «которая есть осуществление», упомянутую Вяч. Ивановым в заметке «Орфей»: «...каждая истинно глубокая мысль хотела бы пожертвовать своею глубиною и стать ясной – и плоской – истиной...» [2: 61]. Проблема индивидуального стиля и «правил поведения» автора в пространстве текста выводит к более широкой теме, заставляет задуматься о том, что вообще собой представляет творческий акт – насилие автора над действительностью или подчинение автора действительности. В эпоху модерна именно эта тема часто становилась предметом теоретизирования и острых споров, как, например, в годы противостояния двух школ в русском символизме – петербургской, подпитываемой выдвинутой Вяч. Ивановым в 1900-е гг. концепцией реалистического символизма, и московской – с ее идеей чистого символизма (идея, активно продвигаемая в печати А. Белым). Автор – субъект, творящий символы (Белый), – или воспринимающий сигналы из высших сфер и, руководствуясь ими, «ознаменовывающий» явления действительности, символически маркирующий их (Иванов)? В пору полемики между «Весами» и «Золотым руном» в споре о роли субъекта творчества разногласия между Вяч. Ивановым и А. Белым казались непримиримыми, но в 1910-е, вместе участвуя в периодических сборниках «Труды и дни», выходивших в издательстве «Мусагет», спорщики почти договорились именно в этом вопросе, а выводы, к которым они пришли, каждый двигаясь со своей стороны, позволяют предположить, что в чем-то, вероятны, правы те теоретики русского постмодернизма, кто видит в нем следствие, в определенном смысле, процессов, характерных для предшествующего периода – модернистского. Сразу же уточним, что речь идет об отечественном модерне, о том периоде в истории русского искусства, который принято называть нашим Ренессансом, – о рубеже XIX–XX вв., когда Е.А. Певак. Полистилизм постмодерна в контексте идеологии неосимволизма 81 отчетливо были проартикулированы принципы нового искусства, ориентированного на реабилитацию индивидуального в противовес «социологическому» или «общественно-политическому» подходу к творчеству. После короткого периода торжества индивидуальности (примерно середина 1890-х – 1905-й) в символизме вновь оказывается востребованной идея необходимости служения высшей цели, сужающая, естественно, границы свободы творческой индивидуальности. Появляются призывы возродить в русской поэзии некрасовскую традицию, с каким выступил, к примеру, провозвестник русского декаданса Дм. Мережовский, распространяются демотеистические настроения в модернистской среде, чем, отчасти, вызвано восхищенное внимание к деятельности новокрестьянских поэтов, не говоря уже о том, что религиозно-общественный идеал едва ли не с первых лет существования нового искусства в России был одним из его компонентов. Наряду с этим, впрочем, существовали и группы защитников индивидуалистического искусства как в пору расцвета символизма, так и после объявления о завершении этого проекта, когда с обвинениями в адрес своих предшественников-символистов, предавших идеал индивидуалистического искусства, выступили авторы, связанные с футуристическими школами и группировавшиеся вокруг альманаха «Очарованный странник». Идея размывания авторского «я», добровольно признающего примат высшего начала, – «я», готового раствориться в сфере всенародного искусства, по сути своей противоположная модернистскому самоутверждению индивидуальности, высказанная Вяч. Ивановым еще в пору его сотрудничества в «Золотом руне», не могла не насторожить даже его сторонников. Показателен пример реакции С. Городецкого, перешедшего в лагерь постсимволистов – акмеистов – в том числе и потому, что он явственно почувствовал угрозу своему авторскому «я». В статье 1909 г. «Формотворчество» он критически оценил предложенную Ивановым идею о мифотворчестве как о главной цели творчества и указал на то, что идея эта отпугнула многих его учеников и единомышленников, устремившихся в разные стороны: Блок движется к идеализму; Чулков сосредоточен на разработке своей «редакции» мистического анархизма; Кузмин погрузился в «личный, крайне узкий психологизм и суетливый импрессионизм». Верны остались Иванову А. Ремизов и он сам, но, пишет о себе Городецкий, «второму уже неймется в тисках альтернативы быть передатчиком или лепить куколки и хочется какого-то автотворчества». Ориентация адептов Иванова на «авторчество» смыкается с параллельным процессом преодоления власти абстрактных истин, которые можно назвать «меганарративами» символизма. В противовес им выдвигается пренебрегающее отвлеченными категориями и движущееся в сторону естественной жизни авторское «я»1. Показательно, что противоборство абстрактного и конкретного в литературе начала 1910-х гг., когда реакция на символизм приобрела формальные очертания (акмеизм и футуризм в разных его вариациях), отражало процессы, происходившие в сфере философской науки, где тезису «назад, к Канту» противостоял тезис «назад, к вещам». Неосимволизм интересен тем, что здесь – на поле эстетики – русское неокантианство словно бы встречается с феноменологией и русским интуитивизмом Н. Лосского и С. Франка, и эта «встреча» позволила теоретикам неосимволизма по-новому посмотреть на место и роль автора в творческом процессе. Сформулированное Кузминым в статье «О прекрасной ясности» положение, представляющее авторское «я» как элемент гармонизирующий стихию творчества, в неосимволизме Иванова и Белого снимается предложением освободить автора от этой навязанной ему функции и передать ее читателю, которого надо «заразить» вирусом творчества и сделать его соучастником творческого процесса. В эротически окрашенной интерпретации Иванова союз автора и читателя представлен как любовное свидание: «Между двумя жизнями – той, что воплотилась в творении, и той, что творчески к нему приобщилась (творчески потому, что символизм есть искусство, обращающее того, кто его воспринимает, в соучастника творения), – происходит то, о чем говорится в старинной, простодушно-глубокомысленной итальянской песенке, где два влюбленных условливаются о свидании, с тем чтобы и третий оказался в урочный час с ними – сам бог любви» [5: 4]. Символизм, по мысли Иванова, означает отношение, следовательно, существовать «как отделенный от субъекта объект» символическое произведение не может. В этой установке на пролонгирование акта творчества есть нечто напоминающее постмодернистский перенос акцента с субъекта творящего на субъект воспринимающий – читателя (или зрителя), которому творец, пренебрегающий правом авторской рефлексии, отдает пас, а вместе с ним и право на рефлексию. И в том и в другом случае автор как начало, субъективирующее дейПример такого целенаправленного движения – повесть М.А. Кузмина «Покойница в доме», дискредитирующая идеологию Вяч. Иванова 1910-х гг. 1 82 Вестник ЦМО МГУ, 2015, № 2. Литературоведение. Анализ художественного текста ствительность, должен быть выведен из игры. Но принципиальная разница заключается в том, что, признавая право индивидуальности на свободу самовыражения, модерн признает и существование некоей цельной надмирной величины – Абсолюта, к которому каждый идет своим путем, но движется по направлению к общей цели. Дробление Абсолюта, пронизывающего все элементы бытия, предполагающее его «реконструкцию» или же отвергающее ее даже в отдаленной перспективе, – это все еще модерн; постмодерн – принципиальный отказ от самой идеи существования общего знаменателя, независимо от его «качественных» характеристик. Диаметрально расходясь в этом пункте, модерн и постмодерн тактически близки в переосмыслении роли автора, который предстает не как индивидуальность, транслирующая свой взгляд на действительность, облеченный в словесную форму с отпечатком его, авторской индивидуальной природы, но как особого рода субстанция – как «зыблющаяся феноменология человеческого духа», если воспользоваться словами Иванова [2: 60]. В постмодерне практическое изъятие субъективного начала из процесса творчества предполагается осуществлять путем замены индивидуального стиля или игрой с чужими стилями, или перемещением автора с лидирующих позиций на периферию повествования, где ему отведена роль отнюдь не режиссера, не медиума, транслирующего послания из высших сфер в низшие, а всего лишь одного из информаторов. Если рассмотреть проблему автора (и его отсутствия в тексте) в исторической перспективе, можно найти немало подтверждений тому, что литература нового времени, собственно, так и развивалась, заглушая авторское «я» многоголосьем персонажей. Чем лермонтовский «Герой нашего времени» – в свете проблемы антидоминанты авторского «я» – принципиально отличается, к примеру, от текстов Сорокина? Наличием авторского предисловия? Но эта форма самовыражения автора в настоящее время благополучно трансформировалась в интервью, запись в блоге. Значит, оказавшись за пределами повествования, автор, как и в прежние времена, достаточно ясно и определенно выражает свою позицию, лишенную признаков индивидуального стиля в самом тексте, но компенсированную возможностью иными способами объяснить себя. Если сама идея – лишить автора безграничной власти – далеко не нова, в чем все-таки специфика нынешнего этапа борьбы с авторским началом в литературе (и в искусстве в целом)? Проблема авторского «я» тесно связана с вопросом о соотношении рационального / иррационального в творческом процессе и, как следствие, с определением характера связей между формой и содержанием. В эпоху модерна в широком смысле слова, если вести отчет от Просвещения (хотя существуют и иные варианты датировки), с одной стороны, доминировала рациональная идея; с другой – разум подвергался строгому критическому анализу, а его способность познавать мир – серьезным сомнениям. И эта тенденция постепенно усиливалась, приведя в конце XIX в. к пересмотру как материалистических, так и идеалистических рациональных теорий. Появилась идея подключить религиозные практики (в той или иной степени усовершенствованные) к решению важнейших вопросов, стоящих перед философской мыслью, особенно отчетливо выраженная в России, где начиная со второй половины XIX в., – причем торжество нигилистических воззрений в общественном сознании, как ни странно, не дискредитировало религиозную идею как таковую, – религиозный идеал постепенно завоевывал все новые и новые позиции, пронизывая не только культурную сферу как таковую, но и общественно-политические движения. Проникновение религиозной идеи в теорию и практику литературных школ рубежа XIX–XX вв. проявляется, в частности, в культивировании иррационального начала – в противовес рациональному. Появляется уверенность в том, что не блуждающий в потемках сознания разум откроет дорогу к истине, а иррациональное «я», выбрав мистический путь, приблизится к тайнам мироздания. Опыт мистических практик переносится символистами в сферу художественного творчества сознательно и целенаправленно и влияет на решение ими вопроса, чем движим автор в минуты творческого экстаза. Вопрос: экстатичен ли постмодерн и какого рода экстаз испытывает автор, покидая границы разума и устремляясь в сферу бессознательного? Вероятно, правильнее будет говорить об экстатичности как о приеме, позволяющем автору-постмодернисту высвободить творческую энергию слова (или фразы) для реализации целей, не выходящих за пределы литературного текста. В самом деле, великих теургических задач постмодернисты, в отличие от модернистов русского происхождения, перед собой не ставят, как кажется, ограничиваясь фиксаций феноменов сегодняшнего дня, подобно тому как натуралисты в XIX в. регистрировали социальные типы, постепенно продвигаясь от «оболочки» к сознанию, а затем уже перемещаясь в плоскость бессознательного (русская «натуральная школа» и ее метаморфозы в творчестве Ф.М. Достоевского, например). В постмодерне происходит фиксация разнородных индивидуальных реакций на внешний Е.А. Певак. Полистилизм постмодерна в контексте идеологии неосимволизма 83 мир, представленных в тексте в виде словесно оформленного потока бессознательного, что позволяет решить сразу несколько задач. Замаскировать авторское начало; демонтировать сложившуюся и создать свою галерею психотипов; предельно субъективировать реакции героев, которые лишены возможности в своем восприятии мира апеллировать к высшим авторитетам или опираться на систему традиционных ценностей, поскольку и то и другое никакой ценности уже не представляет. Можно предположить, что в своем стремлении создать такую картину мира, которая принципиально не может складываться в некий целостный образ, так как в основе ее не должно быть ничего позволяющего «нанизать» обрывки восприятий на один общий для них стержень, постмодернисты ориентированы на феноменологическую концепцию или на близкий ей интуитивизм. Если обратиться к суждениям русского последователя Гуссерля – Г.Г. Шпета, высказанным им в «Эстетических фрагментах» (1922), то в них, наряду с ниспровержением идеи синтеза искусств, тезиса «жизнь есть искусство» – и утверждением, что без культурного контекста «природа» теряет смысл, есть интересные для уяснения того направления, в котором развивалось искусство, высказывание о паре художник – действительность: «Художник должен утвердить права внешнего, чтобы мог существовать философ. Только действительно существующее внешнее может быть осмысленно, потому что только оно – живое. Только художник имеет право и средства утверждать действительность всего – и бессмысленного и осмысленного, – лишь бы была перед ним внешность» [8: 364]. Повернуться лицом к действительности или вернуться «назад, к вещам», – такую задачу в ситуации кризиса символизма поставили перед собой сразу несколько литературных группировок. Некоторое преимущество было у тех, кто вслед за Вяч. Ивановым еще в предкризисную пору осознал необходимость контакта с реальностью. В ивановской концепции реалистического символизма2 пиетет к явлениям реальной действительности, способность к реалистическому миросозерцанию представлены как обязательные для автора, они нужны ему «как психологическая основа творческого процесса и как первый импульс к творчеству». Ставя перед автором-символистом цель «сознательно управлять земными воплощениями религиозной идеи», он призывает его «верить в реальность воплощаемого». В современном русском символизме Иванов видит две тенденции, которые проявляют себя в искусстве любой эпохи, начиная с античных времен: идеалистическую и реалистическую. Реалистический символизм нацелен на постижение «сокровенной жизни сущего», ему открыта истинная реальность вещей (realia in rebus), хотя при этом он не отказывает в праве на существование и относительной реальности всему феноменальному, так как «оно вмещает реальнейшую действительность, в нем скрытую и им же ознаменованную» [6: 50]. Основу идеалистического символизма, по мысли Иванова, составляет воинствующий субъективизм, поэтому современный символизм идеалистического толка тождествен декадентству. Подтверждением этому служит равнодушие символистов-декадентов ко всему, что находится вне сферы индивидуального сознания – в области объективной и трансцендентной: «…он устремлен на сохранение души своей, в смысле ее утончения и обогащения ради ее самой... в нем не дышит дух Диониса, требующий расточения души в целом, потери субъекта в великом субъекте и восстановления его через восприятие последнего, как реальный объект» [6: 60]. В статьях 1910-х гг., опубликованных в «Трудах и днях», Иванов меньше внимания уделяет обоснованию реалистической основы истинного символизма, как он делал прежде, опираясь на анализ эстетических, философских и религиозных основ искусства предшествующих эпох, но сосредоточивается на том круге вопросов, которым первостепенное внимание уделял А. Белый, когда полемизировал с Ивановым в конце 1900-х, – на исследовании процессов, протекающих непосредственно в субъекте творчества. Ивановское движение в направлении абсолютного объекта (или великого субъекта) заставляет его все пристальнее исследовать субъективное начало творчества, так как именно в этом замкнутом пространстве и рождается искусство. Вопрос в том, с какого рода материалом должно иметь дело искусство для того, чтобы придать субъективному по своей природе творческому процессу вселенский характер? Видя в самой действительности, ее предметах и явлениях, первооснову искусства, Иванов выдвигает тезис смиренного искусства. Смирение это проявляется в любви к малому, к миру вещей, а не идей, и назначение искусства в том, чтобы «представлять малое и творить его великим, а не наоборот» [5: 10]. Первая часть ивановского рассуждения – «представлять малое» – без труда вписывается в эстетику сегодняшнего отеСм. статью Вяч. Иванова, опубликованную в «Золотом руне» в двух номерах за 1908 г. Первая часть появилась под названием «Две стихии в современном символизме» (№ 3–4), продолжение – «Два течения в современном символизме» (№ 5). 2 84 Вестник ЦМО МГУ, 2015, № 2. Литературоведение. Анализ художественного текста чественного постмодерна, так как одна из основных его тенденций – расширение границ искусства, что происходит за счет включения в разряд предметов и явлений, востребованных художником как материал для творчества, не просто малого в качестве дополнения к большому, но исключительно малого. Эта тенденция все еще обусловлена необходимостью борьбы с великими утопиями для полного искоренения тоталитаризма в любом его проявлении; с другой стороны, таким образом решается проблема новизны в современном искусстве, так как одним из источников обновления становится в таком случае всё то, что прежде оставалось за границами искусства как сферы (так или иначе) возвышенно прекрасного или возвышенно ужасного. Так появляются тексты, отражающие восприятие мира представителями субсоциумов, включая маргинальные, где акцент сделан на те действия, переживания, ощущения человека, которым прежде в сферу высокого (а таким и мыслилось искусство) путь был заказан. Можно, конечно, и этой идее профанации искусства найти немало аналогов в предшествующем, модернистском этапе его существования. Но здесь интереснее другая параллель. Как в ивановском неосимволизме, так и в установках нынешнего постмодерна есть движение в сторону малого, есть «расточительность» в отношении автора создаваемого текста, который в обоих случаях должен потесниться как субъект творчества, и есть пристальный интерес к тем процессам, которые сопровождают распад творческого «я», в случае Иванова – с перспективой возрождения в «составе» великого субъекта (или объекта), для постмодернистов – пока еще с целью непонятной: то ли прыжок в «ничто», то ли конструирование очередного меганарратива с признаками антиутопии. Можно предположить, что деконструктивистская тенденция, являющаяся признаком идеологии постмодерна, проявляющаяся в стремлении к децентрализации и деструкции (в конечном счете) существующих идей и форм, субъектов и объектов, имеет место и в эстетике неосимволизма, но в неосимволизме она замкнута в сфере творящего «я», а за его пределами – не хаос, а упорядоченный космос. Представляя внутренний мир автора как стихию, которой тесно в границах своего «я», своего индивидуального стиля, Иванов и Белый предлагают свою концепцию творчества, когда в отсутствие внутренних ограничений, диктуемых разумом, энергия, «высвобождающаяся из граней данного», придает душе «движение развертывающейся спирали» [5: 10]. Свободная стихия творческого «я», как им представляется, дает ключ к решению проблемы формы и содержания. Форма, как известно, предполагает упорядочивание – формализацию – этих стихийных порывов, но формализации можно избежать, если, как предлагает Белый, не отказываться от антиномичности содержания и формы, которая преодолевается естественно в процессе творчества. Характеризуя содержание как стихию, которая сама рождает форму, и исключая таким образом из этой «цепочки» автора как фигуру, побеждающую хаос – разумом3, Белый представляет упразднение «двоицы» (антиномии содержания и формы) так: «Под содержанием разумеется символистом не мысль и не образ; под содержанием разумеется символистом основная стихия глубоко потрясенной души: ее музыкальные безóбразно вставшие порывы, разрешаясь волнами мелодий, на вершинах своих завиваются, будто белые гребни, многообразными образами; образы эти текучи: тают они, будто белая пена, на голубоватой небесной поверхности лирически возмущенной души; образы эти впоследствии уподобляемы мыслям, ибо каждая мысль есть условное выражение символического образа переживаний» [1: 17]. Заключая содержание своей души в «крепкое кованое слово», символист нового толка «за крепкость и кованность слов не отдаст бессловесности, безымянности ему звучащих мелодий». Для него единство содержания и формы «не в форме и не в содержании», – это единство «запредельно от содержания и формы» [1: 23]. Таким образом автор освобождается от внешнего диктата – необходимости формализовать «текучие образы», подчиняясь законам жанра, или школы, или доминирующим эстетическим канонам, но и внутренняя потребность придать определенную форму «безóбразно вставшим порывам», диктуемая разумом как неким надзорным органом, нейтрализуется представлением о мысли как об «условном выражении символического образа переживаний». Предложенное Белым описание саморождающейся формы можно уточнить, обратившись к обозначенному Ивановым противостоянию дионисийского и аполлоновского начал в искусстве. Дионис предстает в его трактовке как бессмертный, «неразложимый» дух искусства, в отличие от формы – тела, которое может разложиться: «Ведь Дионис – не бог формы, он бог всех форм и ни «Самый же путь воплощения слова, оставаясь бессознательным в глубине, – пишет А. Белый, – измеряем брошенным в творчество лотом сознания; в этом смысле участие сознания в творчестве – совершенно побочно; оно отвердевает на нем, как на мягком теле моллюска отвердевает с течением времени ракушка...» [1: 13]. 3 Е.А. Певак. Полистилизм постмодерна в контексте идеологии неосимволизма 85 одной, как пребывающей; он – божественный принцип текучей смены воплощений, и всегда, конечно, хочет разрушить полонившую его форму, как разрушить стремится и маску смертного человека, им одержимого» [3: 39]. Собственно, художник и должен существовать в пространстве «текучей смены воплощений», не боясь потерять себя. Но – благоразумие и осторожность, страх заставляют «искать спасения у старых кумиров», «творчество подменяется суеверным подражанием и рассчитанною реставрацией: безудержная психология обернулась чинною археологией» [4: 5]. Противоядие страхам и слабости художника есть: осознав ограниченность своего субъективного «я», отказавшись от «единоличного произвола и уединяющего своеначалия», он должен свободно подчиниться объективному началу красоты. Но это только промежуточный этап – движение художника от манеры (субъективной формы) к стилю (объективной форме), когда происходит объективация субъективного содержания личности, причем переход от манеры к стилю предполагает этап обретения «лица», в противном случае, не определив себя как лицо, художник «создает не стиль, а стилизацию, стилизация же относится к стилю как маньеризм к манере» [4: 3]. Далее внутренне свободный художник вступает в пространство большого стиля. Предложенная Ивановым и Белым идея раскрепощения художника в пределах своего «я» с перспективой дальнейшего подчинения высшим целям нового искусства, представленного как стихия, организуемая «логизмом вселенской идеи» (Иванов), отражающая «Единый Лик Жизни» (Белый), в этой своей части уходит далеко в сторону от той линий, вдоль которой движется ориентированная на постмодерн современная русская литература. Но и русский символизм не сразу поставил целью «вселенское», «божественный простор», а водил, как писал Иванов, «по светлым раздольям, чтобы вернуть в нашу темницу, в тесную келью малого “я”». Быть может, как мечталось Иванову, отказ от индивидуального стиля и обернется рождением большого стиля – «стиля массы», до которого дорасти можно, только освободившись от ограниченного индивидуализма. Если, конечно, не произойдет «фанатическое самоистреблением искусства» теми, кто недостаточно крепок, «чтобы дышать Дионисом». И если не восторжествует в искусстве ложная «простота» – не победоносная, не та, которая представляет собой высшую точку в художественном совершенствовании стиля, а «простота нищая, простота дикая, простота обихода и вечных будней» [3: 41– 42]. Литература Белый А. О символизме // Труды и дни. М.: Мусагет, 1912. № 1. С. 10–24. Иванов Вяч. «Орфей» // Труды и дни. М.: Мусагет, 1912. № 1. С. 60–63. Иванов Вяч. Marginalia // Труды и дни. М.: Мусагет, 1912. № 4–5. С. 38–45. Иванов Вяч. Манера, лицо и стиль // Труды и дни. М.: Мусагет, 1912. №4–5. С. 1–12. Иванов Вяч. Мысли о символизме // Труды и дни. М.: Мусагет, 1912. № 1. С. 3–10. Иванов Вяч. Два течения в современном символизме // Золотое Руно. 1908. № 5. С. 44–50. Постмодернисты о посткультуре: (Интервью с современными писателями и критиками) / сост. С. Ролл. М.: Лиа Р. Элинина, 1996. 8. Шпет Г.Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. POLY-STYLE OF POSTMODERNISM IN THE CONTEXT OF IDEOLOGY OF NEO-SYMBOLISM E.A. Pevak Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philology The article analyses the possibilities of annihilation of author as subject of creativity, which postmodernists employ in their texts in comparison with the way the question of overcoming subjectivity in the creative process was being decided by Vyacheslav Ivanov and Andrei Belyj during the formation of their concept neo-symbolism. The article highlights problem of correlation of content and form, subjective and objective, rational and irrational are been discussed by neo simbolists in theoretic works of 1910s. 86 Вестник ЦМО МГУ, 2015, № 2. Литературоведение. Анализ художественного текста Key words: modernism, post modernism, symbolism and neo-symbolism, manner and style, subject and object of creativity, author and reader, art and life.