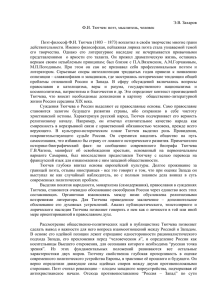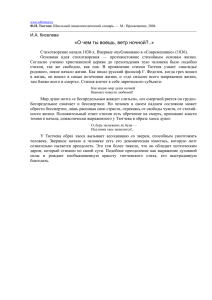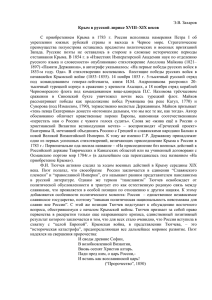В. Л. ЦЫМБУРСКИЙ ТЮТЧЕВ КАК ГЕОПОЛИТИК
реклама
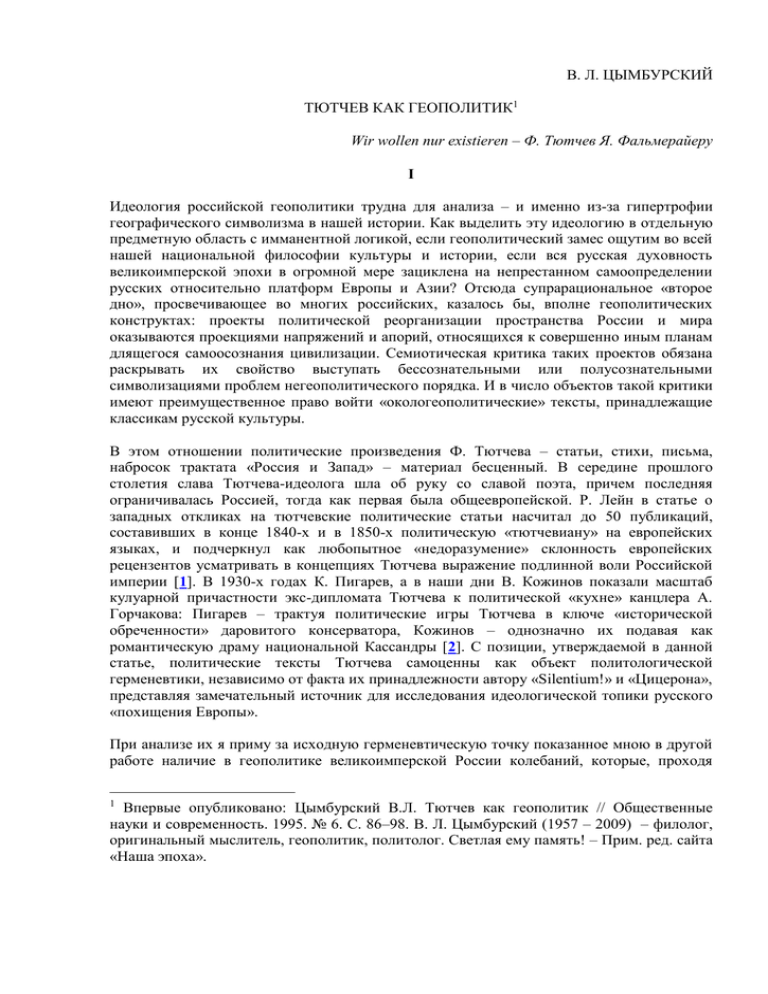
В. Л. ЦЫМБУРСКИЙ ТЮТЧЕВ КАК ГЕОПОЛИТИК1 Wir wollen nur existieren – Ф. Тютчев Я. Фальмерайеру I Идеология российской геополитики трудна для анализа – и именно из-за гипертрофии географического символизма в нашей истории. Как выделить эту идеологию в отдельную предметную область с имманентной логикой, если геополитический замес ощутим во всей нашей национальной философии культуры и истории, если вся русская духовность великоимперской эпохи в огромной мере зациклена на непрестанном самоопределении русских относительно платформ Европы и Азии? Отсюда супрарациональное «второе дно», просвечивающее во многих российских, казалось бы, вполне геополитических конструктах: проекты политической реорганизации пространства России и мира оказываются проекциями напряжений и апорий, относящихся к совершенно иным планам длящегося самоосознания цивилизации. Семиотическая критика таких проектов обязана раскрывать их свойство выступать бессознательными или полусознательными символизациями проблем негеополитического порядка. И в число объектов такой критики имеют преимущественное право войти «окологеополитические» тексты, принадлежащие классикам русской культуры. В этом отношении политические произведения Ф. Тютчева – статьи, стихи, письма, набросок трактата «Россия и Запад» – материал бесценный. В середине прошлого столетия слава Тютчева-идеолога шла об руку со славой поэта, причем последняя ограничивалась Россией, тогда как первая была общеевропейской. Р. Лейн в статье о западных откликах на тютчевские политические статьи насчитал до 50 публикаций, составивших в конце 1840-х и в 1850-х политическую «тютчевиану» на европейских языках, и подчеркнул как любопытное «недоразумение» склонность европейских рецензентов усматривать в концепциях Тютчева выражение подлинной воли Российской империи [1]. В 1930-х годах К. Пигарев, а в наши дни В. Кожинов показали масштаб кулуарной причастности экс-дипломата Тютчева к политической «кухне» канцлера А. Горчакова: Пигарев – трактуя политические игры Тютчева в ключе «исторической обреченности» даровитого консерватора, Кожинов – однозначно их подавая как романтическую драму национальной Кассандры [2]. С позиции, утверждаемой в данной статье, политические тексты Тютчева самоценны как объект политологической герменевтики, независимо от факта их принадлежности автору «Silentium!» и «Цицерона», представляя замечательный источник для исследования идеологической топики русского «похищения Европы». При анализе их я приму за исходную герменевтическую точку показанное мною в другой работе наличие в геополитике великоимперской России колебаний, которые, проходя Впервые опубликовано: Цымбурский В.Л. Тютчев как геополитик // Общественные науки и современность. 1995. № 6. С. 86–98. В. Л. Цымбурский (1957 – 2009) – филолог, оригинальный мыслитель, геополитик, политолог. Светлая ему память! – Прим. ред. сайта «Наша эпоха». 1 через серии однотипных фаз, образуют гомологичные «евро-похитительские» циклы [3]. Каждый такой цикл открывает фаза А – попытка России расширяться навстречу Западу, одновременно подключаясь в качестве чьего-нибудь партнера к борьбе государств романо-германской Европы за гегемонию. В фазе В происходят вторжение Запада в Россию и отбивание ею агрессии. В фазе С она, справившись с этим вызовом, пытается сама перейти к прямому наступлению на коренную Европу, и если эта попытка оказывается удачной, Россия вырастает в крупнейшего претендента на европейское господство. Теперь уже настает фаза D: Запад переходит к сдерживанию России, пока не отбрасывает ее в «холодной» или «горячей» войне. Вслед за тем в российской истории открываются на несколько десятилетий «евразийские» фазы-интермедии, когда отодвинутая от Европы империя выплескивает геополитическую активность в Центральную Азию и на Дальний Восток, чтобы возвратиться в Европу в час конъюнктурно-благоприятный... и повторить цикл заново. «Век» Тютчева как политика начался в затяжном пике нашего первого и самого долгого «евро-похитительского» цикла, открывшегося при Петре I. После отражения Наполеона и походов 1813–1814 годов система Священного союза узаконила за Россией место в числе европейских государств-лидеров, во многом сделав ее хозяйкой в Германии. Но это положение мотивировалось миссией поддержания европейского легитимного порядка и таким образом было интегрировано в этот порядок, связывавший Россию в ее движении к Средиземноморью. С начала 1850-х Запад, экстериоризируя напряжение отступавшего революционного кризиса, сопоставимого по эффекту с позднейшими кризисами конца 1910-х и конца 1960-х, переходит к отбрасыванию России; и после 1856 года для нее начинается первая «евразийская» фаза, закончившаяся войной с Японией и нашим новым приходом в Европу в контексте Антанты. Но геополитическое видение Тютчева определилось именно в апогее первого российского «похищения Европы», выразив те соблазны и несбывающиеся предчувствия, которыми во всех циклах бывают отмечены такие вершинные годы для российской, но порой и для европейской стороны. Понимая «современничество», по О. Шпенглеру, как пребывание в событийно изоморфных фазах долгих циклов, мы скажем: Тютчев – «современник» Л. Троцкого с его идеей развертывания РСФСР в социалистические Соединенные Штаты Европы; возможно, он «современник» и советских генштабистов 1970-х, если верить реконструкции М. Мак-Гвайра, по которой внутри этого учреждения должны были в те годы созревать планы большой неядерной войны за изгнание американцев из Евро-Азии [4]. И он определенно «современник» проекта «сдачи Европы» и образования «евросоветской империи от Дублина до Владивостока», который был в тех же 1970-х разработан бывшим коммунистом – в своей донацистской юности – Ж.-Ф. Тириаром [5]. Вникая в тютчевский геополитический проект для России, нетрудно показать абсурдность слышимых до сих пор оценок в духе энциклопедии начала века, якобы «политическое мировоззрение Тютчева с незначительными модификациями совпадает с учением и идеалами первых славянофилов» [6]. Мыслим ли славянофил, у которого ключевой славянофильский вопрос о последствиях петровской европеизации для внутреннего уклада России вызывал бы так же мало интереса, как у Тютчева? Найдем ли мы другого славянофила, который бы без обиняков указывал на Германию и Италию как на имперские провинции «будущей России»? Пигарев, обосновывавший в ранних трудах трактовку Тютчева как «скорее панслависта, чем славянофила», сам в 1960-х воскликнул по поводу «Русской географии»: «Непостижимо, как мог Тютчев верить в реальность такой чудовищной утопии, до какой не додумывался ни один из самых крайних панславистов» [7]. Кожинов же неустанно подчеркивает сугубо прикладное значение в глазах Тютчева всего «славянского вопроса» как «исходного пункта для истинного решения важнейших проблем русской и мировой политики» [8]. Скажем прямо: концепция Тютчева представляет первую по времени известную декларацию российского панконтинентализма, далеко вышедшего за рамки будь то «славянофильские» или «панславистские», – пусть даже схематика этих доктрин использовалась на промежуточных этапах созревания проекта. Само же это созревание с предельной последовательностью продемонстрировало логику одного из важнейших мифов великоимперской России – мифа «другой Европы». II Впрямь, в тютчевском дискурсе разных лет настойчиво возникает тема «Восточной Европы» – она же Европа «русская», «славянская», «другая» или, наконец, «новая». Уже в первой своей большой публикации «Россия и Германия» (1844) Тютчев пишет о простодушии многовековой веры Запада в то, «что не было и не могло быть другой Европы, кроме него», тогда как втайне от него «существовала другая Европа, законная сестра христианского Запада, христианская, как и он... Но, наконец, когда судьбы совершились, рука исполина сдернула эту завесу, и Европа Карла Великого оказалась лицом к лицу с Европой Петра Великого» [9]. Так, уже в этом раннем тексте Петр I предстает у Тютчева не европеизатором России, но героем, поставившим Запад перед фактом существования «другой Европы», возникшей задолго до Петра. Столь же твердо Тютчев в конце жизни объявит в письме к М. Погодину «лозунгом завтрашнего дня – возрождение Восточной Европы» и призовет русскую печать «усвоить себе это слово: Восточная Европа как определенный политический термин» [10]. Что же встает за этим термином-лозунгом? Контексты, окружающие его в тютчевских письмах, твердо обнаруживают для него несколько ассоциативных смысловых измерений. Первое задается триадой мотивов «разложение европейского международного порядка»–«его взрыв»–«его будущая перестройка Россией». Так, в предвидении франко-прусской войны Тютчев усматривает в «первой сознательной племенной войне между составными частями Европы Карла Великого... первый шаг к ее разложению», которым определится «мировой поворот в судьбах Восточной Европы». Он призывает историю «в интересах всей Восточной, т. е. Русской Европы, продлить еще на несколько лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, а без полного, коренного разложения нельзя будет приступить к перестройке». Точно так же Тютчев обусловливает «возрождение Восточной Европы» «роковым взрывом, который... должен расчистить место для нового европейского строя», добавляя с ехидством: «Что в Западной Европе боятся этого поворота как светопреставления, это понятно: для нее он то и будет» [11]. Итак, топос «Восточной Европы» наиболее очевидно ассоциируется со «светопреставлением» Запада и «новым европейским строем», иначе говоря – с политической реорганизацией всей Европы по инициативе и под эгидой России. Однако у этого топоса есть и другое измерение. Именно оно актуализируется а 1869 году в письме Тютчева, навеянном поездкой в Киев, где мыслителю видится «какая-то новая своеобразная Европа, которая вдруг раскрылась и расходилась по широким русским пространствам» [12]. Здесь важно вспомнить следующее: еще в «России и Германии», рассуждая об «истинном защитнике» России – ее истории, Тютчев приравнивает эту историю к «трем столетиям», коими «неустанно разрешаются в пользу России все испытания». Эти слова явно перекликаются со звучащим в той же статье утверждением о достижении русскими «четыре столетия назад» того единства, которого немцы ищут в XIX веке [13]. Итак, история России для Тютчева отождествлялась с эпохой государственного единства начиная с XV–XVI веков и, обращаясь к немецким читателям, он не делает попыток удревнить эту историю, включить в нее Киевскую Русь. Однако через четверть века он свяжет топос «Восточной Европы» именно с Киевом как средоточием русской предыстории. Можно указать прямое свидетельство тому, что подобная трактовка будущей роли Киева уже сложилась в сознании Тютчева ко времени работы над «Россией и Германией». Это свидетельство – в дневнике мюнхенского знакомого Тютчева, ориенталиста Я. Фальмерайера, с которым русский дипломат сошелся на идее «особого мира Восточной Европы» и которого в 1843 году пробовал завербовать с ведома Третьего отделения в агенты российского влияния на немцев [14]. В марте названного года Фальмерайер законспектировал тютчевский монолог, где рассуждению о «Византии, священном городе, патриархе и торговле» и о «Киеве – центре и сердце славянства»,– пассажу, проникнутому, по словам автора дневника, «зудом перенесения столицы», оказываются предпосланы поразительные слова: «Мы хотим лишь существовать» – «Wirwollennurexistieren» [15]. «Светопреставление Запада», «воля русских к существованию», прорыв в доисторию России... Найти точку пересечения трех мотивов – именно и значит опознать тот смысл «другой Европы», симптомами которого они служат. III В своем становлении проект Тютчева прошел две стадии, причем на первой – условно говоря, стадия «России и Германии» – идеолог пытался вписать его в легитимистский контекст Священного союза. В этой адресованной немцам брошюре он решил опереться на романо-германскую контроверзу, которая, будоража европейскую историографию XIX века, позволяла подверстать как внешнеполитические, так и социальные конфликты под единую схему «борьбы рас». Этим Тютчев и воспользовался, ставя вслед за французскими историками времен Реставрации знак равенства между революционностью и романизмом. Французская революция 1789 года предстает у него, как у О. Тьерри, бунтом некогда покоренных франками галло-римлян, который, однако, объявляет войну германству не только на французской земле, но и в масштабе Европы. Германия, явно одержимая тягой к саморазрушению в религиозных распрях и радикальных утопиях, склоняется перед романской революционной империей Наполеона, пародирующей германскую империю Средневековья. Но растление Европы пресекает своим вмешательством Россия – «другая Европа... еще более христианская», чем Запад. Рисуя становление России, Тютчев подводит оригинальный цивилизационный аргумент под утверждение об «органичности» и «законности» российских «мнимых насилий» и «мнимых завоеваний». Все нероманские и негерманские племена европейского пространства оказываются противопоставлены коренному Западу как «Новый Свет– Восточная Европа». Позже, в «России и Западе» он напишет о «панславизме масс», якобы проявляющемся в солидарности «русского солдата с первым встретившимся ему славянским крестьянином... даже мадьяром... по отношению к немцу» [16]. Свое «историческое бытие» этот Новый Свет способен получить лишь от той своей части, которая данное бытие завоевала раньше всего, – от России. Но и она зато имеет право дать ему свое имя, уничтожая в нем «противоестественные стремления, правительства и учреждения», насажденные под западным воздействием, например в Польше. В этом «органическом» росте «Восточная Европа, уже на три четверти установившаяся», должна обрести и Константинополь – «свое последнее, самое существенное дополнение»: остается лишь узнать, «получит ли она его путем естественного хода событий или будет вынуждена достигать его силой оружия, подвергая мир величайшим бедствиям» [17]. Вот эта-то «исторически законная сила», вступив на «поле битвы Европейского Запада», из уважения к такой же «исторической законности» Европы Карла Великого спасает германский мир от самораспада и обеспечивает ему перевес над романизмом. К досаде германофилов отмечу: последняя декларация – не более чем пропагандистский выверт дипломата. Через пять лет, когда зашатается Священный союз, Тютчев обзовет средневековую германскую империю «узурпацией» германцами титула и власти законных императоров Византии, гордо заявив, что «с появлением России Карл Великий стал уже невозможен» [18]. Когда же в начале 1870-х Германия возродится имперской силой в Центральной Европе, Тютчев, реминисцируя «Зимнюю сказку» Г. Гейне, оценит «пробуждение Фридриха Барбароссы» как зрелище, лично его повергающее в отчаяние [19]. И в письме, рассчитанном на передачу через вторые руки президенту Франции А. Тьеру, напишет о временности германских симпатий петербургского двора и о миссии «объединенной славянской Европы»–«быть естественной союзницей латинских рас и, в особенности, Франции» [20]. Поборник «Империи Востока» мог спокойно видеть Центральную Европу лишь ослабленной и разделенной, поддерживающей относительное превосходство над приморскими романскими странами только ценой абсолютной зависимости от «другой Европы». Все, что касается разделения Запада в «России и Германии» с точки зрения русских на Запад «свой» и «чужой», оказалось данью эпохе Священного союза и было легко снято эволюцией Тютчева-идеолога. В других же отношениях это первое большое его выступление вполне продемонстрировало аппарат созревающего проекта. Тютчев предельно заостренно поставил вопрос о цивилизационном статусе восточноевропейских народов, обретающихся между Россией и романо-германским Западом – отнюдь не только славян, но и таких, как греки или венгры. На деле он столкнулся с важнейшей и сегодня для цивилизационной геополитики проблемой наличия у цивилизаций, помимо опорных этногеографических ядер, также обширных периферий, образующих переходные континуумы между цивилизациями. Решение, предложенное Тютчевым для народов этих краев, по сути, свелось к вымыванию любых промежуточных состояний, не подпадающих вполне ни под одну из двух громадных цивилизаций субконтинента. Позже в «России и Западе» он, по словам И. Аксакова, сведет будущее славянокатоликов к альтернативе: «или объединение с Россией, или объединение полное и окончательное с Западною Европою» в смысле этнической германизации [21]. Тютчев отстаивал, собственно, тот вариант – группировку массы нероманогерманских или не принадлежащих к западному христианству народов переходного восточноевропейского ареала с Россией против Запада, – который был опробован во второй половине XX века в последнем «европохитительском» цикле и дискредитирован на наших глазах. В ближайшие годы, напротив, множество «переходных» народов будут стремиться напрямую вписаться в структуры коренного Запада, и отсюда станут проистекать главные напряжения и перипетии европейской политики рубежа XX–XXI веков. Дискурс Тютчева как бы различает «Россию-1» в современных ему имперских границах и предназначенную возникнуть «Россию-2» с включением народов Европы, не принадлежащих Западу, на которые Россия должна распространить свое имя, дав им не западное историческое бытие. Здесь обозначается первая интерпретация топоса «другой Европы». Христианство приравнивается к «европеизму», стало быть, конфессиональная особость православия становится «другим европеизмом». Отсюда следует ряд импликаций, отдающих семантическим фарсом. Во-первых, другая Европа не может быть судима по западным цивилизационным меркам и потому Тютчев легко соглашается с немецкими оппонентами, твердящими ему о чуждости Западу «самого начала цивилизации» России. Во-вторых, по праву другой Европы Россия может «органически» вобрать в Европе все, что не охвачено коренным Западом, включая народы, которые он попытался бы «присвоить себе, стараясь исказить их национальный характер». А втретьих, эта «другая Европа», она же становящаяся «Россия-2» – тоже Европа и имеет полное право выступать «на поле битвы Европейского Запада». Устами Тютчева «законная сестра Запада» говорит брату: «все не твое – мое, а твое – мое же». Два постулата «России и Германии» – о сущностной чужеродности российского и западного цивилизационных начал, а вместе с тем о России-«другой Европе» – в своем синтезе неизбежно должны были дать картину либо напряженного сосуществования двух различных цивилизаций под одним именем «Европы», либо же их войны за право преимущественного самообозначения этим именем и гегемонию над всеми прочими народами, пытающимися подверстаться под него. Между первым и вторым вариантами для русского идеолога только шаг, а именно: заявить, что раз православие – «единственно истинное христианство», значит весь христианский мир обязан будет стать Россией. В 1844 году Тютчев на такой шаг не решался: Священный союз был еще прочен, и «рука исполина» не торопилась отдергивать занавес. IV Год 1848-й, революционный, поставил верхушку России перед вопросом: сохраняются ли в новых условиях у империи какие-то обязательства перед старым европейским порядком, престижным для нее, но зато серьезно умерявшим ее запросы? Свой ответ на этот вопрос предложил и Тютчев в записке Николаю I, год спустя изданной в Париже под названием «Россия и Революция». Суть аргументов своего супруга неплохо выразила в одном письме Э. Тютчева: «Россия защищает не собственные интересы, а великий принцип власти... Но... если власть [в Европе.– В. Ц.] окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет обязана, во имя того же принципа, взять власть в свои руки, дабы не уступить ее революции» [22]. Грубо говоря, Тютчев объявил, что революция, разрушая признанный международный порядок, вручает России, силе неоспоримо антиреволюционной, геополитическую carte blanche. Глубочайшая ошибка воспринимать знаменитые слова в начале тютчевской статьи-записки – «Давно уже в Европе существуют только две силы – Россия и Революция. Эти две силы теперь противостоят одна другой и, может быть, завтра они вступят в борьбу» [23] – как боевой клич «жандарма Европы». На деле же они нацелены не против Европы революционной, но, наоборот, против Европы легитимной: задача пишущего их доказать, что последней как политической величины более нет, а вместе с нею отпали обязательства, сдерживающие Россию. Что считаться с Европой разыгравшихся социальных и национальных эгоизмов? С Германией, где хозяйничают радикалы – «передовой отряд французского нашествия»? С ее консерваторами, духовно отравленными революцией и готовыми на капитуляцию, оформляемую как мировая сделка? Чего стоит соглашение с Австрией – «бедным старым отцом, впавшим в детство и сданным в опеку» революционными «азиатами»-венграми? «Те жертвы, которые мы тогда приносили делу порядка, нам пришлось бы ныне совершать в пользу Революции». Хватит самоограничений! «Запад исчезает, все гибнет в этом общем воспламенении, Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства... и над всеми этими развалинами, ею же созданными, цивилизация, убивающая себя собственными руками. И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающею святым Ковчегом эту Империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании?..» [24]. Призвание это видится во всяком случае не в том, чтобы спасать цивилизациюсамоубийцу. Тютчевская Империя-Ковчег – ни в коей мере не ковчег спасения Запада, и правы были католические консерваторы Европы, расслышав в тютчевских статьях тех лет «радостный крик варвара» над катастрофой ненавистного ему мира [25]. Этого в свое время не понял Пигарев, сближая слова Тютчева о Ковчеге с мечтаниями в тот же драматический год В. Жуковского, писавшего наследнику престола о судьбе России быть «ковчегом спасения... не для себя одной, но и для других» [26]. Но «дьявол – в мелочах». У Тютчева нет ни слова о «спасении других»: вся его «контрреволюционная» риторика нацелена на то, чтобы подтолкнуть императора к началу немедленной оккупации славянских территорий Австрии. Преподнося императору свой проект или по крайней мере его часть в аранжировке, приемлемой для адресата, Тютчев между тем по ходу работы над запиской формулирует в письме к П. Вяземскому предпосылки проекта безо всяких киваний на борьбу с революцией. Всерьез разговор ведется в совершенно иных категориях. Прежде всего отмечается наличие «источника бесконечных заблуждений и неизбежных недоразумений» для русских в необходимости для них «называть Европой то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: Цивилизация» [27]. Здесь Тютчев оказывается очень близок к позднейшей мысли историка С. Соловьева насчет выгодного положения западноевропейцев, бравших себе за формальный образец уже мертвую цивилизацию античности, в сравнении с русскими, для которых таким эталоном стала цивилизация, соседствующая с Россией в пространстве и сосуществующая во времени, да еще пребывавшая на своем подъеме [28]. Но Тютчев продолжает: «Впрочем, я все больше убеждаюсь, что все, что могло сделать и могло дать мирное подражание Европе – все это мы уже получили. Правда, это очень немного. Это не разбило лед, а лишь прикрыло его слоем мха, который довольно хорошо имитирует растительность. Теперь никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы... Нужна была эта, с каждым днем все более явная враждебность (со стороны Запада. – В. Ц.), чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы осознать себя. А для общества так же, как для отдельной личности, первое условие всякого прогресса есть самосознание» [29] Вполне можно допустить, что славянофилу российская цивилизация XVIII–XIX веков могла бы представиться поверхностной псевдоморфозой – «мхом на льду, имитирующим растительность». Но в таком случае от славянофила ожидали бы обращения к допетровским национальным началам. У Тютчева нечто иное: подо «мхом» – некий «лед», не пробитый европейскими веяниями. Действительный прогресс – «пробивание льда»? – возможен лишь через глубинное самопознание русских. В свою очередь это самопознание будет обретено только в борьбе с Европой; причем весь контекст тютчевских исканий этих лет не оставляет сомнения в том, что под борьбой, противопоставляемой «мирному подражанию», должна разуметься борьба политическая и военная. Европейские революции для Тютчева – лишь повод отрешиться от иллюзий Священного союза как системы европейской солидарности и безопасности, где было бы почетное место отведено России, и взамен открыто прокламировать прямое противоборство цивилизаций в этой части света: Россия стремилась бы утвердить «другую» или «Восточную» Европу как другой принцип жизни и веры во всей нераздельной Европе. Самый же интересный вопрос для нас состоит в том, что за самопознание должна, по Тютчеву, принести такая борьба русским. V Конкретные задачи этой стратегии Тютчев обозначил в набросках к «России и Западу», а также в выросшей из них статье о «Папстве и римском вопросе». Пожалуй, наиболее чеканно он это сделал в заметке от 9 сентября 1849 года, посвященной двум фактам, которые были бы способны «в положенное время заключить на Западе революционное междуцарствие трех последних столетий и открыть в Европе новую эру». А именно «эти два факта суть: 1) окончательное образование великой православной Империи, законной Империи Востока, одним словом, России будущего, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя; 2) воссоединение двух церквей – восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один: православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италия к Рима; православный папа в Риме, подданный императора» [30]. «Восточная Европа», она же «Россия будущего», она же «новая эра в Европе» и «новый европейский строй» (из писем 1860-х) – раскрывается как ряд синонимичных обозначений для панконтиненталистского решения, которое бы не только геополитически «ориентализиравало» всю Европу, подчинив ее центру в Восточном Средиземноморье, но также позволило бы хронополитически закрыть «междуцарствие» модернизации и эпохи национальных государств. Однако прозвище «русского де Местра», полученное Тютчевым в Европе после выхода «Папства и римского вопроса» [31], не отражает подлинного смысла тютчевского манипулирования деместровскими идеями. Аргументы савойского ультрамонтанца, выстроенные изнутри цивилизации, которую тот пытался исцелить возвратом к ее исходному пункту, Тютчев переписал с позиций критика, пребывающего вне этой цивилизации и доказывающего незаконность ее генезиса. На призыв Ж. де Местра отвратить Апокалипсис, восстановив духовную империю домодернизационной Европы, Тютчев отвечал, что сами претензии средневекового Запада на Империю были первыми ступенями лестницы в социальный Ад. Ибо здесь идея Империи, бывшая в течение многих веков «душою всей истории», изначально представляла достояние, похищенное у императоров Востока. Неизбежно возникшая распря между двумя кланами узурпаторов, германскими квазиимператорами и римскими папами, выразив этот первородный грех западной цивилизации, привела к Реформации, торжеству в Европе принципа секулярной власти и, наконец, волне социальных революций, которых не сдержать ни бонапартистскими, ни иными диктатурами. Если западное человечество хочет исцелиться, оно должно символически отречься от самих предпосылок особого становления своей цивилизации. Точно из далекого будущего Тютчев пишет в «России и Западе» как о свершившемся факте – о том, что, наконец, «Революция уничтожила на Западе Власть внутреннюю, местную (т. е. власть, включающую в идеале сакральное измерение. – В. Ц.) и вследствие этого подчинила его Власти чужеземной, внешней. Ибо никакое общество не могло бы жить без Власти... Таким образом, с 1815 года (с падения революционной псевдоимперии Наполеона I и перехода к системе Священного союза. – В. Ц.) Империя Запада уже не на Западе. Империя полностью ушла оттуда и сосредоточилась там, где во все века существовала законная традиция Империи» [32], т. е. в России, преемнице Византии. По такой логике все легитимистские и вообще консервативные западноевропейские движения оказывались в революционный век полностью бессмысленными, если они не превращались попросту в российскую агентуру. Эта концепция необратимой десакрализации власти на Западе позволит Тютчеву в конце жизни приветствовать Третью республику Тьера как «почин в деле великого преобразования, открывающего республиканскую эпоху в европейском мире» и издеваться над тем, что династические принципы на Западе оказываются «только лишним источником революционного брожения» [33]. По сравнению с «Россией и Германией» черновики «России и Запада» являют подлинную зрелость геополитического проекта, подчиненного хронополитическому видению. Наряду с уже устоявшимся присутствием в дискурсе Тютчева «России-1» и «России-2», теперь в «России и Западе», как и в стихах «Русской географии», у этого понятия обнаруживается третий предел расширения: своего рода идеал «России-3», объемлющей, за исключением Китая, весь евро-азиатский континент и прежде всего Средиземноморье с коренной Европой. Уже версия «России-2» предполагала контроль над раздробленной Германией и постоянное присутствие русских «на поле битвы Европейского Запада». Весьма похоже, что развертывание «панславистской» «России-2» в панконтинентальную «Россию-3», «Россию будущего» включало бы следующие промежуточные звенья. Сперва по славянскому следу поглощались онемеченные славянские земли Восточной Германии «до Эльбы» («Русская география») и Австрия, которую Тютчев полагал «подставным именем» славянской расы [34]. Далее, «поглощение Австрии» трактовалось не только в смысле «необходимого для России как для славянской империи восполнения», но и в качестве подступа к подчинению Россией по австро-имперскому следу всей Германии и Италии, «двух земель Империи» [35]. Вероятно, в проект входила вслед за «возвращением» Константинополя также оккупация ближневосточных земель Порты – до Нила и Евфрата («Русская география»). И наконец, важнейшей частью утверждения «другой Европы» становилось подчинение папства, а через него учинение контроля над большей частью западного человечества. В центре планируемой «перестройки» Европы оказалась серия символических акций, или отменяющих, или инвертирующих ключевые факты предмодернизационного XV века. Константинополь восстанавливался как столица средиземноморской христианской монархии. Переворачивался сюжет заключения Флорентийской унии 1439 года: теперь не Запад соблазнял бы посулами помощи обложенную турками Византию, но православный «кесарь» выручал бы папу, осажденного в Риме революцией. При этом над событиямизнаками надстраивался бы второй план еще более фундаментального «сворачивания» времен: возврат папы в православие становился бы жестом отречения Запада от цивилизационной самости, как и аннексией Австрии «снимался» бы исторический факт отдельного существования германской Империи Запада. То «самопознание в борьбе», которое Тютчев предлагал русским, должно было состоять в осознании ими своей «исторической законности» через уяснение смысла фактов прошлого, «снимаемых» в ходе становления «другой Европы». Библейская вереница великих царств дополнялась бы в их воображении последней и непроходящей Империей, которая, будучи основана Константином Равноапостольным, якобы пребыла до XIX века, хотя и переживая в столетиях свои «слабости, приостановки, затмения». В XV веке она была перенесена на север и здесь крепла втайне от Запада, между тем как турки выступали невольно «хранителями» Константинополя от романо-германских поползновений. Приняв открыто императорский титул, Петр I вновь явил Западу Империю, исполненную воли собрать владения Константина, ибо «только в качестве императора Востока царь является императором России» [36]. Похоже, Тютчев интерпретировал наречение имперской столицы «городом святого Петра» как знак претензий на отвоевание Рима. [37] «Другая Европа», она же «Россия будущего», оказывалась возвращением Империи из ее северного пристанища на европейско-средиземноморскую родину. Причем только эту «Россию будущего» Тютчев был готов принять за «окончательную» (C'est la Russie definitive), про любую же «неокончательную» с презрением писал: Si la Russie n'aboutissait pas а L' Empire, elle avorterait – «Если бы Россия не достигла Империи, она бы разродилась выкидышем» [38]. Четко расставил Тютчев все акценты во время Крымской войны в письме к М. Погодину от 11 октября 1855 года. Если в «России и Германии» писалось о назначении России – принести «историческое бытие» народам Европейского Востока, то согласно упомянутому письму оказывается, что у самой России «нет исторической жизни» без «воссоздания самостоятельности» для всей славянской расы. Но тут же стоит утверждение еще более сильное: «От исхода предстоящей борьбы зависит решение вопроса, которая из двух самостоятельностей должна погибнуть: наша или Западная; но одна из них должна погибнуть непременно – быть или не быть, мы или они» [39]. Выходит, Россия не может исторически существовать не только пока не вырастет в «Россию-2», но больше того – пока не уничтожит цивилизационной самостоятельности Запада и не станет сама «Россией-3», «другой Европой», – «другой» также и в смысле хронологической последовательности. Самопознание русских оказывается познанием ими мифа о северной, реальной России как о временной стоянке средиземноморской Империи в ее изгнании, причем ценой этого самопознания и путем к нему должна быть борьба, где бы сгинула одна из цивилизаций, принимающих на себя имя Европы. Нелепо здесь видеть, как то часто делалось и делается, пропаганду старой теории Третьего Рима. Эта теория, каким бы перетолкованием в прошлом и настоящем ни подвергалась, всегда оставалась утверждением абсолютной ценности последнего «царства»цивилизации, замкнувшего череду прошедших и невосстановимых более парадигмальных «царств»-цивилизаций. Тютчев же попытался вписать эту «державную», но довеликоимперскую идеологему в контекст установки, отождествляющей «волю к существованию» с импульсом геополитического «похищения Европы». Получилось нечто замечательное: замаячил «третьеримский» сюжет без самоценного Третьего Рима, зато с первыми двумя, которые Россия должна сделать своими столицами, если не хочет оказаться царством-выкидышем. Назвать утопию Тютчева экспансионистской – значит о ней ничего не сказать, ибо она несообразуема с меркой европейского экспансионизма середины прошлого века, представленного аппетитами Бисмарка или Наполеона III. Тютчев оперся на средневековую, западную и византийскую, теорию неделимой мировой Империи и, приложив эту теорию к современной ему политической динамике, вывел разительные следствия. Они вполне могли бы стать иллюстрацией как к тезису первой немецкой геополитической школы Ф. Ратцеля о периметре континента – единственно естественном пределе для «органического» роста государства, не встречающего политических препятствий, так и к моделям классической геополитики «суверенных гроссраумов». Синтезируя тему заката и восстановления Священной империи с тем, что школа К. Хаусхофера назовет «строительством евразийского гроссраума», Тютчев являет впечатляющую параллель к исканиям германо-итальянских «консервативных революционеров» первой половины XX века, как и европейских «новых правых» второй его половины. Ход его мысли проливает свет на имперский средневековый миф как важнейший источник геополитической идеологии «больших пространств», ставшей в нашем веке одним из первых симптомов кризиса национальных государств. Меня удивляет, что русские «новые правые» группы «Элементов» во главе с А. Дугиным до сих пор не ухватились за Тютчева как за крупнейшего национального идеолога, которого они могли бы объявить своим предшественником. По невежеству ли? Или потому, что вразрез с гностическо-германофильской эклектикой наших «новых правых» проект Империи Востока под двуглавым орлом с Австрией, Германией и Италией как обращаемыми в православие покоренными провинциями, – выглядит крутой до пародийности антитезой планам «консервативных революционеров», надеявшихся в 30-х собрать тот же гроссраум под римско-германской орлиной четой? Борьба «двух медведей в одной берлоге», двух цивилизаций под именем «Европы» неизбежно будет продолжена и на уровне панидеологий «Великой Евразии», и конкуренция двух Римских империй для этой борьбы неплохой опорный паттерн. На восхищение, испытываемое Дугиным перед эпохой Священного союза, можно лишь сказать: для западноевропейцев Священный союз был формой связывания российского «евро-похитительского» натиска, предварившей непосредственное силовое отбрасывание России в 1850-х. Понятно, что революционные трещины в этой системе должны были вдохновить российских идеологов на проекты, подобные тютчевскому и проникнутые радостью предвкушаемого долгожданного освобождения от легитимистской двусмысленности. VI С 1851 года проект Тютчева осложнился идеей, которая позднее позволила идеологу отчасти адаптироваться к условиям первой «евразийской» фазы имперской истории. Сам он позднее писал о бывшем ему в указанном году «знамении», предуказавшем близость «эпохи крови и разрушений... под страшным наименованием: Великая Резня народов». Когда в 1870-м франко-прусская война показалась ему наступившим, наконец, исполнением этого знамения, он ее приветствовал как проявление «путей провидения», покровительствующих России: «Западная Европа, как сила совокупная, окончательно сокрушена, и отныне наше будущее широко раскрыто перед нами» [40]. Судя по этим словам, «знамение» представляло Великую Резню народов в форме военной катастрофы, которая должна была без участия России постигнуть западный мир, открыв русским путь к учинению нового европейского порядка. Отсветы этого «знамения» проступают уже в заявлениях Тютчева времени Крымской войны, например в попытках «вызвать» на помощь России Красного демона европейской революции: «Теперь, если бы Запад был единым, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного – и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь» [41]. Слова по поводу приготовлений Запада против России в 1854 году, якобы «борьба, которую готовят, не состоится, но катастрофа произойдет, и в конце концов окажется, что все это вооружение и все эти армии накоплены не для того, чтобы сражаться, но чтобы под ними скорее треснул лед, который их держит» [42], – отзовутся во время франко-прусской войны сравнением современной цивилизации со «льдиной, которую унесет ледоход, но на этой льдине построен целый мир» [43]. Мотив ломающегося льда стал для Тютчева символом Великой Резни народов, от которой Россия должна остаться в стороне, чтобы катастрофа, дестабилизировав Запад и повергнув его в шок, проложила дорогу «другой Европе». С этим мифом он и вошел в открывшуюся Парижским миром 1856 года эпоху, когда стало ясно, что «саморазрушение» Запада затягивается, а Россия отброшена из Европы надолго. Если Тютчева сравнивать с идеологами новой фазы, успевшими, подобно Н. Данилевскому и Ф. Достоевскому, воспринять новый статус России как «органическое» условие ее самореализации – контраст резанет глаза. В то время как Тютчев напряженно высматривает признаки «агонии» европейской системы, подчиняя свои, иногда очень точные прогнозы навязчивой схеме «разложение – взрыв – новый порядок», Данилевский спокойно пишет о том, что для Запада «наступило уже время плодоношения... солнце, которое взращало эти плоды, перешло за меридиан», и долговременная историческая тенденция, если не торопить события, вполне благоприятна для России [44]. Тютчев и в 1860-х остался тем же Тютчевым, который в «России и Западе» клеймил Тильзитский мир 1807 года, отстаивая неделимость европейской Империи. Данилевский же и Достоевский – оба сожалеют о непрошедшем в начале века разделе континента между Россией и Наполеоном, а первый прямо призывает к выработке «доктрины Монро» для России [45] . Тютчев, хотя и любопытствовал перед смертью о взятии Хивы, но так и не задумался всерьез о совершавшемся при нем броске России в Центральную Азию. Более того, в предсмертный свой год он написал об «ужасе и отвращении», вызываемых у него «полудикими азиатами»: «Они производят на меня то же впечатление, что производит на человека обезьяна» [46]. Достоевский же в 1881 году выступит с первой в истории России «евразийской» декларацией, провозгласив, что «в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход» [47]. Данилевский, как и Тютчев, нацеливаясь на Константинополь, считает, однако, долгом иронически отмахнуться от «мировладычества», включив этот город в геополитическую зону самоутверждения «славянского культурно-исторического типа». Можно сказать, что для имперцев новой генерации некий вариант «России-2» с желательным включением Константинополя и под вполне допустимым конфедеративным камуфляжем, вроде Всеславянского союза по Данилевскому, оставался проектом вполне реальным, но панконтинентальная «окончательная Россия», абсорбирующая Европу, для них выпадает за пределы представимого. С этим-то временем Тютчева относительно примирил миф Взрыва, Великой Резни народов, оправдывающий изоляционистскую проповедь в ожидании «положенного срока», когда грядущая раса сможет двинуться на «перестройку» Европы. «Не в призвании России являться на сцене как deus ex machina. Надо, чтобы еще история очистила для нее место» [48]. «Я допускаю сближения, но с тем, чтобы они были случайными и чтобы, соглашаясь на них, ни на мгновение не забывалась та истина-догма, что между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципа» [49]. Спуская в прессу от имени канцлера Горчакова максимы типа того, что «настоящая политика России – не за границей, а в ней самой, т. е. в ее последовательном безостановочном развитии» [50], горчаковский «серый кардинал» откровенничал перед близкими: «При нынешних обстоятельствах наше самое целесообразное действие заключается в бездействии, но в бездействии разумном. Следует продолжать держаться, чтобы дать другим время распасться» [51]. Отсюда, как катоновский призыв к разрушению Карфагена, неустанные тютчевские внушения в письмах к Горчакову, к журналистам и идеологам-единомышленникам, один раз даже лично к Александру II – никакого российского миротворчества в Европе; вообще не допускать ни малейшего смягчения международных антагонизмов, которое могло бы сделать Россию «козлом отпущения европейских осложнений»; принцип полного laissez faire в отношении процессов, расшатывающих и подтачивающих миропорядок [52]. Данилевский бы, вероятно, охотно подписался бы под многими из деклараций Тютчева, пусть и не разделяя пронизывающего их духовного напряжения, – не спадающего в этом человеке геополитического напряжения объективно давно уже схлынувшего первого российского Drang nach Westen. Впрочем, тайному советнику Тютчеву определенно удалось внести свой вклад в подготовку той эпизодической европейской активизации России в 1870-х, что закончилась нашим фиаско на Берлинском конгрессе, – как своеобразное отсроченное заключение, «кода» нашего первого «евро-похитительского» цикла, вклинившаяся в «евразийское» 50-летие. К тому, что написано в начале, о «современничестве» Тютчева со всеми, чье становление пришлось на пики наших «евро-похитительских» циклов, я добавил бы немногое, актуализировав понятие «старший современник». Тютчев – старший современник Достоевского и Данилевского. Но с пересчетом на череду циклов он также – «старший современник» большевиков, переключившихся с европейской революции на евразийский «социализм в одной стране» и ожидающих большой европейской войны, когда под цивилизацией «провалится лед» и для Европы придет час нового порядка. И с тем же правом Тютчев может быть назван «старшим современником» первого поколения послебеловежской России – поколения, еще не утратившего шанс прервать хождение русских по кругам хроногеополитической дурной бесконечности «похищений Европы» и «евразийских иитермедий». Если это поколение не сохранит «за пазухой» надежды на Великую Резню Севера и Юга как на шанс российского реванша. VII Дискурс Тютчева – драма смыслов. Правда, она переходит, как уже говорилось, в фарсовый регистр, когда «христианство» приравнивается к «европеизму», чтобы затем православие предстало единственным истинным европеизмом, а весь христианский ареал – «Россией будущего». Но потеха победительного семантического мошенничества кончается, когда проект Тютчева преподносится русским как стратегия их «самопознания через борьбу». В тютчевских письмах, обличающих национальную отчужденность российской государственной элиты, настойчиво выдвигается задача «отличения нашего Я от нашего не-Я» и бесчисленны выпады в адрес «кретинической» политики, растворяющей это отличие в идеологии «европейских интересов» [53]. Так пусть же мыслителя судит собственное его слово: как проект Тютчева решает задачу соотношения между национально-государственным Я и не-Я России? Ясно, что в мире Тютчева она должна быть как Я отделена хотя бы от того несомненного не-Я, каким предстает Запад. Однако же концепция «другой Европы» приписывает этому Я России в качестве «стремления к существованию», по сути дела, стремление к такому состоянию мира, в котором разница между Я и не-Я исчезнет, потеряет смысл. Держава с политическим центром в Константинополе, а духовным – в Риме (где этот центр заполняло бы обращенное в православие западное духовенство), объединяющая в подданстве массы славян, германцев, итальянцев, греков и обитателей Ближнего Востока, не более походила бы на Россию, чем Египет Птолемеев на древнюю Македонию, – даже меньше, ибо платформа России лежит вне средиземноморского перипла. Самопознание русских, по Тютчеву, состояло бы во взгляде на Россию, еще отличающую Я от не-Я, как на не выполнившую своего назначения, «неокончательную» и даже буквально – «недоношенную». Употребление Тютчевым по этому поводу глагола avorter, обращение к эмбриологической метафоре – не случайность. Оно должно быть помещено в один ряд с возгласом «Мы хотим лишь существовать!» из монолога перед Фальмерайером о значении Константинополя и Киева, а также со строками из письма к Погодину от 1855 года, где «бытие» России обусловливалось уничтожением самостоятельности Запада. Я бы тут вспомнил и сообщение Тютчева о видении, бывшем ему в сентябре 1855 года, когда во время богослужения в Кремле перед ним предстала состоявшаяся после многолетней борьбы «Россия будущего»: «...Она начинала свое бесконечное существование там, в краях иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям Юга и Средиземного моря. Новые поколения, с совсем иными воззрениями и убеждениями, господствовали над миром и, уверенные в достигнутых успехах, едва помнили о тех печалях, о той тоске и темной ограниченности, в которой мы живем теперь» [54]. Мотивы пребывания России на ее исторической платформе в «тоске и темной ограниченности», «желания существовать», обрести «историческую жизнь» в образе «другой Европы»; «недозрелость», «аборт», которые могут помешать прорыву «под солнце более яркое», где бы новые мироправители почти утратили память об исторической России и ее жизни, – весь этот семантический пучок несет (трудно сказать, в какой мере рационализированное Тютчевым) восприятие России в качестве не то эмбриона, не то утробы, где зреет эмбрион Империи, помнящий о своем предсуществовании и стремящийся изойти в исконное пространство. Вполне прозрачна возможность психоаналитических перинатальных интерпретаций для мотивов «разложения» и «взрыва», «кровопролития Великой Резни» и «ломки льда», предшествующих в мифе Тютчева рождению «России будущего – другой Европы». Тютчев разыгрывает сюжет самотрансценденции России, который сегодняшние психоаналитики, работающие с «перинатальными матрицами», могли бы приравнять к опыту «смерти эмбрионального Эго», будто бы переживаемому эмбрионом при переходе к внеутробному существованию [55]. Показательно, однако, что этот переход России к «высшему бытию» мыслится идеологом «другой Европы», во-первых, через сдвиг геополитического фокуса России с собственной ее платформы на аннексированные земли и акватории цивилизации-образца, а во-вторых, через восприятие русскими собственной истории с XV–XVI веков как истории перенесенной Византийской Империи, иначе говоря через миф, в котором бы без остатка растворялась подлинная история северной страныцивилизации. В «России и Германии» Тютчев писал об отсутствии надобности «оправдывать» Россию, лучшим защитником которой является ее история «трех последних столетий», т. е. как раз XVI–XIX веков. Однако весь его геополитический проект оказался попыткой отыскать для России «оправдание» именно за пределами ее индивидуальной истории. Россия оказывалась оправдана как мнимое пристанище Византии, «другой Европы» до возвращения той в новом, ославяненном облике на средиземноморскую родину, и в этом смысле как циливизация, которая должна будет некогда сменить Европу западнохристианскую на собственной ее земле. Третий Рим и его эпоха обретают у Тютчева смысл только на правах соединительного звена между прошлой и будущей эпохами существования православного европейскосредиземноморского мира и маргинальной включенности в него русских земель. Не зря в «России будущего» особую славу должен будет снискать Киев – фокус предыстории Руси как части византийской ойкумены. При этом будет устранено важнейшее из противопоставлений Я и не-Я русской истории – оппозиция православной России и католической Польши, «а помирятся же эти две не в Петербурге, не в Москве, а в Киеве или в Царьграде». Особый цивилизационный статус России оправдан лишь его временностью, устремленностью ее самой к его изживанию, которое должно наступить по ходу «похищения Европы», с переменой Европой цивилизационного облика: тогда земли исторической России станут окраиной православной «другой Европы – России будущего». Геополитика Тютчева нацелена на то, чтобы через экспансию снять «особость» России, ее историко-географическую индивидуальность, не получающую никакого собственного ценностного обоснования «в себе», в частности в том сверхсмысле, который предполагал бы оправдание этой земли через ее людей перед Богом. Тютчевский дискурс обнаруживает применительно к России диковатую для цивилизации противопоставленность Я и «существования», когда «желание существовать» осмысляется как желание «реализоваться не на своей земле и не в своей истории», так что внутри девиза Wir wollen nur existieren это existieren экспансии стремится к размыванию и оспариванию самого wir. Базисная внегеополитическая апория, проступающая за проектом Тютчева, – в стремлении пересмотреть и перевернуть отношения между цивилизациями России и Запада, однако же при глубинном недоверии к положительной цивилизационной маркированности исторической России. От этого недоверия к самозаконности своей цивилизации на ее земле – и трактовка индивидуальности России как «льда подо мхом», не пробитого европейским влиянием, но преодолеваемого «самопознанием», зарывающимся в предысторию; и готовность самозванчески уличать Запад в «узурпации» достоинства, якобы принадлежащего России в ее предбытии; и желание прислониться к «другой Европе», пересозданной по российской мерке; и мотив «эмбриональности» Российской империи, способной обрести реальное «рождение», лишь изойдя «из тоски и темной ограниченности» своей истории и географии. Над этим комплексом, вылившимся в фантастический возглас гениального русского человека «Мы хотим лишь существовать!», исследователь обязан водрузить табличку: «Осторожно – «другая Европа» – взрывоопасно!». [*] Статья написана при финансовой поддержке Интерцентра и представляет часть исследования «Геополитическая мысль России». – Мы хотим лишь существовать. [1] См. Лейн Р. Публицистика Тютчева в оценках западноевропейской печати 1840-х – начала 1850-х. «Литературное наследство» (далее – ЛН). Т. 97, ч. 1. М., 1988, с. 231 и сл. [1] См.: Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики России. ЛН. Вып. 19– 21. М., 1935, с. 177 и сл.; Кожинов В.В. Тютчев. М., 1994. [3] См. Цымбурский В.Л. Циклы «похищения Европы». «Иное: антология современного российского самосознания». М., 1995. [4] См. McGwire M. Perestroika and Soviet National Security. Washington, 1991, p. 26. [5] Cм. Tириар Ж.-Ф. Евро-советская империя от Владивостока до Дублина. «Элементы. Евразийское обозрение», 1992, № 1, с. 5 и сл. [6] Горнфельд А. Тютчев. «Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона». Т. 34. СПб., 1902, с. 373. [7] Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 130. [8] Кожинов В.В. Указ. соч., с. 445 и сл. [9] Тютчев Ф.И. Политические статьи. Париж, 1976, с. 16 и сл. [10] ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 425 (письмо от 30.08 1868). [11] Тютчев Ф.И. Русская звезда. М., 1994, ее. 452, 466 (письма к И. Аксакову от 18.04 и от 2.10 1867), а также цитированное письмо Погодину. [12] Там же, с. 487 (письмо к А. Майкову от 12.08 1869). [13] Тютчев Ф.И. Политические статьи, с. 8, 27. [14] См. об этом эпизоде Кожинов В.В. Указ. соч., с. 247 и сл. [15] См. эту запись в оригинале Казанович Е. Из мюнхенских встреч Ф.И. Тютчева (1840-е годы). Урания. Тютчевский альманах. Л., 1928, с. 151. [16] ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 222. [17] Тютчев Ф.И. Политические статьи, с. 18. [18] ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 223. [19] См. Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 492 (письмо к А. Аксаковой от 31.07.1870). [20] Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях 1870–1873 годов. ЛН. Вып. 31–32. М., 1936, с. 768 (письмо к Е. Трубецкой, 1872/3). [21] Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, с. 216. [22] ЛН. Т. 97, ч. 2. М., 1989, с. 231 (письмо к К. Пфеффелю от 24.04.1849). [23] Тютчев Ф.И. Политические статьи, с. 32. [24] Там же, с. 46, 50. [25] См. Лейн Р. Указ. соч., сс. 240, 245. [26] Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики России, с. 196. [27] См. Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 362 (март 1848). [28] Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984, с. 47. [29] Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 362. [30] Цит. по: Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики, с. 196. [31] См. Лейн Р. Указ. соч., с. 238, 247. 33 23 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 225. [32] Пигарев К.В. Ф.И. к Е. Трубецкой от 15.07 и 22.09 1872). [33] Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 765, 768 (письма Е. Трубецкой от 15.07 и 22.09 1872). [34] Тютчев Ф. И. Русская звезда, с. 365 (письмо к К. Пфеффелю от 12.11 1850). [35] ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 225. [36] ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 222. Западник С. Соловьев, напротив, видел в принятии Петром титула «всероссийского», а не «восточного римского» императора разрыв со средневековой политической идеологией и прообраз европейской практики XIX века – оформления национальных государств как «империй» (Соловьев С.М. Указ. соч., с. 124). [37] Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева, с. 130. [38] Французский оригинал – ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 215. Предложенный в этом издании перевод (с. 223): «Если бы Россия не пришла к Империи, то она зачахла бы», столь же неадекватен, как и перевод И. Аксакова – «то она бы лопнула» (Аксаков И.С. Указ. соч., с. 225). [39] ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 422. [40] Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 754 (письмо к А. Аксаковой от 19.07 1870). [41] Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 398 (письмо к Э. Тютчевой от 24.02 1854). [42] Там же, с. 407 (письмо к Э. Тютчевой от 23.07 1854). [43] Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 762 (письмо к А. Аксаковой, конец февраля–начало марта 1871 года). [44] Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991, с. 172. [45] См. Данилевский Н.Я. Указ. соч., с. 296 и cл.; Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 27. М., 1984, с. 33 и сл. [46] См. Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 773 (письмо к Е. Трубецкой от 14.05 1873). [47] Достоевский Ф.М. Указ. соч. [48] Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 466 (письмо к И. Аксакову от 02.10 1867). [49] Пигарев К.В. Тютчев и проблемы внешней политики, с. 205 (письмо к А. Аксаковой от 26.06 1864). [50] ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 417 (письмо к М. Каткову, июль 1864). [51] Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 469 (письмо к А. Аксаковой, декабрь 1867). [52] См. для обзора: Кожинов В.В. Указ. соч., с. 427 и сл. [53] См., например, Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 458 (письмо к Ю. Самарину от 15.05 1867). [54] Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 417 (письмо к Э. Тютчевой от 09.09 1855). [55] См. Гроф С. Путешествие в поисках себя. М., 1994, с. 46, 50. Публикуется по: http://ruthenia.ru