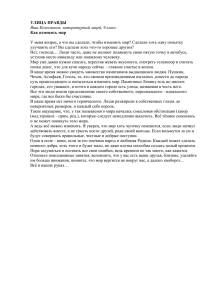Где пляшут и поют
advertisement

Где пляшут и поют Асар Эппель - Знаешь, - потерянно сказала она, - я ведь нечестная. На меня в одиннадцать лет материн муж навалился - и всё. Я на сундуке сплю. Мать его прогнала, а сама до сих пор жалеет. И орет на меня. Но я все равно девушка. Я же никогда никому... я полюбить надеюсь... А живем мы на Домниковке. Там дома закопченные, кирпичные. Как кровь, если не застираешь. У помоек дядьки в буру режутся. За сараями шпана дрочит и кошек вешает... А вот я тебя сейчас поцелую! ... Эппель Асар Где пляшут и поют Асар Эппель Где пляшут и поют Александру Кабакову - Знаешь, - потерянно сказала она, - я ведь нечестная. На меня в одиннадцать лет материн муж навалился - и всё. Я на сундуке сплю. Мать его прогнала, а сама до сих пор жалеет. И орет на меня. Но я все равно девушка. Я же никогда никому... я полюбить надеюсь... А живем мы на Домниковке. Там дома закопченные, кирпичные. Как кровь, если не застираешь. У помоек дядьки в буру режутся. За сараями шпана дрочит и кошек вешает... А вот я тебя сейчас поцелую! Она склонилась над запрокинутым под софринским облаком мной. - Ой, и тут паутина!.. Облако виднелось, уже когда подъезжаешь, а когда выдерешься из вагонной давки на платформу, всегда оказывалось на своем небесном месте. В каждом тамбуре уехавшей прочь электрички оставались притиснутые к девушкам парни, остановки три как вдвинувшие коленку между их ног, отчего лица девушек делались нерезкими и тупыми, а сами девушки вот-вот могли перестать дышать. ...Поцеловала она меня на косогоре среди столпившихся елок с бурыми, в пагубной паутине по низам, сучьями. Елки норовили перерасти друг друга, чтобы остаться жить... Сойдя с электрички, я попадал кроме облака под остальное дачное небо и шел, то и дело поправляя на плече ремешок ФЭДа и восторгаясь собой со стороны. Кто-либо с фотоаппаратом, тем более таким, в те годы попадались редко, а я трогал кожаный футляр и в словаре моей юности были сплошь фотографические слова: тубус, светосила, глубина резкости, а еще - фодис, коррекс, бленда и разные другие. Мой ФЭД считался из лучших, и хотя номер его сейчас не вспомнить, был он до сорок второй тысячи, то есть в Трудкоммуне имени Ф.Э. Дзержинского сделан вручную. Что и ценилось. Уже в тамбуре я только и думал о детсадовской нянечке, из-за которой изводился плотью, а сейчас шел на четвертую просеку (от станции минут сорок) к стоявшей в лесу большой недостроенной дядиной даче. Я бывал тут с детства и малым ребенком забирал, помню, в кулак пчел вместе с цветком, в котором они возились, и хоть бы одна ужалила. Бездетный дядя очень меня любил. К моим приездам припасалась самая вкусная, какая только могла быть, советская еда: колбасный фарш в плоских консервных жестянках и бело-розовый зефир. Половину дачи дядя сдавал детскому саду, непременно оговаривая, чтобы мне было позволено заработать фотографированием посвежевших на воздухе детей. Снимки я делал прекрасные - на немецкой бумаге "Мимоза", шамуа (то есть кремовой), сатинированной (то есть как материя), размером девять на четырнадцать. Заграничный формат всех удивлял - наша была девять на двенадцать. Каждого ребенка я снимал сперва с мячиком а потом с тачкой. Каждый снимок печатал в двух экземплярах. За четыре фотокарточки с родителей полагался рубль. Детей бывало тридцать, и я уезжал с тридцаткой, а это были деньги. На прошлой неделе то ли нянечка, то ли судомойка внимательно наблюдала за тем, как со мной расплачивались. Даже бегала разменивать чью-то трешку. Была она в ситцевом дачном сарафане, и, когда наклонялась утирать детям сопли, в вырезе начинали виднеться груди. Именно таких переполненных девушками сарафанов я всегда норовил коснуться в трамвае... Маленькие эти груди она, опустив по плечам лямки, и вызволит, когда вздумает на пригорке поцеловать ополоумевшего меня. Сегодня предстояло снимать новую смену. Уже на подходе к даче слышались крики ручной галки, которую выпавшим из гнезда галчонком принесли детсадовские. Тетя стала выкармливать его мясорубочным фаршем, а дети таскали мух и червяков. Галка изрядно подросла, но все еще прыгала за тетей, показывая лакированный пунцовый зев, крича и постоянно требуя жрать. Тетка моя, между прочим, успешно лечила солнцегрейными простынями дядин ишиас. Простыни сперва ослепительно белели под солнцем и прогревались. Потом она заворачивала в них несопротивлявшегося дядю. И помогало. В холодке на воздухе дядя засыпал с места. Правда, неукутанный, он тоже засыпал и не только в холодке на воздухе. И тоже - сразу. Однако целительную процедуру не оспаривал, хотя и морщился, пока тетя тараторила о лечебной силе осолнцованных простыней. Я отснял детей. Каждого с тачкой и мячиком. Смена приехала еще не вся. В аппарате осталась пленка. Потом поел колбасного фарша и попил чаю с белорозовым зефиром. Потом обыграл дядю в шашечную игру "углы", а когда он прилег под большую ель отдыхать, засобирался на станцию. - Ты по открытому месту не ходи. Голову напечет. - Сказала тетя. - Ты лесочком, и короче будет! - Это как? - Я покажу! - вмешалась нянечка в сарафане. Она пришла за наперстком, а до этого, пока я снимал, крутилась, обдергивая на детях штаны и суя, когда надо, мячик. Мне так нестерпимо захотелось идти новой дорогой, что я даже не стал прощаться со сладко спавшим на простыне дядей. Ремень его брюк для свободы большого живота был распущен, а шерстистая грудь, будучи без майки, вздымалась и опускалась сообразно производимому губами "п-пу!". По дядиной груди ходила галка, заботливо удаляя мертвые волоски. Она их не выдергивала, а пинцетиком клюва аккуратненько убирала с места, сторожко приседая на каждое "п-пу!". Изъятый волосик птица не бросала, а домовито укладывала дяде в ухо, но не в ушную дырку, а в известное всем углубление над мочкой. Он, смеясь и конфузясь, станет потом вытряхивать их пальцем, добрый мой и незабвенный дядя, а возмущенная галка, разложив крылья и разинув пунцовое горло, будет прыгать у его ног и ругаться последними словами. Я щелкнул дядю с галкой, и мы пошли к станции неизвестной мне дорогой. И сперва молчали. В каком-то месте она сказала: "Еще полно времени. Лезь давай сюда - тут полянка. Про нее никто не знает". Мы пролезли под обвешанными паутиной мусорными ветками ельника и очутились на укромном косогоре. Как раз над ним, оказывается, и стояло софринское облако. Белое и высокое. Спутница моя принялась обирать с меня бурую хвою и налипшую паутину. - И ты меня чисть. А то на платформе увидят. И тут! И вот тут! Чего испугался? Мне, может, приятно... Я таких как ты никогда и не видела. Тети-дядин племянник, а во зарабатывает как! У нас-то самих ничего нет. Мы с Домниковки. Стул есть. Материна с новым отчимом кровать есть. Я на выпуклом сундуке ночую. Знаешь, как спать трудно! На спину повернулась - ноги в стороны поехали... Отчим всё пропивает и велит, чтобы при нем трусы снимала. Бутылкой замахивается. А я ему - а коленкой по одному месту не хочешь, паразит?! Ты хоть не пропивай! Копи лучше... Я в тебя сразу влюбилась... Не думай, мне твоего не надо. Нам обоим надо. В кино ходить, на лодке кататься. На Ярославском в ресторане первое, говорят, хорошее... Пироженые любишь? Не любишь пироженые?! ...А ко мне, когда отчим с матерью в ночь работают, приходи как к жене. Мы не на сундуке, мы в ихней кровати... Снимай давай отсюда паутину! Только туда не лезь... Нельзя сегодня... А в следующий раз уедем вместе, и прямо ко мне. Домниковка же возле Каланчевки. Не веришь? Сейчас поверишь! - Она сбросила лямки. - Фотографируй с сиськами! Только дяде с теткой не показывай. Ой, божья коровка по одной ползет... - Пленка может кончиться, - щелкая, бормотал я. - Надо же - с фотоаппаратом! Девчонки, поганки такие, наверно, липнут! А я, если захочешь, без трусов буду сниматься... Я втиснулся в электричку и поехал, а она осталась под белым облаком. Когда в тамбуре вышло повернуться, у стены завиднелся парень, втиснутый в девушку. Лицо девушки было обомлевшим и никаким. "От самого Загорска едут" решил я. Парень вдруг уронил голову ей на плечо и замер... Точь-в-точь как я на пригорке... А если шесть фотокарточек за двушник? С лопаткой же тоже можно снимать! - почему-то засоображал я... Впереди у меня было все. Божья коровка станет завтра на сатинированной бумаге ползти по ее груди... А она... она безо всего сниматься!.. На Домниковке ихней, наверно, света мало... Может не получиться... А если при полной диафрагме?.. Да я софит куплю, вот что! Заработаю! Только надо за двушник шесть карточек... И в каюте по каналу МоскваВолга... На Каланчевке было сумеречно. Тридцать девятого ждала куча народу. Вдалеке чернелась дыра Домниковки. "В материну с отчимом постель ложиться будем" - поправляя на плече фотоаппарат, верил и не верил я. Зазвенел трамвай. Его облепили. У меня был свой способ повиснуть. И хотя давка была уж совсем, я, убрав руку с ФЭДа, кого-то оттеснил ею, а левой схватился за поручень. Внезапно тяжесть аппарата на плече прекратилась. "Съехал!" - подумал я, отпустил поручень и вывалился из висящего народа. На локте ничего не было. "У меня аппарат упал! Стойте!" - стал кричать я и кинулся останавливать трамвай. "Пустите! Расступитесь!" Под ногами ничего не было. "Помыли у тебя его, пацан" - сказал кто-то негромким голосом свидетеля. Трамвай стоял. Я взывал к висящим. Сочувственно на меня никто не глядел. "Поехали, чего стоим! - заорали голоса. - Хавальник пусть не разевает!" Я остался ходить по опустевшему месту. Обошел площадь. То и дело бросался к какомунибудь темневшему мусору. Зажглись фонари. Асфальт был повсюду пуст. Дома со мной случился припадок, и я катался по полу. Перепуганная мать не сказала ни слова. До меня постепенно доходило, что всему конец. Нету больше у меня ФЭДа... нету! Но пленка хоть... да я же не вынул ее!.. на косогоре что ли было вынимать? в тамбуре что ли?.. Не будет фотографий!.. Не будет денег! Хоть с божьей коровкой щелкнул... Нет! Нет! Это на той же пленке... Нет! Я захлебывался. Я выл по-собачьи... Чем теперь ее безо всего снимать? Кто мне новый купит?.. До сорок второй тысячи же... Я катался и рычал... "Ишь, зарабатывает... совсем мальчик, а уже богатый!" - шептала бы она, а я поясок ее халатика - раз!.. Я выл и кусал пальцы... Поскольку наша московская улица была из приземистых деревянных домов (а я всю ночь бился и выл), кто хотел, подходил к окнам и в щель сбоку занавески злорадно наблюдал, как я захлебываюсь в своем ничтожестве и банкротстве... Назавтра я поплелся к Кольке Погодину. Он был вор. Даже рецидивист. Зачем пошел узнать хоть что-то или просить заступиться? - непонятно. Наверно, ради какой-то бессмысленной жалкой надежды. Он, весь синий от наколок, сидел на крыльце и кидался сухими корками в куриц. На погодинском локте становилась при этом видна искусно наколотая паутина. Тоже синяя. - Бритовкой писанули, - сказал он лениво. - Сперва, конечно, давку заделали. Это с Домниковки штопарилы. До сорок второй тыщи говоришь? А хоть до какой. Они его уже пропили... - Где?.. - А где пляшут и поют. - С пленкой прямо... да?.. - Мотал бы ты, отсюдова, сучонок. Надоел не знаю как! - Он метнул последнюю корку. Как фотографировать - их нету, а как чего у кого пизданут, сразу - Коля, Коля...