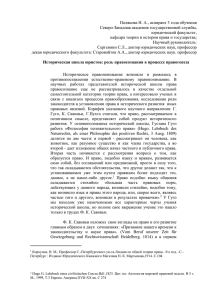Факт против нормы: вызов «исторической школы права
реклама

Факт против нормы: вызов «исторической школы права» История государства и права. - 2012. - № 8. - С.2 – 6. Исаев Игорь Андреевич, заведующий кафедрой истории государства и права МГЮА имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук В своей критике постулатов «естественного права» юристы «исторической школы» обратили преимущественное внимание на положения о произвольном установлении права (отсюда гипертрофированная роль законодателя) и на амбициозное предположение о возможности найти идеальную систему норм, одинаково пригодных для всех времен и народов. Попутно критикуемые ими теоретики стремились придать своим явно субъективным воображаемым правовым идеалам непосредственное и применимое юридическое значение, тем самым неизбежно порождая ряд фикций, получивших в пределах влияния «естественного права», важное значение: это — теория «естественного состояния», первичного «общественного договора» и «народного суверенитета». Все эти фикции имели определенно антиисторический характер, что в области практическиправового и политического применения одинаково позволяло использовать их как в качестве радикальных и революционных постулатов, так и в качестве консервативных или даже крайне реакционных аксиом. Гипотеза «естественного состояния» поддерживалась представлением об историческом процессе, как явном уклонении от первоначального и совершенного плана, к реализации которого следовало бы обратиться, пусть даже посредством использования принуждения, чтобы заставить людей вернуться в потерянный рай: соответственно, все исторические различия и особенности в этой связи казались результатом произвола или простого случая. При помощи этой гипотезы «естественного состояния» пытались также вывести некоторые заведомо априорные начала права, предшествующие многим историческим установлениям и вытекающие непосредственно из самой человеческой природы: за этими началами безусловно скрывалось неизменное содержание нравственных норм, столь же строго требующих безусловности своих утверждений, т.е. применения принуждения. Сама идея «общественного договора» первоначально была сформирована в качестве идейного и политического противовеса нарастающей активности абсолютистских государственных учреждений, и в своей юридической неизменности и в свете настойчивого требования об окончательной и безвозвратной передаче власти суверену, быстро превратившемуся в Левиафана, смогла породить только новый, теперь уже государственный абсолютизм, как кажется, единственно возможный в действительности. «Народный суверенитет», некогда бывший конкурентом деспотизма, тем самым превращался в работающую фикцию нового коллективного диктатора — «политического большинства», заменившего собой персонифицированного, личностного суверена. Все эти фикции «естественного права», неожиданным даже для его адептов образом, подготавливали модификацию решения, против которого это право первоначально и было направлено, но модификацию более мощную и в своей неопределенности и неоформленности еще более странную. (Допуская неустранимую противоположность идеала и вечно несовершенной действительности, «естественное право» тем самым допускало и свободное отклонение от принципа разумности, игнорируя при этом, как произвол, момент необходимости в историческом развитии. В последующем будут сделаны многочисленные попытки реабилитации «естественного права»: Г. Штаммлер полагал, что это право с самого начала вовсе и не предназначалось для непосредственного и практического применения, наряду с позитивным правом, оставаясь только идеальным ориентиром для проектной работы законодателя. «Это — не действующее право, но набор требований, относительно факторов, которые его создают». Иодль считал, что «будучи по сути верной, доктрина «естественного права» получила неверную форму выражения: его сущность — это социальная этика, в силу субъективности обладающая мощным двигательным моментом, тогда как право, поскольку оно объективно и действует как сила, имеет вполне стационарный характер»). Фикциям «естественного права» XIX век противопоставил свой вездесущий эмпирический метод и фактографичность — при этом факт мог существовать не обязательно в области материального и эмпирического: как более тонкая субстанция, он был порожден историческим процессом и, конечно же, обоснован и культивирован историческим типом мышления. Факт как бы вырастал из самого потока истории, но не просто конструировался сознанием, он рождался в борьбе исторических сил, а не вырастал из договора или соглашения (которые сами также могли выступать как специфические формы борьбы). Властвование и законодательствование становились в этом плане функциями социальных общностей, а не формами субъективной деятельности индивидов. Появление же на исторической арене такого субъекта, как нация, потребовало более внимательного отношения к ее сущностному и нравственному содержанию: государственность как субъект истории должна была ощутить появление своего конкурента как начало новой эпохи. Государство — «произведение искусства» и искусно созданный инструмент, само было вынуждено принять версию о своем органическом происхождении. Вместе с тем холистические тенденции, оживившиеся в новом политическом мышлении, позволили обоим историческим субъектам — нации и государству — полнее ощутить собственную целостность и единство в качестве определяющих структуру политического мира характеристик. Для юристов «исторической школы» сам факт происхождения позитивного права из «народного духа» был достаточным свидетельством его положительного значения. Органическое развитие права Савиньи рассматривал как норму, обычную при определенном сочетании условий, но не как необходимое историческое явление: случай, произвол и личностное начало оказывают на формирование нормы одинаково заметное воздействие, — и это допущение нарушало целостность системы идеи, но зато обеспечивало ее динамизм. Роль законов оценивалась весьма критически — стремление к лучшему может быть лишь поддержано законами, но не обусловлено и не решено окончательно при их посредстве. Если нормальное развитие права заключалось в естественном росте, основанном на действии скрытых внутренних сил, то законодателю оставалось только санкционировать сами эти нормы, рождающиеся из потока народной жизни. Но произвольно вносимые в систему права изменения только замедлили бы ход его органического роста, поэтому законодательное вмешательство, как правило, применяют чаще всего во времена, явно неблагоприятные органическому развитию народного духа, в периоды революций и чрезвычайных ситуаций. Как публичное, так и частное право развиваются одинаково органично и по аналогии с языком и нравами, помимо каких-либо соглашений и приказов, но сообразуясь с реальными обстоятельствами. Отдельные законодательные акты могут не поспевать за этими обстоятельствами или опережать их, но главная цель права, как целого, всегда заключается в определенности и достоверности его правил, «иногда даже безотносительно к их содержанию» (Густав Гуго). Поскольку случай в этой ситуации играет столь важную роль, надежным способом приспособиться к обстоятельствам остается традиция и древность правовых оснований. Право должно пониматься не как осуществление идеи справедливости, но прежде всего как средство к устранению беспорядка. Отсюда и ценность нормы заключается прежде всего не в ее содержании, а в ее стабильности и твердости: «Все законы бывают вредны или полезны только в зависимости оттого как их исполняют», — следовательно, и право не будет явлением нравственного порядка, а исключительно опорой внешнего порядка. Историзм в качестве метода познания юридического на место изучения статического состояния права ставил задачу исследования проблемы становления права. В этой связи позитивное право переставало быть только иллюстрацией общих закономерностей, заключенных в «естественном праве». Юстут Мёзер увидел источник права в некоем «другом» праве, без оппозиции которого не может возникнуть право действующее и действительное: все прежние публично-правовые институты неизбежно превращались в частно-правовые, а частно-правовые отношения определялись воздействием публично-правовых факторов и изменялись под этим воздействием. Эти процессы происходили в некоем, совокупном общеполитическом упорядоченно структурированном теле народа». Вторжение современных неисторических, претендующих на абсолютную значимость, идей и тенденций в первозданный мир этих институтов не могло решить насущных политических проблем, как не могло сделать этого и «естественное право» в целом. Значительные секторы публичной жизни, прежде определяемые качественным и традиционным подходом, оказывались включенными в «подполье» частной жизни, что представляло собой законную реакцию на общую рационализацию публичной жизни («просвещенный деспотизм» и просветительскую политическую философию), — «государственный интерес» как бы растворялся во множестве частных интересов и практик. «Если нам даны факты, то зачем нам фикции?» — задавался вопросом еще Иоганн Гамон. Но для него вообще любые правила и предписания казались смертельными: они, может быть, и необходимы в повседневной жизни, но ничто великое не достигалось только путем их соблюдения. Системы — это «темницы духа», порождающие чудовищные бюрократические механизмы, созданные в соответствии с правилами, игнорирующими разнообразие живого мира, подавляющими мир людей ради какой либо идеологической химеры, и этого «набитого чучела, наделенного божественными атрибутами» — разума. Только история и может дать конкретную истину, а поэты описывают мир на языке страстей и воображения, ведь сам «Бог — поэт, а не математик». Возможна систематизация, но невозможна законченная система: и Гердер боялся организации самой по себе и желал сохранить то, что есть в жизни нерегулярного и уникального, чего ни одна система не может полностью вместить (его нападки на политическую централизацию и интеллектуальную популяризацию проистекали из того же источника); многообразие для Гердера это — аксиома. (Э. Кассирер полагал, что главной целью для Гердера было рассеивание иллюзии тождества: он не знал ничего тождественного, ничего, что когда-либо происходило вновь в той же самой форме. Все формы уникальны, а абстрактное обобщение бессмысленно. Чувство единства в многообразии и замена структуры процессом — таковы главные признаки исторического сознания: порождаемая система одновременно растет и стареет, она энергична и стабильна, актуальна, но спокойна, бесконечна, но ограничена — все это и было суммировано в политической идее равновесия. Лавджой же подметил, что Гердер, не будучи способным связать факт изменения с фактом длительности, был вынужден возвысить их до уровня некоего таинства, рассматривая их как знамение мистической власти, «единой органической силы».) Нормативность тяготеет к унификации: как ни парадоксально, но общие принципы избегают обращения к бесконечному и беспредельному, они всегда предполагают наличие границы и предела. Исторический подход к праву ищет в его развитии обязательное начало, а следовательно, предполагает и наличие конца этого процесса; вместе с тем историзм, с его хронологическим методом, никак не может обойтись без рационально упорядоченной последовательности фактов, без своеобразной их иерархичности, обусловленной причинно- следственной связью. Романтизм, открывший исторический подход к праву, с его стихийно-мистическими устремлениями, сам был вынужден потесниться под напором историцистского позитивизма и неоклассицист- ской системности, проложенными этим методом: исто- рицизм требовал стабильности, а не порыва, познания, а не откровений. Юристы «исторической школы.» извлекали из потока истории детальные факты, складывающиеся в традиции и обычаи, казусы и прецеденты, даже не пытаясь найти за ними какие-либо вечно действующие принципы и идеи. Если романтики и классицисты видели просвечивающие за хаотичным или упорядоченным потоком фактов некие идеальные образцы, то историки видели в фактах только сами факты, располагающиеся в имманентно присущем им самим порядке. Но для того, чтобы родился порядок, требуется наличие фактического беспорядка (подобным же образом у апостола Павла и «закон порождает преступление»): несовершенство существующего строя оправдывается уже тем, что люди к нему привыкли, а привычка представляется им одной из важнейших опор справедливости. На этом держится вся система установившихся институтов, которые, оставаясь несовершенными и только «временно-правомерными», все же демонстрируют себе «кристаллизацию здравого смысла и традиции». Продолжительное существование придает юридическому порядку черты неприкосновенности и святости. Однако то, что применялось достаточно долгое время, все же не потому действует в качестве действительного права, что содержание его норм за этот период смогло перейти в правосознание народа, но потому, что само это правосознание признает юридическую обязательность за всем уже существующим порядком и только в силу факта самого его существования. Факт формирует норму, но никак не наоборот: позитивность, определенность и авторитетность права тем самым составляют его наиболее существенные характеристики. Прочный порядок требует замены текущей практики частных постановлений господством общих юридических норм: в трактовке «исторической школы» такой вывод вовсе не означал возврата к вечным, но химерическим идеалам «естественного права». Первоисточником права признавался не «природный фактор», а «народный дух», или, в юридической транскрипции, народное правосознание: именно оно представлялось правом самим по себе и не нуждалось в дальнейших требованиях по своей позитивизации (это — то, что позже будет названо «юридическим фактом» или интуитивным правом). Юридические правила возникали из непосредственного убеждения в истине общего правосознания («народного духа», «воли народа») и присущей ему, помимо внешней санкции, обязательной силы. Источником юридического значения нормы становилось убеждение в ее «внутреннем достоинстве и авторитете»: «принимая невидимое происхождение положительного права, мы должны отказаться от всякого удостоверения этого происхождения» (Савиньи). Своеобразный «натурализм», присущий критикам «естественно-правовой» теории, указывал на очевидное смешение понятий. «Естественное право», как категория, семантически связывалось с представлением о «натуре» и «природе», т.е. факторах стабильных, субстанционарных и «материальных». Однако его сущностью при этом оставались трансцендентные ценности и неизменные принципы, нечто воображаемое и идеальное, которое и придавало ему необходимый динамизм. По-настоящему же «натуралистичными» стали сами методы «исторической школы», выискивающей в потоке истории, преимущественно у ее истоков, самые реальные, по их мнению, факты и обстоятельства: «право есть право», такова его естественная природа, и в нее нельзя внести никакой иной смысл и содержание, противоречащие его сути; оно самодостаточно, как факт, оно не нуждается в истолковании, но только — в прочтении и понимании. Однако уже здесь же возникала проблема транскрипции, а также и координации распыленных в историческом пространстве правовых фактов. Для юристов «исторической школы» не существовало никакого иного права, кроме права позитивного, и позитивность совпадала здесь с фактичностью: если норма существует, значит, она действительная и действующая норма. Это был шаг на пути к правовому позитивизму, но препятствием на этом пути оставалась одна важная метафизическая конструкция — «народный дух». Подобно кантовской «вещи в себе» он не мог быть раскрыт полностью как источник правовых эманаций, поэтому оставалось только наблюдать за его манифестациями. Нормы, им порождаемые, появлялись в нужное время, а их зародыши невидимо кристаллизовывались в недрах «духа» в «незапамятные времена»: все правовое исследование оказывалось как бы повернутым вглубь истории, как мировой, так и национальной. Длительный и длящийся органический процесс представлялся настоящим процессом рождения права, и, как полагал Савиньи, ни на одной стадии своего развития право не являлось продуктом каприза законодателя: «оно всегда — порождается молчаливо действующими внутренними силами» (вместе с ним и де Бональд, и де Местр так же утверждали, что человек никогда не являлся законосоздателем, но только законодателем, так как он «вносит в общественную среду закон, созданный не им»). Положительное право у Савиньи отождествлялось с общенародным правосознанием, законодатель оказывался только выразителем «народного духа», а обычай — формой распознавания и описания права. Когда юридическая норма рождалась в недрах народного сознания, для ее дальнейшего существования и действия уже не требовалось санкции формального акта: законодательная санкция и обычай были только «внешними свидетельствами о праве», появляющемся независимо от них. Правосознание оказывалось ближе к идее права, чем к позитивному праву, это и есть «внутреннее» право, питающее внешние формы права. Если теория «естественного права» предполагала знание человеком внутренних принципов права и справедливости, как будто бы мясных и доступных для всех, то «историческая школа» напрочь отказывалась от прочтения «тайн» исторического бытия, — она требовала не объяснения, но лишь констатации: «народный дух» непознаваем и непредсказуем, — почему именно такие формы порождаются им в конкретных исторических ситуациях? — этот вопрос, кажется, не нуждался в ответе. Всякая данная форма правосознания, т.е. того звена, которое соединяло «дух» и положительную «норму», воспринималось как факт и дар судьбы. Все фактически существующее представлялось «морально оправданным» (Гегель до крайности разовьет этот аспект теории), сферы обычного права и юридической традиции стали главной областью юридического исследования и разъяснения. (Позже критики «исторической школы» усмотрят противоречие в допущенном ею смешении вопросов о формальной и материальной основе происхождения юридических норм.) Савиньи связывал юридическое действие права с условиями его происхождения, дававшими ему необходимую моральную санкцию: исторические и нравственные основы правопорядка тем самым смешивались сего собственно юридическими основаниями, а «общее правосознание» само по себе превращалось сразу и одновременно в исторический фактор, нравственную силу и в источник готовых положительных норм: «Грань между идеальным правосознанием народа и правом, объективированном в твердых положительных нормах, исчезала». (Бергбом, упрекая Савиньи и Пухту в неспособности дать четкое и всеобъемлющее определение, вмещающее в себя всякое правообразование (даже порожденное узурпацией и революцией, так называемое «несправедливое право»), полагал, что ошибкой «исторической школы» было вообще смешение формы и содержания права.) Огромное число факторов, влияющих на процесс правообразования, еще не порождает самого права, но лишь рождает побуждения и мысли о нем, т.е. идею права, и, чтобы стать правом, эта идея должна подвергнуться процессу объективизации: события, которые обуславливают переход от этической и политической сферы в область формально-юридическую, и есть тот самый необходимый исторический элемент. «Народный дух» стал для юристов «исторической школы» единственным трансцендентным основанием того динамического процесса, который двигал развитием права, подчиняя себе имманентные закономерности внутриправового развития. Он же обусловил и великую политическую подмену, произведенную в самих основаниях права: бесплотная и космополитическая идея «естественного закона» уступала здесь место вполне «натуралистической» идее национального духа, естественного правосознания нации. Смена по сути мифологической парадигмы открывала путь романтическим тенденциям в большую политику, связав идеальные представления с политической действительностью, легитимность подчинялась легальности, как факту, и казалось, что их борьба, затянувшаяся на весь период революционных брожений, может теперь завершиться миром. Юридические представления и убеждения вполне могли играть роль материального фактора, вступающего в конфликт с каким-либо обыкновением или обычаем, но были неспособны уничтожить его юридическую силу лишь одним фактом своего появления. И, только будучи парализованным длительным неисполнением своих предписаний, такой обычай мог действительно утратить свою обязательность, однако прекращение действия всего обычного права, как системы, требовало обязательного воздействия внешних формальных актов: «нормативный факт» (каковым является также и норма обычного права) требовал формального решения как для своего возникновения, так и прекращения. И поскольку значение права в значительной мере основано на авторитетной форме его осуществления, независимо от соответствия его содержанию «общего правосознания», то дуализм позитивного права и правосознания не мог длиться слишком долго: или право в силу своего существования должно было приобрести решающее влияние на юридические убеждения и преобразовать их, либо «народные воззрения» должны вызвать изменения в самом праве, оказывая соответствующее влияние на обычай и законодательство: при этом «народное убеждение» (правосознание) обусловливало только содержание права, но не его юридическое значение.