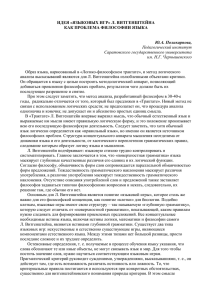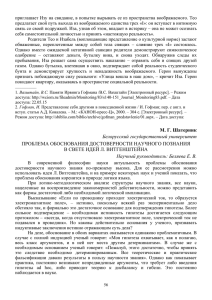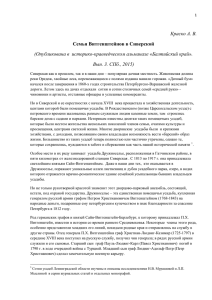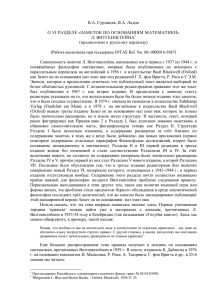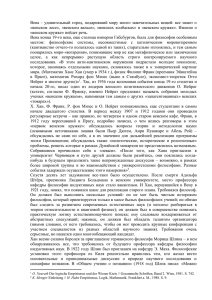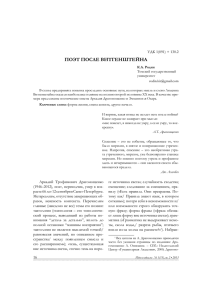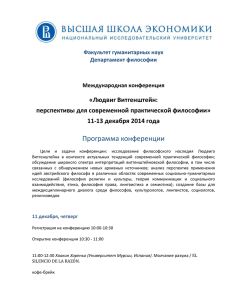ПРОБЛЕМА СЛЕДОВАНИЯ ПРАВИЛУ У ВИТГЕНШТЕЙНА © А. Е. Сериков
реклама
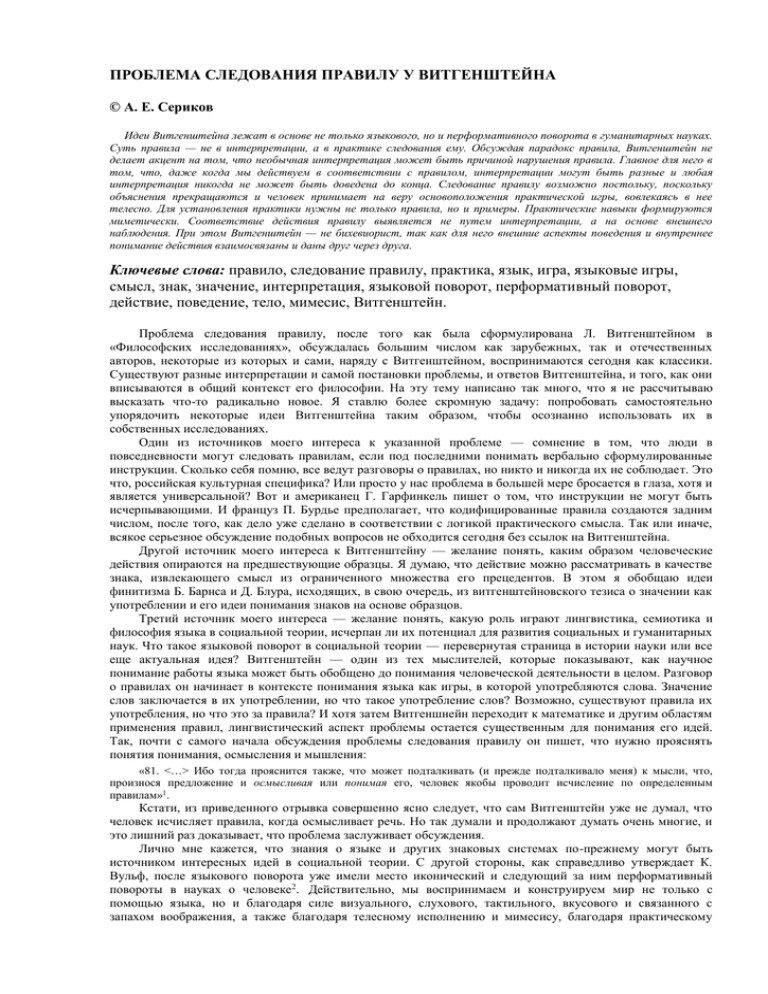
ПРОБЛЕМА СЛЕДОВАНИЯ ПРАВИЛУ У ВИТГЕНШТЕЙНА © А. Е. Сериков Идеи Витгенштейна лежат в основе не только языкового, но и перформативного поворота в гуманитарных науках. Суть правила — не в интерпретации, а в практике следования ему. Обсуждая парадокс правила, Витгенштейн не делает акцент на том, что необычная интерпретация может быть причиной нарушения правила. Главное для него в том, что, даже когда мы действуем в соответствии с правилом, интерпретации могут быть разные и любая интерпретация никогда не может быть доведена до конца. Следование правилу возможно постольку, поскольку объяснения прекращаются и человек принимает на веру основоположения практической игры, вовлекаясь в нее телесно. Для установления практики нужны не только правила, но и примеры. Практические навыки формируются миметически. Соответствие действия правилу выявляется не путем интерпретации, а на основе внешнего наблюдения. При этом Витгенштейн — не бихевиорист, так как для него внешние аспекты поведения и внутреннее понимание действия взаимосвязаны и даны друг через друга. Ключевые слова: правило, следование правилу, практика, язык, игра, языковые игры, смысл, знак, значение, интерпретация, языковой поворот, перформативный поворот, действие, поведение, тело, мимесис, Витгенштейн. Проблема следования правилу, после того как была сформулирована Л. Витгенштейном в «Философских исследованиях», обсуждалась большим числом как зарубежных, так и отечественных авторов, некоторые из которых и сами, наряду с Витгенштейном, воспринимаются сегодня как классики. Существуют разные интерпретации и самой постановки проблемы, и ответов Витгенштейна, и того, как они вписываются в общий контекст его философии. На эту тему написано так много, что я не рассчитываю высказать что-то радикально новое. Я ставлю более скромную задачу: попробовать самостоятельно упорядочить некоторые идеи Витгенштейна таким образом, чтобы осознанно использовать их в собственных исследованиях. Один из источников моего интереса к указанной проблеме — сомнение в том, что люди в повседневности могут следовать правилам, если под последними понимать вербально сформулированные инструкции. Сколько себя помню, все ведут разговоры о правилах, но никто и никогда их не соблюдает. Это что, российская культурная специфика? Или просто у нас проблема в большей мере бросается в глаза, хотя и является универсальной? Вот и американец Г. Гарфинкель пишет о том, что инструкции не могут быть исчерпывающими. И француз П. Бурдье предполагает, что кодифицированные правила создаются задним числом, после того, как дело уже сделано в соответствии с логикой практического смысла. Так или иначе, всякое серьезное обсуждение подобных вопросов не обходится сегодня без ссылок на Витгенштейна. Другой источник моего интереса к Витгенштейну — желание понять, каким образом человеческие действия опираются на предшествующие образцы. Я думаю, что действие можно рассматривать в качестве знака, извлекающего смысл из ограниченного множества его прецедентов. В этом я обобщаю идеи финитизма Б. Барнса и Д. Блура, исходящих, в свою очередь, из витгенштейновского тезиса о значении как употреблении и его идеи понимания знаков на основе образцов. Третий источник моего интереса — желание понять, какую роль играют лингвистика, семиотика и философия языка в социальной теории, исчерпан ли их потенциал для развития социальных и гуманитарных наук. Что такое языковой поворот в социальной теории — перевернутая страница в истории науки или все еще актуальная идея? Витгенштейн — один из тех мыслителей, которые показывают, как научное понимание работы языка может быть обобщено до понимания человеческой деятельности в целом. Разговор о правилах он начинает в контексте понимания языка как игры, в которой употребляются слова. Значение слов заключается в их употреблении, но что такое употребление слов? Возможно, существуют правила их употребления, но что это за правила? И хотя затем Витгеншнейн переходит к математике и другим областям применения правил, лингвистический аспект проблемы остается существенным для понимания его идей. Так, почти с самого начала обсуждения проблемы следования правилу он пишет, что нужно прояснять понятия понимания, осмысления и мышления: «81. <…> Ибо тогда прояснится также, что может подталкивать (и прежде подталкивало меня) к мысли, что, произнося предложение и осмысливая или понимая его, человек якобы проводит исчисление по определенным правилам»1. Кстати, из приведенного отрывка совершенно ясно следует, что сам Витгенштейн уже не думал, что человек исчисляет правила, когда осмысливает речь. Но так думали и продолжают думать очень многие, и это лишний раз доказывает, что проблема заслуживает обсуждения. Лично мне кажется, что знания о языке и других знаковых системах по-прежнему могут быть источником интересных идей в социальной теории. С другой стороны, как справедливо утверждает К. Вульф, после языкового поворота уже имели место иконический и следующий за ним перформативный повороты в науках о человеке2. Действительно, мы воспринимаем и конструируем мир не только с помощью языка, но и благодаря силе визуального, слухового, тактильного, вкусового и связанного с запахом воображения, а также благодаря телесному исполнению и мимесису, благодаря практическому действию. Но Витгенштейн стоит у истоков не только языкового, но и перформативного поворота, ведь язык для него — это практическая игра, то есть такая, в которой задействовано тело. Витгенштейн, таким образом, не только настаивает на важности понимания сущности языка, но и намечает путь к осознанию взаимосвязи языка, действия и тела. И это — еще одна причина обратиться к Витгенштейну. *** Главная идея Витгенштейна относительно правил заключается в различении интерпретации правила и следования правилу. Интерпретировать какое-то правило на словах — это одно, а следовать ему на практике (или действовать вопреки нему) — это другое (§ 198-202). При этом одно из самых парадоксальных и спорных утверждений Витгенштейна заключается в том, что любое действие в данный момент можно путем интерпретации согласовать либо привести в противоречие с любым правилом (198, 201). Применительно к употреблению языка и большинству повседневных неязыковых действий, где интерпретации неизбежно запутаны и противоречивы, это вряд ли вызовет у современного читателя сомнения. Но можно ли таким образом охарактеризовать все без исключения ситуации применения правила? В частности, имеет ли в виду сам Витгенштейн только те примеры, которые он рассматривает, или всякое действие вообще? Чтобы это обсудить, следует частично процитировать соответствующие параграфы: «198. “Но как может какое-то правило подсказать мне, что нужно делать в данный момент игры? Ведь, что бы я ни делал, всегда можно — с помощью той или иной интерпретации — как-то согласовать это с таким правилом». — Да речь должна идти не об этом, а вот о чем: все же любая интерпретация повисает в воздухе вместе с интерпретируемым; она не в состоянии служить ему опорой. Не интерпретации как таковые определяют значение. “Выходит, что бы я ни сделал, все согласуемо с таким правилом?” — Позволь поставить вопрос так: “Как возможно, чтобы определенное выражение правила — скажем, дорожный знак — влияло на мои действия? Какая связь имеет здесь место?” — Да хотя бы такая: я приучен особым образом реагировать на этот знак и теперь реагирую на него именно так. <…> Движение человека регулируется дорожными указателями лишь постольку, поскольку существует регулярное их употребление, практика». «201. Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия. <…> Существует такое понимание правила, которое является не интерпретацией, а обнаруживается в том, что мы называем “следованием правилу” и “действием вопреки” правилу в реальных случаях его применения…» Как мне кажется, Витгенштейн имеет в виду не столько то, что всякое правило (знак) могут интерпретироваться на практике как угодно, сколько то, что адекватное их прочтение там, где оно имеет место, возможно лишь благодаря существованию практики. Он делает основной акцент на том, что следование правилу не сводится к применению интерпретаций. Индивидуальная интерпретация в сознании действующего может быть разной, но дело не в этой интерпретации, а в том, как выглядят действия со стороны, в глазах других участников данной игры. Тем не менее, проблема остается. Можем ли мы представить такое простое и эксплицитно выраженное правило, интерпретация которого настолько однозначна и очевидна (в данной культуре), что совместима лишь с одним возможным образом действия и четко противоречит противоположному образу действия? Всегда ли можно найти интерпретацию, оправдывающую любое действие, в том числе заведомо неправильное? Примеры Витгенштейна с дорожными знаками наталкивают на мысль о правиле перехода дороги в соответствии с сигналом светофора. Пешеходный светофор имеет два фонаря: зеленый и красный, один всегда сверху, другой всегда снизу: если человек не различает цвета, он может различить верхнее и нижнее положение. Горит всегда один из фонарей; если горят или погасли оба, светофор сломан и правило не применяется. Можно ли в этом случае сказать, что любое действие пешехода согласуется с правилом путем той или иной интерпретации? Например, человек переходит дорогу на красный свет и находит интерпретацию, объясняющую его поведение как правильное? Думаю, что в случае подобных четких и ясных, кодифицированных в данной культуре правил, такая ситуация невозможна. Витгенштейн, скорее всего, имел в виду не такую абсурдную ситуацию, а случаи, когда люди верно соблюдают правила, но при этом могут по-разному для самих себя их интерпретировать. Недаром ведь он упоминает разные, сменяющие друг друга интерпретации того, что значит следовать какому-то правилу. Он как бы отсылает к своим примерам, а большинство его примеров имеют дело именно со следованием правилу, а не его нарушением. В этом смысле показателен § 151. «…А записывал числа 1, 5, 11, 19, 29. И тут В сказал: теперь он знает, что будет дальше. Что же здесь произошло? Тут могли произойти самые разные вещи. Например, когда А медленно записывал число за числом, В применял различные алгебраические формулы к написанным числам. Когда А записал число 19, В испытал формулу an=n2+n-1; и следующее число подтвердило его предположение. Или же В не думает о формулах. Он напряженно следит за тем, как А выписывает числа; самые разные смутные мысли при этом блуждают в его голове. Наконец он спрашивает себя: “Чем будет последовательность разностей этих же чисел?” Он находит, что она такова: 4, 6, 8, 10, и говорит: “Теперь я могу продолжить этот ряд”. Или же он вглядывается и говорит: “Да, я знаю этот ряд” — и продолжает его, так же как он делал бы это и в том случае, если бы А записал ряд 1, 3, 5, 7, 9. — Или же он вообще не говорит ничего и просто продолжает записывать ряд…» У Витгенштейна есть примеры, когда одни и те же правильные действия имеют разные интерпретации. Есть примеры, когда кто-то действует неправильно, и это заметно со стороны. Последнее может быть основанием думать, что человек не понимает правило (§ 143). Есть пример, когда сам действующий может обнаружить свою ошибку и поправиться, что при наблюдении со стороны может быть критерием его понимания правила и ошибки (§ 54). Но я не смог найти у Витгенштейна примеров того, как человек действует не по правилу, опираясь на оригинальную интерпретацию и настаивая, что следует именно ему. Такой пример придумал С. Крипке 3. Допустим, кто-то считает, что 57+68=125. Это правильный ответ, но только в том случае, если следовать правилам сложения (addition). Представим также, что существует операция квожения (quaddition), которая совпадает с операцией сложения, если каждое из слагаемых меньше 57, но дающая результат, равный 5, если хотя бы одно из слагаемых больше либо равно 57. Пусть знак «+» (плюс) обозначает операцию сложения, а знак «$» (квус) обозначает операцию квожения. Тогда 57$68=5. Возникает вопрос, откуда мы знаем, какую именно операцию применяем, если до какого-то момента имеем дело с числами, меньшими 57. Может быть, мы просто используем знак «+» вместо знака «$», и тогда 57+68=5? Пример довольно радикальный, вряд ли имеющий место в повседневности, но вызывающий интересные вопросы. Почему такого не может быть в реальной жизни? Возможно, именно потому, что дело не в интерпретации? А что может быть похожего в жизни? Оправдание поведения, рационализация путем новой интерпретации. Например, кто-то следует правилу «Не изменять жене», а затем переходит к правилу «Не изменять жене, которую любишь». Практический смысл действий становится другим, но человек может пребывать в уверенности, что изменились не правила, а только фактические обстоятельства. Но может быть и иначе. С самого начала могут иметь место разные интерпретации одних и тех же действий. В фильме Т. Архипцевой «Мой муж — гений», снятом по мемуарам жены физика Л. Д. Ландау, герои начинают свою семейную жизнь с договора об абсолютной сексуальной свободе и запрете на ревность. Очевидно, что практический смысл этого договора они понимали по-разному: он — буквально, а она — как-то иначе. Она, видимо, предполагала, что договор договором, но жизнь все расставит по местам. А он мыслил математически и поэтому, влюбляясь в других женщин, встречался с ними совершенно открыто у жены на глазах и искренне возмущался тем, что она ревнует. Эти примеры приводят к размышлениям о том, как могут соотноситься практические правила и их интерпретации в ходе их изменения. Обычно людям без слов понятно, как нужно действовать в тех или иных повседневных ситуациях. При этом в сходных условиях каждый действует немного по-своему, но все называют это одним словом и полагают, что речь идет об одной и той же практике. Например, каждый преподаватель немного по-своему проводит занятия и принимает экзамены, ориентируясь, в основном, на то, как проводили занятия и принимали экзамены его учителя. Учителя были разные, но считается, что в главном все ориентируются на одни и те же правила, которые, если потребуется, можно эксплицировать и кодифицировать. В определенный момент кто-то может начать действовать немного иначе, чем обычно, чувствуя при этом, что его действия допустимы и оправданы. Если другие также принимают его поведение в качестве допустимого, значит, он по-прежнему действует по правилам. Если другие участники игры и наблюдатели считают, что все нормально, значит, все действительно нормально, хотя по факту игра стала немного другой. Теперь, если правила поведения нужно вновь эксплицировать, старая кодификация берется за основу и уточняется в соответствии с новой практикой. Итак, соотношение практики и интерпретации неоднозначно. Но у Витгенштейна дело состоит не в том, что интерпретации любого правила могут быть вообще какие угодно. Дело в том, что даже верные интерпретации не могут быть исчерпывающими. Именно поэтому следование правилу не может сводиться к интерпретации даже в простейшем случае. Недаром ведь описание даже простейшего случая возможно только в рамках данной культуры и предполагает практическое овладение ее базовыми различиями, такими как красное/зеленое, верх/низ, стоять/идти. Подобные различия мы принимаем на веру, принимаем как само собой разумеющиеся. А ведь в случае со светофором необходимо еще уточнить значение мигающего света; обсудить ситуацию смены сигнала светофора, когда движение уже начато; выяснить, чем ходьба отличается от бега, а остановка на тротуаре от остановки на проезжей части; выяснить, следует ли идти на зеленый свет, если на тебя мчится нарушающая правила машина, и т.п. Посмотрим, что пишет по этому поводу сам Витгенштейн. «1. <…> Ну, а представь себе такое употребление языка: я посылаю кого-нибудь за покупками. Я даю ему записку, в которой написано: “Пять красных яблок”. Он несет эту записку к продавцу, тот открывает ящик с надписью “яблоки”, после чего находит в таблице цветов слово “красный”, против которого расположен образец этого цвета, затем он произносит ряд слов, обозначающих простые числительные до слова “пять” — я полагаю, что наш продавец знает их наизусть, — и при каждом слове он вынимает из ящика яблоко, цвет которого соответствует образцу. — Так или примерно так люди оперируют словами. — Но как он узнает, где и каким образом положено наводить справки о слове “красный” и что ему делать со словом “пять”? — Ну, я предполагаю, что он действует так, как я описал. Объяснениям где-то наступает конец…» «84. Я говорил об употреблении слова: оно не всецело очерчено правилами. Но как выглядит игра, полностью ограниченная правилами, не допускающими ни тени сомнения, игра, которую всякое отклонение заклинивает? — Разве нельзя представить себе правило, регулирующее применение данного правила? А также сомнение, снимающее это правило, — и так далее? Но это не говорит о том, что мы сомневаемся, потому что способны представить себе сомнение. Я вполне могу представить себе, что кто-то, отворяя дверь своего дома, всякий раз опасается, не разверзнется ли за нею пропасть и не свалится ли он в нее, переступив порог (и может статься, что когда-нибудь он окажется прав). — Но из-за этого я ведь не стану сомневаться в подобных же случаях. 85. Правило выступает здесь как дорожный указатель. — Разве последний не оставляет никаких сомнений относительно пути, который я должен избрать? Разве он указывает, когда я прохожу мимо него, в каком направлении мне идти — по дороге ли, тропинкой или прямо через поле? А где обозначено, в каком смысле нужно следовать ему: в направлении его стрелки или же (например) в противоположном?…» Итак, «объяснениям где-то наступает конец» и делаем что-то определенным образом просто потому, что принимаем на веру образ действия и не задумываемся об его основаниях. Но как это возможно, каковы механизмы подобной веры? В. В. Волков, осуждая этот вопрос и опираясь на идеи М. Полани, пишет о необходимости акта самоотдачи (преданности, commitment), акта «этического принятия некоторой совокупности правил как собственного стиля или формы жизни»4. Он считает, что следует различать техническую самоотдачу как обязательство играть по правилам или соблюдать определенные правила и экзистенциальную самоотдачу как «преданность образу действий или форме жизни, а не каким-либо отдельным правилам», как результат этического принятия «некоторой совокупности правил как своего собственного образа жизни»5. На этом основании В. В. Волков отличает социальный институт, из которого нельзя выйти, не отказавшись от себя, от просто игры, из которой можно выйти, или действий по контракту, который можно разорвать. «Социальный институт предполагает экзистенциальную самоотдачу как безусловное принятие реальности всего того, что составляет этот институт, и подчинение правилам, по которым эта реальность конституируется» 6. Такое различение игр, из которых можно и из которых нельзя выйти, понятно и хорошо известно из опыта. Но представление об акте этического выбора мне кажется немного наивным, идеалистическим и не очень точным. Во-первых, даже те игры, которые мы принимаем в качестве просто игр, из которых мы можем в любой момент выйти, предполагают определенный слой принимаемого на веру, само собой разумеющегося знания. Во-вторых, хотя отдельные акты осознанного этического выбора имеют место, вряд ли они лежат в основании институтов. Да, есть такие игры, отказаться от которых можно, лишь отказавшись от себя. Но из этого не следует, что эти игры и самих себя мы выбираем осознанно. Возможно, здесь вообще не следует говорить о выборе. Ведь нельзя стать кем-то просто потому, что решил им стать. Нужно начать что-то делать, телесно вовлечься в игру и на уровне тела принять ее основополагающие ценности и правила как само собой разумеющиеся. Нельзя выбрать разумом то, во что верить и чему быть преданным. Этому можно научиться только на практике, т. е. когда уже веришь в то, что делаешь. Я думаю, что в основе практической веры лежит не этический выбор, а практический мимесис, что любая самоотдача следует образцам самоотдачи (преданности). Осознанному выбору предшествует сомнение и осознание альтернатив, что порой несовместимо с практическим участием в игре, с обладанием тем, что П. Бурдье назвал «чувством игры». При этом Бурдье различал игры, которые являются искусственными социальными конструкциями — в них можно войти, и игры — социальные поля, в которые нельзя войти, просто приняв сознательное решение. «В самом деле, стоит только перестать принимать игру, что подразумевается чувством игры, как мир и действия, выполняющиеся в нем, становятся абсурдными, и возникают вопросы о смысле мира и бытия, которые никогда не задают себе те, кто включен в игру, увлечен ей, — вопросы эстета, замкнутого на данном моменте, или праздного зрителя. <…> Когда речь идет об игре, поле (т. е. пространство игры, ее правила и ставки и проч.) явным образом показывает, чем оно собственно является: социальной конструкцией, произвольной и искусственной, артефактом, который отзывается во всем, что определяет автономию поля, а именно его эксплицитные и специфические правила, строго очерченные и чрезвычайные пространство и время; а вхождение в игру оформляется неким подобием контракта, на который иногда ссылаются явным образом (олимпийская присяга, призыв вести честную игру и, главное, присутствие арбитра), а иногда напоминают в категорической форме тем, кто настолько “увлекся игрой”, что забыл о том, что это игра (“это всего лишь игра”). Напротив, социальные поля, будучи результатом медленных и длительных процессов автономизации, являются, так сказать, играми в-себе, а не для-себя: нельзя сознательно войти в такую игру, в ней и с ней рождаются; а отношение верования, illusio, самоотдачи тем более тотально, безусловно, чем более оно игнорируется»7. «Практическое верование — это не “состояние души” и еще меньше какое-то сознательно принятое решение верить в некий корпус догм и учрежденных доктрин (“верований”); это, если можно так выразиться, “состояние тела”»8. «<…> Практический мимесис (или мимикрия), который в своем качестве притворства содержит в себе общее отношение идентификации, не имеет ничего общего с имитацией, предполагающей сознательное усилие, направленное на воспроизведение действия, речи или предмета, явным образом выбранного моделью; а процесс воспроизведения как практическая реактивация одинаково противопоставляется как воспоминанию, так и знанию; он стремится осуществляться по эту сторону сознания и выражения, следовательно, не может преодолеть предполагаемую рефлексивную дистанцию. Тело верит в то, во что играет; оно не запоминает прошлое, а приводит его в движение, и уничтоженное таким образом прошлое начинает жить заново. Заученное телом — это не что-то такое, что можно как знание нести перед собой, это то, чем тело и является»9. Возвращаясь к § 1 «Философских исследований» Витгенштейна, можно сказать, что там, где объяснениям наступает конец, начинается воплощенный в теле человек, который действует. Ему не нужно знать, где наводить справки о словах «красный» или «яблоко». Он сам и есть тот механизм, который наводит справки, привычно находит ящик с надписью «яблоки», открывает его и т. д. Тело человека хранит те образцы, с которыми оно же сравнивает знаки и на основе которых решает, как эти знаки можно употребить. Именно поэтому исчерпывающие вербальные формулировки правил невозможны, как невозможно и исчерпывающее уточнение контекста действия. Итак, Витгенштейн делает вывод, что значение знака и правильность его употребления, а также вообще правильность какого-либо действия определяется не интерпретацией и внутренним ощущением действующего, а практикой. Возникает вопрос: что именно понимает под «практикой» Витгенштейн? Практика — это повторяющееся следование правилу, ведь правилу не может следовать только один человек и только однажды, правилу нельзя следовать приватно (§199, 202). Отсюда возникает вопрос о повторении правила и, как следствие, о «семейном сходстве» игр (§ 65-77). Практика — это повторение неповторимого. Результаты повторения сходны, но не идентичны. Как это возможно? Может быть, идентичное правило применяется в немного различающихся условиях и поэтому результаты всегда в чем-то отличны? Если дело в этом, как мы можем судить об идентичности применения правила? Или само следование правилу никогда не может быть идентичным, а только сходным? Каковы тогда критерии сходства и как работают механизмы, обеспечивающие его? Если это внутренние критерии, осознаваемые действующим лицом, каким образом практическое следование правилу оказывается независимым от его интерпретации? Если критерии сходства являются внешними, эмпирически наблюдаемыми свойствами поведения, чем отличается концепция Витгенштейна от бихевиоризма? Попробую коротко ответить на некоторые из этих вопросов. Именно практическое воплощение правил позволяет им быть сходными, но не идентичными. Сходство фиксируется интуитивно на уровне телесного опыта, довольно разного у разных людей. На уровне интерпретаций это выражается в возможности небольших дополнений или изменений в вербальных формулировках правил, позволяющих описывать в качестве сходных те случаи, которые с другой точки зрения окажутся совершенно противоположными. Семейное сходство, согласно Витгенштейну, не предполагает обязательное наличие чего-то общего у всех членов множества, какого-то существенного признака, на основе которого мы могли бы четко определить границы семьи. Семейное сходство постигается на основе практического усвоения примеров (§ 69, 71, 75, 135), путем тренировки (§ 86). Об этом Витгенштейн пишет также в работе «О достоверности»: «139. Чтобы установить некую практику, недостаточно правил, нужны еще и примеры. Наши правила оставляют лазейки, а практика должна говорить сама за себя»10. Другими словами, в основе сходных практик лежит мимесис. На физиологическом уровне мимесис объясняется наличием в коре головного мозга так называемых зеркальных нейронов. Относительно недавно нейрофизиологи обнаружили у обезьян и человека эти особые нейроны, одинаковым образом активизирующиеся как при совершении определенного действия, так и при наблюдении за подобным действием со стороны. Проведенные эксперименты дают основания полагать, что наблюдение за действием в определенном контексте приводит к активизации зеркальных нейронов, в результате чего наблюдатель понимает, какое действие и с какой целью осуществляется. Это понимание приходит автоматически, без каких либо опосредующих выводов, и оно приходит на моторном уровне, как если бы человек сам совершал указанное действие. Автоматически распознается контекст, автоматически распознается действие и автоматически понимается типичная цель данного действия в этом контексте. Например, когда стол накрыт к чаю, чашка берется для того, чтобы пить. Некоторые эксперименты позволяют предположить, что функционирование зеркальных нейронов лежит в основе эмпатии: одни и те же нейроны активизируются, когда человек испытывает определенные эмоции (например, боль или отвращение) и наблюдает за лицом другого, испытывающего соответствующие эмоции. При нормальном функционировании зеркальных нейронов наблюдение за мимикой другого автоматически приводит к тому, что наблюдатель испытывает аналогичные чувства (только в более слабой форме)11. Эти современные исследования проливают свет на вопросы, которые задавал и Витгенштейн: «285. Подумай о том, как распознаются выражения лица. Или об описании выражений лица — оно же не сводится к перечислению его размерностей! Подумай и о том, как можно имитировать лицо человека, не глядя при этом в зеркало на собственное лицо». Витгенштейн пишет, что одной из предпосылок нашего практического взаимодействия является вера в то, что мимика и поведение другого человека непосредственно выражают его душевное состояние. И, видимо, именно поэтому мы можем судить о понимании человеком правила на основании того, что и как он делает, а не только на основании того, что он говорит. «”Я заметил, что он был расстроен”. Сообщает ли это о поведении или же о душевном состоянии? <…> О том и о другом. Но не в их рядоположенности, а об одном, данном через другое. Врач спрашивает: “Как он себя чувствует?” Медсестра отвечает: “Он стонет”. Сообщение о его поведении. Но должен ли для них обоих вообще существовать вопрос: настоящий ли это стон, действительно ли он выражает то-то? Разве они не могут, например, прийти к выводу: “Раз он стонет, ему надо дать еще одну дозу болеутоляющего”, — замалчивая [при этом] промежуточное звено? Не определена ли здесь суть дела той ролью, какую они отводят описанию поведения? “Но тогда они основываются на молчаливо принимаемом допущении”. Тогда и весь процесс нашей языковой игры всегда основывается на молчаливо принимаемых предпосылках»12. Размышления Витгенштейна подталкивают к мысли о том, что ощущение и телесное выражение, возможно, суть одно и то же. Если испытывать эмоции и наблюдать их выражение на лице другого, действовать и наблюдать действия другого — это аналогичные с точки зрения активизации нейронов процессы, то, очевидно, аналогичными или даже идентичными должны быть процессы действия и его понимания, переживания и его мимического выражения. Возможно, человек напрягает лицевые мышцы примерно так же, как кошка или собака виляет хвостом. Несчастное состояние человека — это и есть его гримаса боли, страха, гнева. Его счастливое состояние — это и есть его улыбка. Эта мысль находит поддержку в некоторых эмпирических исследованиях, описанных в книге М. Глэдулла «Озарение». Например, в одном из экспериментов группу добровольцев просили припомнить и заново пережить особо стрессовую ситуацию, а другой группе объяснили, как воспроизвести на лице выражения, соответствующие стрессовым эмоциям. У членов второй группы, всего лишь внешне изображавших эмоции, был зафиксирован такой же ускоренный сердечный ритм и повышение температуры тела, что и в первой группе. В другом эксперименте испытуемые рассматривали карикатуры, либо держа ручку между губами, что препятствует сокращению мышцы смеха, либо зажав ручку между зубами, что механически вынуждает улыбаться. Во втором случае карикатуры показались испытуемым смешнее. Исследования С. Томкинса и П. Экмана доказывают, что существуют универсальные для всех культур сочетания движений мышц человеческого лица, соответствующие вполне определенным человеческим эмоциям. То есть существует однозначное и универсальное соответствие между эмоциями и мимикой. П. Экман и У. Фризен свели все эти сочетания в Систему кодировании выражений лица, овладев которой, можно научиться сознательно читать эмоции других людей по их лицам. Однако бессознательно это умение свойственно в той или иной степени всем нам13. Итак, с одной стороны, мимесис основан на физиологической способности человека к подражанию и эмпатии. С другой стороны, никто из нас не способен, даже если захочет, ни прочитать мысли другого, ни повторить в точности его действие. Наша способность повторить действия другого определяется нашим предыдущим опытом. Длительно следуя одним образцам, мы блокируем в себе способность обучаться другим. Например, все стили борьбы чем-то неуловимо напоминают друг друга, но, привыкнув к движениям одного из них, человек с трудом распознает и осваивает движения другого. Когда мы делаем какое-то дело, сознательно или неосознанно повторяя знакомые действия, каждый из нас всякий раз следует разному множеству образцов. Эти образцы, в терминах Витгенштейна, обладают семейным сходством, но всегда чем-то отличаются друг от друга. Но люди обычно и не стремятся в точности повторять действия других. Мимесис — это не только подражание, но и творческий процесс, основанный на силе воображения. Поэтому даже те авторы, которые допускают возможность чистого повторения, не смешивают его с мимесисом: «Миметическое действие — не чистое воспроизведение, точно следующее образцу. В миметически осуществленных социальных практиках создается нечто собственное. В отличие от процессов мимикрии, в которых происходит чистая адаптация к заданным условиям, миметические процессы создают <…> одновременно подобие и различие по отношению к другим ситуациям или людям, к которым они отсылают»14. Для участия в социальной игре нужно добиться не поведения, идентичного поведению других, но практического сходства с их поведением. При этом Витгенштейн склонен полагать, что практическое соответствие действия правилам устанавливается на основе внешнего наблюдения. Например, он пишет, что существуют поведенческие критерии того, что кто-то не понимает слова, что оно ему ничего не говорит (§ 269). Когда человек утверждает, что он понял правило, мы можем принять его слова к сведению, но судить об их истинности будем на основе наблюдения: «180. <…> В последнем случае, например, назвать слова В “описанием душевного состояния” было бы совершенно ошибочно. — Скорее уж, их можно было бы назвать “сигналом”, а правильно ли он употреблен, мы судили бы по тому, что В делает дальше». Итак, поведение является критерием следования правилу. Но можно ли считать Витгенштейна бихевиористом? Думаю, что нет. Сам он пишет по этому поводу следующее: «306. Выходит, мне незачем отрицать существование душевного процесса?! Высказывание “Сейчас во мне совершается душевный процесс воспоминаний о…” просто означает “Сейчас я вспоминаю о…” Отрицать душевный процесс значило бы отрицать воспоминание, отрицать, что кто-то когда-либо вспоминает о чем-нибудь. 307. “Так значит, ты не замаскированный бихевиорист? И ты не утверждаешь, что по сути все, кроме человеческого поведения, есть фикция?» — Если я и говорю о фикции, то имею в виду грамматическую фикцию». Радикальный вариант бихевиоризма заключает понимание и ощущение в скобки, рассматривая их в качестве «черного ящика». Витгенштейн, как мы видели выше, от этого весьма далек. Для Витгенштейна поведение непосредственно выражает душевное состояние. Его занимает вопрос о взаимосвязи понимания и ощущений, с одной стороны, и поведения, внешнего выражения, с другой. Бихевиоризм же интересуется, прежде всего, взаимосвязью поведения и условий, в которых оно осуществляется. Витгенштейн — не бихевиорист, так как для него внешние аспекты поведения и внутреннее понимание действия взаимосвязаны и даны друг через друга. Человеческое действие, согласно Витгенштейну, предполагает человеческое понимание. Но идеи Витгенштейна нельзя трактовать и так, как это делает П. Уинч, сводящий действие по правилу к действию в соответствии с его пониманием 15. Следование правилу, согласно Витгенштейну, не сводиться к исчислению действия согласно некой интерпретации. Практическое понимание правила предполагает неосознаваемое принятие некоторых его предпосылок на веру и согласие внешних наблюдателей с тем, что действие совершается в соответствии с известными им образцами. Wittgenstein's rule-following problem A. Serikov The Wittgenstein's account of language-games and rule-following has given start not only to linguistic but also to performative turn in social sciences and humanities. To follow a rule, on one hand, and to interpret it, on the other, are different things. Cases of rule-breaking because of wrong interpretation of rules are not discussed by Wittgenstein. It is more important for him that a correct rule-following can be interpreted in different ways and that any interpretation can be infinite. But the interpretations must be stopped at some point if one has to act practically. Practical actions need examples and involve bodies. Either following a rule is correct or not we decide on the basis of external observation. But, according to Wittgenstein, external characteristics of behavior and internal meanings depend on each other, so Wittgenstein is not a behaviorist. Key words: rule, rule-following, practice, language, game, language-games, sense, meaning, sign, interpretation, language turn, performative turn, action, behavior, body, mimesis, Wittgenstein. 1 См.: Философские исследования, § 81 // Философские работы / Л. Витгенштейн. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. (Далее я буду ссылаться на соответствующий параграф Ч. 1 «Философских исследований», просто указывая его номер, как это делает сам Витгенштейн). 2 См.: Вульф К. Антропология: История, культура, философия. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007; Вульф К. Homo pictor или возникновение человека из воображения // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2008. № 1 (3).; Вульф К. К генезису социального. Мимесис, перформативность, ритуал. СПб. : Интерсоцис, 2009. 3 Крипке С. А. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке // Логос. 1999. № 1 (11) [on-line]. Дата обращения 29.05.09. URL: <http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_01/1999_1_09/htm>. 4 Волков В. В. «Следование правилу» как социологическая проблема [on-line]. Дата обращения 29.05.09. URL: <http://knowledge.isras.ru/sj/sj/34-volkov.htm>. 5 Там же. 6 Там же. 7 Бурдье П. Практический смысл. СПб. : Алетейя, 2001. С. 129. 8 Там же. С. 133. 9 Бурдье П. Указ. соч. С. 142. 10 Витгенштейн Л. О достоверности // Философские работы / Л. Витгенштейн. Часть I. М. : Гнозис, 1994. С. 341. 11 См.: Iacoboni M., Molnar-Szakacs I., Gallese V., Buccino G., Mazziotta J.C., Rizzolatti G. Grasping the Intentions of Others with One’s Own Mirror Neuron System // PLOS Biology. March 2005, 3(3):e79 [on-line]. Дата обращения 29.05.09. URL: <http://www.unipr.it/arpa/mirror/pubs/pdffiles/PLOS2005.pdf>; Rizzolatti G., Destro M.F. Mirror neurons // Scholarpedia. 2008, 3(1): 2055 [on-line]. Дата обращения 29.05.09. URL: <http://www.scholarpedia.org/wiki/index.php?title =mirror_neurons& oldid=28994>; The Mirror Neuron Revolution: Explaining What Makes Humans Social // Scientific American, Juy 1, 2008 [on-line]. Дата обращения 29.05.09. URL: <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-mirror-neuron-revolut> 12 Витгенштейн Л. Философские исследования Ч. 2. Раздел V // Философские работы / Л. Витгенштейн. Часть I. М. : Гнозис, 1994. С. 264. 13 Гладуэлл М. Озарение: сила мгновенных решений. М. : Вильямс : Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 142—154. 14 Вульф К. Антропология: История, культура, философия. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. С. 144. 15 Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии / пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. М. : Русское феноменологическое общество, 1996.