Кистяковский Б.А Государственное право - (МИИГАиК)
advertisement
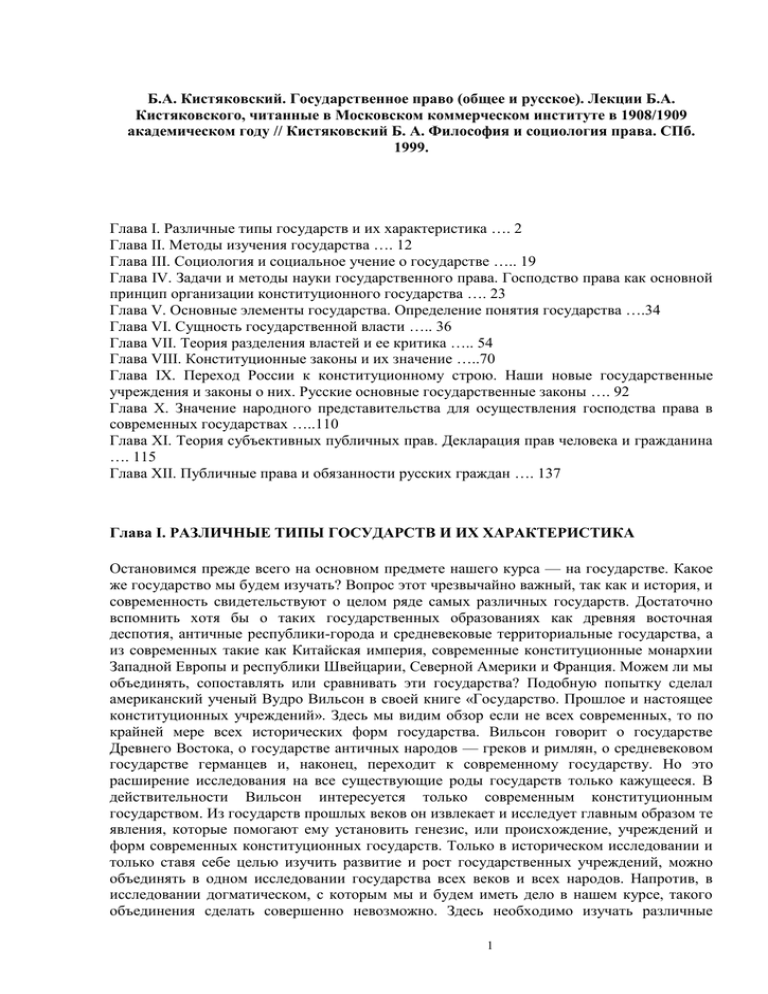
Б.А. Кистяковский. Государственное право (общее и русское). Лекции Б.А. Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте в 1908/1909 академическом году // Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб. 1999. Глава I. Различные типы государств и их характеристика …. 2 Глава II. Методы изучения государства …. 12 Глава III. Социология и социальное учение о государстве ….. 19 Глава IV. Задачи и методы науки государственного права. Господство права как основной принцип организации конституционного государства …. 23 Глава V. Основные элементы государства. Определение понятия государства ….34 Глава VI. Сущность государственной власти ….. 36 Глава VII. Теория разделения властей и ее критика ….. 54 Глава VIII. Конституционные законы и их значение …..70 Глава IX. Переход России к конституционному строю. Наши новые государственные учреждения и законы о них. Русские основные государственные законы …. 92 Глава X. Значение народного представительства для осуществления господства права в современных государствах …..110 Глава XI. Теория субъективных публичных прав. Декларация прав человека и гражданина …. 115 Глава XII. Публичные права и обязанности русских граждан …. 137 Глава I. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА Остановимся прежде всего на основном предмете нашего курса — на государстве. Какое же государство мы будем изучать? Вопрос этот чрезвычайно важный, так как и история, и современность свидетельствуют о целом ряде самых различных государств. Достаточно вспомнить хотя бы о таких государственных образованиях как древняя восточная деспотия, античные республики-города и средневековые территориальные государства, а из современных такие как Китайская империя, современные конституционные монархии Западной Европы и республики Швейцарии, Северной Америки и Франция. Можем ли мы объединять, сопоставлять или сравнивать эти государства? Подобную попытку сделал американский ученый Вудро Вильсон в своей книге «Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений». Здесь мы видим обзор если не всех современных, то по крайней мере всех исторических форм государства. Вильсон говорит о государстве Древнего Востока, о государстве античных народов — греков и римлян, о средневековом государстве германцев и, наконец, переходит к современному государству. Но это расширение исследования на все существующие роды государств только кажущееся. В действительности Вильсон интересуется только современным конституционным государством. Из государств прошлых веков он извлекает и исследует главным образом те явления, которые помогают ему установить генезис, или происхождение, учреждений и форм современных конституционных государств. Только в историческом исследовании и только ставя себе целью изучить развитие и рост государственных учреждений, можно объединять в одном исследовании государства всех веков и всех народов. Напротив, в исследовании догматическом, с которым мы и будем иметь дело в нашем курсе, такого объединения сделать совершенно невозможно. Здесь необходимо изучать различные 1 государственные образования самостоятельно; иначе мы не сможем вникнуть и понять их сущность, их характерные черты и их особенности. Для догматиков государственной науки это было ясно всегда, можно сказать, еще со времен Платона и Аристотеля. Укажу как на пример, что знаменитый немецкий государствовед первой половины XIX века Роберт фон Моль в своей «Энциклопедии государственных наук», вышедшей в первом издании в 1857г. и в 60-хгг. переведенной на русский язык, останавливается на различных родах государств, как-то: патриархате, теократии, деспотии, правовом государстве и т.д. Наиболее видный из современных государствоведов, известный немецкий ученый Ел линек, обратил внимание на то, что в этом случае нельзя говорить о родах и видах государств, нельзя конструировать родовые и видовые понятия их, так как здесь мы имеем дело с особой логической категорией, мы устанавливаем типы государства. Сам Еллинек в своем «Общем учении о государстве» попытался установить методологическую природу и значение типа государства. К сожалению, мы здесь не можем уклоняться в исследование этого сложного и трудного методологического вопроса; отметим только, что историки, преследующие несколько иные цели, чем государствоведы, приходят к совершенно тождественным идеям. Так, наш известный историк Кареев с 1902 г. открыл в Петербургском политехникуме ряд курсов, посвященных различным типам государств. Эти курсы он издал в течение пяти лет с 1903—1908 гг. в пяти томах под общим заглавием «Типологические курсы по истории государственного быта». Что касается классификации различных типов государств, то у Еллинека она гораздо более совершенна, чем, например, у Роберта фон Моля, классификация которого не выдерживает никакой критики. Еллинек устанавливает пять различных типов государств: древневосточное, греческое, римское, средневековое и современное государство. Но в этой классификации есть очень существенный пробел: среди типов, установленных им, мы не встречаем чрезвычайно важного и интересного типа, именно типа абсолютной монархии, с которой нам в России еще так недавно приходилось иметь дело. Классификация Кареева имеет то преимущество, что он посвящает особый (четвертый) том своих типологических курсов западно-европейской абсолютной монархии XVI, XVII и XVIII столетий. Классификация Кареева имеет и другое достоинство, так как он дает чрезвычайно удачные названия, отмечающие наиболее характерные черты некоторых из установленных им типов. Первый том его типологических курсов посвящен «государствугороду античного мира». В этом названии — государство-город характеризуется уже весь государственный строй известной эпохи. Третий том его типологических курсов называется «поместье-государство и сословная монархия Средних веков». Опять-таки смешение поместья с государством есть наиболее типичная черта феодального государства Средних веков. Однако классификация Кареева может возбуждать и возражения, например, когда он во втором томе объединяет монархию Древнего Востока и греко-римского мира. Но мы не можем здесь более подробно останавливаться на различных типах государства и их классификации. Для нас важно лишь констатировать, что представители таких различных областей науки как история и государствоведение приходят к одинаковому выводу о необходимости резко разграничивать различные типы государств. Эти типы государств часто развиваются один из другого, и потому в переходные эпохи они утрачивают свои характерные черты и как бы сливаются. Но для каждого из них есть эпоха полного и высшего расцвета. В эту эпоху каждое из них представляет нечто цельное, единое и законченное. Установление типов, как и образование логических понятий, есть средство научного познания. Подобно художественному типу, научный тип представляет собою концентрированную совокупность наиболее выдающихся и характерных черт какого-нибудь очень сложного явления. Все сказанное нужно нам для того, чтобы установить, что мы здесь не можем и не должны изучать государства всех веков и всех народов. Наша задача не историческая, а догматическая. Предметом нашего курса будет только один тип государства, именно 2 современное правовое или конституционное государство. Правовое государство есть высшая форма государства, которую до сих пор выработало человечество как реальный факт. Все цивилизованные народы всех частей света в настоящее время организованы в правовые или конституционные государства. Россия, как мы это установили в нашей вступительной лекции, тоже совершила в данный момент переход к формам правового государства. Если у нас конституционный строй далеко еще не осуществлен полностью, то с каждым годом, и даже с каждым месяцем он будет и должен осуществляться. Даже восточные государства азиатских народов, чуждых нам и по расе, и по верованиям, эти восточные государства, как Япония, Турция, Персия, совершили переход к конституционной форме государства1[1]. Япония даже опередила нас в этом отношении на несколько десятилетий. Основной принцип правового, или конституционного, государства состоит в том, что государственная власть в нем ограничена. В правовом государстве власти положены известные пределы, которых она не должна и не может переступить. Ограничение власти в правовом государстве создается признанием за личностью неотъемлемых, ненарушимых, неприкосновенных и неотчуждаемых прав. Впервые лишь с осуществлением этого типа государства признается, что есть известная сфера самоопределения и самодеятельности личности, в которую государство не имеет права вмешиваться. Неотъемлемые права человеческой личности не столько создаются, сколько признаются государством. Они по самому существу своему присвоены личности как таковой. Личность является основным элементом всякого общественного и государственного единения. Ведь общество и государство только и существуют в единичных личностях; помимо личностей и связи между ними нет общества и нет государства. Эта связь или солидарность, которая создается обществом и государством, не должна губить личности, так как иначе она уничтожила бы саму основу всякого общения. Но личность, главным образом, выражается в ее проявлениях, ее функциях, ее деятельности. Совокупность этих необходимо присвоенных всякой личности проявлений, выражающих внутреннее содержание личности, и составляет неотъемлемое право личности. В великую французскую революцию они были провозглашены в декларации прав человека и гражданина. Эти права человека и гражданина составляют границу всякой правовой государственной власти, так как власть не может их нарушить. Они слагаются из свободы совести, т.е. признания, что сфера мнений, убеждений и верований, религиозных и нерелигиозных, прежде всего должна быть безусловно неприкосновенна для государства. Непосредственным следствием свободы совести является свобода слова, устного и печатного. Для высказывания своих мнений и проповеди своих взглядов человек должен иметь свободу общения, поэтому неотъемлемым правом личности признается в правовом, или конституционном, государстве право принадлежать к любому обществу, устраивать союзы и организации. Но все эти, а также многие другие свободы или права, как, например, свобода передвижения, право на доброе незапятнанное имя, некоторые имущественные права, требуют своего дополнения в виде неприкосновенности личности, жилища и переписки. В правовом государстве полномочия органов государственной власти по предупреждению и пресечению нарушений закона и преступлений сами поставлены в строгие рамки закона. Они заключаются в том, что административная власть или полиция, лишив свободы подозреваемое в совершении преступления лицо, не имеет права его удерживать, а должна немедленно же передать это лицо в руки судебной власти. Затем судебная власть с исполнением строго определенных 1[1] [Конституция в Японии была принята в 1889 г.; составлена она была по прусскому образцу: наделяла императора чрезвычайно широкими правами, в то время как прерогативы парламента были резко ограничены. В Турции конституция была провозглашена 23 декабря 1876 г., но в феврале 1878 г. султан распустил парламент и установил самодержавный деспотический режим («зу-люм»). Формально действие конституции было восстановлено в 1908 г. в ходе младотурецкой революции. В Иране конституция была принята в результате революции 1905—1911 г.; в ходе революции был создан меджлис, отменены титулы и проведен ряд других прогрессивных реформ.] 3 форм, установленных процессуальным правом и гарантирующих личность, должна постановить или о задержании, или об освобождении. В правовом государстве поэтому недопустимо наказание иначе как по суду в строго определенной форме. Административные наказания, которые так часто и широко употребляются в абсолютномонархических государствах и у нас в нашу переходную эпоху, в правовом государстве недопустимы. Благодаря неотъемлемым и неприкосновенным правам личности государственная власть в правовом, или конституционном, государстве не только ограничена, но и строго подзаконна. Подзаконность государственной власти является настолько общепризнанным достоинством государственного строя, что ее стремится присвоить себе и абсолютно-монархическое государство. Особенно у нас в России в период безусловного господства неограниченного самодержавия государственная власть прилагала много стараний, чтобы доказать согласованность своих действий со строгой законностью. Но не подлежит сомнению, что осуществление законности при общем бесправии есть чистейшая иллюзия. При бесправии личности не только не может процветать законность, но по необходимости будет существовать административный произвол и полицейское насилие. Права человека и гражданина составляют только основную предпосылку того типа государства, который мы имеем в виду, именно государства правового. Как и всякое государство, оно нуждается также в организованной власти, т.е. в учреждениях, исполняющих различные функции власти. Само собой понятно, что правовому государству соответствует только известная организация власти и известные государственные учреждения. В правовом государстве власть должна быть организована так, чтобы она не подавляла личность и чтобы как отдельные личности, так и совокупность личностей, т.е. народ, были бы не только объектом власти, но и субъектом ее. Это возможно только при том условии, если руководящая функция в государстве — законодательство — соответствует народному правосознанию. Для осуществления такого соответствия в правовом государстве законодательным органом должно быть народное представительство. Характерные признаки государственной власти в правовом государстве лучше всего выясняются из противопоставления государственной власти в правовом государстве с государственной властью другого типа — государства именно абсолютномонархического. В абсолютно-монархическом государстве государственная власть характеризуется тем, что она безусловно противопоставляется народу. Абсолютномонархическая власть — это нечто совершенно чуждое народу, только господствующее, распоряжающееся и управляющее. Всю свою силу, весь смысл своей деятельности абсолютно-монархическая власть почерпает в своей безусловной оторванности от народа. Оторванность и отчужденность от народа позволяет абсолютно-монархической власти вознестись на такую неизмеримую и недосягаемую высоту, которая сообщает всем ее распоряжениям характер непререкаемости. Престиж абсолютно-монархической власти и заключается, главным образом, в ее непререкаемости, т.е. в требовании безусловного слепого повиновения распоряжениям власти, каковы бы они ни были и как бы они ни были обременительны, и в полном воспрещении какой бы то ни было критики этих распоряжений. Понятно, что в абсолютно-монархическом государстве никаких прав личности по отношению к власти и органам ее не может быть. За личностью здесь не признается никакой сферы деятельности, в которую государство не могло бы вмешаться. Абсолютно-монархическому государству часто бывает свойственно стремление регламентировать все подробности, все мелочи частной жизни. Это и придает ему характер полицейского государства. Полицейское государство есть не что иное, как абсолютно-монархическое государство в его отношении к отдельным индивидуумам, т.е. в тех отношениях, которые создаются между властью и народом. Совсем другими чертами характеризуется государственная власть в правовом, или конституционном, государстве. В нем государственная власть связана с народом, так как сам народ принимает участие в организации государственной власти и создании 4 государственных учреждений. Самое важное учреждение правового государства — народное представительство — является соучастником государственной власти, непосредственно создавая одни акты и влияя на другие. Поэтому престиж конституционной государственной власти заключается не в недосягаемой высоте ее, а в том, что она находит поддержку и опору в народе. Опираться на народ является ее основной задачей и целью, так как сила, прочность и устойчивость ее заключаются в народной поддержке. В конституционном государстве правительство и народ не могут противопоставляться как нечто чуждое и враждебное друг другу. Тем не менее это не значит, что они сливаются в нечто нераздельно существующее. Напротив, государственная власть в конституционном государстве остается властью и сохраняет свое собственное самостоятельное значение и бытие, но эта власть солидарна с народом, их цели и интересы в значительной мере общи. Таким образом, в то время как в абсолютно-монархическом государстве характерным признаком является двойственность или дуализм, так как оно состоит из двух разнородных, чуждых и часто друг другу враждебных элементов, — правительства, с одной стороны, и народа, с другой, — в конституционном государстве хотя бы в принципе или в идее создается некоторое единство между народом и государственной властью. Единение власти с народом является всегда целью и основным стремлением всякого конституционного правительства, если и не всегда осуществляемыми, то во всяком случае бесспорно признаваемыми. Таким образом, в организации власти в конституционном государстве мы устанавливаем основным свойством государственное единение вообще. Это свойство есть осуществление солидарности между людьми. Но современное правовое и конституционное государство осуществляет только одну форму солидарности, именно только формальную, внешнюю или правовую солидарность. Оно признает всех равными в правовом отношении, оно уничтожает сословия и другие деления и перегородки, существующие в народе. Оно наделяет каждого гражданина неотъемлемыми правами, т.е. создает для каждого известную и равную для всех сферу свобод и предоставляет каждому гражданину возможность влиять на ход государственной жизни и на законодательство. Однако создавая формальное или правовое равенство, современное правовое государство заключает в своих недрах массу социальных и экономических неравенств. В силу этого в сфере экономических и социальных отношений в правовом государстве нет солидарности интересов, которая объединяла бы все общество, весь народ. Но если правовое государство часто характеризуют как государство, в котором ведется беспрерывная борьба классов из-за власти и в котором есть всегда господствующий класс и класс подчиненный, то все-таки в нем и угнетенные элементы всегда имеют возможность влиять на ход государственной жизни. Они имеют своих представителей в общем народном представительстве. Их голос может приобрести громадный вес и моральное значение, как мы видим это теперь, например, в Англии. Господствующие партии часто бывают принуждены уступать даже в принципиальных вопросах, несмотря на то что физические силы и численный перевес, по крайней мере в народном представительстве, находится на их стороне, а не на стороне рабочего класса. Вследствие всех этих причин отчужденность от государства даже наиболее угнетенных и наиболее крайних по своим требованиям социальных элементов, т.е. рабочего класса, в конституционном государстве все-таки не так велика, как отчужденность всего народа от правительства в абсолютно-монархическом государстве. В конституционном государстве и рабочий класс путем своих профессиональных организаций, своей прессы, своих парламентских фракций участвует в государственной жизни и влияет на ее ход. Все это способствует установлению того единства между народом и государственной властью, которым в общих чертах характеризуется конституционное государство. Конечно, эта черта для конституционного государства имеет значение скорее девиза, принципа, идеальной цели, чем вполне реального и осуществленного уже факта. Нам приходится констатировать здесь факт, который вообще наблюдается в конституционном государстве и к которому нам придется 5 еще не раз обращаться: современное государство провозглашает определенный принцип как свой девиз, свою цель, к осуществлению которой оно стремится, но которой оно не осуществляет целиком и даже неспособно осуществить. Несомненно, что полное единение государственной власти с народом, т.е. полное единство государства как цельной организации осуществимо только в государстве будущего, только в народном или социалистическом государстве. Последнее, однако, не будет в этом случае создавать новые принципы. Оно будет только применять тот принцип и ту идею, которую создали идеологи конституционного правового государства и которую они выдвинули и провозгласили хотя бы в знаменитой французской декларации прав человека и гражданина как цель и основную задачу государства вообще. Благодаря народному представительству и правам человека и гражданина, гарантирующим политическую самодеятельность как отдельным личностям, так и общественным группам, и вся организация правового государства имеет чисто общественный характер. Правильное и нормальное выполнение государственных функций в правовом государстве зависит от самодеятельности самого общества и самих народных масс. Без активного отношения к правовому порядку и государственным интересам со стороны народа правовое государство было бы немыслимо. Но именно потому, что забота о государстве и правовой организации в правовом государстве возложена на народ, оно является действительно организованным и благоустроенным государством. Из этого мы видим, какова форма той солидарности, которая создается в правовом государстве. Правовое государство часто называют буржуазным, противопоставляя ему при этом социалистическое. Действительно, в современном правовом государстве наибольшее влияние на государство оказывают имущие и зажиточные классы. Обладая материальными средствами и досугом, они имеют возможность занимать господствующее положение и направлять деятельность государства в выгодную для них сторону. Но ясно, что когда правовое государство называют буржуазным, то этим наименованием указывают лишь на социальную и экономическую структуру правового государства. Напротив, термин «правовое государство» служит для определения юридического характера государства этого типа. К сожалению, это еще пока неясно сознается, а между тем это чрезвычайно важно, так как в свою очередь, когда говорят о социалистическом государстве, то также обыкновенно имеют в виду его социальную и экономическую природу. В самом деле, правовая или юридическая природа социалистического государства еще очень мало исследована. Конечно, социальное и экономическое устройство социалистического государства гораздо важнее, чем юридическая его природа. Именно социалистическое и экономическое устройство образует те характерные черты, которые составляют отличительный признак социалистического государства. Когда говорят о социалистическом государстве, то, конечно, прежде всего думают об известном экономическом укладе жизни и об известном социальном строе. Но это только объяснение, а не оправдание того, что правовая природа социалистического государства до самого последнего времени совершенно игнорировалась. Происходило это отчасти и вследствие случайных причин. Дело в том, что все основатели социализма, творцы социалистических идей, учений и систем были или философами, или политэкономами. Среди видных создателей теории социализма нельзя назвать ни одного юриста по специальности и образованию. А так как социалистическое государство как факт не существует, так как оно не есть нечто такое, что можно наблюдать, то правовая сторона социалистического государства естественно оставалась неисследованной. Только в 1903 г. была опубликована книга о социалистическом государстве, написанная юристом, обратившим главное внимание на правовую постановку социалистических учреждений. Это — «Новое учение о государстве» Антона Менгера. А. Менгер был профессором в Вене и умер в 1906 г. Как и в некоторых других предшествующих его книгах, главным образом, в сочинениях «Право на полный продукт труда» и «Гражданское право и 6 неимущие классы населения», в «Новом учении о государстве» вопросы социализма впервые рассматриваются с юридической точки зрения. Конечно, заслуга А. Менгера громадна. Он взялся за то, за что до него никто не брался. Но, к сожалению, нельзя признать, что он вполне удовлетворительно выполнил ту задачу, которую он себе поставил. Главный коренной недостаток сочинения А. Менгера о новом государстве обусловлен тем обстоятельством, что А. Менгер — цивилист, специалист гражданского права. К публичному праву он имеет очень отдаленное отношение лишь постольку, поскольку к публичному праву можно причислить гражданский процесс, т.е. тот предмет, который Менгер долгие годы читал как университетский курс в Венском университете. Как цивилист Менгер обратил главное внимание на разработку гражданско-правовых институтов и их преобразование в социалистическом государстве. Напротив, он отнесся довольно пренебрежительно к некоторым очень важным государственно-правовым учреждениям. Его взгляд на теоретическую разработку государственных институтов, на ту теоретическую работу, которая имеется уже в науке государственного права, граничит прямо с презрением. Таким отношением к существующей уже науке государственного права Менгер отрезал себе путь к пониманию государственно-правовой структуры социалистического государства. Между тем громадный интерес представляло бы именно более внимательное и более вдумчивое исследование публично-правового, а не частноправового характера социалистического строя. Нас интересует здесь вопрос, является ли социалистическое государство по своей правовой природе прямой противоположностью правовому государству. Мне кажется, что мы можем ответить на этот вопрос безусловно отрицательно. Великое теоретическое завоевание научного социализма заключается в открытии той истины, что капитализм составляет подготовительную стадию к социализму. В недрах капиталистического хозяйства уже заложены зародыши будущего социалистического хозяйства. Особенно громадна организующая роль капиталистического производства. Благодаря ему концентрируются большие народные массы и получают возможность сорганизоваться и сплотиться. Таким образом создается та организация, которая может послужить ячейкой организации будущего. Но если капиталистическое хозяйство можно рассматривать как подготовительную стадию к социалистическому, то тем более правовое государство нужно признать прямым предшественником социалистического. В самом деле, социалистическое государство должно быть прежде всего определенно демократическим. Но и современное правовое государство является по своим принципам, как мы видели, также безусловно демократическим. Правда, не все современные государства на практике одинаково демократичны. Но среди них есть и вполне последовательные демократии, осуществившие наиболее полно принципы демократизма как пропорциональное народное представительство и непосредственное участие народа в законодательстве. Во всяком современном правовом государстве есть государственные учреждения и среди них прежде всего народное представительство, дающее возможность развиться самому последовательному и широкому применению народовластия. Понятно, что социалистические партии считают возможным воспользоваться современным государством как орудием и средством для достижения социалистического строя. И действительно, многие учреждения правового государства как бы созданы для того, чтобы служить целям дальнейшей демократизации государства. Но особенно ясно для нас станет подготовительное значение правового государства по отношению к социалистическому, если мы будем рассматривать правовое государство как организующую силу. Мы уже сказали, что правовое государство отличается от предшествующего типа государства, т.е. от абсолютной монархии, или полицейского государства, своими организующими свойствами. Оно устраняет те анархические элементы, которые носит в себе в зародыше всякое абсолютно-монархическое, или полицейское государство. И эти зародыши во всяком абсолютно-монархическом государстве могут всегда развиться в полную анархию. Но, устраняя анархию из государственной жизни, правовое государство может служить 7 прообразом того, как социалистическое государство устранит анархию из экономической жизни современного общества. Вспомним, что хотя капиталистическое производство организует народные массы, скопляя и концентрируя их в одном месте, само по себе оно является анархическим производством, и в этом смысле между ним и его ролью в хозяйственной жизни народа может быть проведена аналогия с ролью абсолютномонархического государства в правовой жизни народа. Капиталистическое государство организовано только индивидуально, только в отдельных, независимых, рядом друг с другом стоящих ячейках. С общественной точки зрения, оно отличается дезорганизацией и анархией. Все самостоятельные ячейки капиталистического производства сталкиваются друг с другом в своих интересах, борются, побеждают друг друга и взаимно уничтожают друг друга. Эта борьба всех против всех есть типичный признак всякой анархии. В результате господства капиталистического хозяйства получается хозяйственная анархия, от которой страдают в своем хозяйственном быте не только отдельные индивидуумы, но и все общество. Социалистическое государство призвано устранить эту анархию. Его прямая цель заменить анархию, господствующую в общественном хозяйстве при капиталистическом строе, той общественной организованностью, которой должен характеризоваться социалистический строй. И вот при устранении этой анархии социалистическое государство будет действовать по аналогии с правовым государством, устраняющим правовую анархию, по отношению к абсолютно-монархическому государству. Не подлежит никакому сомнению, что большинство учреждений социалистического государства будет создано по аналогии с учреждениями правового государства. Организованность и устранение анархии в общественном хозяйстве будут достигнуты в социалистическом государстве теми же средствами, какими достигается это в правовом государстве. Две основы правового государства — субъективные публичные права (права человека и гражданина) и участие в законодательстве и управлении страной будут вполне последовательно развиты и усовершенствованы в социалистическом государстве. Это расширение произойдет не только в сфере чисто политических и государственных отношений, но будет заключаться и в распространении тех же принципов на область хозяйственных отношений, которая в правовом государстве подчинена лишь гражданскому праву и предоставлена индивидуальной инициативе. Итак, в социалистическом государстве будет расширена и пополнена система субъективных публичных прав, будут пополнены права человека и гражданина. К двум категориям прав человека и гражданина, осуществленным в правовом государстве, т.е. к правам личности на свободу от вмешательства государства, и к собственно политическим правам, предоставляющим личности возможность влиять на государственную жизнь и деятельность, в социалистическом государстве будет присоединена третья категория прав — на положительные услуги со стороны государства. Это собственно социалистические права, которые заключаются в праве на труд, или в праве каждого человека на пользование землей и орудиями производства, в праве каждого человека на развитие всех своих способностей и дарований и, наконец, в праве на удовлетворение всех своих настоятельных и неотъемлемых нужд. Все эти социалистические права могут быть объединены в одной общей формуле как право на достойное человеческое существование. Таким образом, в социалистическом государстве система гарантированных прав личности будет пополнена целой категорией тех прав, которые не только не осуществлены, но и не признаны в современном правовом государстве. До сих пор эти права и теоретически крайне мало разработаны. Теоретической разработкой социалистических прав с юридической точки зрения занялся, как мы уже указали, А. Менгер. Первое его исследование по вопросам социализма «Право на полный продукт труда» относится именно к интересующему нас вопросу. Эта книга вышла за 17 лет до «Нового учения о государстве», в 1886 г., и переведена на все европейские языки, не исключая и русского. Но в ней Менгер совсем не дает юридической конструкции исследуемых им социальных «прав»: права на труд, права на полный продукт труда и права на достойное человеческое 8 существование. Поставив себе целью исследовать интересующий его вопрос с юридической точки зрения, он совсем не выполняет своей задачи. В самом деле, устанавливаемые им социалистические права он рассматривает то как особое частное право, то как требование социальной справедливости, то как нечто аналогичное призрению бедных в современном обществе и государстве. Таким образом, с одной стороны, им совершенно не выяснен публично-правовой характер этих субъективных прав, а с другой, — у него не подчеркнуто, а скорее затушевано значение права личности по отношению к обществу и государству; вместо того выдвинута лишь обязанность государства по отношению к личности. Обязанность может и не выполняться, между тем как на выполнении и осуществлении права всегда можно настаивать. Для правовой организации социалистического государства самое важное значение имеет как признание публично-правового характера за правом на достойное человеческое существование, так и признание этих прав личными правами. В социалистическом обществе признание права на достойное человеческое существование не будет лишь осуществлением социальной справедливости и чем-то аналогичным призрению бедных, а вполне действительным личным правом каждого человека и гражданина, — правом, осуществление которого нисколько не будет ронять его личного достоинства, как это бывает, например, при пользовании правом на вспомоществование. Этой стороны вопроса А. Менгер совершенно не выяснил; она осталась даже прямо непонятой им. Об этом можно судить по его позднейшему сочинению, по вышеупомянутому «Новому учению о государстве», в котором он хотя и устанавливает, что в социалистическом государстве сфера публичного права будет расширена на счет частных прав, но не указывает на то, что ограничение частных прав будет компенсироваться пополнением субъективных публичных прав. Но вообще литература по этому вопросу очень бедна. Больше всего теоретической постановке этого вопроса способствовало исследование Г. Еллинека «Система субъективных публичных прав» (System der subjektiven offentlichen Rechte), изданное в 1892 г. и вышедшее в 1905 г. во втором издании. (Имеется только на немецком языке.) Однако Еллинек только указал на проблему, но сам на ней не остановился. Под влиянием Еллинека Б. Кистяковский отметил социалистические элементы в правах человека и гражданина в своей статье «Права человека и гражданина» (Вопросы жизни. 1905, январь) и затем более подробно остановился на нем в особом этюде «Государство правовое и социалистическое» (Вопросы философии и психологии. Кн. 85. 1906, ноябрь—декабрь). С большим удовольствием можно указать на то, что в книге Дюги «Конституционное право. Общая теория государства», вышедшей по-французски в 1907г., а в 1908 г. изданной и в русском переводе, на этот вопрос обращено некоторое внимание. Дюги говорит о нем главным образом в §93 своей книги, устанавливая «положительные обязанности государства». Наконец, наша социалистическая литература заслуживает в этом отношении особого внимания, так как она идет даже несколько впереди западно-европейской литературы. У нас такие писатели как Чернов и Вихляев, отчасти также в связи с идеями Еллинека, особенно подробно занялись субъективными личными правами, решая вопрос о социализации земли. Свою точку зрения они развили в целом ряде статей, из которых можем указать на брошюры В. Чернова «К вопросу о социализации земли» (М., 1908) и «Теоретики романского синдикализма» (М., 1908), а также П. Вихляева «Аграрный вопрос с правовой точки зрения» и «Право на землю» (М., 1908). Тем не менее и в современном правовом государстве были сделаны, хотя и жалкие, попытки стать на путь осуществления социалистических прав. Такой попыткой надо признать провозглашение права на труд временным французским правительством 1848 г.2[2]; но уже в конституции 48-го года это право было ослаблено, так как ему был придан смысл права на существование и была затушевана его настоящая природа. Вместе с 2[2] [Революция во Франции, начавшаяся 22 февраля 1848 г., привела к ликвидации Июльской монархии. 25 февраля была провозглашена республика (так называемая Вторая республика); в ходе революции были провозглашены основные демократические свободы и издан декрет о праве на труд.] 9 государственным переворотом, произведенным Наполеоном III, и с падением Второй республики3[3] провозглашение права на труд, хотя лишь принципиальное, окончательно исчезло из французской конституции. К попыткам этого рода надо причислить также некоторые требования государственного страхования безработных. Раз государство признает, что оно ответственно за безработицу, что безработные имеют право предъявлять к нему известные требования о предоставлении им работы или ее эквивалента, то это будет частичным осуществлением права на труд. Проект проведения страхования безработных был представлен Швейцарскому союзному Законодательству в 1893 г. путем народной инициативы, но был отвергнут референдумом. Для нас важны эти случаи, чтобы указать на существование таких попыток. Постановка вопроса о социалистических публичных правах личности имеет в высшей степени важное принципиальное значение. В социалистическом обществе личность в значительной мере будет лишена той сферы безграничной личной свободы, которая в современном обществе создается гражданским правом. Конечно, этой сферой безграничной свободы при современных общественных условиях могут пользоваться только имущие и богатые люди. Но и уничтожение ее не будет означать превращение общества в какое-то военное поселение или казармы. Этот упрек постоянно выдвигался и выдвигается против социализма безусловными защитниками современного государственного строя. Но он потеряет всякую силу, как только социалисты выставят на своем знамени права человека и гражданина в их социалистической форме. Ясно, что та сфера свободы, которая создается теперь частными правами, будет компенсирована той сферой, которая будет создаваться социалистическими правами личности. Если тогда права личности будут в известном отношении более ограничены, то в другом отношении они будут и расширены: у личности создадутся права, которых она теперь не имеет, — права, которые она будет предъявлять непосредственно к обществу и государству. Наряду с дальнейшим развитием системы субъективных публичных прав в социалистическом государстве подлежат усовершенствованию и государственные учреждения правового государства. Так, народовластие будет гарантировано в социалистическом строе не только самым широким развитием народного представительства, но, главным образом, непосредственным участием народа в законодательстве и в отправлении других государственных функций. Параллельно с этим усовершенствованием учреждений правового государства в социалистическом государстве должны быть созданы и новые учреждения. Учреждения эти должны организовывать и регулировать весь хозяйственный быт социалистического государства, они должны устранить ту анархию, которая господствует в общественном хозяйстве теперешнего правового государства. Из всего этого ясно, что правильно понятое и разумно использованное правовое государство гораздо ближе к социалистическому, чем это может показаться с первого взгляда. Правовое государство является школой и лабораторией, в которой вырабатываются учреждения будущего социалистического строя. С другой стороны, социалистическое государство будет только дополнять и завершать то, что создало правовое государство. Мы попытались охарактеризовать тот тип государства, который мы будем изучать; это тип правового или конституционного государства. В своей характеристике мы следовали двум путям: мы сперва остановились на основных чертах и особенностях интересующего нас типа государства, а затем указали на его отличия от смежных типов государства; вопервых, от предшествующего ему абсолютно-монархического государства и, во-вторых, от последующего типа государства, который призван сменить современное правовое государство, — от социалистического государства. При догматическом изучении государственного права мы должны сосредоточиться на изучении этого одного типа 3[3] [В декабре 1848 г. президентом Французской республики был избран Луи Наполеон Бонапарт; в декабре 1851 г. он произвел государственный переворот и провозгласил себя императором Наполеоном III. На смену Второй республики пришла Вторая империя (1852—1870).] 10 государства, указывая только попутно, в виде параллели, на некоторые черты других типов государства. Но если в видах научного познания мы и должны так ограничить себя, то мы не должны также забывать, что есть нечто общее всем типам государства, свойственное государству как таковому. Это общее заключается в известных постоянных задачах и неизменных целях. Может быть, мы не сможем обнаружить как реальный факт стремление к осуществлению этих задач и целей у всех конкретных типов государств, но в идеале они, несомненно, присущи им всем. Эти идеальные задачи и цели заключаются в осуществлении солидарных интересов людей. При помощи государства осуществляется то, что нужно, дорого и ценно всем людям. Государство само по себе есть самая всеобъемлющая форма солидарности, и вместе с тем оно ведет к созданию и выработке наиболее полных и всесторонних форм человеческой солидарности. Общее благо — вот формула, в которой выражаются идеальные цели и задачи государства как такового. Способствуя росту солидарности между людьми, государство облагораживает и возвышает человека; оно дает ему возможность развивать лучшие стороны своей природы и осуществлять идеальные цели. В облагораживающей и возвышающей человека роли государства и заключается истинная идеальная сущность всякого государства. Глава II. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВА Мы установили, что, стремясь к догматическому познанию государства, мы можем изучать только один какой-либо тип государства; так, например, мы будем изучать современное правовое или конституционное государство. Но что и как мы будем изучать в этом государстве? Мало указать предмет какой-нибудь науки, надо определить еще те пути и средства, которыми она пользуется. Иными словами, что это за наука — государственное право? Не начать ли нам изучение государства с самой его сущности? В историческом развитии человеческой мысли мы встречаем не одну попытку определить существо государства. Особенно замечательны попытки великих философов-идеалистов первой половины XIX столетия: Фихте и Гегеля. По мнению Фихте, государство есть высшее выражение человеческой личности, наиболее полное проявление человеческого «я». Гегель считал государство самым совершенным воплощением мировой саморазвивающейся идеи, он называл государство даже земным богом4[1]. Наряду с этими идеалистическими определениями мы можем поставить более распространенное и более известное — материалистическое определение государства. Государство есть результат производственных отношений и возникающих из них социальных сил. Должны ли мы сделать исходной точкой нашего исследования государства одно из этих определений существа государства, например, определение материалистическое, как более современное и более научное с точки зрения позитивных наук? Безусловно, нет. Когда мы приступаем к изучению физики или химии, мы не начинаем с материалистического мировоззрения. Если бы мы принялись за головоломные суждения о том, что такое материя и что такое сила, какова их сущность и насколько можно признать, что все мировые процессы сводятся к различным проявлениям силы и материи, то мы только отдалились бы от своего предмета — физики и химии. Чтобы избегнуть этой основной 4[1] [См. прим. 22 и 23 к третьему отделу «Социальных наук и права».] 11 ошибки и действительно приняться за изучение физики и химии, мы должны, начав с некоторых элементарных определений, подойти прямо к физическим и химическим явлениям и исследовать эти явления. Только когда мы исследуем отдельные явления, тогда мы можем обнять их все в одну общую теорию. Всякому синтезу всегда должен предшествовать анализ. Материализм и идеализм как самые крайние обобщения, как высшие абстракции, лежат не в начале, а в конце научного познания. Они должны быть результатом долголетних научных исследований и продолжительных размышлений. Химик Оствальд и физиолог Геккель создали свои натурфилософские системы только под старость, только после того, как написали целый ряд специальных научных исследований. Последуем и мы за физиками и химиками и, принимаясь за изучение государственного права, будем исследовать явления и только явления в нашем предмете. Но обозревая общим взглядом государство или общество в его целом, мы найдем, что оно состоит из массы различных явлений — производственных отношений, возникающих из них социальных сил, борьбы этих сил и результата ее различных политических форм. Все это, несомненно, конкретные факты и явления действительности, встречающиеся во всяком государстве-обществе, и они с полным основанием могут служить объектом исследования. Не подлежит сомнению, что такое исследование представляет громадный научный интерес. Но если бы мы взялись за него и притом взялись бы добросовестно, то это отняло бы у нас столько времени, что мы не смогли бы придти к интересующему нас предмету — государственному устройству и государственным учреждениям. Изучать производственные отношения и промышленную жизнь страны — это задача особой науки — политической экономии. Конечно, государственное устройство и государственные учреждения страны тесно связаны с производственными отношениями и хозяйственным бытом народа; в известном отношении та или другая хозяйственная организация народа даже предшествует его государственной организации; поэтому, изучая государственное право, знакомясь с различными видами государственного устройства и государственных учреждений, мы должны предположить некоторые общие знания политической экономии; последняя является как бы необходимым дополнением первого. Обе эти науки изучают один и тот же предмет — государство-общество, но изучают его с различных сторон. Такую сложную группу явлений, какую представляет из себя государство-общество, нельзя изучать иначе, как выделив из нее отдельные ряды явлений в особые группы и сделав их предметом отдельных наук. Социальные науки поступают в этом случае с государством-обществом так же, как раньше их распорядились естественные науки с предметами внешнего мира, или с природой. Несомненно, физические и химические явления происходят на одних и тех же телах и веществах; тем не менее естествоиспытатели выделили две различные группы явлений физических и химических и сделали каждую из них предметом отдельной науки. Только теперь, когда каждая из этих наук достигла высокой степени развития, возникла возможность изучать физикохимические явления во всей их сложности, изучать их целиком. В результате появилась новая наука, объединяющая эти науки — это физическая химия. Распределение различных сторон известных сложных комплексов явлений между различными науками делается не только в интересах разделения труда; оно безусловно необходимо в видах научного познания. Научно познавать явления мы можем, только сводя их к наиболее простым отношениям. И социальные науки не изучают государстваобщества во всей многосложной пестроте социальных отношений, а распределяют различные области социальной жизни между собою, предоставляя каждой науке определенный круг явлений. Поэтому предмет государственного права представляет государство-общество не целиком, не во всей совокупности чрезвычайно сложных фактов социальной жизни; для государственного права, так же как для других социальных наук, отмежевывается вполне определенный круг явлений. Круг этот намечен самым названием нашей науки. Мы будем изучать в государстве, или в различных государствах, государственно-правовой строй и государственно-правовые учреждения. 12 Нам могут указать на односторонность и узость такой постановки вопроса. Но наше отношение к изучению государства-общества было бы односторонним только в том случае, если бы мы, изучая только одну сторону государственно-общественных явлений, думали и утверждали бы, что мы изучаем государство целиком. Напротив, когда мы прямо указываем на то, что за пределами тех сторон государственных явлений, которые мы изучаем в государственном праве, есть еще другие стороны, которые нужно изучать как предмет других наук, например, политической экономии, социологии, социального учения о государстве, то мы нисколько не повинны в односторонности. Нельзя признать односторонностью сознательное ограничение себя известными сторонами, когда это делается с определенной и ясно намеченной научной целью. Односторонность всегда предполагает известный самообман. Человек односторонен тогда, когда он думает, что он все понял и все постиг, хотя в действительности он постиг только небольшую часть, только одну сторону предмета. В противоположность этому признак истинного представителя науки заключается в том, что он вполне сознательно указывает границы своей науки, он ясно видит, какие стороны предмета он изучает. В нашем смысле все науки односторонни, то есть все они исследуют какую-нибудь одну сторону предмета. Все физические и химические опыты повинны в односторонности этого рода, так как задача всякого химического и физического опыта в том, чтобы получить известное явление в чистом виде, т.е. односторонним, без сопутствующих ему явлений, каким оно обыкновенно не бывает в самой природе. Физические и химические приборы придумываются и устраиваются, главным образом, с той целью, чтобы получить явления изолированными, чтобы выделить одну сторону их. Тем не менее никому не приходит в голову упрекать физиков и химиков в односторонности; напротив, все преклоняются перед результатами их исследований, так как все убеждаются в их громадном значении, все ясно видят, что в результате этих исследований получается научная истина. Но мало преклоняться перед результатами естественно-научных исследований; преклонение это часто бывает лишь преклонением перед успехом; нужно еще понять, каким путем достигаются эти результаты, и вполне точно оценивать этот путь. Последнее необходимо для того, чтобы, следуя по пути естественных наук и в других областях, например, в социальных науках, получать те же результаты, то есть также добывать научные истины. Наука о путях и средствах исследования называется методологией. Она составляет часть логики. Ни одна научная дисциплина не может обойтись без методологии. Как основные принципы логики одни и те же для всякого правильного мышления, так и основные принципы методологии одинаковы для всех научных дисциплин. Поэтому более отсталые науки должны заимствовать эти основные принципы у наук, более ушедших вперед. Но различные науки оперируют с различным материалом, а при применении основных методологических принципов к конкретному материалу и под влиянием его своеобразия эти принципы в отдельных науках часто видоизменяются. Таким образом, единой и общей для разных наук методологии нет. Всякий убеждается в этом, ознакомившись с какимнибудь хорошим руководством логики, например, Милля, Вундта, Зигварта. Во всех этих руководствах в той части, которая посвящается методологии, отдельно говорится о методах наук математических, естественных и гуманитарных. Есть науки, имеющие дело с настолько своеобразным материалом, как, например, статистика, что их методы надо изучать отдельно и особенно внимательно останавливаться на них. Это единство основных методологических принципов, с одной стороны, и различие в их конкретном применении, с другой, — мы и должны иметь в виду. То, что физики и химики получают отчасти механическим путем, путем реторт, насосов, измерения температуры, мы должны получить по отношению к социальным явлениям совершенно другим путем. Здесь естественно-научные методы, хотя и сохраняют свое значение в принципе, но они модифицируются. Единственный доступный здесь путь — это путь мышления. Мы должны исключительно путем мышления, то есть путем представлений и понятий, анализа и синтеза добиваться того, для чего естествоиспытатели могут пользоваться, 13 кроме того, еще и опытами, и приборами. Поэтому нам придется постоянно останавливаться и на тех приемах мышления, к которым мы будем прибегать. Мы постоянно будем указывать, как мы обработали факты для того, чтобы открыть между ними связь, т.е. для того, чтобы объяснить и понять их. Итак, мы будем изучать государство как чисто правовое явление, то есть исследовать государственно-правовые учреждения и государственно-правовой строй современных государств. Социальные и экономические явления мы будем оставлять в стороне как область других наук. Тем не менее совершенно игнорировать их мы не можем. Напротив, мы постоянно должны указывать, где лежит граница государственно-правовых явлений и где начинается область чисто социальных отношений. Это необходимо нам для того, чтобы всегда отдавать себе отчет, как далеко простирается наше понимание исследуемых нами явлений. Мы встретимся с целым рядом и таких фактов государственной жизни, которые, с одной стороны, несомненно имеют громадное значение для государственноправового строя, но с другой, — самым тесным образом связаны с социальным строем. Как, например, можно указать на политические партии, которые имеют громадное значение в жизни современного правового государства. Конституционное государство не может обойтись без политических партий, его государственные учреждения и прежде всего народное представительство не смогло бы правильно функционировать без них. Политические партии следят за самыми настоятельными нуждами страны, убеждают народные массы в необходимости их удовлетворять, осведомляют их о том, как надо это сделать. Своими программами политические партии указывают населению, в чем, по их мнению, должны состоять идеальные цели, к которым нужно стремиться в государственно-правовой и политической жизни. Таким образом, политические партии осведомляют народные массы о том, чего надо добиваться в законодательстве и в направлении правительства страны, каковы средства для этого и кого нужно избирать народными представителями, чтобы добиться известных результатов. Не менее велика роль политических партий и в самом народном представительстве. Ни одно правительство не может успешно управлять страной, если оно не будет пользоваться в той или другой степени сочувствием народа. Между тем правительство может узнавать, в каком направлении лежат симпатии народа и какие правительственные мероприятия нужно предпринять, чтобы завоевать народное сочувствие, только на основании того, какие политические партии располагают большинством в стране и народном представительстве. Все это свидетельствует о громадном значении политических партий для всего государственного строя современного государства. Но среди других фактов, относящихся к организации современного конституционного государства, политические партии занимают совершенно особое место. Эта особенность заключается в том, что их роль, влияние и значение создается не правовыми нормами и не статьями конституции. Ни одна конституционная хартия не только не предусматривает того государственно-правового положения, которое занимают политические партии, но даже совсем не упоминает о них. Таким образом, нынешняя роль политических партий в современных государствах создается фактическими, социальными и политическими отношениями. Здесь мы имеем пример того, как тот или иной социальный строй непосредственно вторгается в государственно-правовую организацию; даже больше, известные социальные отношения повелительно диктуют соответственный государственно-правовой строй. Пример нашей родины показывает, что политические партии возникают и развиваются даже гораздо раньше создания конституционного государства и установления тех государственноправовых норм, при которых политические партии только и могут нормально существовать и действовать. Это свидетельствует о том, что экономические, социальные и культурные отношения, вызывающие политические партии непосредственно к жизни и деятельности, являются первичными силами. До сих пор мы все время говорили о правовом или конституционном государстве вообще; мы попытались дать общую характеристику правового государства и обещали выяснить 14 принципы, на которых зиждется и которыми руководится в своей деятельности правовое государство. Но правового государства вообще нет; есть только отдельные индивидуальные государства, как Англия, Франция, Бельгия, Швейцария, Германия и т.д. Каждое из них имеет своеобразные черты и отличается от других вполне самостоятельной физиономией. Различия между этими государствами довольно значительны. Среди них мы встречаем и республики, и конституционные монархии, и унитарные государства, и государства федеральные. Где же то правовое или конституционное государство вообще, которое мы будем изучать? Не уподобимся ли мы, говоря о правовом государстве вообще, тому средневековому схоласту, который запротестовал против того, что ему постоянно приходится есть только яблоки, сливы, груши и т.д., а никак не удается вкусить плода? Мы, конечно, не повторим этой ошибки, характерной для средневекового схоластического мышления; мы не примем категорий нашего мышления, орудий нашего познания, — наших общих понятий за конкретную действительность и не станем утверждать, что есть какое-то конституционное государство вообще. Напротив, мы должны иметь в виду только все единичные государства, т.е. Англию, Францию, Бельгию и т.д.; все конкретные примеры для иллюстрации наших положений мы, конечно, будем брать только из государственного устройства и деятельности этих индивидуальных государств. Но все они правовые или конституционные государства, и всем им, как таковым, присущи общие черты. Именно благодаря существованию этих общих черт мы можем при изучении их пользоваться сравнительным методом. Изучать конституционное государство вообще — это и значит следовать сравнительному методу. Известные черты и свойства присущи конституционному государству неслучайно, они необходимо присвоены всем конституционным государствам не только уже существующим, но и тем, которые могут и должны возникнуть. Именно потому, что эти черты составляют необходимое и неотъемлемое свойство каждого конституционного государства, мы имеем право говорить, что мы изучаем правовое или конституционное государство вообще. Ценность научного изучения в том и заключается, что оно применимо не к одному только конкретному предмету, а ко всем предметам из изучаемой категории или серии предметов. Конечно, мы могли бы изучать и каждое отдельное правовое или конституционное государство, например, Англию или Францию. Мы могли бы не только познакомиться описательно с учреждениями каждого из них, но и придать более научный характер этому изучению, направляя его на постоянные и необходимые соотношения между явлениями. Так, например, для научного изучения конституционных учреждений Англии мы проследили бы их постепенное развитие, задерживающее или ускоряющее влияние их друг на друга и взаимную связь между ними. Хотя мы изучили бы развитие или современное состояние конституционных учреждений данного одного государства, т.е. Англии, тем не менее и при такой постановке вопроса предметом нашего изучения были бы тоже конституционные учреждения вообще. Мы изучили бы их или в их необходимом развитии в прошлом, или в их необходимых взаимоотношениях в настоящем. Эти две формы научного изучения конституционных учреждений составляют содержание двух научных дисциплин — истории политических учреждений и особого государственного права. Обе эти науки имеют своих представителей, давших солидные исследования в своей области. Так, историю государственных учреждений Англии разрабатывали английские ученые Тод и Гардинер, немецкий ученый Рудольф Гнейст и французский — Бутми. Исследования по истории государственных учреждений Англии, знакомя с развитием этой классической конституционной страны, помогают и догматическому изучению государственного права конституционных стран. История конституционного развития других стран не может сравниться в этом отношении с историей Англии, так как конституционные учреждения в них или недостаточно долго существуют, или в развитии их не наблюдается той же последовательности и преемственности, как в Англии. Наиболее поучительна история конституции С.-А. Соединенных Штатов; из работ по этой 15 истории заслуживают особого внимания исследования немецкого ученого Гольста. Но и знакомство с эволюцией конституционных учреждений в более молодых конституционных государствах представляет глубокий интерес. Поэтому книга Сеньобоса «Политическая история современной Европы. Эволюция партий и политических форм» пользуется вполне заслуженным успехом. На русский язык она несколько раз переведена, а лучший перевод (изд. товарищ. «Знание») в 1907 г. вышел в четвертом издании. Еще большее значение для систематического изучения государственного права имеет так называемое особое государственное право, задача которого — исследование государственного права отдельных государств. Углубляясь в государственный строй и в организацию государственных учреждений какого-нибудь одного государства, оно дает возможность вникнуть в государственно-правовые отношения в их конкретной форме. Исследования этого рода имеют громадное значение в литературе государственного права. Как на наиболее выдающиеся сочинения по особому государственному праву укажем для Англии на книги Дайси «Основы государственного права Англии», Энсона «Английский парламент», Беджота «Государственный строй Англии» и Hatschek'a «Englisches Staatsrecht», 2 тома; для Германии на книги Laband'a «Das Staatsrecht des Deutschen Reiches», 4 тома в 4-м издании, Меуеr'а «Lehrbuch des Deutschen Staatsrecht», 6-e издание, и для Америки на книгу Брайса «Американская республика», 3 тома. Но в данном курсе мы должны отказаться от изучения государственного права по системе, принятой в исследованиях по особому государственному праву. Такое изучение представляет и большой интерес, и большие неудобства: с одной стороны, оно потребовало бы углубления в детали организации одних определенных учреждений, а с другой, — оно не дало бы нам возможности познакомиться с другими учреждениями. Так, например, если бы мы взялись за изучение английских конституционных учреждений как наиболее древних и полно развитых, то мы, конечно, получили бы наиболее цельное и законченное представление о народном представительстве, его правах и деятельности, а также о парламентском министерстве и кабинетной системе. Но мы ничего не узнали бы о писанной конституции, так как писанной конституции в современном смысле слова в Англии нет, а конституция Англии слагается из целого ряда отдельных парламентских постановлений, прецедентов, обычаев и т.п. Далее, мы ничего не узнали бы о декларации прав человека и гражданина ввиду того, что Англия знала другие формы гарантии свободы личности, как Habeas corpus act, петиция о правах и билль о правах5[2]; наконец, мы не получили бы никакого представления о федеральном строе и федеральных учреждениях. Из всего этого ясно, что при детальном изучении конституционных учреждений одного или двух государств мы далеко не могли бы познакомиться с конституционным строем и с конституционным правом во всем его объеме и во всем многообразии его индивидуальных форм. Но больше всего нас должны интересовать государственный строй и государственные учреждения России. Может быть, мы могли бы, сделав центром особое государственное право России, попутно изучать и вопросы общего государственного права? Однако такая система изучения русского государственного права была бы наименее целесообразна. Законодательством 1905 и 1906 гг. в России создано народное представительство, и государственный строй ее преобразован. Но конституционные формы и новые государственные учреждения еще не настолько долго у нас существуют, чтобы доставить материал для их оценки. У нас не накопилось еще достаточно фактов для того, чтобы судить, что представляют из себя наши конституционные учреждения. Только будущее покажет их фактическое значение, и даже только будущее окончательно определит подробности их организации и функций. Пока мы даже не можем быть уверены, что мы 5[2] [«Хабеас корпус акт» — один из основных конституционных актов Великобритании, принятый английским парламентом в 1679 г.; устанавливает правила ареста и привлечения обвиняемого к суду, предоставляет суду право контроля за законностью задержания и ареста граждан. «Билль о правах», принятый английским парламентом в 1689 г., заложил основы английской конституционной монархии в том виде, как она сложилась в результате «Славной революции» 1688 г.] 16 правильно толкуем наши новые законодательные положения, так как на практике, при их применении, они могут быть истолкованы в ином смысле. Все это заставляет нас придти к заключению, что мы не можем конструировать наше государственное право, восходя от частного к общему. Напротив, мы должны исходить из общих принципов, которые установлены теорией на основании государственно-правовой практики в более развитых конституционных государствах, и затем делать выводы и относительно наших государственных учреждений. Решать частные вопросы нашего государственного права невозможно, не руководствуясь общими теоретическими принципами. Появившиеся до сих пор обработки нового русского государственного права убеждают нас в правильности этой точки зрения. Так, в книге Лазаревского «Лекции по русскому государственному праву» в общем принят именно этот метод. Общее государственное право неоднократно разрабатывалось в научной литературе. В шестидесятых и семидесятых годах большое значение имела книга Блюнчли «Общее государственное право», переведенная и по-русски. Из новейших сочинений надо назвать книги Еллинека: «Право современного государства», том 1, «Общее учение о государстве»; Дюги «Конституционное право. Общая теория государства» и Эсмена «Основные начала государственного права». В своем курсе мы и будем следовать системе и методам, принятым при изложении общего государственного права. Вопрос может возникать только относительно того, как объединить общее государственное право с русским. Эсмен и Дюги делят свои книги на две части, к первой части они относят вопросы более общего, во вторую — более специального характера; в первой части обсуждение вопросов французского государственного права занимает меньше места, чем во второй, посвященной по преимуществу французскому государственному праву, которое освещается при помощи сравнительного материала. Но можно усомниться в целесообразности этой системы хотя бы потому, что эти авторы относят к первой и второй части не одни и те же вопросы. Кроме того, такая система, доступная для вполне сложившегося французского государственного права, может оказаться неудобной при изложении русского государственного права по той же причине, по которой русское государственное право трудно излагать теперь как особое государственное право. Все это заставляет нас излагать вопросы русского государственного права параллельно в связи с каждым отдельным вопросом общего государственного права. Это и служит нам основанием для того, чтобы назвать наш курс «Общим и русским государственным правом». 17 Глава III. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ Мы установили различие между политической экономией — наукой, исследующей экономический фундамент общественно-государственных явлений, или хозяйственный быт и производственные отношения, и государственным правом — наукой, исследующей, по образному выражению Маркса и Энгельса, политико-правовую надстройку, или государственно-правовые учреждения и государственно-правовой строй6[1]. Но эти две науки еще не исчерпывают всей той многообразной совокупности явлений, которые составляют общество. Кроме экономических и государственно-правовых фактов, в каждом обществе мы наблюдаем вполне самостоятельную группу фактов социальных. Это и послужило мотивом для создания особой науки — социологии. Первый заговорил об этой новой науке Огюст Конт, основатель позитивной философии, живший в первой половине XIX века (1798—1857). Продолжателем дела Огюста Конта явился английский позитивист Герберт Спенсер, умерший несколько лет тому назад (1820—1903). В том направлении научного мышления, представителями которого были Конт и Спенсер, сливаются в одно два совершенно различных течения. С одной стороны, мотивом для создания особой науки социологии послужило то обстоятельство, что политическая экономия и общее государственное право не исчерпывают всех общественных явлений, с другой, — основатели социологии сразу поставили себе всеобъемлющую цель и увлеклись универсальной задачей; они придали социологии характер всеобъемлющей социальной науки. Социология, по их планам, должна была обобщать результаты всех других социальных наук. Это направление и до сих пор имеет своих представителей в научном мире, его придерживаются в данный момент во Франции Дюркгейм и Рене Вормс, этому же направлению следует профессор вольного университета в Брюсселе де Грееф, в Германии его сторонником был известный публицист Шефле, умерший 6[1] [Классическую формулировку взаимодействия «базиса» и «надстройки» К. Маркс дал в предисловии к книге «К критике политической экономии». См.: Марк К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 13. С. 6—7.] 18 несколько лет тому назад, в настоящее время в Германии его придерживается лейпцигский профессор П. Барт. Этому же направлению под другим названием следует и знаменитый немецкий психолог и философ Вундт, в своем 4-томном сочинении «Психология народов», где он исследует все формы общественного быта и все продукты психической культуры человека. У нас тех же взглядов на социологию придерживались создатели русской социологической школы — Лавров и Михайловский. Все их сочинения проникнуты идеей всеобъемлющей социальной науки, и они увлекались задачей создать такую науку. Кроме того, у нас есть две очень хорошие книги, которые знакомят с этим направлением социологии; это книга Каре-ева «Введение в социологию» и книга М. Ковалевского «Современные социологи». Наконец, совершенно независимо от этих представителей социологии, но по существу тех же научных тенденций социального универсализма придерживались Маркс и Энгельс, когда создавали свою теорию экономического понимания истории. Эта теория есть всеобъемлющий синтез социальных явлений, она группирует и обобщает выводы различных социальных наук для того, чтобы понять и объяснить процесс социальной жизни в его целом, в его нераздельности. Таким образом, мы видим, что различные ученые исходят от различных наук, например, Маркс и Энгельс — от политической экономии, Огюст Конт — от истории политического развития, Спенсер — от бытовой и культурной истории, Вундт — от психологии, русские социологи — от этики и этического назначения личности; но все они приходят к одному и тому же — необходимости создать всеобъемлющую социальную науку. Конечно, в принципе это научное направление, безусловно, законно, так как оно стремится разрешить действительно очень важную научную проблему. Оно находит себе оправдание также в том оплодотворяющем действии, которое оно имело на развитие научной мысли. Вспомним хотя бы ту притягательную силу, которой обладало и до сих в значительной мере обладает материалистическое понимание истории; сколько научных исследований оно оплодотворило, сколько оно выдвинуло новых научных проблем и поставило новых научных вопросов, сколько ученых заставило проверить сделанные выводы или придти к новым. Но несмотря на это, есть и много причин для пессимизма. Признавая, что существование социологии как всеобъемлющей науки вполне оправдывается в принципе, отрицают самую возможность построения ее при данном развитии социальных наук; утверждают, что не пришло время для такого научного обобщения; отдельные науки не достигли еще той научной высоты, при которой они могли бы доставить материал для такой универсальной науки. Противники универсальной социологии считают необходимым для данного времени подготовительную работу, создаваемую отдельными социальными науками. Подтверждение своих мыслей они видят в том, что всеобъемлющей социальной науки как таковой, собственно говоря, не существует. Под этим именем обыкновенно скрывается масса противоречивых теорий, друг с другом не согласованных и друг друга исключающих. Этот пессимистический взгляд на социологию, несомненно, во многом справедлив. Чтобы убедиться в этом, вспомним, например, о судьбе некоторых социологических теорий, хотя бы органической теории, которые проводили аналогию между обществом и организмом. Сколько сторонников она имела, сколько представителей различных наук еще сравнительно недавно ею увлекались, а теперь никто не хочет и слышать о ней. Даже судьба экономического понимания истории наводит нас на пессимистические соображения в этом направлении. Первое захватывающее действие материалистического понимания истории было так сильно, что казалось, помимо него нет науки. Но затем наступило раздумье, и ему было отведено скромное место как известной теории наряду с другими теориями и наравне с ними. При создании теорий, охватывающих весь социальный мир в его целом, повторяется то же, что происходит при создании теорий, охватывающих всю вселенную, мир природы. Кант установил, что когда мы высказываем известные суждения относительно вселенной как таковой, то два противоречивых суждения одинаково доказуемы, несмотря на то, что логически они исключают друг друга. Таких противоречивых пар суждений Кант 19 установил четыре, назвав их антиномиями. Так, мы утверждаем, что мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве, и можем вполне точно доказать известными логическими силлогизмами, что мир нельзя мыслить иначе, как ограниченным пространством и временем, а затем мы утверждаем, что у мира нет начала во времени и границ в пространстве, и также вполне последовательными логическими суждениями и заключениями с той же достоверностью и убедительностью доказываем, что мир бесконечен. Точно так же мы утверждаем, что вещество, которое образует мир — вселенная — состоит из каких-то простых частиц — атомов, следовательно, оно не делимо до бесконечности, и доказываем это чрезвычайно убедительным путем логических доводов и затем так же точно убедительно можем доказать, что простых неделимых частиц или атомов не может существовать, и вещество мира делимо до бесконечности. Так же точно мы можем утверждать, что в мире не все обусловлено причинно, а есть и свобода или, как выражается Кант, — «причинность через свободу», и доводы эти будут очень убедительны, но рядом мы можем доказать, что необусловленных причин не может быть и что мир представляет из себя бесконечный процесс явлений, бесконечную связь причин и действий. Так же точно можно доказать, что должно существовать нечто, какоето бытие, нечто сущее, что не имеет никакой причины, то есть, на языке религиозном, должен существовать Бог, и в то же время мы можем доказать, что в мире не может существовать такой сущности, такого бытия, которое не было бы обусловлено другим бытием, другой сущностью. Это знаменитые 4 антиномии, изложенные Кантом с поразительной ясностью в его «Критике чистого разума», после которой стало очевидно, что логическими средствами, теми средствами, которыми располагает научное познание, не может быть ни построена, ни отвергнута метафизика. С аналогичным явлением мы встречаемся и при суждениях о социальном мире в его целом. Все утверждения, относящиеся к историческому и социальному процессу во всей его совокупности, всегда противоречивы, или антиномичны. Здесь мы также с одинаковым успехом можем доказать два противоречивых суждения. Одни, например, признают нашу современную культуру христианской, то есть считают, что вся культура является продуктом христианского религиозного духа, другие, напротив, усматривают истинную причину современной культуры и цивилизации в преобладании рационализма и естественнонаучного мировоззрения; одни рассматривают историю как продукт деятельности отдельных выдающихся личностей, вожаков и героев, другие, напротив, видят в ней результат движений огромных социальных масс, общественных коллективов. По одной теории, судьбы народа определяются природой той территории, которую он заселяет, и климатическими условиями, присущими этой территории, по другой теории, судьбы народа определяются расой, антропологическими особенностями народа и его психическими свойствами и этическими наклонностями. Для одних — правовой порядок и право есть продукт развития идей, для других — это результат производственных отношений, хозяйственного быта, результат классовой борьбы. Вот ряд тех антиномичных положений, которые выдвигаются, когда произносятся суждения о социальном целом, о человеческом развитии как мировом процессе. Эти суждения, несмотря на то что они друг другу противоречат, могут быть одинаково доказуемы и казаться одинаково истинными. Ввиду этого приходится отвергнуть, по крайней мере, в данный момент, возможность существования универсальной социальной науки. Универсальное направление в социологии имело, между прочим, то пагубное последствие, что оно на время отодвинуло другую важную научную проблему. Я уже сказал, что политическая экономия, с одной стороны, и общегосударственное право, с другой, не исчерпывают всех фактов социальной жизни. Во всяком обществе возникают еще особые социальные отношения, которые должны быть предметом самостоятельного научного исследования. Это по преимуществу социальные факты, заключающиеся в тех явлениях, которые создаются при соединении и группировке людей. Между людьми при их соединении и группировке возникает известное взаимодействие и влияние друг на 20 друга. Из этого воздействия друг на друга получаются новые явления — явления массовой психологии, массовой деятельности, которые не исследуются ни в политической экономии, ни в государственном праве. Эти-то явления и составляют предмет той особой науки, которая должна быть поставлена рядом с двумя указанными, уже раньше выделившимися науками об обществе и государстве. Здесь мы имеем уже не всеобъемлющую универсальную, социальную науку, охватывающую и политическую экономию, и историю культуры, и государственное право, и политику; напротив, перед нами самостоятельная специальная наука, которая должна быть поставлена рядом с политической экономией и государственным правом. Тем не менее, так как эта наука носит тоже название социологии, то часто говорят не о двух разных науках, называющихся одним и тем же именем, а о двух течениях в социологии. Представителем этого течения в социологии является в Германии профессор Берлинского университета Зиммель, впервые изложивший свою точку зрения в вышедшей 18 лет тому назад книге «Социальная дифференциация». Затем он издал целый ряд статей, из которых особенно большое значение имели «Проблема социологии» и «Господство и подчинение», наконец, в 1908 г. появилась его книга «Социология. Исследования о формах общества» («Sociologie. Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftungen»). Во Франции к этому направлению более или менее примыкает недавно умерший социолог Габриэль Тард; из его сочинений особенно замечательна книга «Законы подражания». Сюда же можно отнести и французского социолога Бугле, являющегося одновременно учеником Дюркгейма и Зиммеля. Социология, по мнению Зиммеля, не должна повторять в более общей форме того, что уже делается историей вообще и историей культуры в частности, а также различными политическими и юридическими науками, как, например, политической экономией, историей хозяйственных форм и политических учреждений, государственным правом и др. Достаточно, если она будет пользоваться материалом, добытым ими. Напротив, ее специальная задача состоит в том, чтобы рассматривать общество просто как собрание людей и следить за тем, как изменяется характер отдельных индивидуумов, целых социальных групп и всего общества вследствие изменения социальных связей. Благодаря тому, что одни и те же лица живут вместе или врозь, соединяются и разобщаются, группируются и комбинируются заново, самым различным образом изменяются и общественные формы, связывающие этих лиц. Таким образом, предметом социологии Зиммель хочет сделать собственно социальные явления, или те наслоения в жизни лиц и социальных групп, которые возникают от упрочения старых и заключения новых общественных связей и отношений. Если принять во внимание эту постановку социологической проблемы, то нельзя больше сомневаться, что существует две науки социологии и соответственно этому существует два понятия общества, одно — более широкое и даже всеобъемлющее, другое — более узкое и специальное. Универсальная социология понимает под обществом всю совокупность форм и организаций, вырабатываемых при совместной жизни человека. Социология как особая дисциплина подразумевает под обществом только те отношения, которые возникают из непосредственного воздействия людей друг на друга. Теперь для нас ясно, как многообразен тот комплекс явлений, который мы называем государством-обществом. Он составляет предмет целого ряда наук. Мы уже видели три вполне самостоятельных науки — политическую экономию, социологию и государственное право. Конечно, такая классификация наук далеко не идеальная, она только отчасти соответствует современной стадии научного развития и не вполне удовлетворяет практическим нуждам данного времени. Есть целый ряд проблем, которые не могут быть помещены ни в одну из этих рубрик. Особенно важное значение имеют те проблемы, которые занимают промежуточное положение между столь разнородными группами наук как политическая экономия и социология, с одной стороны, и государственное право, с другой. Это — проблемы, возникающие из отношений между 21 обществом и государством. Вопрос об отношении между обществом и государством в XIX столетии решался иначе, чем теперь. В прошлом столетии, начиная, главным образом, с Гегеля, в обществе и государстве видели две различные реальности, которые сталкиваются, примиряются, друг друга обусловливают и дополняют. Все наиболее выдающиеся государствоведы XIX столетия как Роберт фон Моль, Лоренц фон Штейн, Блюнч-ли и Рудольф Гнейст, несмотря на различие своих направлений, сходились в том, что конкретизировали общество и государство и главным образом на соотношении их конструировали государственное право. В противоположность этому теперь в обществе и государстве видят только две различные части одного и того же предмета, или одной и той же реальности. Более всего такому взгляду на общество и государство способствовали Зиммель и Еллинек. Те вопросы, которые возникают из соотношения между обществом и государством или между двумя рядами разнородных явлений, происходящих в одном социальном целом, составляют предмет социального учения о государстве. Наиболее важные из этих вопросов — это об отношении между обществом и государством, о существе государства, об обосновании государства, о цели государства, о возникновении государства, о различных типах государства, о соотношении между государством и правом. Еллинек в своей книге «Общее учение о государстве» посвящает особую часть «социальному учению о государстве», в которой исследует все эти вопросы. Но в курсе государственного права мы не можем на них останавливаться и касаемся только тех из них, которые имеют наиболее важное значение для государственного права. По принятому у нас учебному плану эти вопросы относятся к «общему учению о праве и государстве». Глава IV. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА. ГОСПОДСТВО ПРАВА КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ГОСУДАРСТВА Предмет государственного права, как было указано выше, составляют государственное устройство и государственные учреждения. Изучением этого предмета и определяется задача науки государственного права. Наука государственного права изучает государство как совокупность учреждений, определяющих государственный строй и составляющих органы государственной власти. Но эти учреждения создаются правовыми нормами: теми же нормами управляется их деятельность. Следовательно, наука государственного права изучает государство как правовое явление или как создание права; иными словами, наука государственного права изучает государство постольку, поскольку оно создается и управляется правом. Итак, с точки зрения государственного права, государство есть создание права. Но нельзя преувеличивать значение этого определения. Против такого преувеличения необходимо предостерегать особенно потому, что существует научное направление, представители которого, несомненно, переоценивают значение для социальной жизни норм вообще и норм права в частности. Наиболее видным представителем этого течения является Р. Штаммлер. Свои взгляды Штаммлер изложил в сочинении «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории», вышедшем в двух изданиях понемецки и переведенном на русский язык; в нем он сделал попытку дать целую систему социальной философии. По мнению Штаммлера, «социальная жизнь есть внешним образом урегулированная совместная жизнь людей». Под внешним образом урегулированной жизнью он понимает общественную жизнь, «связанную внешними правилами», которые бывают правовыми или конвенциональными. Эти два вида правил — правовых и конвенциональных, объединяемые одним общим родовым понятием внешних правил совместной жизни людей, «конституируют социальную жизнь как 22 особый объект нашего познания». Внешние правила составляют форму общественной жизни, материя же ее заключается в совместной деятельности людей, направленной к удовлетворению их потребностей, т.е. в общественном хозяйстве. Форма и материя не являются двумя разными объектами, а образуют единый объект социальной науки — «внешним образом урегулированное хозяйство». Исследование формы отдельно от материи возможно: поскольку оно направлено на правовые нормы, оно составляет задачу формального правоведения; напротив, исследовать социально-экономические явления вне регулирующей их правовой формы нельзя, так как социально-экономических законов, которые были бы независимы от содержания данного правового регулирования, нет. Это построение Штаммлер последовательно проводит через всю свою книгу. Но оно безусловно ошибочно и основано на некритическом <распространении> субъективного интереса к известным сторонам объекта на <весь> объект. Штаммлер как юрист интересуется прежде всего нормами вообще и нормами права в частности, как догматик он исследует их независимо от тех конкретных общественных отношений, которые они регулируют; в то же время он не раз обнаруживал, что нормы права определяли социально-экономические отношения; из всего этого он вывел заключение, что нормы права можно изучать изолированно, а социально-экономические отношения нельзя, и что нормы права всегда определяют социально-экономические отношения. В действительности, однако, между этими двумя областями явлений существует взаимодействие; что же касается научного мышления, то оно одинаково вправе абстрагировать как ту, так и другую область явлений и исследовать каждую из них изолированно. Эти изолированные путем логического процесса совокупности однородных явлений составляют вполне законный объект различных социальных наук. Социальные науки в этом случае идут, как мы указали выше, по тому же пути, который уже давно проложен науками естественными. Итак, признав государство созданием права, мы не должны повторить ошибку Штаммлера и истолковать это определение в том смысле, что право создает и социальноэкономическое основание государства. Последнее всегда дано каждому конкретному государству, и оно, как мы видели, часто даже вторгается и в правовую организацию государства. Но, исследуя изолированную сферу правовых норм, определяющих организацию государства, мы не можем мыслить государство иначе как созданием права. С другой стороны, так как нормы права, регулирующие организацию и деятельность государственных учреждений, являются продуктом сознательной деятельности человека и подлежат совершенствованию, то мы должны будем признать, что они постепенно пересоздают всю социальную жизнь и подчиняют ее тем целям, которые вложены в них. Таким образом, конечный пункт социального развития действительно заключается в том, что вся социальная жизнь определяется и регулируется нормами, сознательно установленными правилами. Мы подошли к чрезвычайно важной особенности предмета науки государственного права, которая предписывает этой науке своеобразные методы. Выше мы установили, что государственное право исследует нормы, определяющие государственный строй и государственные учреждения. Но исследование норм или правил может быть двоякое: или историческое, или догматическое. Историко-юридические исследования интересуются историческим происхождением норм, т.е. устанавливают причинные связи, которые привели к созданию данных норм; и потому они принадлежат к наукам о причинах. Напротив, догматические исследования раскрывают внутренний смысл норм; а раскрыть внутренний смысл норм — это значит определить их значение и целесообразность, т.е. установить их соответствие целям — техническим и этико-культурным. Таким образом, догматическая юриспруденция принадлежит к наукам о целях. Так как государственное право есть догматическая наука, то и оно принадлежит к наукам не о причинах, а о целях. Но задачи государственного права не исчерпываются раскрытием внутреннего смысла норм государственного права и определением их целесообразности — технической и 23 этико-культурной. Государственное право, кроме того, исследует учреждения государственной власти. Последние являются результатом целой системы норм, связанных как бы единой идеей. Для исследования учреждений государственной власти наука государственного права пользуется конструктивным методом. Он заключается в том, чтобы обнять в определении систему норм, создающих данное государственное учреждение, и указать то единство, которое связывает эту систему в одно целое. Мы установили, -что государство есть прежде всего правовой институт, т.е. учреждение, создаваемое и регулируемое правовыми нормами. Но признать созданием права мы можем только современное, конституционное или (как его чрезвычайно метко назвали немецкие государствоведы первой половины прошлого столетия) правовое государство. Этим конституционное государство и отличается от других предшествующих ему типов государства, которые черпали свою силу и находили свое оправдание и в других явлениях, помимо права. Так, античное государство, несмотря на высокую правовую организацию, соединявшую граждан, находилось в прямом противоречии с правовой идеей, так как в нем существовали рабы, и благодаря этому в нем отрицался основной принцип права, по которому всякий человек есть личность и субъект права. Феодально-вотчинное государство, возникшее из завоеваний главным образом в эпоху великого переселения народов, было основано на сложной системе различных форм личной зависимости, связанной с обладанием и пользованием землей. Эта зависимость для крестьян, прикрепленных к земле, принимала форму полного бесправия. При этом бесправии, конечно, феодально-вотчинное государство не могло быть проникнуто правом. Наконец, абсолютно-монархические государства всегда оправдывали свое существование не правом, а теми или иными теократическими идеями. В истории можно указать несколько совершенно различных способов оправдания абсолютной монархии как божественного установления, что объясняется чрезвычайным разнообразием конкретных видов абсолютно-монархических государств, начиная от восточной деспотии и теократии, а оканчивая просвещенной абсолютной монархией. Созданная историческим развитием власть в абсолютных монархиях Нового времени считалась установлением божественного предопределения; абсолютные монархи объявляли себя монархами «Божьей милостью»; поэтому веления, исходившие от них, были снабжены как бы высшей санкцией, а подданные оставались совершенно бесправными по отношению к их власти, а следовательно, и по отношению к государству. Когда мы говорим, что современное государство создается и определяется в своей деятельности правом, то это не значит, что оно возникло благодаря правовым актам. Не подлежит сомнению, что основание большинства современных государств заложено не правовыми, а внеправовыми актами. Так, например, С.-А. Соединенные Штаты, Бельгия, большинство балканских государств — Сербия, Греция, Черногория, Румыния — возникли благодаря войнам за независимость. Французская республика обязана своим существованием ниспровержению монархии путем революции. Также вследствие революции или под угрозой ее абсолютно-монархические государства Центральной и Восточной Европы перешли к формам конституционной монархии. Объединение Италии и создание Болгарского княжества были результатом международных войн. Наконец, Германская империя могла возникнуть тоже только после ряда войн. Но все эти внеправовые действия были не чем иным, как борьбой за право, борьба эта приводила к созданию или новых государств, или нового государственного строя в существующих государствах. В том и другом случае эти новые государственные образования тотчас же получали свое определение в нормах права, выраженных в конституциях. Таким образом, все эти события приводили в конце концов к торжеству права и к господству правовой идеи. Современному государству присуща тенденция претворять и все свои фактические отношения, созданные неправовым путем, как, например, захваты власти или нарушения конституции, в отношения правовые. Наконец, в конституциях современных государств предусмотрены правовые пути и для всех дальнейших государственных преобразований. 24 Тем не менее и для вполне сложившихся современных правовых государств не исключена возможность вторжения внеправовых явлений и сил в их правовые организации. Так, еще и до сих пор свободные нации могут быть подчинены вооруженной силой и лишены независимости. Достаточно вспомнить хотя бы недавние завоевания Англией независимых и свободных республик Трансвааля и Оранжевой реки; вспомним также, что Эльзас и Лотарингия были отторгнуты путем войны от того правового общения с Францией, в котором они находились более полутораста лет, и были присоединены к Германии без опроса населения. Наконец, на наших глазах Босния и Герцеговина присоединяются к Австро-Венгрии, несомненно, вразрез с правосознанием как населения этих провинций, так и всех уважающих международное право людей в Европе. Так же точно и в конституционных государствах происходили революции, нарушавшие правовой строй, и не исключена возможность и в будущем возникновения революционных переворотов. Особенно часто в конституционных монархиях делались попытки восстановления неограниченной монархии, конечно, неправовым путем. С другой стороны, в современных конституционных монархиях иногда возникают антидинастические и антимонархические движения, которые неправовыми средствами стремятся ниспровергнуть монархию, гарантированную конституцией. Еще и в наше время при возникновении политических конфликтов руководители политических партий и общественных движений очень легко переходят при первой возможности к решению этих конфликтов насильственными мерами, вместо того чтобы пользоваться правовыми путями и методами, предоставляемыми конституцией страны. Достаточно вспомнить, что есть общественные течения и целые политические партии, которые провозглашают единственно рациональным способом государственного преобразования и всякого политического прогресса насилие. Но с каждым десятилетием, можно сказать даже, с каждым годом все уменьшается возможность насильственного решения государственных и международных конфликтов и все расширяются способы их правового решения. Мирным способом теперь решаются вопросы, затрагивающие самое существо государства. История последних десятилетий дает замечательные примеры таких решений. Так, в 1863 г. Англия добровольно отказалась от принадлежавших ей прав на Ионические острова в пользу Греции, и эти острова были тогда же присоединены к Греции и увеличили область властвования, следовательно, Англия согласилась на известное умаление своих верховных прав. На наших глазах в 1905 г. произошел до сих пор небывалый в истории факт мирного отделения Норвегии от Швеции; каждая из них была в отдельности государством, но в то же время они были соединены реальной унией, превращавшей их в нечто единое в политическом отношении. Это соединение ощущалось Норвегией как зависимость от Швеции, и она рвалась из тех уз, которые были созданы им. Наконец, это разделение раньше соединенных государств и, следовательно, провозглашение независимости Норвегии осуществилось, и притом оно произошло без всякой войны, чисто договорным путем. В ближайшем будущем, несомненно, предвидится увеличение количества мирного решения самых острых государственных конфликтов. Для международных отношений особенно большое значение имеют в этом случае так называемые международные трактаты, которые связывают государства известными правовыми принципами и заставляют их подчиняться установленным в трактатах правовым нормам. Решающее значение в этом отношении имеет теперь очень часто упоминающаяся конференция в Лондоне в 1871 г., которая признала, что международные трактаты связывают одинаково все договорившиеся государства, и ни одно из них не имеет права самовольно, по собственной инициативе нарушать международные трактаты. Если оно желает внести какое-либо изменение или поправку, то должно снестись с другими контрагентами, подписавшими трактат, и затем уже с общего согласия этот пункт изменить. Вообще можно сказать, что приближается время, когда все вообще государственные конфликты, как внутренние, так и внешние, будут решаться только правовыми путями, только на основе уже действующих правовых норм и 25 посредством выработки новых. Тогда окончательно исчезнут все неправовые насильственные способы решения государственных вопросов, — как революции, захваты власти и тому подобные нарушения прав. Впрочем, и теперь они составляют исключение, а не правило. Таким образом, если право не является вполне исходным пунктом для современного государства, то оно — главная двигательная сила его и конечная цель; оно — заключительная стадия развития государства. Иными словами, признавая государство созданием права, мы считаем право не первоначальной, а финальной причиной государства. Но против признания права господствующей силой в современном государстве могут быть выдвинуты два возражения. С одной стороны, может быть выставлено положение, что высшие органы государства, органы законодательства не подчинены правовым нормам, с другой, — может существовать мнение, что не вся деятельность органов государственной власти, каковы бы ни были эти органы, подчинена правовым нормам, а только известная часть ее. На первое возражение легко натолкнуться, взяв книгу Дайси «Основы государственного права Англии». В ней первая часть озаглавлена: «Верховенство парламента», вторая — «Господство права». В первой части своей книги Дайси рассматривает деятельность высших органов государственной власти — парламента и короля, во второй части — отношения между государством и личностью, или гражданские права. Таким образом, здесь как бы противопоставляется принцип верховенства парламента принципу господства права, как бы ограничивается господство права только той сферой, в которой государство входит в отношения с гражданами и вообще с живущими на его территории, напротив, господство права как бы не распространяется на самую организацию государства, на верховенство парламента. Но принятая Дайси система изложения основных положений государственного права Англии объясняется чисто историческими причинами. Со времен Локка и Монтескье в государственной организации считают необходимым искать известное распределение власти; дальше мы будем видеть, что конституционная теория возникла прежде всего как теория разделения властей. Эта теория влияет и на современную постановку вопроса о существе конституционного или правового государства. Дайси несомненно находится еще под ее влиянием, причем он, однако, не подчиняется ей, а как бы постоянно ее опровергает, он все время в первой части своей книги доказывает, что в Англии верховенство принадлежит парламенту, что под парламентом нужно подразумевать совокупность трех высших органов власти в Англии — короля, палаты лордов и палаты общин, и что, следовательно, верховная власть в Англии едина и никакого разделения властей в английском государственном устройстве нет. Этим объясняется то, что Дайси останавливался, главным образом, на принципе верховенства парламента и выдвинул его на первый план; он только хочет доказать, что единство парламентской власти, ее верховенство в Англии ненарушимы. Но принцип верховенства парламента вовсе не исключает подчинения самого парламента праву. Дальше сам Дайси не только не противопоставляет два принципа, которые он признал основными и определяющими английский конституционный строй, но, напротив, объединяет их. Так, последнюю главу второй части своей книги он посвящает этим обоим принципам: верховенству парламента и господству права. Здесь Дайси прямо утверждает, что «верховенство парламента в том виде, как оно развилось в Англии, поддерживает господство права», но, с другой стороны, и «господство права создает необходимость в применении парламентом его верховной власти». В конце первой части своей книги Дайси приходит к выводу, что каким бы путем мы ни шли, мы возвращаемся все к тому же заключению, что парламентское верховенство поддерживает господство права, и что исключительное преобладание общего права вызывает к деятельности верховную власть парламента и ведет к тому, что «проявления этой верховной власти проникнуты духом законности». Из этих собственных слов Дайси ясно, что он признает несомненное господство права и по отношению к парламенту. Иначе не может быть. Все развитие английских конституционных учреждений в своих 26 столкновениях с королевской властью проникнуто правовыми идеями; английский парламент всегда настаивал на известных принципах английского государственного устройства во имя уважения к праву; все реформы и всякое устранение злоупотреблений в Англии всегда рассматривались как осуществление права. Таким образом, принцип верховенства права в государственных учреждениях унаследован в Англии со времен Средних веков. Еще юристами Средних веков в Англии было высказано положение: поп rex facit legem, sed lex facit regem, т.е. не король создает закон, а закон создает короля. Следовательно, еще тогда признавалось, что даже такой верховный орган как король подчинен закону, что он не может его нарушить, не может сделать неправомерного акта. В современном государственном праве Англии это выражается в принципе: «Король не может быть неправ», король как таковой может только творить добро, может действовать только согласно с правовыми нормами, согласно с правовыми убеждениями своего народа. Дальше мы увидим, какими замечательными учреждениями обставлен современный английский король для того, чтобы этот принцип не нарушался, т.е. для того, чтобы действия короля были всегда согласованы с правом. Во Франции принцип господства права в государственном устройстве особенно энергично был провозглашен великой революцией. При этом и здесь он также прежде всего был выражен в признании, что высший орган государственной власти — король — подчинен закону. Так, в выработанной национальным собранием французской конституции 3 сентября 1791 г., которая была первой конституцией на Европейском континенте, статья 3, секции 1-й, главы 2-й гласит: «Во Франции нет власти выше закона. Король царствует лишь силою закона и только именем закона может требовать повиновения». Таким образом, установление конституционного государства было связано исторически с провозглашением господства права над деятельностью всех органов государственной власти. Правда, в современной науке выдвигают чисто теоретические возражения против того, что над высшей деятельностью государства господствует право. Так, например, Дюги отстаивает положение, что законодательные акты не являются актами юридическими; устанавливая право, они сами не акты права. Но это мнение основано на недоразумении. Дюги видит противоречие в том, что право рождается из правовых же актов. Между тем как здесь нет никакого противоречия, так как законодательные акты основаны на предшествующих правовых актах и совершаются в установленных правовых формах, и потому они также правовые акты. Другое возражение заключается в том, что правовые нормы, определяющие организацию высших органов государственной власти, заключают в себе пробелы, которые не могут быть заполнены правовым способом. Так, Еллинек в своем «Общем учении о государстве» конструирует случай, что во Франции министерство вышло в отставку, срок полномочий палаты депутатов истек, новые выборы еще не назначены, а в это время умирает президент республики; тогда во Франции может не оказаться правовых путей для восстановления самых необходимых высших органов государственной власти. Но если бы такой случай даже и произошел, то народное правосознание французов всегда нашло бы вполне правовой исход из него. Сам Еллинек в другом своем сочинении «Gesetz und Verordnung» останавливается на аналогичном событии из английской конституционной истории, когда король Георг III сошел с ума, а регент не был назначен; тогда обе палаты решили, что приложение печати короля означает согласие короля, и вопрос получил правовое решение. Но наиболее странно, что по поводу таких казусов обыкновенно противопоставляют публичное право частному, так как для решения вопросов частного права есть орган — судья, который так или иначе должен найти решения для каждого случая, хотя бы для него и не оказалось подходящей правовой нормы, между тем как для решения вопросов публичного права такого органа нет. Однако ясно, что таким органом является сам народ со своим живым правосознанием и те органы высшей государственной власти, которые еще продолжают функционировать и через которые это правосознание действует. Ведь несомненно, что правотворческий акт, исходящий из живого народного правосознания и заполняющий пробел в публичном 27 праве, имеет гораздо больше силы и значения, чем правотворческий акт судьи, заполняющий пробел в частном праве. Но есть другое, чрезвычайно важное возражение против признания права господствующим принципом современного государства. Оно заключается в том, что не вся деятельность органов государственной власти осуществляется в исполнении правовых норм, а только известная часть ее; таким образом, известные стороны деятельности различных органов государственной власти подчинены правовым нормам, другие же не подчинены. С этим возражением лучше всего можно познакомиться, изложив взгляды Еллинека на так называемую свободную и связанную деятельность государства. Еллинек утверждает, что «трудно представить себе государство, вся деятельность которого была бы связана правовыми нормами». По его мнению: «С полной достоверностью можно констатировать для всякого государства глубокое различие в осуществлении всех его функций, различие свободной и связанной деятельности. Свободная деятельность определяется только соображениями общего интереса, а не какой-либо специальной правовой нормой, связанная же — та, которая осуществляется во исполнение правовой обязанности». «Этот элемент свободной деятельности, — по словам Еллинека, — существует во всех исторически разделенных материальных функциях; ни одна из них невозможна без этого элемента. Наиболее широкий простор предоставлен свободной деятельности государства в области законодательства, которое по самой своей природе должно пользоваться возможно большей свободой. Но не менее важна она и в области управления, где этот элемент получает название правительства. Государство, правительство которого действовало бы исключительно по указанию закона, было бы политической химерой». Далее Еллинек утверждает, что «управление, осуществляемое исключительно только на основе указаний закона, было бы возможно только в государстве, лишенном правительства, а такое государство есть несоответствующий действительности плод политической метафизики» . Наконец, по мнению Еллинека, не только в законодательстве и в управлении, но и в судебной деятельности есть элемент свободы от правовых норм. «С первого взгляда может показаться, — говорит он, — что элементу свободной деятельности нет места в функциях судьи, существенная задача которого состоит в конкретизации права путем решения отдельного случая. Подобное воззрение, однако, упускает из виду существо психологической деятельности вообще. Если бы отправление правосудия сводилось к механическому применению права, то можно было бы с достоверностью предусмотреть исход всякого правового спора и противоречие между судебными решениями было бы совершенно немыслимо. Но в отправлении правосудия заключается также не определяемый никакими правилами элемент творчества». Во всех приведенных выдержках очень определенно установлен принцип, что существуют известные области деятельности различных органов государственной власти, не подчиненные правовым нормам. Судя по ним, можно думать, что Еллинек под свободной деятельностью подразумевает деятельность, абсолютно свободную от права, деятельность внеправовую и как бы противопоставленную правовой деятельности. Но в действительности это не так. Еллинек мог конструировать свое противопоставление свободной и связанной деятельности только потому, что он чрезвычайно ограничил понятия права и правовой деятельности. Под правом он в данном случае понимает только официально признанное право, а под правовой деятельностью только применение правовых норм, а не их создание. Между тем эти понятия нельзя так ограничивать. Лучше всего в этом можно убедиться, хотя бы анализируя так называемую свободную деятельность судьи. Сам Еллинек говорит, что «только путем судебного выяснения правовая норма может быть развита полностью и познана во всем ее значении. Судья, таким образом, является самостоятельным фактором в развитии права». Итак, под свободной деятельностью судьи Еллинек понимает его деятельность, ведущую к выяснению правовых норм и к развитию этим путем правопорядка. Но эта деятельность, несомненно, тоже правовая. Ее теперь признают правовою даже крайние формалисты в 28 юридической науке, ограничивающие понятие права по преимуществу гражданским правом и не желающие признать правом целых областей публичного права. Правовой характер творческой деятельности судьи гарантируется самой организацией современных судов. Она создает целую лестницу различных судебных инстанций, стоящих одна над другой. Раз стороны не удовлетворены решением, или вопрос очень спорный, или применимость той или другой правовой нормы подвержена сомнению, или же норма совершенно отсутствует, то решение переносится из одной инстанции в другую — высшую. И после рассмотрения вопроса в последней апелляционной инстанции решение может быть отменено высшим кассационным судом, а дело передано для нового рассмотрения по существу другому суду. Таким образом, и при отсутствии или неясности правовой нормы из совокупной деятельности целой системы судебных учреждений вырабатывается новая норма, которая действительно соответствует правосознанию данного общества и находится в согласии с правовым порядком, господствующим в данном государстве. Но и так называемая свободная деятельность в сфере законодательства и управления есть также по существу правовая деятельность. По отношению к актам управления прямо предписывается, что они должны соответствовать законам. Правда, норма закона может быть неясной или даже прямо отсутствовать. Но тогда взаимный контроль высших государственных учреждений способствует тому, чтобы акты управления все-таки соответствовали общему правопорядку, установленному в данном государстве. Если они резко ему противоречат, то орган законодательства всегда может настоять на издании нового закона, исключающего возможность таких актов управления; если же они согласны с существующим правопорядком и только развивают его, то они являются прецедентом, подобным судебному прецеденту, путем которого создается новая норма. Таким образом, так называемая свободная деятельность в сфере управления сводится к тому, что и здесь путем прецедента и обычая создаются новые нормы. Особенно важное значение для выработки новых норм управления путем прецедента имеет административная юстиция. В современных конституционных государствах создаются особые административно-судебные учреждения для решения спорных вопросов, возникших благодаря тем или другим правительственным актам. Судебные решения этих административных судов являются обильным источником нового права. Точно так же и свободные функции главного законодательного органа народного представительства определяются в конце концов правовыми нормами. Нормы эти вырабатываются или регламентом, или парламентскими обычаями. Дальше мы увидим, что регламент и обычай влияют даже на конституцию страны, которая постепенно преобразовывается под влиянием нового права, вырабатывающегося этими путями. Здесь нам важно отметить, что и в сфере законодательства свободная деятельность есть также деятельность, подчиненная правовой идее. Таким образом, то, что Еллинек называет свободной деятельностью органов государственной власти, проявляющейся при выполнении всех функций власти, не есть деятельность, противоречащая праву, могущая быть ему противопоставленной или признанной независимой от права. Напротив, эта деятельность, которая создает новое право, но создает его в особой форме, не в форме нового закона, т.е. принятой и утвержденной законодательным учреждением с соблюдением известных формальностей писанной нормы, а в форме судебных решений, или в форме обычая, т.е. неписанного права. Выше нам пришлось указать, в противоположность мнению Дюги, что правовая деятельность заключается не только в применении права, но и в создании его. Здесь мы должны отметить, что правотворчество в форме создания неписанного права — по преимуществу правовая деятельность, т. к. в этом случае правотворчество путем применения его и само применение известного правила создает право, притом в этом случае создает и применяет право один и тот же орган. Однако существует мнение, что самая существенная сторона законодательной деятельности — установление того или другого содержания для издаваемого закона 29 вполне свободно. Наиболее определенно это мнение выражено нашим государствоведом Н.М. Коркуновым. Он утверждает, что «законодательные перемены не могут быть в своем содержании определяемы законом. Действующий закон может предуказать только форму, порядок издания нового, отменяющего его закона, но никак не может предопределить, в чем он должен заключаться. Поэтому издание новых законов представляется всегда и по необходимости свободным по своему содержанию актом». В этом мнении справедлива только отрицательная предпосылка, что закон не предопределяет и не может предопределить содержания всех будущих законов, но совершенно ошибочен вывод из нее, что содержание это вполне свободно творится. Напротив, органы законодательной власти не могут наполнять издаваемые законы произвольным содержанием; они должны стремиться, чтобы в этих законах выражалось новое право; это новое право не есть продукт их свободного измышления. По вполне верному замечанию проф. А. С. Алексеева, «органы государства, призванные существующим правопорядком к законодательной деятельности, не творят право, а находят его». Они находят его в народном правосознании. В конституционном государстве главным органом законодательства потому и является народное представительство, что признается необходимым, чтобы законодательство соответствовало народному правосознанию. Таким образом, если в абсолютно-монархическом государстве, о котором писал Коркунов, законодатель и может иногда вкладывать произвольное содержание в законы, то в государстве конституционном содержание законов черпается из народного правосознания. Но в таком случае мы не можем считать издание законов свободным по своему содержанию актом, а, наоборот, должны признать его актом, подчиненным правовой идее. Все это заставляет нас признать, что вся деятельность органов государственной власти без всякого исключения и остатка безусловно подчинена праву. Но определение государства как создания права нуждается в разъяснении и в другом отношении. Так как государство, с одной стороны, является созданием права, а с другой — срздает его, то получается процесс самозарождения или парте-ногенезиса государства. Возникает вопрос: какое значение имеет для современного государства его собственное создание — право? Не стоит ли государство над правом? На этот вопрос теоретики государственного права отвечают, указывая на то, что государство самого себя обязывает правом и что оно связано им. Принцип самообязывания или связанности государства правом со всей ясностью поставлен только в Новое время. Хотя в прошлом можно найти некоторые намеки на него, но в общем он отрицался. Так, его отрицают наиболее видные философы права XVII и XVIII столетия, например, Гоббс и Руссо. Оба они одинаково утверждают, что высшая власть в государстве не связана своими собственными решениями. Они настаивают на том, что суверенная власть вполне произвольно может менять свои решения и что принцип связанности суверена своими решениями является недопустимым, потому что, как выражается Гоббс, «как нельзя самого себя одаривать, так нельзя самого себя обязывать»7[1]. Впервые положение о связанности государства своим правом выдвинуто известным юристом половины XIX столетия Иерингом. Но особенно энергично настаивает на этом принципе современный нам государствовед Еллинек. Впрочем, нужно согласиться с проф. Новгородцевым, что «степень разработанности этой теории у Еллинека далеко не соответствует той высокой важности, которую он ей придает». Этим объясняется масса возражений, которые вызывает эта теория в изложении Еллинека. Но более серьезные критики не отрицают самого принципа связанности государства правом; они только иначе обосновывают и объясняют его. Так, проф. 7[1] [Т. Гоббс в трактате «Левиафан» писал: «Суверен государства, будь то один человек или собрание, не подчинен гражданским законам. В самом деле, обладая властью издавать и отменять законы, суверен может, если угодно, освободить себя от подчинения отменой стесняющих его законов и изданием новых, следовательно, он уже заранее свободен. Ибо свободен тот, кто может по желанию стать свободным. Да и не может человек быть обязанным по отношению к самому себе, так как тот, кто может обязать, может и освободить от своей обязанности, и поэтому иметь обязательства только по отношению к самому себе — значит не иметь их» (Гоббс Т. Сочинения в 2-х тт. М., 1991. Т. 2. С. 206).] 30 Новгородцев утверждает, что «для того, чтобы обосновать связанность государства правом, необходимо признать некоторую норму, стоящую над государством. Но совершенно ясно, что такая норма, стоящая над правотворящим государством, сама не может истекать из его воли и входить в состав создаваемого им права. Это может быть только норма нравственная, норма права естественного». И дальше он говорит, что решение этого вопроса заключается в «признании идеи естественного права, стоящей над государством и полагающей границы проявлениям государственной воли. Только таким образом связанность государства правом можно понять как обязанность, вытекающую из принципов, а не как фактическое самоограничение, зависящее от произвола». Так же точно теория Еллинека совершенно не удовлетворяет и французского юриста Дюги. Он полагает, что «государство связано правом, стоящим над ним, и обязано уважать изданные им законы именно потому, что они являются по презумпции выражением этого высшего права, какое бы основание ему ни давать, естественные индивидуальные права или солидарность». Сам Дюги признает, что «закон получает свою обязательную силу не в воле правителей, а в своем соответствии социальной солидарности. Следовательно, он столь же строго обязывает правителей, как и подданных, ибо, подобно последним, правители связаны нормой права, основывающейся на социальной солидарности». Итак, оба названные представителя современного государствоведения — один русский ученый, другой француз — одинаково признают, что современное государство связано правом. Но их не удовлетворяет та постановка этого вопроса, которую дает Еллинек. Оба они утверждают, что государство связано не своим правом, не правом, им самим созданным, а другим правом, стоящим над государством и независимым от правотворческой деятельности государства. Один из этих мыслителей говорит, что это право, стоящее над государством, есть право нравственное, право естественное; другой утверждает, что его не удовлетворяет признание этого права естественным, и он видит основание для него в социальной солидарности. Как же мы посмотрим на этот вопрос? По нашему мнению, в нем нужно различать две совершенно различные стороны — юридическую и философско-правовую. С юридической точки зрения, несомненно, государство связано своим правом. То право, которое государство установило, обязательно не только для граждан и для всех живущих на территории государства, но и для самого государства. Государство не может нарушать норм действующего права и должно этим нормам подчиняться. Оно может только изменить эти нормы, но изменить их оно должно в тех формах, которые предписаны законом и прежде всего конституцией. Пока, однако, оно не изменило данной нормы, она так же обязательна для государства, как и для его граждан, и так же связывает государство, как и граждан. На этом основании государство может являться стороной в гражданском процессе и может быть судимо. Современным правопорядком признается, что по всем имущественно-гражданским делам государство может быть истцом и ответчиком подобно частным лицам; вопрос о праве и неправе решается на основании действующих правовых норм совершенно независимо от того, что государство может потерпеть материальный ущерб, если суд решит не в пользу государства, то государство должно подчиниться судебному решению, так же, как и частное лицо. Такие случаи происходят ежедневно. Это и есть чисто юридическая сторона принципа, на основании которого государство связано своим правом и самообязывает им себя. Но в этом принципе связанности государства правом или в самообязывании его есть и философско-правовая сторона, та сторона, которая неразрешима в пределах юридических принципов и юридических понятий. Государство не только связано действующим правом, но и не может изменять его в произвольном направлении. Оно не может признавать действующим правом известные нормы, не может отменять некоторые законы и издавать другие, уничтожающие уже установленные права. Есть области, запрещенные для него безусловно и бесповоротно. Так, современному правосознанию противоречит, чтобы государство налагало наказания за действия, не предусмотренные уголовным 31 законодательством как преступление. Наказуемы только те действия, которые объявлены уголовным законодательством преступными и за которые уже установлены известные наказания. Далее, государство не может нарушать неотъемлемых и неприкосновенных прав личности. Давая общую характеристику правового или конституционного государства, мы уже выяснили, что современное государство должно провести черту для своей деятельности и признать за личностью известную сферу прав, которых оно ни в каком случае не может нарушать. Наконец, государство связано своим государственным строем и не может изменять его в любом направлении. Конституционная монархия не может возвратиться к абсолютной монархии даже при дарованной конституции. Монарх, даровавший ее, навсегда отказывается от своей абсолютной власти, никогда не может возвратить этой власти. В республиках мы встречаем то же явление, так, во Франции в 1884 г. была издана дополнительная статья конституции, которая устанавливает, что при возбуждении вопроса о пересмотре конституции не может быть предложено изменение республиканской формы правления. Конституции С.-А. Соединенных Штатов и Швейцарской конфедерации устанавливают, что ни одно из государств, входящих в федеративное государство, т.е. ни один штат Северной Америки и ни один кантон Швейцарии не могут отказаться от республиканской формы правления и учредить монархию. Из всего этого ряда примеров видно, что для законодательной деятельности государства, действительно, существуют известные границы, которых нельзя объяснить из действующего права и которые, следовательно, не являются юридическими. Эти границы сам Еллинек очень удачно назвал мета-юридическими по аналогии с метафизическими; они лежат за пределами положительного права, и их основание надо искать в философско-правовых принципах. Но, рассматривая тот же вопрос о связанности государства правом с точки зрения политики права, надо признать, что позитивное или действующее право не может быть достаточным двигателем для всей деятельности государства. С одной стороны, оно не обладает необходимой сдерживающей силой, а с другой — не может удовлетворять нарождающихся потребностей, так как не является творческим началом. Однако именно по отношению к государству, которое непрерывно творит новое право, ограничение понятия права лишь действующим правом, столь важное для цивилистов, не имеет никакого значения. Здесь мы должны брать право в самом широком смысле всей совокупности правовых понятий, господствующих в том или другом народе. Ведь правовые нормы, имеющие свое бытие только в правосознании народа, превращаются в положительные нормы благодаря деятельности органов государства. Для государства правом является, в конце концов, всякое действительно жизненное народное убеждение о должном в правовом отношении. Это живое и активное благодаря народному правосознанию право представляет ту несомненную силу, которая сдерживает государственную власть в известных границах и двигает развитие государства вперед. Под связанностью государства правом и следует подразумевать связанность его не только позитивным правом, т.е. не только тем правом, которое само государство устанавливает своей законодательной деятельностью; но и тем правом, которое живет лишь в сознании народа и еще не получило точного выражения в нормах официального признанного права. В таком понимании принцип самообязывания или связанности государства правом не может вызывать никаких возражений. С ним, в конце концов, несомненно, согласны и оба вышеназванные юриста, которые не удовлетворены тем решением этой проблемы, которое дано Еллинеком. Скажем ли мы о нормах, связывающих государство, что это нормы естественного права, или что это нормы, вытекающие из социальной солидарности, или что это нормы, постулируемые известным уровнем культуры, или же что это нормы, непосредственно отражающие правосознание народа, всегда мы будем признавать, что государство связано в этом случае высшей нормой, нормой, стоящей над государством и не установленной им самим. Все это заставляет нас признать, что современное государство всецело проникнуто правом. Ни один орган государственной власти не может 32 действовать иначе, как осуществляя право, т.е. или согласуясь с действующим правом, или по крайней мере с правом, долженствующим действовать и получить силу. Ни одна функция, ни одна деятельность государственных органов не может противоречить существующему правопорядку. Во всей государственной организации сказывается этот принцип господства права. Глава V. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВА Итак, наука государственного права не изучает социальной и экономической организации народа, а предоставляет эти разряды явлений другим наукам — политической экономии, социологии и социальному учению о государстве. Только правовая организация народа, а не экономическая и социальная, составляет предмет исследования государственного права. Но всякое государство необходимо состоит из трех составных частей: из народа, территории, которую он занимает, и органов власти. Эти три составные части связаны неразрывным единством в государстве как целом. Наука изолирует каждую из этих частей, представляющую и в отдельности конкретную реальность, и подвергает ее самостоятельному исследованию. Составные части государства называются его элементами, а отдел государственного права, который заключает учение о них, известен под именем учения об элементах государства. В различные эпохи различные из этих элементов считались существенными признаками государства. Так, в Средние века основным элементом государства считалась территория, которая завоевывалась, покупалась или получалась в приданое. В абсолютномонархическом государстве государство отождествлялось с властью, правительством или с лицом, которому принадлежала власть. Наиболее типичному в мировой истории неограниченному монарху — Людовику XIV приписываются, как известно, слова: «Государство — это я»8[1]. У нас бюрократическое правительство еще в недавнюю эпоху отождествляло себя с русским государством. Но мы, конечно, изучаем не феодальное и не абсолютно-монархическое государство, а правовое. Правовое государство есть прежде всего организация народа. Народ есть основной элемент всякого правового государства, 8[1] [Это выражение, характеризующее сущность абсолютизма, иногда приписывают и английской короле Елизавете I, но в обоих случаях — без документальных оснований.] 33 одинаково как республики, так и конституционной монархии. Поэтому существенным неотъемлемым признаком правового государства является народное представительство. Тем не менее два остальных элемента всякого государства — территория и власть также необходимо присущи правовому государству. Именно эти элементы способствуют тому, что государство является не бесформенной массой народа, а организованным народом. Государственное право исследует элементы государства не в их конкретной сложности и разнообразии, а только с их правовой стороны. Выше уже достаточно выяснено, что только правовая организация народа составляет область науки государственного права. Для государственного права народ есть предмет исследования как субъект и объект публичного права, как совокупность целого ряда публично-правовых отношений. Так же точно территория имеет значение для государственного права не как известная часть земли, обладающая теми или иными свойствами, с этой точки зрения территория изучается в физической и политической географии. Далее, государственное право интересуется территорией не как почвой для приложения земледельческого и промышленного труда, с этой точки зрения территория изучается политической экономией и коммерческой географией. Для государственного права территория представляет интерес только как почва государственно-правовых отношений, образующих государство, или только как часть государственно-правовой организации. Прежде всего для государственного права важно то государственно-правовое отношение, которое существует между государством и его территорией. Наконец, третья составная часть государства — органы государственной власти и их функции — есть элемент, по преимуществу присвоенный государству. В образовании и деятельности государственных учреждений или органов государственной власти, несомненно, особенно сказывается господство правовых норм. Поэтому, казалось бы, государственная власть и ее органы составляют исключительную сферу государственного права. Но несмотря на это, именно в этой области труднее всего точно отмежевать границы науки государственного права. Объясняется это чрезвычайной сложностью и трудностью правильной постановки и решения проблемы власти. Прежде всего власть есть, несомненно, по преимуществу государственное явление. Самостоятельной и непроизводной властью обладает только государство. Ввиду этого проблема власти во всем ее объеме имеет непосредственное отношение к государственному праву. Но в то же время не подлежит сомнению, что государственная власть первоначально создается не правовыми нормами, а вырастает благодаря экономическим, социальным и истори-кополитическим условиям. Такие факты как завоевания, как разного рода насилия, основанные на экономическом и всяком другом превосходстве, играли первостепенную роль в развитии власти, как и вообще в развитии государства. Должна ли, однако, наука государственного права исследовать все эти факты, касающиеся развития государственного права? Очевидно, нет; изучение этих фактов есть дело истории политических учреждений, социологии и социального учения о государстве. Напротив, наука государственного права изучает не то, как развивалась власть, а то, чем она является в современном правовом или конституционном государстве. Но в современном конституционном государстве власть утрачивает свой первоначальный насильственный характер и приобретает характер правовой. Как ее организация, так и ее деятельность в современном государстве должны соответствовать правосознанию народа. Даже для развития форм государственной власти в современных государствах установлены правовые нормы, выраженные в тех статьях конституции, которые определяют способы их изменений. Поэтому лежащие вне области права насильственные изменения форм государственной власти в современных государствах составляют исключение. Притом как сохранение уже существующей власти, так и всякое изменение ее в современном государстве бывает прочным и устойчивым только тогда, когда оно находит свое оправдание в народном правосознании. В современном государстве власть уже давно перестала быть голым фактом господства, основанным на силе власть имущих. Для своего 34 прочного существования власть нуждается прежде всего в своем оправдании. Признав все это, тем не менее приходится при исследовании проблемы власти вторгаться в сферу чуждых государственному праву явлений. К этому принуждают, как мы увидим ниже, теории некоторых представителей науки государственного права, которые видят в государственной власти по-прежнему лишь факт господства, а не правовое явление. Теперь, когда мы выяснили себе, из каких элементов состоит государство, мы можем дать и определение понятия государства. Логически правильное определение должно не только заключать в себе все элементы, из которых состоит определяемый предмет, но и давать синтез их, т.е. представлять их в необходимом единстве. Следуя этим основным требованиям логики, мы должны признать, что государство есть правовая организация оседлого на известной территории на рода, находящая свое завершение в органах государственной власти. Это определение, вырабатываемое государственным правом, не включает общественных явлений в строгом смысле слова. Оно выделяет их в особую группу, предполагая, что общество, или народ, как экономически и социально организованное целое составляет лишь субстрат или материальную основу государства в привозом смысле. Но мы могли бы поставить себе задачу дать такое определение государства, которое включало бы и социальную организацию народа. С этой точки зрения, государство есть оседлый на определенной территории народ, объединенный известной степенью социальной солидарности и обладающий организованной властью. Второе определение не противоречит первому и не исключает его, оно только шире его. Общая теория государства, стремящаяся объединить социальное и правовое учения о государстве, должна пользоваться последним определением. Глава VI. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ Власть является основным признаком государства. Только государство обладает всей полнотой власти и располагает всеми ее формами. Все остальные социальные организации обладают лишь частичной властью или какой-нибудь одной из ее форм. Притом власть всех остальных социальных организаций нуждается для своего осуществления в санкции со стороны государственной власти. Так, власть родителей над детьми возникает в силу физиологических причин раньше государственной власти и существует как бы независимо от нее. Но в современных цивилизованных государствах она, с одной стороны, ограничивается государственной властью, а с другой, охраняется ею. Ограничения родительской власти со стороны государства заключаются в том, что государство требует, чтобы родительская власть была направлена на разумные цели: на физическое, умственное и нравственное воспитание детей, на их рост и развитие, а не на истязание, развращение и калечение детей. Государство ограничивает родительскую власть также известными возрастными пределами; по достижении детьми совершеннолетия родительская власть прекращается. С другой стороны, государство охраняет родительскую власть, не допуская постороннего вмешательства в ее разумные проявления. Возникающая в других видах социальных организаций власть еще больше находится в зависимости от государственной власти. Не подлежит, например, сомнению, что у хозяина или заведующего каким-нибудь промышленным заведением — мастерской, фабрикой, заводом или торговым предприятием есть некоторая власть над служащими в этих заведениях. Но эта власть основана исключительно на договорах, а выполнение договоров гарантируется государственной властью; в частности, в случае возникновения спора из-за отказа подчиняться требованиям работодателя суд должен решить, был ли заключен договор, действителен ли он, и входит ли в число обязательств, установленных договором, выполнение тех или других распоряжений хозяина или заведующего 35 заведением. Государство создает также известные ограничительные условия для заключаемых договоров; так, все договоры должны заключаться на известный срок и не могут устанавливать бессрочных обязательств; затем обусловленные договорами действия не должны противоречить нравственности, гигиене и социальным интересам; особенно значительны ограничения договоров, создаваемые новейшим социальным законодательством в интересах всего общества. Все это показывает, что границы и формы власти работодателя над рабочими всецело зависят от государства, если не считать нравственного авторитета работодателя, который очень часто даже совсем отсутствует, и если отвлечься от общей экономической зависимости человека, живущего исключительно своим трудом, так как эта зависимость непосредственно не является зависимостью одного лица от другого. То же самое надо сказать и относительно всяких частных товариществ, организаций и союзов. Подчинение отдельных членов решениям их большинства всецело зависит от вперед выраженного добровольного согласия на это, например, путем принятия устава. Если какая-нибудь частная организация налагает на своих членов некоторые наказания, например, денежные штрафы и иски, то они имеют значение лишь ввиду заранее принятого на себя со стороны членов обязательства их нести и уплачивать. Но в случае отказа членов организации подчиниться ее постановлениям у нее нет прямых средств вынудить это подчинение. Промышленные товарищества, основанные на формальных договорах, могут обратиться к суду, т.е. опереться на силу государственной власти; однако и государство оказывает им поддержку только в тех пределах, в каких оно вообще охраняет договоры; во всяком случае оно предоставляет каждому члену любого товарищества право во всякое время из него выйти и навсегда порвать с ним связь при соблюдении известных условий. Общества, организации и союзы, преследующие идеальные цели, принятие устава которых не влечет для их членов формальноюридических последствий и не создает обязательств, подобных основанным на договоре, не могут даже обращаться к судам для того, чтобы заставлять своих членов выполнять свои постановления. Поэтому единственная репрессия, которая находится в распоряжении частноправовых организаций этого типа, не могущих воспользоваться государственной властью, заключается в том, что они могут подвергать своих членов исключению. Конечно, исключение из среды, например исключение из товарищеской среды, бывает иногда очень чувствительно для лица, подвергшегося такой каре. В качестве угрозы исключение может оказывать настолько сильное воздействие, что оно создает для организации известный престиж или авторитет власти. Но это лишь одна из форм власти, именно власть психического воздействия или нравственного авторитета. Власть государства гораздо более полна и многостороння. Однако есть известные публично-правовые организации, которые не являются государствами и в то же время обладают некоторой сходной с ними властью. Известная доля власти присвоена так называемым автономным организациям, например, самоуправляющимся городским и земским обществам, церквям и другим религиозным общинам, поскольку они организованы в публично-правовые корпорации; присуща она также и автономным университетам. Отличительная черта этих организаций заключается в том, что к ним обязательно принадлежат все лица известной категории; так, например, земства и городские общества включают в себя всех лиц, живущих на их территории; в известную религиозную общину, организованную в публично-правовую корпорацию, входят обязательно все ее единоверцы. Эти организации имеют право принудительно облагать всех своих членов установленными ими налогами. Они могут также, не прибегая к содействию судов, чисто экзекуционным путем заставлять принадлежащих к ним лиц выполнять свои постановления. Такие постановления часто имеют даже характер законов, и только в видах терминологического удобства они называются не законами, а обязательными постановлениями. Все это — черты, по преимуществу свойственные государственной власти. Однако все эти публично-правовые организации применяют не свою власть, а власть государства; они обладают властью лишь постольку, поскольку 36 государство наделяет их ею; помимо государства они никакой властью не располагают. Государство отличается от этих публично-правовых союзов тем, что оно ни от кого не заимствует своей власти; оно обладает своей собственной властью, которая не только возникает в нем самом, но и поддерживается и ограничивается его собственными средствами. Итак, государство есть правовая организация народа, обладающая во всей полноте своею собственной, самостоятельной и ни от кого не заимствованной властью. Значение власти для государства громадно. Вот почему известный немецкий юрист, основатель юридической школы государственного права, Гербер, мог утверждать, что «государственное право есть учение о государственной власти». Признак властвования или элемент власти свойствен не только какой-нибудь определенной форме государственного устройства, не какому-нибудь одному типу государства; он присущ всем типам государства. Относительно того, что признак властвования присущ абюсолютно-монархическому и деспотическому государству, не может возникать никакого сомнения. Абсолютно-монархическое государство страдает не от отсутствия элемента властвования, а от излишка его. В нем все сводится к властвованию, повиновению и требованию беспрекословного подчинения. Сплошь и рядом в нем преследуются только интересы власти и совершенно игнорируются интересы подданных. Получается уродливая гипертрофия властвования. Самую власть в абсолютномонархическом государстве часто смешивают с органом власти; таким образом, понятие власти заменяется в абсолютной монархии понятием начальство. На этой почве уродливой гипертрофии власти и создаются все особенности, которые придают обыкновенно абсолютной монархии характер полицейского государства. В противоположность абсолютно-монархическому государству в конституционном государстве власть приобретает правовой характер. Давая общую характеристику правового государства, мы уже указали на то, что основной признак этого государства заключается в том, что в нем власти положены известные границы, что она ограничена и подзаконна. Кроме того, в правовом государстве как органы власти, так и сам правовой порядок организуется при помощи самого народа. Таким образом, правовому государству тоже необходимо присуща государственная власть, но эта власть введена в известные рамки и носит строго правовой характер. Но нужна ли власть в социалистическом государстве? Может быть, социалистическое государство могло бы обойтись без власти? Вдумавшись в этот вопрос, мы должны будем ответить, что социалистическое государство неосуществимо без власти. Прежде всего, для переходного периода от правового государства к социалистическому социалисты обыкновенно требуют диктатуры народа или пролетариата; в этом требовании социалисты более или менее единодушны. Мы оставляем в стороне вопрос, насколько целесообразно это требование и насколько его можно оправдать с точки зрения непрерывного развития и последовательного осуществления правового порядка, для нас важно то, что диктатура является не только властью, но властью с усиленными полномочиями — потенцированной, приближающейся к абсолютной власти. Может быть, однако, социалистам нужна власть для временного и переходного состояния; ведь диктатуру пролетариата они требуют только в случае надобности и только как временную меру. Но и в будущем, когда предполагается окончательное упрочение социалистического строя, его сторонники вовсе не отказываются от государственной организации и власти как таковой; они и не могли бы отказаться от нее. Социалистический строй предполагает колоссальное развитие промышленности, организация и заведование которой должны находиться в руках не отдельных частных лиц, как теперь, а в руках всего общества. Для этой организации и заведования этим колоссальным механизмом потребуется выработка новых правил, новых норм и, следовательно, установление известной организованной власти, которая гарантировала бы исполнение этих правил или норм. Таким образом, государственная власть в социалистическом обществе не только будет существовать, но ее 37 компетенции будут распространены на новые сферы, на которые теперь компетенции государственной власти не распространяются. В социалистическом обществе компетенции власти будут распространены и на всю промышленность и хозяйственную деятельность страны. Все те сферы, которые в современном правовом государстве составляют область частноправовых отношений, в социалистическом обществе превратятся в область публично-правовых отношений, регулируемых государством и государственной властью. На этом расширении компетенции государственной власти в социалистическом обществе настаивает и Антон Менгер в своем «Новом учении о государстве». Правда, один из видных теоретиков социализма — Энгельс — в одной из своих работ выставляет положение, что в социалистическом государстве господство над людьми заменится господством над вещами9[1]. Но если принять во внимание, что эти вещи, на которые в социалистическом государстве распространится власть государства, суть фабрики, заводы, средства сообщения, требующие громадного количества людей, работающих в них и исполняющих известные функции, то надо признать, что в этом государстве будут необходимы не только технические правила для господства над вещами, но и такие нормы, которые обязывали бы и людей. Поэтому мнение Энгельса, что здесь власть будет больше распространяться на неодушевленные предметы, чем на людей, нельзя понимать вполне буквально. Конечно, в социалистическом государстве власть примет другой характер и ее формы будут ослаблены и прежде всего будут ослаблены формы репрессии и принуждения. Но уже и в современном правовом государстве происходит эволюция власти в направлении ослабления форм репрессии и принуждения. Об этом свидетельствует хотя бы такой институт современного государства как условное осуждение. При условном осуждении устанавливается только вина известного лица, но из признания, что лицо совершило определенное преступное деяние, и осуждения его не следует еще наказание. Наказание назначается только условно, только если данное лицо снова совершит преступление, то тогда оно несет наказание не только за новое, но и за старое преступление, за которое было осуждено раньше условно. Таким образом, условное осуждение заключается главным образом в психическом и нравственном воздействии на осужденного. Напротив, физическое воздействие в условном осуждении временно отсутствует. Конечно, для того, чтобы условное осуждение производило свое действие, необходимы известный культурный уровень и известная чувствительность к порицанию, выраженному в осуждении. При дальнейшем росте культуры эта чувствительность несомненно будет возрастать. Если теперь возможна только очень скромная форма применения условного осуждения, то при более высокой культуре эта кара общественного порицания может получить гораздо большее распространение. Таким образом, в социалистическом государстве репрессия будет несомненно еще более ослаблена, чем в государстве конституционном и правовом. Но здесь будет только относительное различие между правовым и социалистическим государствами: как бы то ни было, власть как таковая и необходимое дополнение ее, известные репрессии, ни в коем случае не исчезнут совсем в социалистическом государстве. В этом отношении прямую противоположность социалистическому государству, как и вообще всякому государству, составляет анархия. Мы здесь имеем в виду теорию анархизма, а не состояние анархии или анархию в обыденном житейском смысле. Состояние анархии предполагает существование государственного и правового порядка, который утратил свою силу и фактически упразднен, почему оно и характеризуется, с одной стороны, грабежами, убийствами и всякими беспорядками, а с другой — исключительным и военным положением, военно-полевыми судами и другими чрезвычайными правительственными мерами. Напротив, теория анархизма есть учение об известном принципиально безгосударственном устройстве общественной жизни. Сторонники анархического строя проповедуют полное уничтожение как государства, так и власти. Они утверждают, что организация власти совершенно не нужна для общества, 9[1] [См. прим. 9 к третьему отделу «Социальных наук и права».] 38 что без власти отдельные общины и союзы их не только могут существовать, но будут даже больше процветать, чем при социалистическом строе. Однако чрезвычайно трудно себе представить, как при невероятной сложности современных экономических отношений, при сосредоточенности громадных масс людей в одном месте, например, в больших городах и промышленных центрах, может существовать общество без общих правил или норм, которые должны быть обязательны для всех и которым все должны подчиняться. А где есть нормы и обязанность подчинения им, там должна существовать и власть, гарантирующая исполнение их; вместе с тем там должны существовать известные репрессивные меры, посредством которых выполнение этих норм действительно бы осуществлялось. В самом деле, предположим даже, что в анархическом строе при коммунистических имущественных отношениях совершенно исчезнут преступления против собственности и, таким образом, та масса репрессий, которая применяется в современном государстве против нарушителей прав собственности, сама собой отпадет; но и в анархическом строе преступления против личности, несомненно, останутся. Ведь во всяком обществе всегда будет существовать известное количество индивидуумов, лишенных всяких сдерживающих центров. И в анархическом обществе всегда найдутся насильники над женщинами, найдутся люди, которые будут убивать из ревности соперников или в запальчивости и раздражении калечить и лишать жизни других людей, и которые вообще не будут уважать чужой личности. Что же делать в анархическом обществе с этими индивидуумами? Просто предоставить им бродить по свету и совершать убийства и насилия над людьми — нельзя. Конечно, и в современном обществе часто оправдывают убийц случайных и непреднамеренных, но все-таки их судят, и сам этот суд уже есть известное наказание, хотя бы он и заканчивался иногда оправдательным приговором. Но в случае отягчающих вину обстоятельств даже непреднамеренные убийцы в современном обществе караются довольно строго и получают свое возмездие. Нужно предположить, что и в анархическом обществе придется как-нибудь расправляться с убийцами. Для этого нужна будет организованная власть, а следовательно, нужно будет и государство. Чрезвычайно легко рассуждать, что в анархическом обществе все отношения нужно пересоздать на товарищеских началах, что все будут относиться друг к другу по-товарищески. Но действительно пересоздать общество и построить его на анархических началах без государства и без власти совершенно невозможно, так как громадные массы людей не могут создавать между собою только товарищеские отношения. Анархическое общество — это идеал Царства Божьего на земле, который осуществится только тогда, когда все люди станут святыми. Переходя к теориям анархизма, надо прежде всего отметить, что анархизм не представляет из себя единого и цельного учения. Систематичность противоречит самой сущности анархизма. Он по преимуществу является учением индивидуумов, личностей и отдельных групп. Единственное, что обще для всех анархистов, это безусловное отрицание государства и власти. Но это отрицание вовсе не одинаково. Если мы будем классифицировать различные учения анархистов, то прежде всего мы столкнемся с ходячей классификацией анархизма по тому социальному строю, который они отстаивают, именно по их отношению к социализму. Их классифицируют на анархистовиндивидуалистов и анархистов-коммунистов. Но нас здесь интересует не отношение анархистов к социальному и экономическому строю, для нас важно их отношение к государству и власти. С этой точки зрения, анархистов можно разбить на две группы: на анархистов-аморфистов, отстаивающих аморфные формы общества, и анархистовфедералистов, или, вернее, конфедерали-стов, отстаивающих конфедеративные формы общества. Что касается аморфных анархистов, то это или религиозные анархисты, как, например, гусит П. Хельчиц-кий, а в настоящее время у нас Лев Толстой, или философыиндивидуалисты, стоящие на крайней индивидуалистической точке зрения, как, например, Макс Штир-нер. Анархисты-аморфисты никогда не ставят конкретного вопроса, как же будет выглядеть то общество, которое будет абсолютно лишено всякой внешней 39 организации. Это люди, которые настолько погружены в известные духовные свойства человека и заняты индивидуальными чертами человека, что им некогда подумать об обществе. Таковы, например, Хельчицкий и Толстой; им важна проповедь самосовершенствования, и они думают, что если люди усвоят их проповедь и если каждый человек будет стремиться достичь высшего духовного развития, то тогда сам собою водворится мир на земле. То же можно сказать и о таком анархисте как Макс Штирнер, который решил, что все можно построить на эгоизме, на безусловном утверждении своего «я», своей личности, что это лучшая основа для этической и социальной системы, при которой только и возможно рациональное построение человеческой жизни. Но как человечество будет жить при отсутствии какой бы то ни было организации — этим вопросом Макс Штирнер совсем не занимается. Противоположность анархистам этого типа составляют анархисты-конфедералисты, или федералисты. К этому типу анархистов относятся: Прудон, Бакунин, Кропоткин. Но если мы всмотримся в их учение и сведем их к одному, то убедимся, что эти мыслители относятся чрезвычайно отрицательно главным образом к современным формам общественного и государственного быта. Правда, они проповедуют революцию, переворот, ниспровержение не только существующих форм государства и общества, но и всяких форм государственного существования. Но это до тех пор, пока они занимаются отрицанием, когда же они приходят к положительному построению своих идей, то они в конце концов признают своеобразную организацию общин, связанных федеративным строем. Эту организацию они основывают на договорных началах, а в таком случае в анархическом обществе должна быть признана святость договоров. Такие договоры заменят законы подобно тому, как, по мнению известного юриста А. Меркеля, уже в современном международном общении договоры имеют значение законов. Следовательно, подобная анархическая организация под видом договоров будет устанавливать нечто вроде современных правовых норм и, вероятно, будет обладать тем, что мы теперь имеем в форме власти. Если и в смягченном виде, идея власти несомненно будет присуща такой организации. Таким образом, мы видим на учении анархистов, что их теории часто не совпадают с их намерениями. Они стремятся отрицать государство и власть во что бы то ни стало, а при решении конкретного и положительного вопроса, как же организовать общество, они или не дают никакого ответа, или же из их ответа нужно заключить, что они в конце концов признают известные формы общественного регулирования совместной жизни, похожие на правовые нормы и государственное властвование. Все это указывает на громадное значение проблемы власти. Ни одно общество не может существовать без власти, и прежде всего в ней нуждается государство. Для государства это неотъемлемый элемент, который отличает его от всех других общественных организаций. Несмотря на эту исключительную важность проблемы власти для полного понимания государственных явлений, в литературе государственного права мы наталкиваемся на чрезвычайную бедность разработки ее. Особенно неудовлетворительно поставлено решение вопроса о государственной власти во французской литературе. Во Франции благодаря Бодену еще в XVI столетии был вполне определенно поставлен вопрос о суверенитете или верховной власти монарха. Тогда это был боевой вопрос, так как королевская власть вела борьбу, с одной стороны, с притязанием папы, а с другой — с своеволием феодалов, продолжавших настаивать лишь на своей формальной зависимости от сюзерена и не желавших покориться власти короля. В XVII столетии этот вопрос был решен в конце концов теоретически и практически в пользу суверенитета монарха, что и нашло себе выражение в водворении политического абсолютизма во Франции. Но в XVIII столетии абсолютный монарх остался во Франции единой силой, господствующей в государстве. Никто не оспаривал прав монарха в французском королевстве на полное обладание высшей властью, но именно тут и была противопоставлена власти монарха или короля власть народа. Французские мыслители, работавшие над той же проблемой, пришли от идеи суверенитета короля к идее 40 суверенитета народа. Известно, что Руссо безусловно отвергал суверенитет одного лица и доказывал, что суверенитет, или верховная власть, по существу своему должна принадлежать нации. Он утверждал, что суверенитет может заключаться только в общей воле народа. Тогда же, в XVIII столетии, Монтескье заимствовал из Англии идею разделения властей, на основании которой в каждом нормально организованном государстве должно существовать три власти. Затем вся работа мысли, как французских теоретиков, так и практических деятелей, особенно в эпоху великой революции, была направлена на примирение и согласование этих двух идей. Эти две идеи — идея национального суверенитета и идея существования трех обособленных властей и до сих пор господствуют над большинством государственно-правовых теорий во Франции. Так, например, Эсмен в своих «Основных началах государственного права» оперирует исключительно с этими двумя идеями. Как ни странно, во Франции совершенно не выработано общее понятие о государственной власти. Мы потом увидим, насколько противоречивы обе эти идеи, насколько они не могут быть согласованы. Теперь укажем на то, что эти обе идеи — и идея народного суверенитета, и идея разделения властей — не затрагивают самой сущности власти, самой проблемы, что такое власть. Франция так далека от решения и постановки этой проблемы, что не выработала даже на своем языке термина «государственная власть» или «Staatsgevalt», как говорят немцы. Выражение «puissance politique», которое особенно часто употребляют теперь для замены термина «государственная власть», значит нечто другое и не вполне ему соответствует. Последствия этой невыработанности понятий особенно резко сказываются у новейших теоретиков государственного права во Франции. Так, Дюги, основательно изучивший немецкую литературу государственного права, относится с критикой к французским теориям разделения властей и народного суверенитета. Он признает лишь относительное историческое значение их, но отрицает их правильность и требует более общего и всеобъемлющего определения государственной власти. Однако те определения, которые он дает, сами крайне неудовлетворительны. Так, государство он определяет как «всякое общество, в котором существует политическая дифференциация между правящими и управляемыми, одним словом, политическая власть». По его мнению, «политическая власть есть факт, чуждый какой бы то ни было законности или незаконности». «Правящими всегда были, есть и будут наиболее сильные фактически». Таким образом, Дюги сводит всякую власть к личному господству правителей над управляемыми. Он не видит в организации власти идейного фактора, создаваемого правовыми нормами, и считает, что даже в современном государстве власть принадлежит тому, у кого сила и кто умеет пользоваться ею. Тем не менее со свойственной ему непоследовательностью он требует, чтобы власть, основанная на силе, осуществляла право. Так, он говорит: «государство основано на силе, но эта сила законна только тогда, когда она применяется согласно праву». «Политическая власть есть сила, отданная на служение праву». Эта теория совершенно не отражает действительную организацию власти в современном правовом государстве. Наиболее характерные черты современной государственной власти заставляют прямо противопоставлять ее личному господству. Теоретики государственного права различным образом определяют это свойство ее. Так, Еллинек считает нужным энергично настаивать на том, что в современном государстве власть принадлежит не правителям и не правительству, а самому государству. Наш русский ученый проф. А. С. Алексеев очень удачно формулировал и обосновал положение, на основании которого современное государство есть организация не личного, а общественного господства. Если же рассматривать государство как организацию, основанную на господстве права, то наиболее типичным признаком власти надо признать ее безличность. В современном правовом государстве господствуют не лица, а общие правила или правовые нормы. Лица, обладающие властью, подчинены этим нормам одинаково с лицами, не имеющими власти. Они являются исполнителями предписаний, заключающихся в этих нормах или правилах. Эта безличность и абстрактность власти и есть самая характерная черта современного 41 правового или конституционного государства. В литературе на это свойство государственной власти указал Краббе в своей книге «Учение о суверенитете права» (Krabbe, Die Lehre der Rechtssuverenitat). Безличность современной власти отражается даже в официальной терминологии, принятой в некоторых государствах для высших законодательных и правительственных актов. Так, во Франции со времени революции установлены две формулы для повелений государственной власти; они издаются или «во имя закона», или «во имя народа». В Германской империи 11 и 17 статьи конституции устанавливают, что император ведет международные сношения, вступает в союзы и другие договоры, объявляет войну и заключает мир, а также издает все распоряжения и приказы не от своего имени, а «от имени государства (империи)» или «во имя государства (империи)», «in Namen des Reiches». Но если французские теории власти неудовлетворительны, то нельзя также признать, что немецкие государствоведы вполне правильно решают этот вопрос. В немецкой науке государственного права с шестидесятых годов XIX столетия приобрело преобладающее положение юридическое направление. Представители его обращают внимание исключительно на формальную юридическую сторону власти. Однако если современная власть есть по преимуществу государственное явление и потому она имеет свое правовое определение, то не подлежит сомнению, что первоначально власть создается и вырастает благодаря экономическим, социальным и историко-политическим причинам. Происхождение современной государственной власти часто бросает тень и на ее существо. Поэтому некоторые немецкие теоретики государственного права не признают власть правовым явлением. Наиболее определенно на этой точке зрения стоит Аффольтер. Он утверждает, что «власть или господство не есть правовое или юридическое понятие, но просто естественное явление, как следствие организации». Поэтому, по его мнению, «рассмотрение понятия власти или господства в государственном праве составляет ошибку, вызывающую много невыгодных последствий». Подобные идеи проскальзывают и у тех государственников, которых причисляют к реалистической школе и которые настаивают на том, что государство основано на факте властвования. Так, М. Зейдель считает, что власть есть только факт господства над государством — факт, из которого лишь возникает право. У нас к этому направлению можно отчасти причислить проф. В.В. Ивановского. С его точки зрения, «власть господствует не по собственному праву, но по собственной силе. Никто сам для себя право создать не может. Права всегда устанавливаются кем-либо для других». «Для самой государственной власти право юридически необязательно; здесь можно говорить только об обязанности нравственной». Но большинство современных немецких государственников признает власть правовым явлением и стремится дать ей определение с формально-юридической точки зрения. С этой точки зрения вопрос решается просто. По своим формальным признакам власть есть способность приказывать и заставлять выполнять свои приказания. По выражению Еллинека, «властвовать значит отдавать безусловные приказания». Всякое приказание есть выражение воли, и современные государствоведы видят у государства волю, которая проявляется в приказаниях, заключающихся в законодательных и правительственных актах. Но будучи довольно единодушны в признании государственной власти проявлением воли, современные немецкие государствоведы очень расходятся в определениях этой воли. При решении вопроса, какая это воля и кому она принадлежит, резко расходятся две школы— реалистов и идеалистов. Самый видный представитель реалистического направления М. Зейдель утверждает, что «государство ни в каком случае не есть господствующая воля; оно и не обладает господствующей волей. Абстракция "государство" не может хотеть (wollen, а не wunschen), а только конкретное государство может подлежать господству». «Господствующая воля находится над государством, и подчиненность ей придает стране и людям государственный характер». «Таким образом, господствующая воля есть всегда воля над государством, а не воля государства». Из этих определений ясно, что Зейдель отождествляет волю государства с волей правителя или 42 государя. Одинаковых с ним воззрений на этот вопрос придерживаются Линг и Борнгак; но они ставят господствующую волю не над государством, а вдвигают ее в государство. А в таком случае им справедливо ставят в упрек отождествление государства с правительством или государем. Напротив, представители идеалистического направления приписывают волю, заключающуюся в государственной власти, самому государству. Так, Гербер считает, что «государственная власть есть волевая сила персонифицированного нравственного организма. Она не есть искусственное и механическое объединение многих единичных воль, а нравственная совокупная сила сознательного народа». Иначе говоря, «государственная власть есть общая воля народа как этического целого для целей государства, в средствах и формах государства». Эта теория государственной власти как воли государства получила наиболее полное развитие в трудах Лабанда и особенно Еллинека. Еллинек настаивал на этом значении государственной власти во всех своих основных сочинениях, начиная с более ранних из них, как, например, «Учение о государственных соединениях» (Die Lehre von den Staatenverbindungen) и «Закон и распоряжение» (Gesetz und Verordnung). В этом последнем сочинении он определяет государство как «объединенную полновластной волей господствующую организацию оседлого народа». Эта же идея проведена в качестве основного построения через все его «Общее учение о государстве». Здесь он утверждает, что «организация возможна лишь в силу общепризнанных положений о юридическом образовании единой воли, объединяющей множество в единое целое». По его мнению, «всякое состоящее из людей целевое единство нуждается в руководстве единою волею. Волю, имеющую попечение об общих целях союза, повелевающую и руководящую исполнением ее велений, представляет союзная власть». Таким образом, волевая теория власти является наиболее распространенной в немецкой науке государственного права и отстаивается самыми видными представителями ее. Но она далеко не признана бесспорной. В высшей степени интересную, оригинальную и меткую критику этой теории дал наш ученый, покойный профессор государственного права в С.-Петербургском университете Н. М. Коркунов. В своем курсе «Русского государственного права» он приходит к выводу, что «власть — это только условное выражение для обозначения причины явлений государственного властвования. Что такое власть, это можно вывести только выяснением общих свойств этих явлений, и наукой может быть принята только гипотеза, объясняющая все разнообразие явлений властвования. Волевая теория не удовлетворяет этому основному условию. Она не дает объяснения всех явлений государственного властвования, с некоторыми из них она находится в прямом противоречии, и потому она должна быть отвергнута». «И не всякая воля властвует. Воля бывает бессильная, безвластная. Власть приходит к воле извне, придается ей чем-то другим, в самой воле не заключающимся. Воля стремится к власти, получает и теряет ее. Власть не воля, а объект воли». «Таким образом, понятие власти ни в чем не совпадает с понятием воли». Отвергнув волевую теорию власти, Коркунов затем доказывает, что «властвование не предполагает непременно властвующую волю. Властвование предполагает вообще сознание не со стороны властвующего, а только со стороны подвластного. Все, от чего человек сознает себя зависимым, властвует над ним, все равно, имеет ли или даже может ли иметь волю, мало того, независимо от того, существует ли это властвующее или нет. Для властвования требуется только сознание зависимости, а не реальность ее. Если так, власть есть сила, обусловленная сознанием зависимости подвластного. При таком понимании власти нет надобности олицетворять государство, наделять его волей. Если власть — сила, обусловленная сознанием зависимости подвластного, государство может властвовать, не обладая ни волею, ни сознанием, лишь бы люди, его составляющие, сознавали себя зависимыми от него». Таким образом, Коркунов видит сущность властвования не в самой государственной власти, а в подданных и их подчинении этой власти. Но несмотря на кажущуюся проницательность и 43 правильность как критики Коркунова, направленной против волевой теории, так и его собственных взглядов на власть, они основаны на грубой методологической ошибке и потому по существу неверны. Коркунов, не отдавая себе в этом отчета, переносит спор в совсем другую плоскость. Немецкие юристы исследуют специально государственную власть и стремятся дать юридическое определение ее. Коркунов же возбуждает вопрос о сущности властвования вообще. Не подлежит сомнению, что если поставить общий вопрос о сущности власти, то придется признать, что причина властвования заключается не столько в повелевающей воле, сколько в воле повинующейся или покоряющейся, т.е. в том, что Коркунов, избегающий употребления термина «воля», называет сознанием или чувством зависимости. Но при такой постановке вопроса мы будем исследовать социально-психическое, а не государственно-правовое явление властвования. Критикуя теорию власти немецких юристов, Коркунов докопался до этого чрезвычайно важного социально-психического явления; но он сделал непростительную методологическую ошибку, когда заменил юридическую конструкцию власти социально-психологическим понятием ее. Коркунов — не единственный теоретик государственного права, который при исследовании вопроса о государственной власти направляет свое внимание на те элементы властвования, которые не имеют юридического характера. В этом отношении особенный интерес представляет небольшой этюд «Авторитет и государственная власть» профессора государственного права в Вюрцбургском университете Пилоти. Он доказывает, что может произойти «отделение авторитета от государственной власти»; так, «у обладателей власти может исчезнуть авторитет без всякого изменения в государственном строе и при полном сохранении формальной государственной власти. Это разделение может произойти так постепенно и незаметно, что оно может ускользнуть даже от самого внимательного наблюдателя, и возникшее зло обнаружится только тогда, когда предполагаемый авторитет власти при каком-нибудь неожиданном испытании своей силы оказывается несуществующим». На целом ряде примеров Пилоти показывает, что этот процесс может произойти одинаково как в развитии абсолютно-монархического государства, так и конституционной монархии и республики. Так, в античном Риме при полном расцвете республики сенат обладал авторитетом, но не властью, которая принадлежала народу. Со времени Суллы сенат оказался обладателем государственной власти, но лишился авторитета; «он имел право приказывать, но его приказания не имели силы». Ему были противопоставлены авторитеты или заговорщиков и революционеров, как Катилина и Спартак, или новых повелителей, как Красе, Помпеи и Юлий Цезарь. Наконец, после возникновения принципата римский сенат утратил и авторитет, и власть, которые оба перешли к императорам. Но в правление неспособных императоров к сенату снова возвращалась тень былого авторитета. Так же точно в Средние века в Франкском королевстве майордомы, состоявшие при королях из Меровингов, сначала создали себе авторитет, а затем приобрели и власть, чем и положили основание новой династии Каролингов. Особенно замечателен аналогичный процесс, происшедший в магометанском мире, где калифы были постепенно отодвинуты эмирами. Первоначальные обладатели всей полноты власти, как духовной, так и светской, калифы превратились постепенно лишь в духовных глав магометанского мира, а вся светская власть перешла к эмирам, принявшим впоследствии титул султанов. Наконец, сравнительно недавние события в Японии показывают, что власть может подвергнуться также обратной эволюции и возвратиться к ее первоначальным носителям. Так, в течение более двух с половиной столетий с 1603 по 1868 гг. японские императоры, носящие титул микадо, находились в плену у регентов-тайкунов, которые фактически управляли страной от их имени. Но в 1869 г. новому микадо, представителю царствующей династии, удалось освободиться из плена и, свергнув тайкунат, возвратить себе первоначальную власть. Одновременно установлением конституции микадо устранил возможность повторения таких захватов власти. Однако Пилоти показывает, что такие же явления передвижения власти с одного 44 носителя на другого наблюдаются и в современных государствах — конституционных монархиях и республиках. Для этого он останавливается на некоторых событиях из истории Франции в XIX столетии и на конституционной истории С.-А. Соединенных Штатов и даже Германской империи. Наиболее бесспорно этот факт может быть установлен в конституционной истории Англии; чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о книге Беджота, который в шестидесятых годах прошлого столетия вскрыл, что в верховенстве английского парламента произошло изменение, так как палата общин получила перевес над палатой лордов и короной, и о книге С. Лоу, который уже в начале XX столетия установил, что теперь в Англии решающее значение имеют кабинет министров и избиратели. Тем не менее нам кажется, что Пилоти делает ошибку, когда чрезмерно сближает перемещение власти в современных конституционных государствах с перемещениями власти, происходившими в абсолютно-монархических государствах. Он не принимает при этом во внимание, что в современных государствах благодаря конституции устанавливается нормальное распределение функций между определенной комбинацией органов государственной власти, а потому и вырабатывается нормальный тип государственной власти и его носителя. Только внутри этой комбинации органов, остающейся постоянной, пока не изменяется конституция, тот или другой орган получает больший или меньший перевес. Но создаваемая современным правопорядком нормальная организация власти имеет, несомненно, принципиальный характер; надо признать, что в точном смысле слова государственная власть есть только нормальная государственная власть, обладающая в принципе всеми полномочиями, всей полнотой и всем авторитетом власти. А в таком случае нельзя противопоставлять государственной власти только авторитет, так как авторитет есть лишь один из элементов государственной власти, наряду с которым могут быть поставлены и другие элементы власти, как, например, фактическое господство или формальное выполнение функций власти. Они также могут фактически отделиться от государственной власти, как это показывают исторические события в некоторых государствах, а следовательно, и их можно логически противопоставить государственной власти. Но важнее всего — это признание Пилоти, что проведенное и доказанное им различие между властью и авторитетом не имеет никакого юридического значения. В начале своего этюда он говорит, что «авторитет как правовое понятие в действительности нельзя отличить от господства как правового понятия», а в конце приходит к заключению, что все его рассуждение «сосредоточивается в положении, что государственная власть и авторитет не тождественны. Для формальной юриспруденции этим немного выиграно, но тем не менее надо признать, что в жизни государств этот факт играет громадную роль». В конце концов, однако, Пилоти возвращается к общепринятой в немецкой науке волевой теории власти и утверждает, что «господство есть только человеческая воля, примененная в государстве». Пилоти не первый указал на то, что государственная власть не есть нечто постоянное, одинаковое и не подлежащее расщеплению. Аналогичные идеи уже можно встретить у немецкого государствоведа половины XIX столетия Цэпфля, но особенного внимания заслуживают некоторые замечания в книге английского политического деятеля и писателя Корневаля Льюиса «О влиянии авторитета в вопросах государственной власти», вышедшей в первом издании в 1849 г. Насколько, однако, вопрос о государственной власти неудовлетворительно разработан в современной немецкой литературе государственного права, несмотря на массу написанного по поводу него, можно судить хотя бы по тому, что единственное более крупное прибавление, которое Еллинек считал нужным сделать во втором издании своего «Общего учения о государстве», посвящено «исследованию о юридической власти» (русск. изд. С. 263-266). В этом прибавлении Еллинек упоминает о «социальной власти» и говорит о «власти правовой», но он недостаточно точно их определяет и не дает вполне точного разграничения их; главное же — он не связывает этого расчленения понятия власти с устанавливаемым им далее расчленением на власть «господствующую» 45 и «не господствующую» (С. 311 и сл.). Исследования Коркунова, Пилоти и отчасти Еллинека о сущности государственной власти должны привести к заключению, что даже в курсах государственного права нельзя ограничиваться лишь формально-юридическим определением государственной власти. Для государства имеют значение все стороны власти и все составные элементы ее, и потому исследование должно быть направлено на проблему власти в ее целом. Когда мы вдумываемся в эту проблему, нас прежде всего поражает необыкновенная сложность, многообразие и многосторонность тех явлений, которые мы называем властью. В этих явлениях переплетаются и постоянные, так сказать, стихийные элементы человеческой психики, и те наслоения, которые создаются социальным и историко-политическим развитием, и, наконец, то, что выражается в деятельности конкретного государства. Если мы не будем стремиться строго различать и разграничивать все эти элементы, мы никогда не поймем, в чем заключается власть. Короче говоря, чтобы уяснить себе и решить проблему власти, мы должны строго отличать социально-психологические элементы в том процессе, который приводит к подчинению одного человека другому и к признанию одного властвующим, а другого — подчиненным, от того, что сложилось благодаря историко-политическим условиям, т.е. благодаря долгому процессу исторического развития, приведшего к созданию современного государства, и, наконец, от того, что составляет формально-юридическую сторону власти и что гарантируется современным государственно-правовым порядком. В социально-психологическом смысле власть зарождается там, где при отношении двух или нескольких лиц одно лицо благодаря своему духовному, а иногда телесному превосходству, благодаря качествам своего характера и благодаря своей энергии занимает руководящее и господствующее положение, а другое лицо, становясь в зависимое положение, следует за ним. Такова власть, например, в товарищеской или семейной среде; такова же власть вожаков кружков, руководителей союзов, профессиональных организаций; такова же власть лидеров в политических партиях. Но вместе с простым ростом количества людей, среди которых проявляется власть такого типа, изменяется и сам характер — качество этого социально-психического отношения. Когда скопляются большие массы людей, происходит как бы сгущение и накопление социально-психологической атмосферы. Как при сгущении облаков образуется атмосферное электричество и разражается гроза, так при накоплении людей рождаются новые социально-психические явления руководства и подчинения. С одной стороны, силы единичного человека — руководителя, вожака потенцируются, с другой — склонность к повиновению еще больше усиливается у раз подчинившихся людей, и массы слепо следуют за своими вождями. При накоплении больших масс людей возникает чрезвычайно характерное явление, которое наш известный социолог Михайловский назвал «героями и толпой». Французский социолог Тард видел разгадку этого явления в законах подражания. Это явление почти загадочно, почему толпа выносит известных лиц, почему она окружает их почти божескими почестями, почему она преклоняется перед ними, слепо следует за их желаниями и исполняет их приказания, часто остается неразгаданным. Не всегда герой для толпы есть герой в действительности, не всегда это выдающийся человек, сильная индивидуальность, энергичная личность, не всегда это честный, благородный человек. Вспомним те факты, которые еще недавно пережиты нами. Как внезапно, неожиданно выдвинулся в Петербурге Гапон. Но разве ктонибудь признает теперь, что та личность, которая называлась Гапоном, действительно соответствует той роли, которую предоставила ей толпа, на которую ее выдвинул исторический момент? Это была личность скорее достойная презрения и пренебрежения, жалкая, ничтожная, но тем не менее эта личность сыграла трагическую роль и из-за нее погибли сотни людей, и эта личность погибла также жалко и ничтожно, всеми презираемая. Полтора года тому назад на юге Франции возникло движение виноделов, 46 колоссальное по своим размерам и по количеству людей, которое было им захвачено. Целые провинции жили одной мыслью, имели одно стремление, формулировали одни и те же требования, и это движение выдвинуло своего героя — Альбера. Этот герой так же, как и наш Гапон, на один момент занял совершенно исключительное положение — он пользовался почти царской властью и распоряжался, как неограниченный монарх. Все его распоряжения исполнялись беспрекословно. Но стоило этому человеку на один момент показаться смешным, и он моментально был развенчан. Желая устранить некоторые недоразумения, он поехал в Париж и устроил свидание с председателем совета министров Клемансо, а так как у него не хватило денег на обратный путь, то он взял у Клемансо взаймы 100 франков. Этот пустяк и совершенно ничтожная подробность показались смешными и сразу развенчали этого человека, в глазах толпы он превратился в самую обыденную личность. Так же внезапно, как он был вознесен на пьедестал, все перестали перед ним преклоняться. Вот события, которые разыгрались на наших глазах. Правда, эти события имеют несколько односторонний характер — в том и другом случае толпа выдвигала не героев, а случайных личностей, которые почему-либо на один момент становились выразителями ее стремлений. Но история знает и такие примеры, когда массы выдвигали действительных героев и выдающихся личностей. Тогда эти герои становились спасителями отечества, основателями новых государств и преобразователями их. Они не только приобретали власть на время, но и упрочивали ее за собой, они становились королями и императорами и основывали новые династии. Таковы были Помпеи, Цезарь и Август в Риме, таков был Наполеон I во Франции, таковы же были Минин и Пожарский и Богдан Хмельницкий у нас в России. Там, где между людьми возникают длительные отношения господства и влияния, с одной стороны, и подчинения и зависимости, с другой, там в этих отношениях рождается нечто новое. Личные отношения влияния и зависимости как бы превращаются в нечто независимо существующее от данных лиц, они как бы объективируются. Получается отношение господства и подчинения во имя каких-нибудь высших начал. Господство и подчинение освящается или социально-экономическим строем, или религией, или правом. Они перестают зависеть от индивидуальных свойств господствующих и подчиненных. Традиция и привычка заменяют личные достоинства и преимущества лиц, приобретших господствующее положение. Создаются, наконец, такие условия, при которых известное лицо приобретает господствующее влияние в зависимости от того места или социального положения, которое оно занимает в жизни. Карлейль в своем замечательном философском романе «Sartor resartus» останавливается на этих явлениях10[1]. Герой его Тейфельсдрек рассматривает все общественные отношения с точки зрения костюма и при этом действительно обнаруживает всю нелепость известных общественных положений. Он рисует картину, как человек в черном и человек в красном, то есть английский судья и английский палач тащат на виселицу человека в синем, и этот человек беспрекословно подчиняется. Именно этот пример судьи и палача особенно рельефно рисует ту зависимость и подчинение, которые создаются уже известными объективными условиями помимо непосредственного психического влияния одного человека на другого. Сами по себе судья и палач часто бывают презреннейшими людьми, но они распоряжаются жизнью человека, и окружающие эшафот солдаты являются слепыми исполнителями их распоряжений, хотя, может быть, в душе презирают и проклинают и казнь, и ее руководителей. В отношениях господства и подчинения как в социально-психологическом явлении есть в конце концов какая-то загадка, нечто таинственное и как бы мистическое. Каким образом воля одного человека подчиняет другую человеческую волю — очень трудно объяснить. Эти явления кроются в самых глубоких и сокровенных свойствах человеческого духа. 10[1] [русский перевод: Sartor Resartus. Жизнь и мысли герр Тейфельсдрека. М., 1904. Т. 1—3. О Т. Карлейле см. статью С.Н. Булгакова «О социальном морализме (Т. Карлейль)» (Булгаков С. Н. Два града. СПб., 1997. С. 71—94).] 47 Вопросы эти далеко еще не полно исследованы социологией и социальной психологией. Сами эти научные дисциплины еще не достигли той высоты развития, при которой они могли бы дать ответы на эти вопросы. Но многое в этих явлениях навсегда останется неразгаданным и необъяснимым. Как сущность тяготения до сих пор остается непонятной, так и сущность влияния одной воли на другую навсегда останется загадкой. Здесь науке приходится наталкиваться на те первичные силы и элементы, которые не подлежат дальнейшему разложению и разъяснению. Область первичного, необъяснимого и неразгаданного гораздо шире, чем обыкновенно предполагается. Мы упираемся в нее не только в одном определенном пункте, когда исследуем конечные вопросы мироздания, а во всяком пункте, как только желаем проникнуть за известные пределы, доступные научному познанию. Но все социально-психологические явления, и в том числе формы психического подчинения и господства, свойственны всем вообще людям. Они происходят вне зависимости от места и времени и даже совершенно не нуждаются в определениях во времени и месте. Везде и всегда, где есть люди и отношения между ними, эти явления возникают. Единственные обстоятельства, от которых они зависят, это количество людей и естественные различия между ними. Но именно потому, что эти отношения наиболее всеобщи и постоянны для всякого человеческого общения, они не характерны для государства и для существа государственной власти. Как элемент, присущий не государству как таковому, а вообще всякой социальной среде, эти отношения подвергаются исследованию не со стороны государствоведов, а со стороны социологов. Сюда относятся глубокомысленные исследования Тарда «О законах подражания», сюда же надо отнести и исследования о массовых явлениях и законах толпы Михайловского, Тарда, Сиге-ле, Лебона и Бугле. Но особенно важное значение имеет работа немецкого социолога Зиммеля «О господстве и подчинении», которая составила теперь третью главу только что вышедшей книги его «Социология». У нас писатель С. Л. Франк остановился на этих вопросах в своей статье «Проблема власти» в журнале «Вопросы жизни». В ней он является последователем Зиммеля, но отчасти и самостоятельно разрабатывает этот сложный вопрос. Исследователи государственной власти должны иметь в виду не вообще господство и зависимость, а частный случай его — государственное господство. Но государственное господство существует только в конкретных государствах, а все конкретные государства прошли известное историческое развитие и обладают определенной социальной структурой. Естественно искать в этом развитии и в созданной им социальной организации объяснения существа государственной власти. Будем судить о государственной власти по тому, как она проявлялась в историческом развитии государств, и тогда мы, конечно, поспешим отождествить ее с тем признаком, который больше всего бросается в глаза, именно с силой и тем страхом, который она внушает. Существует мнение, по которому в основании властвования лежит фактическое обладание силой, например, вооруженными силами страны или источниками богатства и экономического могущества. Из истории можно привести массу фактов, свидетельствующих о том, что между властью и силой нет разницы. Доказательством того, что власть теснейшим образом связана с силой, служат и те термины, которыми власть обозначается в современных европейских языках. Все они имеют двойное значение. Как французское слово «pouvoir», так и английское «power», и немецкое «Macht» означают одновременно и силу, и власть. К отождествлению власти с силой или с фактическим господством склоняются, как мы видели, и некоторые юристы, например, Аффольтер, Зейдель и В. Ивановский. Прежде всего приходится констатировать, что происхождение власти из простого превосходства силы и насилия в большинстве случаев не подлежит сомнению. Чаще всего власть возникала благодаря войнам и завоеваниям, благодаря победам одного народа над другим и покорению побежденных. Известный социолог и исследователь австрийского 48 государственного права Л. Гумплович утверждает даже, что «никогда и нигде государства не возникали иначе, как в силу покорения чуждых племен со стороны одного или нескольких соединившихся и объединившихся племен». Но это мнение надо признать утрировкой, так как античные государства-города развились из первобытных общин, а швейцарские республики только отражали завоевателей, сами же завоеваниями не занимались. Однако крупные политические организации, несомненно, возникли из насилия завоевателей. Не говоря уже о восточных завоевателях, достаточно вспомнить о завоеваниях Александра Македонского, которые привели к основанию целого ряда государств, о покорении Римом всех окружавших его народов и о создании им всемирной империи и, наконец, о великом переселении народов, которое заключалось в вытеснении и покорении одних народов другими, благодаря чему возник целый ряд государств. Но как бы ни казалось такое решение вопроса о сущности государственной власти правильным и простым, оно вызывает целый ряд сомнений и возражений. Уже в объяснении первоначального, так сказать, исходного насилия, из которого возникла власть, теоретики далеко не сходятся. Так, например, Энгельс в своей критике теории Дюринга, в частности, его «теории насилия» и в своем сочинении «Происхождение семьи, частной собственности и государства» настаивает на том, что первоначальное насилие обусловливалось не физическим, а экономическим превосходством. Этот спор о том, что создает фактическую силу, решается совершенно различно, смотря по тому, какие исторические факты мы берем. Так, мы должны будем решить его против Энгельса, если мы возьмем эпоху, непосредственно предшествующую возникновению современных европейских государств, т.е. эпоху великого переселения народов, когда произошли те завоевания, которые положили основание средне- и южно-европейским феодальным государствам. Экономическое превосходство было, несомненно, не на стороне германских племен, вторгшихся в Европу, завоевавших большие пространства и образовавших новые государства; оно принадлежало туземному населению, мировой Римской империи. Германцы имели перевес над этим населением не своим экономическим превосходством, а свежестью расы, своей сплоченностью и вообще грубой физической силой не тронутых цивилизацией людей. Поэтому для объяснения того переворота, который произошел при падении Римской империи, нужно искать разгадку не в теории Энгельса, а в теориях, видящих объяснение политических явлений в борьбе рас. Эти теории отстаивались и развивались такими учеными историками и социологами как Тьерри, Гобино и Гумплович. Однако и после завоевания борьба не прекращается, а продолжается в другом виде. Расы завоевателей и завоеванных в этих новооснованных государствах постепенно смешиваются, амальгамируются и превращаются в единые национальности. Но известные уже не расовые, а социальные деления сохраняются. Таким образом, первоначальная борьба рас превращается в борьбу социальных групп и классов. Здесь экономическое превосходство является уже определяющим фактором победы, которая служит основанием для нового господства и нового властвования. Так, не подлежит сомнению, что буржуазия получила перевес над феодальным дворянством главным образом благодаря своему экономическому превосходству, благодаря тому, что вся хозяйственная жизнь сконцентрировалась в ее руках. Но вместе с переходом решающего значения от физической силы к экономическому фактору и властвование теряет свой первоначальный чисто насильственный характер. Конечно, возможность такого превращения подготовляется уже в предшествующий период. Дело в том, что и завоеватели воздействуют на покоренных непосредственной физической и вооруженной силой только в первое время; затем они уже внушают своим подвластным страх, почтение, повиновение и покорность одним предположением своего превосходства, своею доблестью и своим мужеством. Таким образом, уже тут физическое принуждение завоевателей превращается в психическое господство обладателей власти. Но это прокладывает путь как к признанию, так и к созданию господствующего положения для всякого личного превосходства. Представители буржуазии завоевывают себе постепенно сперва почетное, 49 а затем и господствующее положение уже исключительно благодаря своему духовному превосходству, так как только оно дает им возможность становиться во главе экономического развития, создавать новые отрасли производства и накоплять богатства. Именно на процессе замены феодального строя буржуазным мы видим, как решающим элементом становится уже не преобладание вооруженной силы, которая по-прежнему остается в руках феодалов и дворянства, а мирная сила духовного превосходства, которая оказывается на стороне буржуазии. Тут, таким образом, происходит полное преобразование первоначального характера власти. Тем не менее многие эволюционисты игнорируют это превращение власти из физически насильственной в психически воздействующую. Они видят в современной социальной борьбе продолжение первоначальной борьбы чисто физической и настаивают на том, что власть приобретает и имеет тот, кто обладает большей силой. Спор с крайними эволюционистами обыкновенно оказывается бесплодным, так как очень трудно установить предмет спора ввиду того, что слово «сила» имеет очень много постоянно меняющихся значений. Так, например, если мы выскажем следующие два положения: 1) идея, овладевая народными массами, становится силой и 2) народные массы, объединенные и воодушевленные идеей, становятся силой, то мы обозначим одно и то же реальное происшествие, а между тем в первом случае мы признаем силой идею, а во втором — народные массы. Но так как народные массы существовали и до своего объединения идеей, и тогда они не были силой, а в силу их превратил новый привходящий фактор — идея, то и приходится признать ее главным элементом, создающим силу. Однако часто утверждают, что физическая и вообще материальная сила все-таки является решающим элементом для приобретения власти в моменты государственных кризисов и революций. Чтобы убедиться в неправильности этого взгляда, посмотрим хотя бы на первую крупную революцию, приведшую к созданию современного правового государства, именно на первую английскую революцию в половине XVII столетия. Мы увидим, что она возникла по религиозным мотивам, вождями ее были люди, воодушевленные идеями религиозного реформаторства, и массы боролись за свои права, находя их оправдание в своем религиозном сознании. Правда, эта революция привела к междоусобной войне, продолжавшейся пять лет, и была связана с жестоким кровопролитием. Но эту войну начали представители старой власти — английский король Карл I Стюарт и его бароны, видевшие во власти господство вооруженной силы. Победили, однако, не они, а борцы за новые идеи — Долгий Парламент, английские пуритане и шотландские пресвитериане. Когда затем побежденный и пленный Карл Стюарт предстал перед революционным трибуналом, учрежденным Долгим Парламентом для суда над ним, он прежде всего возбудил вопрос о характере власти, привлекшей его к ответственности. «Где та власть, — сказал он, — на основании которой вы требуете от меня ответа? Я говорю о законной власти, так как незаконной властью обладают также воры и грабители на больших дорогах». В этих словах Карла Стюарта прежде всего, поражает то обстоятельство, что он называет властью даже простое насилие, совершаемое грабителями на больших дорогах. Конечно, здесь отразилось чисто традиционное воззрение, по которому власть и насилие родственны между собой. Очень важно отметить, что защитником этого воззрения оказался бывший король, сторонник старых форм власти. Впрочем, и Карл Стюарт в приведенных словах приводил различие между законною и незаконною властью. Под законною властью он подразумевал, несомненно, ту власть, которая была освящена традицией. При этом он делал ошибку, предполагая, что традиционная власть сохранила еще свое обаяние для английского народа. Когда он стоял перед судившим его трибуналом Долгого Парламента, традиционная власть была уже упразднена в Англии и вся власть была сосредоточена в руках революционного правительства; за свою ошибку Карл Стюарт заплатил своей жизнью (из государствоведов этого вопроса только отчасти касается К. S. Zacharia: «Vierzig Bucher vom Staate». Heidelberg, 1839. Bd. III. S. 76-96 (Ueber Reformen und Revolutionen). 50 Все это заставляет нас признать, что отождествление власти с материальной силой, кажущееся столь основательным с первого взгляда, по существу своему неверно. В последние столетия материальная сила побеждала и становилась властью только тогда, когда за ней была и идейная сила. Даже у нас в данный момент, когда совершается столько насилий во имя настоящей и будущей власти, все говорит за то, что победа останется за идеей, а не за силой. Никто из нас не сомневается, что победит идея свободы, а не идея своевластия, что получит господство то прогрессивное начало, которое способно пересоздать нашу государственную жизнь, а не те элементы, которые в данный момент обладают простой физической силой. Итак, ко всем предыдущим признакам власти — престижу, обаянию, авторитету, традиции, привычке, силе, внушающей страх и покорность, мы должны присоединить еще один признак — всякая власть должна быть носительницей какой-нибудь идеи, она должна иметь нравственное оправдание. Это оправдание может заключаться или в величии и славе народа и государства, как это бывает в абсолютно-монархических государствах, или в упрочении правового и общественного порядка, что мы видим в правовых и конституционных государствах, или же оно может заключаться в регулировании экономической жизни и в удовлетворении наиболее важных материальных и духовных нужд своих граждан, что составляет задачу государства будущего. Как только власть теряет одухотворяющую ее идею, она неминуемо гибнет. На наших глазах пало русское неограниченное самодержавие, которое не имело больше никакого нравственного оправдания. Именно русско-японская война обнаружила, что абсолютизм не гарантирует России даже внешнего величия и достойного положения среди других государств. Если у нас не восторжествовал вполне правовой строй, то главным образом потому, что идея правового государства еще не вполне проникла в сознание нашего народа. Одухотворяющая идея, или нравственное оправдание власти, является, несомненно, основным и наиболее важным признаком власти. Но, конечно, ею также далеко не исчерпывается существо власти. Напротив, теперь мы уже вполне выяснили, как сложно то явление, которое мы называем властью. В логической последовательности власть развивается, во-первых, под влиянием социально-психологических причин, ведущих к созданию престижа и авторитета, с одной стороны, и чувства зависимости и подчинения — с другой, во-вторых, она обязана своим существованием целому ряду исторических и политических условий, начиная от борьбы рас и фактов покорения одной расы или нации другой и заканчивая социальной борьбой, борьбой классов, вызванной экономическими отношениями и ведущей к победе более прогрессивных общественных сил над отсталыми и отжившими, и, наконец, в-третьих, известные отношения господства и подчинения утверждаются и укрепляются благодаря идейному оправданию их. В правовом государстве они закрепляются в правовых нормах. Сперва существующие фактические отношения приобретают характер отношений, освященных нормами права. Появляется убеждение, что то, что есть, должно быть. Но постепенно правовая идея, идея должного берет верх над существующим лишь фактически. Поэтому и фактические отношения приноровляются к должному в правовом отношении. Все, что не находит себе оправдания, изменяется и согласовывается с тем, что должно быть. Таким образом, над властью все более приобретает господство правовая идея, идея должного. Чтобы существовать и быть признаваемой, власть должна себя оправдывать. Для современного культурного человека еще недостаточно того, что власть существует; мало и того, что она необходима, полезна и целесообразна. Только если власть способствует тому, что должно быть, только если она ведет к господству идеи права, только тогда мы можем оправдать ее существование, только тогда мы можем ее признать. Надо строго различать вопрос о происхождении власти от вопроса об оправдании власти. Для современного культурного человека то или иное происхождение власти не может служить аргументом в пользу ее. Напротив, единственным обоснованием для власти может быть ее оправдание. Это и ведет к господству идеи, именно идеи права над властью. Власть в современном государстве 51 становится правовой властью. Но возвратимся к формально-юридическому определению власти, т.е. к тому определению, с которого мы начали и которое, как мы видели, безраздельно господствует в немецкой научной литературе государственного права. Нам необходимо вперед оговорить, что если ни одно из вышеназванных определений власти не было исчерпывающим, то еще менее таковым может быть формально-юридическое определение. Право регулирует внешние отношения между людьми и притом рассматривает их чисто формально. Поэтому формально-юридическое определение власти по необходимости должно быть не только формальным, но и внешним. Оно не может касаться сущности, или той идейной стороны власти, о которой мы говорили выше. С этой внешней стороны власть, как мы уже сказали, есть способность повелевать и вынуждать исполнение своих повелений. Властвовать в государственном смысле значит повелевать безусловно и быть в состоянии принуждать к исполнению. Деятельность государственной власти мы можем с формально-юридической точки зрения разложить на ряд велений и исполнение этих велений. Но веления могут исходить только от воли и могут быть обращены только к сознательной воле, так как только ею они могут пополняться. Следовательно, с формально-юридической стороны власть заключается в отношении между волей, выражающейся в велениях государственной власти, и волями исполнителей этой власти, т.е. подданных и агентов, состоящих на службе у государства (чиновников). Тем не менее мы не имеем никакого основания приписывать государству личную волю, и в этом отношении критика представителей реалистического направления в науке государственного права, настаивающих на том, что коллективное существо — государство не может иметь воли, совершенно правильна. Но государство имеет безличную волю, так как деятельность его выражается в установлении общих безличных правовых норм и в применении этих норм к конкретным случаям в правительственных распоряжениях, административных актах и судебных решениях. Безличность воли государства ведет к тому, что и власть его безлична, а в этом, как мы отметили выше, характерный признак власти в правовом или конституционном государстве. Более подробно на этом свойстве государственной власти мы остановимся в связи с вопросом о государстве как юридическом лице. 52 Глава VII. ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И ЕЕ КРИТИКА В чем же, однако, оправдание власти? Это оправдание еще в первой половине XVI столетия Гуго Греции видел в том, что государственная власть должна обеспечить гражданам известную сферу свободы и неприкосновенность их личности. Предпосылка для этого оправдания была найдена в теории общественного договора. Теория общественного договора— это учение о том, что люди, создавая государство, заключают общественный договор, на основании которого они отказываются лишь от части своей свободы и своих прав с тем, чтобы государство и власть гарантировали им безусловную неприкосновенность остальной части их свободы и их прав. Эта теория безраздельно господствовала в умах культурных людей Европы почти 200 лет вплоть до начала XIX столетия. Нам теперь трудно представить себе, какую силу эта идея завоевала себе в свое время в сознании образованных людей. Но мы — наследники XIX века, века по преимуществу исторического; этот век, всецело проникнутый идеалом историзма, привык преклоняться перед фактами и презирать идеи, он презирал и идею общественного договора как антиисторическую. Однако новейшие исследования теории общественного договора установили, что и сами создатели этой теории настаивали на значении договора не как на историческом факте, но как на регулятивной идее. Представители школы естественного права вовсе не думали, что все государства были основаны путем заключения общественных договоров. Они только утверждали, что для того, чтобы правильно судить о том, какими должны быть государство и государственная власть, мы должны исходить из того предположения, что они основаны на общественном договоре, или судить о них так, как будто бы они были основаны путем общественного договора. Для теоретиков естественного права важен был не исторический факт общественного договора, а его идея. Они считали, что только применительно к этой идее можно знать, какими должны быть государство, его власть, его правительство. Что касается нас, то для 53 нас идея имеет значение только тогда, когда она согласована с фактами. Но то, что культурное человечество в течение почти 200 лет признавало оправданием для существования государственной власти общественный договор, есть также факт. Правда, нам скажут, что это факт заблуждения человечества, который характеризует известный исторический момент его умственного развития. Однако в том умственном движении, которое известно под именем школы естественного права и которое выдвинуло теорию общественного договора, не все было заблуждением. К таковым мы можем отнести только самую теорию общественного договора. Напротив, идея о том, что государство и власть нуждаются в оправдании своего существования и что это оправдание заключается в гарантии государством свободы и неприкосновенности личности, — эта идея должна быть признана драгоценнейшим приобретением умственного развития XVII и XVIII столетия. С этой идеей человечество уже не расставалось и не расстается. В XIX столетии, несмотря на весь его историзм, эта идея господствует так же, как и в XVIII веке. Но как должна быть организована власть для того, чтобы она обеспечила неприкосновенность и свободу личности? Мыслители XVII и половины XVIII столетия требовали для обеспечения политической свободы и неприкосновенности личности разделения властей. Теория разделения властей была впервые выдвинута английским философом Джоном Локком, но вполне развил и придал ей законченную форму французский мыслитель Монтескье. Джон Локк жил с 1632 по 1704 гг. Его сочинение по политическим вопросам, к сожалению, еще не переведенное на русский язык, называется «Два исследования о правительстве» (Two treatises on Government)11[1]. Это сочинение вышло только в 1689г. — через год после второй английской революции. В нем он развивал свою теорию разделения властей; он различает три власти: законодательную, исполнительную и федеративную. Под последней он понимает право объявления войны, заключения мира и вообще заключения трактатов. Так как, по мнению Локка, законодательная власть устанавливает общие принципы, то нет необходимости, чтобы она действовала непрерывно. Ее, однако, нельзя поручать тому лицу, которое призвано применять законы, так как оно могло бы освободить себя от обязанности исполнять их. Лучше всего поручать законодательную власть собранию многих лиц, и это осуществляется путем выборов и созвания народных представителей. Но изданные законы должны непрерывно исполняться. Поэтому необходимо, чтобы существовала власть, постоянно функционирующая и непрерывно наблюдающая за исполнением законов, приведением их в действие и их осуществлением. Властью этой является исполнительная власть. Таким образом, законодательная и исполнительная власть отделяются друг от друга. Судебная власть в теории Локка не играет никакой роли. Эту теорию разделения властей наиболее полно и законченно развил Монтескье (1689—1755). Главное его сочинение появилось в 1748 г. и называется «О духе законов» (De 1'esprit des loix). Оно много раз было переведено на русский язык, лучший перевод вышел в 1898 г. со вступительной статьей Максима Ковалевского. Свою теорию разделения властей Монтескье изложил в шестой главе одиннадцатой книги своего обширного сочинения. Глава эта озаглавлена «О государственном устройстве Англии». Монтескье выражается так точно, определенно и кратко, что для того, чтобы познакомиться с его теорией, лучше всего обратиться к его собственным определениям. По его словам, «в каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть исполнительная по предметам, входящим в область права международного, и власть исполнительная по предметам, относящимся к области права гражданского». Далее он говорит: «Если власть законодательная и власть исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы при этом не будет, так как можно опасаться, что обладающий ими монарх или сенат станут создавать тиранические законы для того, чтобы также тиранически применять их. Не будет еще свободы и в том случае, когда судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной 11[1] [В современном переводе — «Два трактата о правлении». См.: Локк Д. Сочинения в 3-х тт. М., 1988. Т. 3.] 54 властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если она соединена с исполнительной властью, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в бдном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, или дворян, или из простых людей, были соединены эти три власти: создавать законы, приводить в исполнение общие обязательные постановления и судить преступления или тяжбы частных лиц»12[2]. Установив эти принципы, Монтескье затем занимается подробным исследованием, как должны быть организованы отдельные органы, которым эти власти должны быть поручены. Он высказывается за то, что законодательная власть должна быть поручена народному представительству. Затем, так как судебная власть, по его мнению, не имеет настоящей силы, так как она действует не непрерывно и не обладает таким авторитетом, чтобы конкурировать с законодательной и исполнительной властью, то он предлагает разбить народное представительство на две палаты и создать, таким образом, два органа законодательной власти, которые регулировали бы друг друга и вместе с тем являлись бы достаточным противовесом против насилий исполнительной власти. Затем Монтескье считает — и это наиболее характерно для него, — что власти эти должны друг друга ограничивать и умерять, что между ними должно постоянно устанавливаться равновесие; они должны balancer — балансировать, и одна власть должна тормозить действие другой, если эти действия сколько-нибудь нарушают свободу и права личности. Вот в чем заключается основа и сущность этой теории. В конце XVIII столетия теорию разделения властей признавали непреложной истиной. Тогда думали, что обеспечить политическую свободу можно только путем разделения властей, организовав их так, чтобы они ограничивали и сдерживали друг друга. Поэтому все составители конституций того времени задавались целью создать прежде всего такое государственное устройство, в котором было бы произведено наиболее строгое разделение между властями. Мы должны теперь остановиться на анализе тех конституций, при составлении которых и преследовалось возможно полное разделение властей. Чтобы решить вопрос о правильности или неправильности теории разделения властей, мы должны сперва посмотреть, насколько это разделение осуществимо на самом деле. Его отстаивали самые выдающиеся теоретические мыслители и государственные деятели, и среди современных теоретиков у него есть еще видные сторонники. Одно время в теории разделение властей признавалось непреложной истиной, и в жизни некоторых государств было сделано все для того, чтобы эту теорию осуществить на практике. Но мы увидим, что иногда теории остаются бессильными, несмотря на то, что за них высказываются великие умы и даже государственные власти. Творцы конституций стремятся их воплотить в государственном строе, но несмотря на это, теории эти не могут войти в жизнь потому, что жизнь им противоречит, жизнь не согласна с ними, она их опровергает. Первая конституция, проводившая полное разделение властей, была конституция, выработанная в 1787 г. учредительным конвентом Конфедерации Сев.-Американских Штатов и действующая до сих пор в С.-А. Соединенных Штатах. Отличительные черты этой конституции заключаются в том, что ни президент республики, ни назначаемые им министры не имеют права являться ни в одну из палат народных представителей и присутствовать на их заседаниях. Они не могут делать непосредственно никаких предложений представителям законодательной власти. Единственная допустимая форма прямых сношений между президентом республики и отдельными министрами, с одной стороны, и собранием народных представителей, с другой, заключается в писанных посланиях президента и отдельных министров, в которых они излагают перед народными представителями свой взгляд на современное положение дел вообще или в той или другой отрасли управления и указывают на необходимость издания новых законов по тем или другим вопросам. Но законодательной инициативы в точном смысле этого слова ни 12[2] [Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 290—291.] 55 президент республики, ни министры не имеют. В свою очередь и собрание народных представителей С.-А. Соединенных Штатов не имеет права требовать отчета относительно тех или иных действий или распоряжений министра. Собрание народных представителей С.-А. Соединенных Штатов лишено права запросов министрам, того права, которое так широко применяется и имеет такое большое значение в европейских народных представительствах. Таким образом, палаты народных представителей в С.-А. Соединенных Штатах лишены возможности установить действительный контроль над действиями и политикой министерства и вообще исполнительной властью. Исполнительная власть в С.-А. Соединенных Штатах вообще подзаконна, но носители ее ответственны только по суду, но не перед народными представителями. Особенностью северо-американского государственного устройства является также то положение, которое уделяется им высшему федеральному суду. Верховный федеральный суд в С.-А. Соединенных Штатах поставлен наряду с высшими органами государственной власти, наряду с президентом и народным представительством и в известных случаях даже над ними. Верховный суд имеет право контролировать согласованность с конституцией новоизданных и уже действующих обыкновенных законов. Если перед ним возбужден процесс относительно того, что тот или иной обыкновенный закон не согласен с конституцией и противоречит основным принципам государственного устройства С.-А. Соединенных Штатов, то верховный суд имеет право войти в обсуждение этого закона по существу и решить, насколько он согласован с принципами конституции. В случае признания оспариваемого закона противоречащим конституции, то, хотя бы этот закон был издан вполне правильно с формальной точки зрения, т.е. хотя бы он был принят большинством обеих палат и получил утверждение президента, верховный суд имеет право объявить его недействительным. Это право существует только в С.-А. Соединенных Штатах. Нигде в Европе суд не поставлен над законодательной властью и не имеет права обсуждать правильность законов по существу. Раз закон издан с формальной стороны правильно, т.е. в установленных конституцией формах, то всякий суд в европейских государствах должен беспрекословно применять этот закон, как бы он ни противоречил конституции. Итак, в С.-А. Соединенных Штатах не только народное представительство совершенно разобщено от органов исполнительной власти и между ними разорвана всякая связь, но здесь и созданы органы третьей верховной власти — судебной, которые вполне координированы с народным представительством и президентом республики, поставлены наравне с ними, а в некоторых случаях даже над ними. Аналогичное разделение властей было проведено в конституции, выработанной французским национальным собранием 1789 г., т.е. в так называемой конституции 3 сентября 1791 г. Введением к этой конституции служит знаменитая Декларация прав человека и гражданина, а 16-я статья ее гласит: «Общества, в которых не обеспечены правовые гарантии и не установлено разделение властей, не имеют конституции». Таким образом, в этой конституции устанавливалось законодательным путем, что существо конституционного строя заключается в разделении властей. Впрочем, в первой французской конституции принцип разделения властей был несколько смягчен в своем осуществлении по сравнению с конституцией С.-А. Соединенных Штатов. Так, эта конституция предоставила законодательному собранию право требовать отчет у министров, а министры на основании этой конституции получали право являться в законодательные собрания и, по желанию, защищать те или другие мероприятия, относящиеся к их ведомству, или же давать объяснения по общим делам, в случае требования народного представительства. В ней было допущено очень важное отступление от теории Монтескье в том, что она вводила однопалатное народное представительство. Но эта конституция безусловно запрещала назначение министров из среды народных представителей. Следующая французская конституция, осуществленная на практике, так называемая директориальная конституция, или конституция третьего года республики, т.е. 1795г., отрицала у представителей власти право личных сношений с 56 народным представительством и устанавливала ту же форму разделения властей, которая принята С.-А. Соединенными Штатами. Подобно последним, она создавала двухпалатное народное представительство. Однако обе эти французские конституции, проводившие разделение властей, были очень недолговечны, они обе привели к государственным переворотам, уничтожившим установленный ими государственный строй и упразднившим их действие. Столь же недолговечна была и испанская конституция 1812 г., устанавливавшая строгое разделение властей. Она была отменена уже в 1814 г. Правда, благодаря двум переворотам в 1820 и в 1836 гг. она снова была вводима; но всякий раз на очень короткое время. Ныне действующая испанская конституция 1876 г. не имеет ничего общего с конституцией 1812 г. и не проводит разделения властей. Неудача, постигшая конституцию, выработанную французским национальным собранием 1789—1791 гг., и вообще крушение всех конституций на Европейском континенте, следовавших этому образцу и проводивших строгое разделение властей, заставили задуматься над правильностью теории разделения властей. Однако сразу не решались подвергнуть сомнению правильность самого принципа разделения властей. В общественном сознании чересчур вкоренилось убеждение, что главной гарантией политической свободы в конституционном государстве является существование нескольких равных, взаимно ограничивающих и уравновешивающих друг друга властей. Критика была сперва направлена не на самый принцип, а на способ его осуществления. Пересмотр теории разделения властей был произведен теоретиком конституционализма времен королевской реставрации во Франции Бенжаменом Констаном, т.е. в самую смутную эпоху политической реакции. Б. Констан жил с 1767 по 1830 гг.; взгляды его выработались, с одной стороны, под впечатлением крушения конституционной монархии, созданной конституцией 1791 г., а это крушение привело в окончательном результате к военному деспотизму Наполеона I, с другой — под влиянием, во-первых, английской теории о королевской прерогативе, к которой причислялось законодательное veto короля и досрочное распущение палаты представителей, и, во-вторых, под влиянием особенностей французской конституционной монархии, созданной хартией 1814 г., т.е. той конституции, при которой Констану приходилось действовать как народному представителю. Размышляя над вопросом о соотношении властей в конституционных монархиях, он пришел к заключению, что в них должно существовать не три, а четыре власти. Четвертую власть он считал необходимым предоставить королю для того, чтобы устранять конфликты и сглаживать столкновения между тремя другими властями. Поэтому он назвал ее умеряющей или уравнивающей властью (le pouvoir modevoteur). Она состояла, по его мнению, в праве короля налагать veto на законодательные проекты палат, в праве его созывать палаты на чрезвычайные сессии и в праве досрочного роспуска палат. Одним словом, функции этой умеряющей и регулирующей власти, по мнению Констана, должны были заключаться в том, что традиционная английская теория конституционного права называет прерогативой короля. Учение о четырех властях Б. Констана для нас интересно потому, что оно не осталось без практических последствий. Так же, как и учение Монтескье о трех властях, которое как мы видели, отражалось на всех конституциях, выработанных в конце XVIII и начале XIX столетия, это учение о четырех властях тоже нашло свое отражение в конституционном законодательстве. Португальская конституция 1826 г., которая и поныне действует, целиком восприняла это учение и придала ему законодательную санкцию. 10 статья этой конституции гласит: «Обособление и гармония политических властей есть принцип, охраняющий права граждан, и наиболее надежное средство для действительности гарантий, предоставленных конституцией». В следующей, 11 статье говорится: «Политических властей, признанных конституцией Португальского королевства, четыре: власть законодательная, власть уравнивающая, власть исполнительная и власть судебная». Затем в особой главе конституции, озаглавленной «об уравнивающей власти», начинающейся с 71 статьи, власть эта характеризуется следующим образом: «Уравнивающая власть является 57 основанием всякой политической организации и принадлежит исключительно королю как верховному главе нации, дабы он непрерывно мог заботиться о независимости, согласии и гармонии остальных властей». Таким образом, в этой конституции, которая действует и до этих пор, разделение властей вполне определенно предписано статьями закона. Однако в действительности оно далеко не проводится и, как об этом единогласно свидетельствуют все политические деятели Португалии, применение этой теории в законодательстве принесло Португалии только несчастье. Она в значительной мере усилила королевскую власть сверх тех пределов, которые допустимы в конституционном государстве. Если в последнее десятилетие Португалия переживала затяжной конституционный кризис, еще недавно приведший к трагедии, кончившейся убийством короля и наследника престола, то в этом отчасти виновата теория разделения властей именно в той форме, какую ей придал Б. Констан. Мы видели, что первые французские конституции — конституции эпохи великой революции — потерпели крушение главным образом вследствие разделения властей. Но и конституция второй французской республики, т.е. конституция, созданная в эпоху революции 1848 г., тоже не была чужда тех же недостатков. Правда, эта конституция колебалась между принципом разделения властей и объединением их в парламентской системе. Однако ее постигла та же печальная участь, как и конституции, выработанные в эпоху великой французской революции. Она вместе с самой второй республикой была уничтожена государственным переворотом, произведенным Людовиком Наполеоном, первым и единственным президентом этой республики. Для своего государственного переворота Людовик Наполеон воспользовался теми элементами государственного строя второй республики, которые гарантировали разделение властей. Поэтому можно положительно утверждать, что ни одна идея не принесла Франции столько несчастий, как идея или теория разделения властей. Если рассмотреть историю французских переворотов в последнее столетие, особенно переворотов сверху, с идеологической точки зрения, то есть постольку, поскольку они были вызваны теми или другими идеями, и в частности, теми или другими учреждениями, осуществлявшими эти идеи, то нужно признать, что из всех идей наиболее способствовала им идея или теория разделения властей. Но французские конституции, проводившие разделение властей, не могут дать полного и определенного представления о государственном устройстве, основанном на разделении властей. Эти конституции существовали чересчур короткое время; правда, то, что они были низвергнуты государственными переворотами, служит, как мы сказали, свидетельством против целесообразности созданных ими учреждений; но государственные перевороты происходили не только от недостатков существовавших учреждений, но и от более реальных причин, от причин социальных и политических. Таким образом, вопрос остается еще открытым: может быть, разделение властей все-таки возможно осуществить, и, может быть, там, где оно осуществляется, в нем действительно заключается главная гарантия политической свободы и ограниченности власти? Чтобы дать более точный ответ на этот вопрос, мы должны обратиться к той конституции, которая первая стремилась провести законодательным путем разделение властей и которая существует и до настоящего времени. Это, как уже отмечено выше, конституция С.-А. Соединенных Штатов, выработанная в 1787 г. Присматриваясь к этой конституции, мы приходим к заключению, что если бы установленные ею правила разделения властей точно соблюдались, то получалось бы совершенно невозможное положение вещей. Настоящее разделение властей, несомненно, привело бы к полному расстройству государственной жизни и создало бы совершенную анархию. В самом деле, всякое государство прежде всего нуждается в известной хозяйственной организации. Хозяйственная организация эта определяется государственным бюджетом. Но чтобы выработать бюджет и установить статьи доходов и расходов, нужно знать практические нужды государства и народа в его целом. Иметь точные сведения об этих практических нуждах, хорошо знать их могут только представители исполнительной власти и прежде 58 всего министры. Но в С.-А. Соединенных Штатах министры могут сообщать сведения и давать разъяснения конгрессу, т.е. палатам народных представителей, только письменно, а письменных сношений в таких случаях совершенно недостаточно. Для каждой статьи доходов и расходов нужна подробная мотивировка, нужно опровержение всех возникающих сомнений, нужно разъяснение недоумений и устранение всех возражений, которые могут быть приведены в собрании народных представителей. Несомненно, что все это можно излагать только в устных дебатах, только устно можно разъяснять известные потребности в детальных подробностях и опровергать те возражения, которые встречаются в собрании народных представителей. Если министры, хотя бы и не будучи членами собраний народных представителей, могут по крайней мере присутствовать на заседаниях народного представительства и участвовать в дебатах с совещательным голосом, как это установлено во всех германских конституциях и в том числе в конституции Германской империи, а также у нас в России, то все эти неудобства устраняются. Министры сами дают разъяснения и защищают предложенные ими статьи доходов и расходов. Но в С.-А. Соединенных Штатах министры лишены возможности участвовать в дебатах и отстаивать свои мнения в собрании народных представителей. Между тем не одна только выработка и утверждение бюджета требуют личных сношений министров как представителей исполнительной власти с собраниями народных представителей. При отмене старых законов и издании новых также необходимо знать, какие результаты давали те законы, которые должны быть отменены, дополнены или заменены новыми законами. Все эти сведения во всей их полноте могут быть сообщены только во время дебатов при детальном обсуждении отдельных параграфов закона, а между тем министры по конституции С.-А. Соединенных Штатов совершенно лишены этой возможности. Из такого невозможного положения в С.-А. Соединенных Штатах был создан парламентским регламентом и обычаем исход, который равносилен обходу конституции. Обход этот заключается в том, что главное обсуждение как бюджета, так и всех законопроектов переносится из общего собрания палаты депутатов в парламентские комиссии, ведающие соответствующими делами. Министры, начальники департаментов и другие должностные лица как представители исполнительной власти сносятся, как бы частным образом, с этими комиссиями и устно представляют им свои доводы в пользу тех или других мер и дают свои объяснения. Таким образом, главное обсуждение и решение всех важных вопросов в С.-А. Соединенных Штатах происходит в комиссиях конгресса. Перед общими собраниями обеих палат народных представителей выступают его комиссии с вполне готовыми решениями. Эти комиссии не ответственны за общий ход правительственных и общественных дел подобно парламентскому министерству. Их назначение заключается только в разработке и решении тех отдельных и определенных вопросов, которые были им поручены. Согласно регламенту палаты депутатов, они не избираются, а назначаются спикером, т.е. избираемым председателем палаты, и хотя косвенно они избраны народным представительством, они не ответственны перед ним. Народное представительство часто бывает вынуждено принимать те решения, которые вырабатывают его комиссии, так как оно не обладает достаточными данными и не располагает нужными фактами для того, чтобы проверить и оценить те или другие аргументы в пользу их; оно знает только то, что докладчикам и членам комиссии угодно будет доложить ему. Благодаря этому заседания обоих собраний палаты депутатов С.-А. Соединенных Штатов совершенно лишены того захватывающего интереса и драматизма, который свойствен европейским парламентам. Само значение и роль палаты депутатов в С.-А. Соединенных Штатах сделались до некоторой степени второстепенными; они перешли к отдельным комиссиям, решающим вопросы за палату народных представителей, которая в большинстве случаев утверждает их решения. Таким образом, система правления, водворившаяся в С.-А. Соединенных Штатах помимо конституции и путем обычного права, есть система правления посредством парламентских комиссий. В результате этой 59 системы получается то же преобладание законодательного корпуса над всеми другими органами власти и то же концентрирование наиболее важных функций в руках народного представительства, которое мы наблюдаем в государствах с парламентской системой или с кабинетным правительством. Но американская система правления посредством парламентских комиссий представляет массу неудобств. Заседания всех парламентских комиссий не публичны, и потому большинство очень важных дел решается не гласно, а келейным способом. Этим путем делается невозможным действительный контроль над деятельностью правительства и министерства и создается почва для массы интриг, подкупов и предосудительных компромиссов. Кроме того, надо признать, что система управления посредством парламентских комиссий, выработавшаяся в С.-А. Соединенных Штатах, не приводит к еще большим неудобствам и опасностям только благодаря высокой культурности, развитому правосознанию, свободолюбию и верности известным традициям, присущим американскому народу. Политическая история западно-европейских государств представляет примеры, когда та же система приводила к совершенно иным последствиям; она вызывала перевороты и способствовала уничтожению политической свободы. Так, во Франции с 1792 по 1795 гг. страна управлялась также посредством парламентских комиссий. Исполнительный совет, избранный после низложения Людовика XVI и учреждения первой республики, который должен был выполнять функции министерства, был поставлен вне конвента, и потому он, естественно, скоро был совершенно устранен от фактического заведования правительством страны. Вся государственная власть принадлежала в это время конвенту и главное руководство управлением страной постепенно целиком сосредоточивалось в его комиссиях и комитетах. Из них наиболее видную роль играли комитет государственной обороны, комитет общественной безопасности и комитет общественного спасения. Исполнительный совет, формально заменявший министерство, сперва не был упразднен, но он в своей деятельности, естественно, подчинялся конвенту и этим комитетам. Вследствие этого нарушалось равновесие между различными учреждениями, между которыми была разделена власть в первой французской республике, и произошло незаконное изменение государственного строя. Но это нарушение не остановилось на своей первоначальной стадии, а естественно пошло дальше и привело к тому, что скоро и сам конвент фактически был лишен власти. Комитет общественного спасения, с Робеспьером во главе, захватил на некоторое время всю власть в свои руки и деспотически управлял страной, пока его власть не была низвергнута народным восстанием. Этот первый захват власти создал прецедент для всех последующих захватов. Он проложил путь для захвата власти со стороны Наполеона I. Надо признать, что американцы так легко справились с неудобствами своей конституции только благодаря способности англосаксонской расы приспособляться и приспособлять к себе совершенно плохие учреждения, заставляя их служить своим нуждам. Это та замечательная способность, которая дала такие блестящие результаты при развитии конституционных учреждений Англии. Напротив, всякий другой народ далеко не так удачно и легко справился бы с теми же конституционными учреждениями, с какими имели дело американцы. Факты из истории республик Центральной и Южной Америки неопровержимо подтверждают это. Дело в том, что все эти республики, и самые большие из них, как Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина, заимствовали свои конституционные учреждения у С.-А. Соединенных Штатов. Но политическая жизнь в этих республиках, населенных по преимуществу романской нацией, и в частности испанцами, народом очень живым и несдержанным, течет далеко не в том спокойном русле, как это мы видим в С.-А. Соединенных Штатах. В этих республиках постоянно происходят революции и государственные перевороты, и многие знатоки политической жизни Южной и Средней Америки утверждают, что среди причин, вызывающих эти перевороты, очень важную роль играют те недостатки в ходе государственных дел, которые создаются разделением властей. Особенно губительно в этом отношении то исключительное положение, которое 60 при системе разделения властей уделяется носителю исполнительной власти — президенту республики. О президенте республики С.-А. Соединенных Штатов один английский писатель сказал, что это деспот, которого ничто не может пробудить. Действительно, полномочия североамериканского президента республики так велики, как, может быть, ни одного монарха; во всяком случае, эти полномочия значительно обширнее, чем полномочия английского короля. Когда в 1905 г. после отделения Норвегии от Швеции решался вопрос, быть лиНорвегии королевством или республикой, один норвежский министр высказался против республики именно потому, что современные республики по большей части суть замаскированные монархии и что только в Швейцарии демократическая республика; во Франции, по его словам, господствует монархическая республика, а в С.-А. Соединенных Штатах деспотическая. В этом парадоксальном мнении есть много истинного. Действительно, положение президента С.А. Соединенных Штатов настолько независимо, настолько не подлежит никакому контролю, что это может переваривать только такой хладнокровный, такой свободолюбивый и такой организованный народ как народ С.-А. Соединенных Штатов. Напротив, в испанских республиках при том же государственном строе постоянно происходят перевороты и междоусобная борьба между различными претендентами за власть президента республики; там президенты республики постоянно низвергаются революциями или еще чаще на жизнь их производятся покушения со стороны их политических врагов; вот почему убийства президентов республик в Центральной и Южной Америке такое частое явление. Все эти факты показывают, что система разделения властей на практике не осуществляется, а некоторые неустранимые недостатки ее там, где она введена конституционным путем, вызывают массу очень опасных конституционных конфликтов. Совсем иначе, чем в Америке, был решен вопрос об устранении разделения властей и связанных с ним неудобств в Норвегии. Норвежская конституция 1814 г., действующая и в данный момент, заимствовала основные черты государственного устройства у французской конституции 1791 г. Поэтому конституция эта отличается своим демократическим характером и чрезвычайной широтой прав, предоставленных ею народному представительству. Так, например, по этой конституции король совсем не имеет права досрочного роспуска раз избранного состава народного представительства. Далее, по этой конституции король обладает только так называемым суспенсивным veto, но не абсолютным; это значит, что народное представительство и помимо воли короля в известных случаях может издавать законы. Но по этой конституции министерство было поставлено совершенно обособленно от народного представительства, даже в большей степени, чем по французской конституции 1791г. Норвежская конституция 1814г. не только воспрещала министрам быть членами стортинга, или норвежского народного представительства, но и появляться в его заседаниях и участвовать в его дебатах, хотя бы с совещательным голосом. Сперва и в Норвегии разделение властей считалось лучшей гарантией политической свободы и даже необходимым условием нормальной конституционной жизни. Но скоро обнаружилось, что вследствие отсутствия непосредственной связи между министерством и стортингом министерство оказалось совершенно независимым от стортинга и выполняло только волю короля, который назначал министров. Стортинг не мог ставить запросов министрам по поводу тех или других правительственных распоряжений и проводить расследования закономерности и целесообразности их действий. Единственное конституционное средство оказывать влияние на свое правительство, бывшее в распоряжении стортинга, заключалось в его бюджетном праве, но его было мало и часто стортинг был фактически бессильным по отношению к министерству. Поэтому уже с половины XIX столетия, спустя не более 30— 40 лет после учреждения этой конституции, в Норвегии начинается непрерывная борьба ее народного представительства за то, чтобы приобрести право контроля над 61 министерством и подчинить его своей власти. Эта борьба ведется посредством принадлежащего исключительно норвежскому народному представительству и не встречающегося в других современных конституционных монархиях права издавать законы и помимо воли короля. Уже в 1842 г. в Норвегии помимо воли короля было уничтожено дворянство путем троекратного принятия соответственного текста закона. Несколько позже, именно в 1851 г., демократическая партия или партия реформ в Норвегии, сознав все неудобство системы разделения властей, впервые провела через народное представительство закон, дозволяющий членам государственного совета, т.е. министрам, присутствовать на заседаниях стортинга. Однако король отказал в своей санкции этому закону, так как демократическая партия не была тогда достаточно сильна, чтобы настоять на своем, то решение этого вопроса было отсрочено. Наконец, в 70-х гг. прошлого столетия норвежская демократия настолько усилилась, что начинает вести систематическую борьбу за изменение своей конституции. В трех последовательно один за другим избранных стортингах в 1872, 1877 и 1880гг. большинством его принимается один и тот же закон о том, чтобы предоставить министрам возможность являться в собрание народных представителей и отстаивать там свои взгляды и действия, но и дать, с другой стороны, народному представительству право требовать от министров отчета в их действиях и предъявлять им запросы. Вместе с таким троекратным принятием одного и того же тождественного текста закона он должен был сделаться действующим законом, но король, не желая подчиняться решению стортинга, назначил боевое министерство, которое решило управлять страной на старых основаниях и не являться в собрание народных представителей. Однако в 1882 г. произошло опять переизбрание стортинга, и в стортинге оказалось громадное большинство радикалов, сторонников этого закона. Тогда стортинг проводит формальное обвинение министерства в злоупотреблении своей властью, и в 1884 г. министры предаются суду, признаются виновными и по суду приговариваются к отрешению от своих должностей. Не имея возможности бороться с единодушными требованиями общественного мнения, король был принужден подчиниться и утвердить этот приговор суда. После этого, начиная с 1884 г., благодаря закону, дозволяющему стортингу предъявлять запросы министрам, а министрам являться в стортинг, давать отчеты о своей деятельности и защищать свои мероприятия, в Норвегии вводится так называемая парламентская система правительства, или кабинетное министерство. Более подробно парламентскую систему мы изучим в связи с вопросом о министерстве. Теперь отметим только, что парламентская система представляет прямую противоположность системе разделения властей. Наиболее определенно и полно она развилась в Англии. Это обстоятельство особенно замечательно ввиду того, что в XVIII столетии английская конституция считалась образцовой и в смысле разделения властей. Монтескье, составляя свою теорию разделения властей, утверждал, что он заимствует ее из английских государственных учреждений. Правда, он признавал, что фактически она не совсем осуществляется в Англии, но считал, что она господствует там в идее. Другие писатели XVIII столетия, как, например, англичанин Блэкстон и швейцарец Де Лольм, описывая государственное устройство Англии, тоже видели в нем разделение властей. В современной английской конституции сущность парламентской системы заключается в том, что министры назначаются королем, но из членов обеих палат парламента, принадлежащих по своему направлению к партии, обладающей большинством в нижней палате. Таким образом, при парламентской форме правления министерство является как бы комиссией палаты депутатов, стоящей между нею и королем. Но в современных государствах большая часть функций исполнительной власти сосредоточена в министерстве, оно является главным органом управления; а следовательно, при парламентской форме правления главный орган исполнительной власти поставлен в зависимость от законодательного корпуса. Таким образом, при парламентской форме правления законодательная и исполнительная власть объединены, так как источником 62 этих органов власти является одно и то же учреждение — народное представительство. Между тем парламентская форма правления существует в большей части современных конституционных государств; кроме Англии, она введена воФранции, Бельгии, Голландии, Италии, Венгрии, Швеции и Норвегии. Итак, в большинстве современных конституционных государств господствует не разделение властей, а, напротив, объединение их путем парламентской системы правительства. Все эти факты должны нас убедить, что разделение властей практически неосуществимо. Во всех случаях, когда оно устанавливалось конституциями, оно не могло быть проведено на практике. В лучших случаях, как, например, в С.-А. Соединенных Штатах, оно приводило к обходу конституции и к изменению ее обычно-правовым путем или же, как в Норвегии, к изменению конституции законодательным путем и к учреждению парламентской системы; в худших случаях оно приводило и приводит к целому ряду государственных переворотов. В большей части современных государств вместо разделения властей установлена парламентская система, а парламентская система есть способ наиболее полного объединения властей и даже совершенного их слияния. До сих пор мы рассматривали только практический вопрос, насколько осуществлялась система разделения властей в государственном устройстве тех или других государств. Теперь мы должны перейти к теоретическому вопросу, как решается этот вопрос в литературе государственного права. Прежде всего, мы должны констатировать, что теоретическая литература о разделении властей совершенно необозрима. Все скольконибудь выдающиеся государствоведы второй половины XVIII и всего XIX столетия высказывались за или против этой теории. Мы, конечно, не можем здесь проследить судьбу этой теории со времен Монтескье, т.е. в течение последних 150 лет; этот вопрос представляет большой интерес для истории политических учений, но нас он отвлек бы только от решения теоретических проблем общего государственного права. Для теоретиков государственного права интересна постановка этого вопроса, главным образом, в современной литературе. Мы и перейдем теперь к рассмотрению того, как решается этот вопрос в современной литературе государственного права, и затем установим то решение, которое мы признаем правильным. Отношение к этой теории неодинаково в различных странах, и потому лучше всего рассматривать и классифицировать взгляды различных теоретиков на нее по странам. В немецкой научной литературе, например, эта теория почти единодушно отвергается. Еще в 50-х гг. XIX столетия немецкий юрист Роберт фон Моль, подводя итоги оценки этой теории в научной литературе, писал в своем сочинении «История и литература государственных наук» (Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften): «He требуется большого запаса остроумия и знания, чтобы доказать, что это учение Монтескье (о разделении властей) в своих основных пунктах отчасти совершенно неверно, отчасти, по крайней мере, в высшей степени сомнительно». Прежде всего, деление властей на три логически ошибочно и не исчерпывает предмета. Раздробление государственной власти на три отдельные и независимые власти разлагает организм государства — это единство во множестве — и практически ведет к анархии и разрушению. Совершенную бессмыслицу представляет из себя высшая исполнительная власть, которой отдает предписания лишенное власти законодательство. Еще более отрицательное отношение к теории разделения властей замечается в современной немецкой литературе государственного права. Так, профессор Страсбургского университета Лабанд замечает в своем сочинении «Государственное право в Германской империи»: «Критика этой теории, которая разрушает единство государства и логически несостоятельна, а практически неосуществима, совершенно излишня, так как в немецкой политической и государственно-правовой литературе уже давно установилось полное единодушие в признании этой теории неприемлемой». Отрицает эту теорию и наиболее видный из современных теоретиков общего государственного права в Германии, профессор государственного права в Гейдельбергском университете Еллинек. Он говорит, что 63 «каждый орган государства представляет в пределах своей компетенции государственную власть. Возможно поэтому разделение компетенции, но не разделение государственной власти. Наряду со множественностью органов существует всегда единая государственная власть». Таким образом, в современной Германии все наиболее выдающиеся теоретики государственного права безусловно отрицают теорию разделения властей; только единичные голоса и то очень робко высказываются за нее, как, например, Вестер-камп, отчасти ОттоМайер. Но наиболее резкой критике подвергается теория разделения властей в той стране, в которой она формально признана конституцией, именно в С.-А. Соединенных Штатах. Против разделения властей, проводимого американской федеральной конституцией, с беспощадной критикой выступил американский государствовед Вильсон в книге под заглавием «Правительство конгресса», которая произвела сенсацию и выдержала более десяти изданий. Выше мы видели, что в противоположность прямому постановлению конституции в С.-А. Соединенных Штатах произошло фактическое объединение властей, но там оно совершается, так сказать, за кулисами официального государственного механизма. Поэтому современная оппозиция против разделения властей есть вместе с тем оппозиция против закулисного их объединения, которое создает массу поводов для всякого рода злоупотреблений. Противники разделения властей восстают против него потому, что благодаря ему нельзя привлекать представителей исполнительной политической власти к ответственности за нарушение политических интересов страны и за неправильные действия, а привлечение к судебной ответственности очень сложно и трудно. Поэтому современные теоретики государственного права в С.-А. Соединенных Штатах, являющиеся противниками системы разделения властей, во главе с Вильсоном требуют вполне открытого и формально-конституционного объединения властей, при котором представители исполнительной власти были бы ответственны перед законодательными палатами. В современной французской литературе государственного права особенно резко против теории разделения властей выступил Дюги. Выступление Дюги тем более важно, что во французской литературе до сих пор еще существует некоторое преклонение перед этой теорией, и многие французы не решаются подвергнуть сомнению ее правильность и целесообразность. Отчасти народная гордость мешает французам отнестись критически к этой теории. Несомненная заслуга Дюги прежде всего заключается в том, что в своем историческом исследовании «Разделение властей и национальное собрание 1789 г.» он доказал, что Монтескье понимал разделение властей в смысле разделения верховной власти или разделения суверенитета. Точно так же понимали это разделение и большинство членов французского национального собрания 1789 г. Поэтому разделение властей в той формулировке, которую дал этой теории Монтескье, совершенно непримиримо с теорией Руссо о неделимости суверенитета. Все попытки примирить эти теории и доказать, что Руссо тоже стоял за разделение властей в смысле Монтескье (у нас такую попытку сделал Максим Ковалевский в своем сочинении «Происхождение современной демократии»), совершенно неудачны и ошибочны. При решении теоретически вопроса Дюги в своем сочинении «Конституционное право» определенно высказывается против системы разделения властей. Он говорит: «Если и существуют многие органы представительства (национальной воли), то суверенитет не может быть разделен на многие элементы, и нельзя под именем власти наделять каждый из этих органов частичным элементом суверенитета, остающегося, несмотря на это деление, единым и неделимым». Тем не менее и в современной французской литературе государственного права есть сторонники разделения властей. Во Франции до сих пор разделение властей является официальной теорией, которая признана и санкционирована конституцией и на которую всегда ссылаются в парламентских дебатах и в других официальных документах и представители власти, и депутаты. Из французских теоретиков, отстаивающих принцип разделения властей, особого внимания заслуживает 64 Эсмен; он доказывает, что даже парламентская система нисколько не противоречит ему. По его словам, «все упреки против теории разделения властей основательны только тогда, когда они касаются абсолютного разделения властей». Следовательно, Эсмен тоже отрицает абсолютное разделение властей и защищает лишь их относительное разделение. Но под относительным разделением властей он понимает, в конце концов, подчинение всех властей единой законодательной власти и признание за законодательной властью верховенства. По его мнению, «не подлежит сомнению, что между различными видами власти должно быть постоянное общение и что их действия должны быть координированы; при этом одна из властей неизбежно будет преобладать над другими, и такой властью естественно окажется власть законодательная». Другой теоретик французского государственного права, признающий теорию разделения властей, Г. Лебон утверждает, что если из принципа разделения властей «выводят следствие, что представители исполнительной власти должны быть совершенно обособлены от законодательной власти, как это устанавливали многие французские конституции, тогда не создают гарантию для прав граждан, а лишают законодателя полезного контроля над действиями правительства и организуют непрерывный конфликт между обеими властями. Если, наконец, идут еще дальше и устанавливают, что действия административных властей не подлежат компетенции судебных учреждений, тогда права граждан, защита которых была первоначально главною целью разделения властей, подвергаются опасности быть наиболее грубо нарушенными, и восстановить их не будет никаких правовых средств. Последнее много раз происходило во Франции, и даже теперь этот недостаток французского государственного права если несколько и смягчен, то все-таки не совсем устранен». Но что же остается от разделения властей, если установить общение между ними, если признать законодательную власть первенствующей и руководящей и если подчинить акты административной власти контролю судебных учреждений? Ясно, что это разделение властей сводится, в конце концов, к их полному объединению. Французские теоретики государственного права продолжают отстаивать официально признанную формулу разделения властей, лишая ее всякого содержания. В русской литературе большинство ученых высказывается за теорию разделения властей, но с некоторыми ограничениями. Так, уже Градовский в своем сочинении «Государственное право важнейших европейских держав» утверждает, что «отвергая принцип разделения властей в том виде, как он предложен Монтескье, конституции как европейские, так и американские продолжают заносить его в число своих основных законов». Совершенно того же взгляда придерживается и М. М. Ковалевский, который в своих сочинениях, имеющих по преимуществу исторический характер, не анализирует саму теорию разделения властей, а констатирует ее влияние на государственный строй современных конституционных государств. Гораздо более отступает от теории разделения властей Коркунов; он выдвигает принцип «совместности властвования». По его мнению, «взаимное сдерживание отдельных органов власти получается не только при осуществлении различных функций власти различными органами, но точно так же и при совместном осуществлении одной и той же функции несколькими органами». Проанализировав затем различные формы совместного осуществления власти, Коркунов приходит к заключению, что «при возведении начала разделения властей к более общему началу совместности властвования явления действительной политической жизни, не согласимые с разделением властей, противоречащие ему, оказываются вполне объяснимыми обобщенным началом совместности властвования». Однако эта теория кажется верной только до тех пор, пока мы принимаем ее необходимые предпосылки, которые заключаются в отстаиваемых Коркуновым взглядах на государственную власть и на само государство; только признав, что государство есть не более как правовое отношение властвования и что государственная власть принадлежит органам государственной власти, а не самому государству, мы сможем признавать и теорию совместности властвования. Но если мы будем придерживаться единственно правильной 65 точки зрения, что государственная власть принадлежит самому государству, то все аргументы, приводимые Коркуновым против разделения властей и в пользу совместности властвования, окажутся аргументами в пользу единства государственной власти. Более молодые современные нам русские теоретики государственного права также высказываются за теорию разделения властей. Особенно решительным сторонником ее является Н.И. Лазаревский в своих «Лекциях по русскому государственному праву», том 1, «Конституционное право». Он считает разделение властей «основным понятием» конституционного права и как таковое кладет его в основание своей системы конституционного права. Однако в изложении принципов разделения властей Лазаревский значительно отступает от Монтескье, так как признает, что «учение Монтескье о том, что должно существовать равноправне трех обособленных, вполне раздельных властей, неправильно». Вместо равноправия властей он отстаивает положение, что «законодательная власть должна стоять над другими властями в государстве». Верховенство законодательной власти Лазаревский основывает на верховенстве закона. По его словам, «принципиальное признание верховенства закона в настоящее время ни с чьей стороны возражений не вызывает». Но отвергнуть равенство властей и признать верховенство законодательной власти — это значит лишить разделение властей всех его существенных признаков. Так же точно Лазаревский не признает распределения властей между отдельными органами государственной власти. Он утверждает, что «положение монарха может быть определено не как положение главы какой-либо одной из трех властей, но как положение главы государства». При таком понимании принцип разделения властей оказывается лишенным своего настоящего содержания. Очевидно, это уже не разделение властей, а нечто другое. Не лучшую услугу теории разделения властей оказывает и другой наш: выдающийся молодой ученый, В. М. Гессен. Он прежде всего вносит терминологическую поправку, так как считает нужным говорить об «обособлении властей» ввиду того, что Монтескье нигде не говорит о разделении — division, separation, a употребляемый им термин distribution des trois pouvoir следует переводить «распределение трех властей». Затем, рассмотрев возражения против теории разделения властей, он приходит к заключению, что «отрицательное отношение к теории Монтескье направлено не столько против принципа обособления, сколько против принципа уравновешения властей». По его мнению, «правильно понимаемое обособление властей ничего общего с разделением власти не имеет. Такое обособление требует отделения правительственной и судебной власти от законодательной не для того, чтобы их поставить рядом с нею, а для того, чтобы их подчинить ей; оно требует подзаконности правительственной и судебной власти». В конце концов В. М. Гессен признает и принцип единства государственной власти; он утверждает, что «теория уравновешения властей, возникшая на почве механической концепции государства, противоречит принципу единства и нераздельности государственной власти». Все эти взгляды очень трудно друг с другом примирить и согласовать. Поэтому приходится признать, что Н. И. Лазаревский и В. М. Гессен, стремясь отстоять теорию разделения властей, не могут быть последовательными и запутываются в противоречиях. Но и среди русских теоретиков государственного права есть безусловные противники теории разделения властей. Особенно определенно в этом смысле высказывается проф. А. С. Алексеев. По его мнению, «теория Монтескье не только не находит своего осуществления в Англии, но и вообще неосуществима, ибо основана на неверных предположениях. Те три власти, которые различает Монтескье, вовсе не самостоятельные государственные власти, а не что иное, как различные функции одной и той же государственной власти, единой по существу». Итак, и практика государственных учреждений в современных конституционных государствах, и теоретическая мысль представителей науки государственного права одинаково приводят нас к тому, что теория разделения властей неправильна. Как государство есть нечто целое, единое и неделимое, так и власть неделима; власть 66 принадлежит государству в его целом, и в нем не несколько властей, а только одна единая власть. Поэтому разделение властей не может служить гарантией политической свободы, неприкосновенности личности, конституционного строя и правового характера государственной власти. Эти гарантии мы должны искать в других принципах и других основах современного конституционного государства. Но отвергнув теорию разделения властей в ее целом, мы все-таки должны признать, что некоторые положения ее, как, например, требование, чтобы законодательная власть принадлежала народному представительству, несомненно, очень способствовали развитию конституционных идей. Есть и другие обстоятельства, приводящие к тому, что эта теория так прочно и так долго держится в науке государственного права, и заставляющие некоторых теоретиков до сих пор, хотя бы отчасти, отстаивать ее. Таких обстоятельств два: первое заключается в том, что функции государственной власти можно разделить на три вида — государственная власть или законодательствует, или управляет, или судит; второе — в том, что в современном конституционном или правовом государстве существует несколько органов, в которых сосредоточена верховная государственная власть. Эти два обстоятельства уже для Монтескье послужили главным аргументом в пользу теории разделения властей. При этом уже у него, как и у всех последующих теоретиков, они совершенно не согласованы. Монтескье прежде всего утверждает, что законодательная, исполнительная и судебная власти должны быть отделены одна от другой и не должны сосредоточиваться в одних и тех же руках. По его мнению, каждая из них должна быть поручена отдельным органам, которые в своей деятельности должны уравновешивать друг друга. Таким образом, первоначально по теории Монтескье следует, что разделение власти между различными органами должно соответствовать распределению между ними трех функций — законодательной, исполнительной и судебной. Но затем он утверждает, что судебная власть, так сказать, ничтожна. Она поручается судьям, функционирующим только в определенные периоды; судьями часто бывают граждане, которые, исполнив свои обязанности, возвращаются затем к своим практическим делам и перестают выполнять функции власти. Таким образом, представителей судебной власти среди трех верховных властей, которые установил Монтескье, не существует. Но так как если будет существовать только две власти, то они могут вступить в неразрешимый конфликт, ибо не будет третьего примиряющего и уравновешивающего элемента, то Монтескье признает необходимым, чтобы роль третьей власти принадлежала второй палате народных представителей. Поэтому, согласно его требованию, чтобы в конституционном государстве было три верховных органа власти, народное представительство должно быть разделено на две палаты. Таким образом, из двух палат и представителя исполнительной власти и должны быть созданы те три элемента, между которыми должна быть разделена власть и которые друг друга уравновешивали бы. Но все это показывает, что сам Монтескье видел, что разделение власти между органами и распределение между ними функций не совпадает. Действительно, можно говорить только о преимущественном сосредоточении той или другой функции у того или другого органа. Так, законодательная деятельность лишь по преимуществу есть функция народного представительства. Правительственная деятельность опять-таки только в значительной мере принадлежит главе государства — монарху или президенту. Что же касается судебной власти, то особые органы верховной судебной власти существуют только в С.-А. Соединенных Штатах. Что народному представительству только по преимуществу принадлежит законодательная власть, это видно из того, что народное представительно не «единолично» издает законы и, кроме того, выполняет целый ряд функций правительственной власти. Так, народному представительству принадлежит контроль над действиями правительства. Этот контроль осуществляется путем запросов министрам и утверждения или неутверждения бюджета. Затем народному представительству при парламентской системе принадлежит самое близкое участие в руководстве политикой, так как министрами назначаются лица из его 67 среды. Что касается носителя исполнительной власти или главы государства, монарха и президента, то опять-таки ему принадлежит только по преимуществу исполнительная власть, но не исключительно. В свою очередь монарх или президент, кроме того, выполняет целый ряд законодательных функций, так как ему принадлежит утверждение или санкция законов. Там, где такой санкции не существует, президенту республики или королю предоставляется право налагать veto на законопроекты, принятые палатами. Затем, в большинстве конституционных государств главе государства принадлежит право законодательной инициативы. К этим правам глав государств, позволяющим им влиять на законодательство, надо отнести также право созыва и роспуска народного представительства. При этом правительственные и особенно законодательные функции так своеобразно распределены между народным представительством, с одной стороны, и монархом или президентом республики, с другой, что в каждом отдельном акте государственной власти непременно участвуют два или три органа власти. Если одному принадлежит начальная стадия какого-нибудь акта, то другому заключительная, и наоборот, если у одного в руках находится заключительная стадия, то другому принадлежит начальная. Таким образом, в современном правовом или конституционном государстве каждый действительно важный акт государственной власти есть всегда результат согласованной деятельности нескольких органов или нескольких учреждений государственной власти. Ни один важный акт государственной власти не может быть издан без содействия и сотрудничества нескольких органов. Но это показывает, что единству государственной власти нисколько не противоречит существование нескольких органов государственной власти. Еще менее противоречит этому единству то деление, которое проводится между отдельными функциями государства. Отдельные функции государства, всегда строго разделенные формально, материально, как мы видели, объединены в верховных органах государственной власти. Напротив, между подчиненными органами власти они разделены и материально. Здесь каждому отдельному органу поручается какая-нибудь одна функция. Особенно строго распределяются между различными органами судебные и административные функции. Различная организация этих органов и устранение всякого смешения их функций составляют необходимый признак благоустроенного правового государства. На этом основании все сторонники правового строя в России высказываются против института земских начальников. Но это не есть аргумент в пользу разделения властей. Относительно подчиненных органов власти не может быть никакого сомнения, что они, несмотря на свое различие, осуществляют одну и ту же единую власть государства. 68 Глава VIII. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ Мы пришли к заключению, что теория разделения властей неверна; следовательно, разделение властей не может служить гарантией правового строя. Эти гарантии мы должны искать в других свойствах государственной власти. Они, очевидно, заключаются не в том или другом распределении власти, а в самом характере государственной власти. Вникнув в этот характер, мы придем к заключению, что власть в правовом или конституционном государстве отличается от фактического господства тем, что она ограничена законом и осуществляет свое господство только в силу и на основании закона. В современном государстве власть должна быть подзаконна, или подчинена верховенству закона. Верховенство закона есть наиболее важное проявление того господства права, которое, как мы установили, составляет основную черту конституционного государства; оно не исчерпывает господства права, но составляет главную составную часть его. Господство права, или верховенство закона, выражается в трех элементах, присущих организации современного конституционного государства. Эти элементы заключаются 1) в том, что деятельность высших органов государственной власти в современном государстве подчинена высшему закону, или конституции; 2) в том, что за личностью в современном государстве признается известная сфера необходимо присущих ей прав, так называемые права человека и гражданина, ограничивающие государственную власть, и, наконец, 3) в том, что законодательство в современном государстве должно быть согласовано с народным правосознанием, а для этого органом законодательства в нем служит народное представительство. Эти три элемента: конституция, права человека и гражданина и народное представительство — и гарантируют верховенство закона в современном государстве, а следовательно, и правовой характер современной государственной власти. Переходя теперь к рассмотрению этих основ организации современного государства, мы должны начать с вопроса о том, что такое конституция. В ходячем представлении с 69 понятием конституции связываются все основные черты современного государства. С исторической точки зрения это совершенно правильно. Впервые благодаря конституции как организация, так и деятельность органов верховной государственной власти подчиняются строго определенным законам. Правовое государство и государство, обладающее конституцией, потому и являются синонимами, что со времени учреждения конституции и деятельность верховной государственной власти становится подзаконной, т.е. приобретает правовой характер. Особенно важно то, что и все дальнейшие изменения в государственном строе, или в организации и функциях верховных учреждений современного государства, могут произойти только путем издания нового конституционного закона и никак иначе. Часто конституцией называется совокупность основных законов, устанавливающих государственный строй и определяющих состав, организацию и деятельность высших органов государственной власти. В этом смысле всякое государство, даже абсолютномонархическое, имеет свою конституцию. Так, в известном французском сборнике конституций Дареста, вышедшем вторым изданием в 1891 г., приведены и прежние Основные Государственные Законы России, определявшие нормы государственного устройства с неограниченным самодержавием. Соответственно этому во Франции термин «конституционное право» употребляется как общий термин для всякого государственного права. Но такое расширение понятий «конституции» и «конституционного права» ведет к путанице и смешению понятий. В интересах научного познания понятие конституции необходимо определить так, чтобы в него включались основные черты правового или конституционного государства. Тогда оно будет применимо только к конституционным, но не абсолютно-монархическим государствам. В этом более узком смысле конституция есть совокупность основных или учредительных норм права, которые устанавливают строй государства, обладающего народным представительством, и определяют состав и организацию высших органов государственной власти, гарантируя подзаконность их деятельности и неприкосновенность известных прав личности. Это определение хорошо тем, что оно отмечает те основные элементы, которые наиболее характерны для конституции в современном правовом или конституционном государстве. Конституция и конституционные учреждения прежде всего и наиболее определенно были выработаны в Англии. Англия является классической конституционной страной. Все остальные конституционные государства при создании у себя конституции и конституционных учреждений заимствовали их у Англии. Тем не менее конституционным учреждениям Англии присущи некоторые индивидуальные особенности, чуждые большинству конституционных государств. Наиболее важной из этих особенностей является самый характер английской конституции. Теория государственного права устанавливает различие между двумя понятиями конституции — между конституцией и конституционным законом в материальном смысле и конституцией и конституционным законом в формальном смысле. Под первыми, т.е. под конституционными законами в материальном смысле, понимаются те законы, которые по своему содержанию являются верховными или конституционными. Это те законы, которые определяют государственное устройство, организацию и деятельность высших органов государственной власти и основные права граждан. Под вторыми, т.е. конституционными законами в формальном смысле, понимаются те законы, которые издаются в особом порядке, установленном для издания конституционных законов и отличающемся от порядка издания обыкновенных законов. Параллельно с этим проводится различие между писанными и неписанными конституциями. Писанные конституции — это конституции, выраженные в статьях закона, сгруппированных в одном или нескольких законодательных актах. Если писанная конституция состоит из одного акта, то последний обыкновенно называется конституционной хартией. Напротив, неписанные конституции состоят главным образом из норм неписанного права, т.е. из 70 прецедентов и обычаев и только отчасти из законодательных актов. Дальше мы увидим, что это различие между писанными и неписанными конституциями имеет только относительное значение. Здесь важно отметить, что классическая конституционная страна в Европе — Англия — совсем не выработала понятия конституционного закона в формальном смысле и не имеет писанной конституции. Все английские законы изменяются одинаково по постановлению обеих палат парламента и с согласия короля. На основании этого в XVIII веке английский юрист Блэкстон, написавший комментарии действующего английского права, и писатель швейцарец Де Лольм, издавший в 1771 г. книгу об английской конституции, выдвинули принцип всемогущества английского парламента. Де Лольм выразил этот принцип в парадоксальном положении, что английский парламент все может, он не может только превратить мужчину в женщину и женщину в мужчину. Это положение о всемогуществе английского парламента часто повторяется до сих пор. Но оно не совсем верно. В английской конституции существуют такие нормы права, гарантирующие личность и связанные с основными принципами правового порядка, которых парламент никогда не может коснуться. С другой стороны, некоторые черты государственного устройства Англии, как, например, права палаты лордов или прерогативы короля, не могут быть отменены путем обычного законодательства. Органы власти, заинтересованные в сохранении их, вправе не давать своего согласия на их отмену и настаивать на апелляции к народу и на переизбрании палаты общин, т.е. народных представителей. Следовательно, и в Англии, несомненно, существуют высшие законы, которые особенно гарантируют неприкосновенность правового порядка. Но никаких формальных правил относительно большей неприкосновенности одних правовых норм в сравнении с другими в английском конституционном праве не установлено. Писанной конституции в Англии нет. В Англии нормы конституционного права никогда не были кодифицированы, если не считать эпохи великой английской революции. Но это был очень короткий период. Законодательство того времени, как явившееся результатом исключительных событий, не могло упрочиться, и оно не вошло в действующее конституционное право Англии. Но и действующее конституционное право Англии состоит не из одних прецедентов и обычаев, а и из целого ряда законодательных актов. Конституционные законы в Англии издавались или для отмены злоупотреблений и для решения спорных вопросов конституционного права, или для проведения конституционных реформ. К первой категории конституционных законов принадлежат великая хартия вольностей 1215 г., петиция о правах 1628 г., Habeas Corpus Act 1679 г. и билль о правах 1689 г.13[1] Это наиболее важные законодательные акты Англии. Но и вторая категория законодательных актов имеет чрезвычайно важное значение для английского конституционного права. К ней относятся закон о престолонаследии 1701 г., два акта о соединении Англии с Шотландией 1707 г. и с Ирландией 1801 г. и, наконец, три парламентские избирательные реформы XIX века. Однако наиболее важные конституционные учреждения Англии слагались медленно и постепенно, путем обычаев и прецедентов. Некоторые из них возникли в отдаленные века, как, например, сам парламент, происхождение которого коренится в глубокой древности и не может быть точно определено хронологически, другие — в более близкое к нам время, как, например, кабинет министров. Поэтому англичане с полным правом говорят, что их конституция не установлена, а выросла. В этом отношении с Англией может быть поставлена рядом только Венгрия, в которой конституционные учреждения также развивались исторически, путем долгого процесса, а конституционное право никогда не было целиком кодифицировано. Во всех остальных конституционных государствах существуют писанные конституции, или конституционные хартии. Но хотя в Англии нет писанной конституции, тем не менее идея писанных конституций тоже английского, или, вернее, англосаксонского, 13[1] [См. прим. 5.] 71 происхождения. В самой Англии эта идея была выдвинута в половине XVII столетия, в эпоху великой английской революции, руководителем которой был так называемый Долгий Парламент. Однако требование писанной конституции вышло не из среды Долгого Парламента. Первое и наиболее определенное выражение идея писанной конституции получила в проекте, выработанном революционной армией в 1647 г. и названном соглашением народа (agreement of people). Этот проект не сделался законом, но спустя 6 лет, в 1653 г., когда во главе английского правительства стал Кромвель, он издал конституционную хартию под именем «орудия правления» (instrument of government). Эта конституционная хартия по содержанию совершенно отличалась от того проекта, который был выработан революционной армией. Но и по форме «орудие правления» было настоящей писанной конституцией. Однако эта конституция существовала лишь несколько лет, и уже в 1659 г., немедленно после смерти Кромвеля, она была отменена. Еще большее значение, чем эта английская конституция, имело то применение, которое идея писанной конституции получила на девственной почве Америки. Последователи пуританской секты, спасаясь от религиозного преследования в Англии, с начала XVII столетия переселялись в Америку и основывали там целый ряд колоний. В 1620 г. партия таких беглецов, прежде чем основать колонию Новый Плимут, заключила договор, подобный пуританскому церковному соглашению, так называемый covenant14[2], который являлся учредительным актом для этой колонии. За учредительным актом этой колонии последовал целый ряд подобных актов других колоний. Одному из таких актов в колонии Коннектикут был придан вид настоящей конституции; он был выработан в 1632г. и получил утверждение народа в 1638 г., т.е. предшествовал проекту, выработанному революционной армией самой Англии. Однако королевское одобрение этот конституционный акт получил только при Карле II в 1662 г., когда он и был издан в качестве хартии колонии Коннектикут. Не меньшее значение имеет и хартия колонии РодАйленд, получившая королевское одобрение в следующем 1663 г. Этими и другими подобными хартиями колониям предоставлялось право выбирать свои собственные палаты депутатов, но подчиненные английскому парламенту. Законодательная деятельность колониальных учреждений была ограничена властью губернаторов и находится под контролем губернаторов, назначаемых королем Англии и ответственных только перед ним. Вообще эти королевские хартии не являются настоящими конституциями; от современных конституционных хартий они отличаются хотя бы уже потому, что колонии не были государствами. Но когда произошло отпадение колоний от Англии, они легко были превращены в настоящие конституционные хартии. Так, хартия Коннектикута уже в 1676 г. была издана в качестве конституции штата Коннектикут, причем произведенные в ней изменения заключались лишь в том, что она была провозглашена от имени народа, а не короля, и вместо назначения губернаторов было установлено их избрание. Точно так же была превращена в конституцию и прежняя королевская хартия штата Род-Айленд. Отпадение североамериканских колоний от Англии послужило могучим толчком для разработки писанных конституций. Декларация независимости, выработанная на конгрессе, состоявшем из делегатов от всех штатов, и провозглашенная 4 января 1776 г., была первым государственным актом, получившим всемирную известность, в котором был провозглашен принцип, что сам народ должен располагать своими судьбами и организовывать свое государство. Эта идея народовластия положена в основание конституций всех тех государственных образований, которые возникли благодаря отпадению колоний от Англии и превращению их в свободные штаты Северной Америки. Из конституций этих государств особенно большое значение имела конституция штата Виргиния; по времени своего учреждения она даже несколько предупредила декларацию 14[2] [Ковенант (букв.: соглашение, договор) — название соглашений или союзов сторонников Реформации в Шотландии, заключавшихся в XVI—XVII вв. для защиты кальвинистской церкви и независимости страны. Первый ковенант был заключен в 1557 г.] 72 независимости. Не меньшее значение имела и первая федеральная конституция, так как это была конституция, имевшая силу уже не для отдельного небольшого штата, а для громадного государства, обнимавшего все штаты. Сперва, с 1781 г., такой конституцией были так называемые статьи конфедерации, на основании которых заключался вечный союз между 13 штатами, отпавшими от Англии. Но скоро оказалось, что этих статей конфедерации было недостаточно для того, чтобы создать из 13 штатов организованное единство и нечто цельное в государственном отношении. В 1787 г. был созван конгресс в Филадельфии, который выработал конституцию С.-Американских Соединенных Штатов, действующую и поныне; она превратила союз штатов Северной Америки в союзное государство. В Европе тексты этих конституций скоро стали известны, и, получив самое широкое распространение, они оказали особенно сильное влияние на общественное мнение Франции. Популярность конституционной идеи во Франции обнаружилась в 1788 г. при выборах депутатов в Генеральные Штаты. Во многих наказах (cahiers) депутатам предписывалось заняться выработкой конституции. Представители третьего сословия были единодушны в своем стремлении дать конституцию Франции, и потому, как только Генеральные Штаты реорганизовались в Национальное собрание, первым делом его было объявить, что его задача — выработать конституцию. Выработка эта затянулась на довольно продолжительное время, и конституция была утверждена только 3 сентября 1791 г. Это была первая конституция Франции и вообще первая конституция на континенте Европы. В ней впервые в точных определениях закона были выставлены те положения относительно организации и деятельности государства, которые до того образованные люди Европы черпали только из философских сочинений вождей мысли. Поэтому конституция 1791 г. оказала громадное влияние и послужила образцом для целого ряда конституций. Долго она считалась образцовой конституцией, и в ней видели идеал. Во всех государствах, в которых непосредственно после того было приступлено к выработке конституции, основные черты государственного устройства были заимствованы из этой конституции. Таковы были конституции республик Батав-ской и Гельветической; такова же и монархическая конституция Испании, выработанная кортесами в 1812 г. Основная черта этих конституций, так же как и конституции С.-А. Соединенных Штатов, заключалась в том, что они являлись результатом учредительных прав нации и что в них был провозглашен принцип народного суверенитета. Во французской конституции это было вполне определенно подчеркнуто тем, что хотя эта конституция была органичным законом для конституционной монархии, она не нуждалась в утверждении короля. Она входила в силу без всякого утверждения и сообщалась королю только к сведению, а не для утверждения. Аналогичное постановление было включено и в те статьи ее, которые предусматривали ее изменение. Таким образом, в этой конституции был выражен принцип, что конституция как организационный устав государства есть результат воли народа и что только народ имеет право устанавливать свою конституцию. Этот принцип еще более был подчеркнут в следующей французской конституции, которая должна была организовать уже республиканскую Францию. В знаменитый день 10 августа 1792 г. была низвергнута монархия, а вместе с тем сама собой пала и конституция 3 сентября 1791 г. Тогда был созван учредительный конвент, который выработал сперва чрезвычайно демократическую конституцию, известную под именем конституции 1793 г., но она была отменена раньше, чем вступила в силу. Затем тот же конвент, после ряда переворотов, в измененном своем составе выработал новую конституцию, уже другого характера; это была конституция 1795 г., или так называемая директориальная конституция, которая затем и действовала до переворота, совершенного Наполеоном. Во всех этих конституциях признается, что конституция есть выражение воли народа и что только народ может создавать свою конституцию. Замечательно, что и Наполеон в своих конституциях, которые, правда, сводили конституционные права народа и его свободу к иллюзии, тем не менее удерживал этот принцип и всегда настаивал на том, что он 73 является как консулом, так впоследствии и императором благодаря воле народа и по постановлению народа. Таким образом, понятие конституции первоначально было неразрывно связано с идеей народного суверенитета и учредительных прав народа. Это понятие конституции не могло долго удержаться, так как скоро наступила реакция. После ниспровержения Наполеона и восстановления прежней монархической власти вместе с прежней династией Бурбонов новый король Людовик XVIII, возвращаясь во Францию, даровал своему народу так называемую Хартию. Эта Хартия 1814 г. вводила совершенно новый конституционный принцип и заключала в себе такие элементы, которые заставляли дать новое определение понятию конституции. Она была первой октроированной конституцией, так как являлась не результатом народной воли и учредительных прав нации, а следствием уступок со стороны традиционной монархической власти. Источником ее была монархия; монарх, являвшийся главою государства с незапамятных времен, учреждал ее по своей доброй воле, он дарил ее народу. Таким образом, разница между прежним понятием конституции и новым была громадна. Но эта разница в конце концов сводилась все-таки к вопросу о происхождении конституции, а не к самому важному вопросу о ее существе. По своему существу и октроированная конституция вводила новый принцип государственного устройства. Хотя она была выражением воли абсолютного монарха, но это была последняя его воля как абсолютного монарха. Она была последним актом абсолютной монархии, ею абсолютная монархия упразднялась и устанавливалась монархия конституционная. Следовательно, октроированная конституция подлежала дальнейшим изменениям не иначе, как с согласия народных представителей, выражающих волю народа; только если народные представители принимали решение о поправке или изменении конституции, только в таком случае она подлежала изменению. Однако этот несомненный смысл всякой октроированной конституции был выяснен не сразу, а только после целого ряда исторических событий и главным образом после июльской революции 1830 г. Старшая линия Бурбонов поплатилась даже престолом во Франции из-за того, что короли из этой линии и их правительства стремились придать другой смысл октроированной конституции, сохранявший за королевской властью некоторую долю самостоятельных учредительных прав. Конституционная Хартия 1814 г. также имела большое влияние на развитие конституционных учреждений в европейских государствах; она послужила образцом для целого ряда аналогичных монархических конституций. Особенно в государствах южной Германии было издано много конституций этого типа. До сих пор еще действуют аналогичные конституции, изданные в Баварии в 1818 г., в Бадене и Вюртемберге в 1819 г., в Гессене в 1820 г. и в Саксонии в 1830 г. Впрочем, эти конституции, в отличие от октроированных, или дарованных конституций, обыкновенно называются актированными, т.е. договорными. Действительно, формально они были не следствием единоличной воли короля, а результатом соглашения короля с земскими чинами или прежним сословным представительством, которое специально для этого созывалось. В некоторых государствах, как, например, в Вюртемберге, земские чины созывались вплоть до начала XIX столетия, в других государствах, хотя и был значительный промежуток, когда они не созывались, память о них была еще жива. В том и другом случае было естественно при выработке конституции обратиться к ним, так как введение конституции означало и реорганизацию самих земских чинов в народное представительство. По содержанию эти конституции чрезвычайно приближались к французской Хартии 1814 г.; что же касается их формы как договорного акта, то она указывала на их происхождение, а не на их существо. Все видные немецкие теоретики государственного права первой половины XIX столетия, как Клюбер, оба Захариэ, Цэпфль, Р. фон Моль и др., согласны в том, что название этих конституций пактированными указывает на их происхождения, а не на их правовой характер. Впрочем, Р. фон Моль еще в сороковых годах XIX столетия во втором издании своего «Государственного права Вюртембергского королевства» утверждал, что 74 договорной характер этих конституций не вполне уничтожался с изданием их и что известные черты договорности остались им присущи. Это мнение было, несомненно, результатом невыработанности основных понятий государственного права. В современной теории государственного права является общепризнанным положение, что договор может только предшествовать изданию конституции так же, как и созданию нового государства. Но сама конституция никогда не бывает договором, а всегда есть закон, и следовательно, государственное устройство, организация и функции высших органов государственной власти всегда основаны на законе, а не на договоре. Следующий этап в развитии конституционной идеи был создан движением 1830—1831 гг. В 1830г. июльская революция во Франции привела к падению старшей линии Бурбонов. Хартия Людовика XVIII была пересмотрена и опубликована как пересмотренная хартия представителем новой династии Людовиком Филиппом. Но гораздо большее значение имела конституция Бельгии. Бельгия, объединенная на Венском конгрессе с Голландией в одно королевство, была недовольна своим государственно-правовым положением; она стремилась к самобытности и независимости. В 1830 г. вспыхнуло восстание, которое увенчалось успехом и привело к образованию особого Бельгийского государства. Был созван конгресс для выработки конституции, закончивший свои работы в 1831 г. Выработанная им конституция 1831 г. по своим принципам представляет компромисс между первой французской конституцией 1791 г. и дарованной хартией Людовика XVIII 1814 г. С одной стороны, в этой конституции провозглашается, что суверенитет принадлежит нации и что все власти исходят от народа; с другой, эта конституция установила наследственную монархию и, таким образом, передала часть власти на все времена наследственным монархам. Несмотря на этот двойственный характер, или, может быть, благодаря ему бельгийская конституция имела громадное значение, она была особенно удобна как компромисс между принципами монархизма и народовластия. В 1848 г., в эпоху всеобщей революции в Европе, она послужила образцом для целого ряда конституций. Прежде всего сардинский король даровал своему королевству, состоявшему главным образом из Пьемонта и Сардинии, конституцию, сходную с бельгийской; впоследствии при объединении Италии эта конституция была распространена на все области Италии и действует до сих пор уже как конституция Итальянского королевства. Но затем принципы бельгийской конституции получили большую популярность в Германии. Они были заимствованы в Пруссии; дарованная конституция Пруссии 1848 г. в значительной мере являлась копией бельгийской конституции. В данный момент в Пруссии действует более аристократически-монархическая конституция 1851 г., так как в эпоху реакции ее дарованная конституция была пересмотрена и изменена соответственно требованиям времени. Такая же конституция была дарована в 1848 г. и Австрии. Наконец, из конституций этой эпохи чрезвычайно важное значение имела конституция, выработанная франкфуртским парламентом, т.е. представителями всего немецкого народа. Конституция эта предназначалась для всей Германии, т.е. ею все германские государства должны были быть объединены в одно союзное государство. Однако наступившая реакция помешала осуществлению этого плана, и сама эта конституция не вступила в силу. В шестидесятых и семидесятых годах XIX столетия политические движения опять привели к установлению целого ряда конституций. В Австрии конституция, дарованная в 1848 г., была отменена в 1851 г., и Австрия до 1861 г., т.е. до поражения ее в войне с Италией и Францией, снова превратилась в государство с неограниченной монархией; ныне действующая конституция Австрии состоит из тех конституционных законов, которые были изданы в период 1861—1867 гг. После выхода Австрии из Германского союза и распадения его Пруссия приступила к организации нового Северо-Немецкого союза, который был уже не союзом государств, а союзным государством, и оказался предшественником нынешней Германской империи. Для выработки конституции СевероНемецкого союза был созван учредительный рейхстаг. Особенно интересно то, что он был 75 избран на основании того избирательного закона, который был выработан франкфуртским парламентом 1849 г., но не вступил в силу, так как и сама конституция не была приведена в действие. При создании Северо-Германского союза Бисмарк для того, чтобы придать большей авторитетности новым учреждениям и добиться более полного объединения Германии, признал наиболее целесообразным опереться на народное представительство, избранное на основании этого популярного избирательного закона, вводившего всеобщее и прямое избирательное право. Конституция Северо-Немецкого союза при объединении всей Германии в 1871 г. была пересмотрена и превращена в конституцию Германской империи, как таковая она действует и теперь. Наконец, в 1870 г., после поражения Франции в войне с Германией, был низвергнут Наполеон III, и во Франции была учреждена республика. Эта республика 5 лет оставалась без конституции и управлялась тем Национальным Собранием, которое было созвано для заключения мира. Оно захватило в свои руки учредительную власть, но выработало конституционные законы только в 1875 г., и эти законы до сих пор сохраняют силу в качестве конституции третьей республики. Особенность этих конституционных законов, точно так же, как и конституции Германской империи, заключается в том, что в противоположность всем остальным конституциям они не содержат в себе декларации прав человека и гражданина. Но на этой особенности этих последних конституций мы остановимся в связи с вопросом о декларации прав человека и гражданина. Выше мы установили два понятия конституции или конституционного закона — материальное и формальное. Конституция в материальном смысле есть совокупность правовых норм, которые являются основными по своему содержанию. В этом смысле конституция есть известная система правовых норм, определяющих государственное устройство, организацию и функции высших государственных учреждений и гарантированные права граждан. Наряду с этим материальным понятием мы должны поставить формальное или формально-юридическое понятие конституции. С формальноюридической точки зрения конституция есть совокупность тех законов, которые снабжены особой санкцией или особенной неприкосновенностью. Большая неприкосновенность конституционных законов заключается в том, что для пересмотра и изменения их требуются особенно затруднительные формальности, более сложные и обременительные, чем для пересмотра обыкновенных законов. Эти более обременительные и сложные формальности отличаются чрезвычайным разнообразием. Каждая конституция устанавливает свои индивидуальные и своеобразные правила для изменения своих конституционных законов. В XVIII столетии считалось, что чем больше затруднений создают те условия, которые установлены для изменения конституционных законов и поправок к ним, тем лучше. Тогда достоинство конституционных законов видели в том, чтобы они были возможно более неподвижны и устойчивы. Теперь отношение к этому свойству конституционных законов изменилось, и в чрезмерной неподвижности конституционных законов видят препятствие к реформам и в известных случаях опасность для всего государственного строя. Соответственно тому взгляду, который господствовал в XVIII столетии на изменение конституции, в выработанной тогда федеральной конституции С.-А. Соединенных Штатов установлены чрезвычайно обременительные формальности для ее изменения или для поправок к ней. Так, для пересмотра конституции С.-А. Соединенных Штатов, или внесения поправки к ней, или изменения какой-нибудь ее статьи требуется, чтобы каждая из палат большинством двух третей приняла предложенное изменение и затем оно было бы утверждено законодательными собраниями ^ всех штатов. Параллельно с этим установлен и другой порядок изменения федеральной конституции, заключающийся в том, что законодательные собрания % всех штатов могут сделать постановление о созыве учредительного конвента, который и принимает решения о тех или иных изменениях, но они входят в силу только тогда, когда конвенты, созванные в трех четвертях штатов, их утвердят. Выполнение этих условий, установленных для изменения конституции С.-А. 76 Соединенных Штатов, настолько затруднительно, что второй из вышеописанных способов изменения конституции ни разу не применялся. Все поправки к конституции С.-А. Соединенных Штатов приняты первым способом. Притом за 120 лет, в течение которых действует конституция С.-А. Соединенных Штатов, было принято только 15 поправок, хотя за это время было предложено около тысячи поправок. Из них первые 12 поправок, принятые в первые 15 лет существования этой конституции, т.е. до 1803 г., представляют лишь дополнение или развитие этой конституции. Остальные 3 поправки были приняты только после глубокого государственного кризиса, который привел к междоусобной войне между северными и южными штатами, закончившейся победой северян над южанами. Эти факты могут служить лишним доказательством нецелесообразности очень затруднительных условий для изменения конституции. Не менее затруднительные условия были установлены и в первой французской конституции, утвержденной Национальным Собранием 3 сентября 1791 г. Для изменения этой конституции требовалось, чтобы постановление об изменении какой-нибудь статьи ее или о пересмотре известной части ее были приняты тремя следующими одно за другим законодательными собраниями, избиравшимися на два года, и притом в определенные сессии их. Затем назначались выборы нового собрания, так называемого собрания пересмотра, в которое не мог быть избран ни один член последнего законодательного собрания, и кроме того, это собрание пересмотра избиралось в увеличенном составе; только это собрание пересмотра могло приступить к изменению конституции, однако лишь в тех пределах, которые были указаны предшествовавшими постановлениями. Все эти правила устанавливали настолько затруднительные условия для пересмотра этой конституции и поправок к ней, что, весьма вероятно, ни одна поправка никогда не могла бы быть принята. Тем большей иронией судьбы надо признать тот факт, что эта формально столь забронированная и устойчивая конституция не просуществовала даже и одного года. Особенный интерес для нас представляют те правила, которые установлены для изменения теперь действующих конституций в государствах Западной Европы. Эти правила в высшей степени разнообразны; они то чрезвычайно обременительны, то чрезвычайно легки. Неожиданно очень легкая и несложная форма для изменения конституции установлена в Пруссии, где для того, чтобы какая-нибудь статья конституции была изменена, требуется, чтобы постановление об этом было принято дважды одним и тем же составом народного представительства и только на протяжении двадцати одного дня или трех недель. В Бельгии для того, чтобы конституция была изменена, обе палаты народных представителей должны принять соответственное постановление; в случае принятия такого постановления они распускаются и подлежат переизбранию; только этот переизбранный законодательный корпус может приступить к изменению конституции, причем постановления об изменении конституции должны быть приняты большинством уъ каждой из палат. В Австрии конституция пересматривается обычным составом народного представительства, но каждое постановление должно быть принято большинством в каждой из палат. В Швеции требуется, чтобы изменение было принято в двух последовательно один за другим избранных законодательных собраниях. Чрезвычайно важные правила для изменения конституции установлены в Швейцарии; они соответствуют демократическому характеру всего швейцарского государственного строя. Изменения швейцарской федеральной конституции принимаются обеими палатами народных представителей так же, как изменение всякого обыкновенного закона. Но всякое изменение конституции должно быть обязательно утверждено прямым голосованием народа, между тем как для издания обыкновенного закона такое прямое народное утверждение не обязательно, а только факультативно, т.е. в известных случаях оно может быть потребовано самими гражданами. Таким образом, швейцарская конституция может быть изменена только с согласия большинства швейцарских граждан, обладающих правом подачи голоса, и с согласия большинства кантонов, т.е. по крайней мере 11-12 Кантонов из 22-х. Кроме того, в Швейцарии существует чрезвычайно важное демократическое 77 учреждение, установленное только для конституционных законов, именно народная законодательная инициатива, которая заключается в том, что изменения конституционных законов могут быть предложены самими швейцарскими гражданами; для этого 50 000 граждан должны подписаться под требованием изменения тех или иных статей конституции или издания нового конституционного закона. Очень затруднительные условия для изменения конституционных законов сохранились в одной из наиболее старых конституций, именно в конституции Норвегии 1814 г. По этой конституции требуется, чтобы изменения были приняты в двух последовательно, одно за другим избранных собраниях народных представителей, и во второй раз притом большинством двух третей голосов. Чрезвычайно важно, что закон устанавливает безусловные ограничения, на основании которых изменения могут касаться только деталей конституции, но не могут изменять ее основных принципов. Это правило и придает норвежской конституции формально характер особенно устойчивый и неподвижный. Но действительное развитие этой конституции совсем не соответствовало ее формальному характеру. Определять, что является деталью, а что основными принципами, могло только, с одной стороны, правительство, а с другой, народное представительство. Правительство толковало это ограничение в возможно более широком смысле, а народное представительство в самом узком, и побеждало последнее. В конце концов это ограничение не помешало народному представительству принять постановление об отделении Норвегии от Швеции, ставить этот вопрос на непосредственное голосование народа, хотя оно не предусмотрено конституцией, и даже решать вопрос, оставаться ли Норвегии и дальше монархией или превратиться в республику. В Германской империи установлен чрезвычайно своеобразный способ изменения конституции, который, с одной стороны, соответствует федеративному строю ее, а с другой, тому, что руководящее значение в ней имеют монархи 22 монархических государств и сенаты трех аристократических республик: Гамбурга, Бремена и Любека, составляющих Германскую империю. Он заключается в том, что изменение принимается рейхстагом на таких же общих основаниях, т.е. простым большинством, как и изменение всякого обыкновенного закона; но в то время как изменение обыкновенных законов принимается или отвергается простым большинством и в Союзном Совете, состоящем из представителей правительств всех государств, составляющих Германскую империю, изменение конституционных законов считается отклоненным, если против него высказывается 14 голосов. Союзный Совет Германской империи состоит из 58 членов, причем голоса этих членов распределяются неравномерно между различными государствами, именно Пруссия имеет 17 голосов, Бавария — 6, два остальных королевства — Саксония и Вюртемберг по 4, два великих герцогства — Баден и Гессен по 3, затем два других герцогства — Мекленбург-Шверин и Брауншвейг по 2, а все остальные государства по одному. 14 голосов установлено потому, что при таком условии 17 голосов Пруссии вполне достаточно для того, чтобы отклонить какое бы то ни было изменение конституции, так же точно для этого достаточно соединенных голосов трех остальных королевств — Баварии, Саксонии и Вюртемберга, четырех южно-германских государств — Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессена и, наконец, всех мелких государств, обладающих только одним голосом. Таким образом, этой системой гарантировано правительству каждого государства известное влияние на изменение конституции. В современной Франции конституцией третьей республики установлена тоже своеобразная форма для ее изменения. Для него требуется, чтобы постановления об изменении конституции были предварительно приняты каждой палатой в отдельности; затем обе палаты соединяются в одну общую палату, которая называется Национальным Собранием, которое заседает не в Париже, а в Версале и является органом пересмотра. Национальное Собрание путем обыкновенного большинства всех числящихся в нем 78 членов принимает окончательное решение о той или другой поправке к конституции. Особняком стоит Италия. В статуте, или конституции, Италии нет никаких постановлений для изменения конституции. Но в широких слоях итальянского общества распространено убеждение, что пересмотр конституции в Италии не может быть произведен тем же составом народного представительства, в котором возник вопрос о пересмотре. Таким образом, согласно этому убеждению, если предложение о пересмотре принято в Италии собранием народных представителей, то оно должно быть распущено, и только после нового избрания собрание народных представителей может приступить к действительному пересмотру конституции. Однако здесь может быть поставлен вопрос, превратилось ли это требование уже в норму обычного права, или же оно является лишь господствующим убеждением; одни теоретики государственного права признают за ним характер нормы права, другие же отрицают. Особые правила для изменения конституции могут быть установлены только там, где существуют писанные конституции, или конституции в формальном смысле. Напротив, в тех государствах, где действует неписанная конституция, как, например, в Англии и Венгрии, таких правил не может существовать. Действительно, в Англии и Венгрии все законы, как обыкновенные, так и конституционные, изменяются совершенно одинаковым порядком. Это, однако, не значит, что английский или венгерский парламент могут изменять произвольно какие угодно из действующих государственно-правовых норм. Наоборот, несомненно, и в Англии, и в Венгрии известные принципы государственного устройства и государственного правопорядка признаются ненарушимыми. Установление особых правовых норм для изменения конституций, связанное с существованием писанных и неписанных конституций, приводит к различению двух типов конституций — гибких и негибких, изменчивых и устойчивых. Примером наименее гибкой конституции может служить конституция С.-А. Соединенных Штатов и отчасти Норвегии. Наиболее гибкие и наименее устойчивые конституции существуют, конечно, в тех государствах, где нет писанных конституций, т.е. в Англии и Венгрии. Затем следуют конституции тех государств, в которых правила для изменения конституции чрезвычайно просты и необременительны, как, например, конституции Пруссии и Италии. Теоретики государственного права указывают на то, что чрезмерная устойчивость конституции, неподатливость ее, негибкость может быть очень опасной не только для самой конституции, но и для всего государственного строя. Особенно Брайс в сочинении «Американская республика» и Дайси в книге «Основы государственного права Англии» останавливаются на преимуществах того или другого типа конституций и определенно высказываются в пользу гибкой и изменчивой конституции. Исторические факты, несомненно, подтверждают, что неподвижность конституции может быть сопряжена с известной опасностью. Из конституционной истории Франции, особенно из истории ее революций и государственных переворотов можно привести целый ряд доказательств этого положения. Ярким подтверждением его может служить и война между северными и южными штатами в Северной Америке в начале шестидесятых годов XIX столетия. Наконец, в самое недавнее время на один государственный переворот, именно на отделение Норвегии от Швеции, повлияла также неподатливость норвежской конституции. Народное представительство Норвегии — стортинг — стремилось провести известные реформы, но король Швеции, являвшийся и норвежским королем, утверждал, что эти реформы не могут быть проведены, так как они противоречат конституции. Спор перешел в конституционный конфликт, и, наконец, стортинг объявил шведского короля низложенным, после чего и произошло расторжение шведско-нор-вежской унии. Тем не менее умеренные гарантии устойчивости конституции являются, несомненно, разумным учреждением. Они обеспечивают прочность государственного строя и охраняют меньшинство от произвола часто случайного большинства, которое бывает склонно деспотически распоряжаться судьбами всего государства. Чрезвычайно важное значение имеют те формы, которые применяются при изменении 79 старых или издании новых конституционных законов. Формы эти очень различны: конституции могут быть пересмотрены или целиком, или частично; при частичном изменении конституции, т.е. при издании лишь некоторых новых конституционных законов, новые статьи могут или занять место старых, или составить приложение к конституции, или же, наконец, быть изданными в качестве отдельных законов, формально не связанных с конституционной хартией. В различных государствах применяются различные из этих форм, причем в некоторых государствах в одних случаях прибегают к одним формам, а в других — к другим. Так, в Швейцарии конституция 1848 г., впервые создавшая федеральный строй, была совершенно пересмотрена в 1874 г.; с тех пор конституция в Швейцарии уже не пересматривалась целиком; но в эту конституцию 1874 г. был внесен в различное время целый ряд изменений, причем новые статьи или изменяли, заменяли и дополняли старые, или вносились в соответственном месте с двойным обозначением номеров. Напротив, в тексте конституции С.-А. Соединенных Штатов, изданной в 1787 г., до сих пор не было изменено ни одно слово, все же изменения конституции присоединялись к ней в качестве ее прибавлений. Эти прибавления к конституции Соединенных Штатов, являющиеся более поздними законами, отменяют все те постановления конституции, которые не согласны с ними, так как по отношению к конституционным законам соблюдаются все те же принципы, что и к законам обыкновенным. Но чтобы решить, какие статьи конституции утратили значение действующих законов, а какие сохранили его, нужно правильно истолковать смысл как предшествующих, так и последующих статей законов. Таким образом, эта система необходимо приводит к тому, что в конституционной жизни страны приобретает большое значение толкование конституции, что мы и видим в действительности в С.-А. Соединенных Штатах. Во Франции конституционные законы третьей республики, изданные в 1875 г., несколько раз подвергались частичному пересмотру. При этом они изменялись различными способами: в некоторых случаях изменялись и дополнялись отдельные статьи этих законов, в других — издавались самостоятельные законы; они дополняют законы конституционные, хотя и изданы в порядке обычного законодательства, для чего предварительно в порядке конституционного законодательства противоречащие им статьи конституционных законов лишались своего конституционного характера. В Германской империи изменениям конституции придаются самые разнообразные формы, причем при выборе этих форм не соблюдается никакой системы, так что этот выбор, по-видимому, зависит от случайных причин. Целый ряд изменений в германской имперской конституции внесен в ее текст, как, например, отдельные пункты о расширении имперского законодательства на новые области законодательства, удлинение срока, на который избирается рейхстаг, с трех до пяти лет, установление вознаграждения для членов рейхстага. Но наряду с этим некоторые чрезвычайно важные изменения в конституции Германской империи произведены самостоятельными законодательными актами и не отмечены в ее тексте, хотя они отменяют или изменяют отдельные постановления этой конституции. Так, в тексте конституции ничего не говорится о присоединении к Германской империи области Эльзаса и Лотарингии и о распространении на нее имперской конституции, не упоминается об увеличении числа членов рейхстага пятнадцатью представителями от Эльзаса и Лотарингии, умалчивается о том, что распоряжения и приказы императора скрепляются не только имперским канцлером, но и его заместителями — статс-секретарями империи, и т.д. Таким образом, современный текст конституции Германской империи далеко не заключает в себе всех ее конституционных законов и не вполне соответствует даже писанной конституции, действующей в данное время в Германии. Теперь, когда мы познакомились в общих чертах с писанными конституциями, мы должны возвратиться к установленным выше двум понятиям конституции — формальному и материальному для того, чтобы определить, в каком отношении они находятся друг к другу. Прежде всего возникает вопрос: всегда ли конституционные 80 законы в формально-юридическом смысле являются также основными законами по существу, т.е. конституционными законами и в материальном смысле; иными словами, совпадает ли формальное понятие конституции с ее материальным понятием? На этот вопрос нужно дать отрицательный ответ. Достаточно даже поверхностного знакомства с конституциями, как прежними, так и современными, для того чтобы убедиться, что они содержат далеко не одни только постановления о государственном строе и об организации высших государственных учреждений. В конституции часто вносятся статьи очень незначительного содержания только потому, что в момент издания данной конституции те или другие постановления представляются очень важными. Такова была уже первая конституция Европы — французская конституция 1791 г., которая содержит целый ряд постановлений, определяющих детали устройства судов и деятельности административных властей. Так же точно в одной из более новых конституций — в конституции Германской империи 1871 г. мы найдем совершенно второстепенные постановления, касающиеся железных дорог, таможен, почты и телеграфа. Эти явления объясняются тем, что при создании совершенно нового государственного строя надо заботиться об организации не только главных, но и второстепенных учреждений. Так, необходимость регулировать в конституции Германской империи железнодорожное, таможенное и почтово-телеграфное дело вызывалась тем, что Германская империя — государство союзное, а потому необходимо было определить его компетенции, ограничивающие компетенции государств, входящих в союз. Но среди различных статей, несомненно, важных для существования и процветания германского единства, встречается целый ряд статей, совершенно мелких и неважных; эти статьи с таким же успехом могли бы быть регулированы и обыкновенным законодательством. Вследствие совсем других причин мы встречаем в конституциях отдельных штатов Северной Америки статьи, не имеющие ничего общего с основными законами. В государственном устройстве С.-А. Соединенных Штатов общее признание получило правило, по которому верховные суды имеют право исследовать вопрос, согласен ли тот или иной обыкновенный закон с конституцией. В тех случаях, когда суд признает обыкновенный закон противоречащим конституционным законам, он отказывается его применять, и тогда этот закон естественно теряет свою силу. Право определять конституционность или неконституционность того или другого закона принадлежит одинаково как верховному федеральному суду, который следит за согласованностью федерального законодательства и законодательства отдельных штатов с федеральной конституцией, так и верховным судам в отдельных штатах, которые следят за согласованностью обыкновенных законов данного штата с конституцией данного штата. И вот практика этих судов привела к совершенно неожиданным результатам. С одной стороны, эти суды своими решениями действительно ограждают конституционную свободу и ненарушимость конституции, но, с другой, они довольно определенно препятствуют известным реформам; особенно страдает от их решений социальное законодательство. Происходит это от того, что во многих конституциях принципы личной свободы формулированы так, что суды отказываются признавать законы, охраняющие интересы рабочих, как противоречащие свободе личности, гарантированной конституцией. Знаменитым примером является десятый раздел статьи первой федеральной конституции, который воспрещает издавать законы, «уничтожающие обязательную силу договоров». Эта статья была формулирована в то время, когда все верили, что свобода во всех сферах, даже в области экономических отношений, приносит только счастье и благо людям. Но теперь мы знаем, что эта вера оказалась иллюзией и что в сфере экономических отношений полная свобода не только не приносит счастья и блага людям, а ведет к неограниченной эксплуатации имущими обладателями средств производства неимущих носителей только физической силы, т.е. рабочих. Поэтому современное правосознание уже выработало то положение, что государство должно ограничивать свободу в сфере экономических отношений и регулировать их согласно с интересами всего народа, т.е. не только собственников, но и 81 рабочих. При посредстве законодательства современное государство стремится устранить неограниченную эксплуатацию рабочих, и это достигается путем создания законодательства социального. Последнее, однако, необходимо основано на ограничении различных свобод и, в частности, свободы договора. Ведь и законодательное ограничение рабочего времени, и установление нормальной заработной платы, и постановление относительно воскресного и праздничного отдыха, и всякие страхования от болезней и инвалидности, от неспособности к ТРУДУ и на случай смерти — все это связано с ограничениями различных видов свободы. С формально-юридической точки зрения, все это законодательство ведет к тому, что сфера господства частноправовых или гражданских отношений урезывается, и последние подчиняются не принципам свободного оборота, а нормам публичного права. Именно ввиду того, что социальное законодательство вносит новые принципы в организацию правового государства, несогласные с тем представлением об этом государстве, которое было общепринятым в XVIII столетии, часто случается, что суды в С.-А. Соединенных Штатах заявляют, что данный закон, например, о нормировке рабочего дня или рабочей платы, противоречит конституции как несогласный с принципами свободы гражданского оборота. Ввиду этого, чтобы спасти социальное законодательство от судов, в отдельных штатах часто приходится издавать социальные законы в порядке, установленном для издания конституционных законов. Такой порядок издания придает особую авторитетность и ненарушимость этим законам. Правильно изданные конституционные законы суд должен беспрекословно применять и не имеет права подвергать сомнению их законную силу. Кроме того, авторитет конституционных законов в отдельных штатах особенно велик благодаря тому, что эти законы получают всенародную санкцию. Как было уже сказано выше, в большинстве штатов конституционные законы вырабатываются конвентами, т.е. специально избранными учредительными собраниями, но они приобретают законную силу только после их утверждения прямым голосованием народа. То обстоятельство, что конституционные законы подлежат референдуму или утверждению прямым народным голосованием, представляет большое удобство для народного представительства, так как оно снимает с него ответственность за издание этих законов. Поэтому законодательные собрания отдельных штатов обнаруживают тенденцию уклоняться от издания и пересмотра законов путем обычного законодательства и передавать их на решение самого народа. Таким образом, возникает новый мотив для расширения тех областей, которые регулируются не обыкновенным, а конституционным законодательством. Так, например, в штатах С. Америки острым вопросом, который законодательные собрания часто не осмеливаются решать самостоятельно, является вопрос питейный, или о продаже спиртных напитков. С одной стороны, развитие алкоголизма вызывает в отдельных штатах необходимость законодательным путем ограничивать распространение этого социального зла, с другой, содержатели питейных заведений в современных демократиях обыкновенно очень влиятельны. Благодаря тому что они имеют помещения, где всегда бывает народ и устраиваются народные собрания, они легко могут приобретать много сторонников. Ввиду этого тем или другим отдельным народным представителям или даже целым политическим партиям в штатах Северной Америки часто бывает неудобно возбуждать против себя этих влиятельных лиц, а потому народные представительства штатов не решаются подвергнуть питейный вопрос окончательному урегулированию. Обычно этот и подобные ему вопросы опять-таки представляются на решение органов, создающих конституционное законодательство, и в результате снова получаются конституционные законы, не имеющие ничего общего с государственным устройством и деятельностью высших органов государственной власти. Все это приводит к тому, что в Штатах Северной Америки конституции приобретают совсем другой характер, чем в государствах Европы, они превращаются там в целые кодексы. Знаменитый исследователь государственного строя Американской республики Брайс приводит следующие интересные цифры: Конституция штата Нью-Гемпшира 1776 г. заключала в себе 600 слов, 82 конституция штата Миссури, изданная 100 лет спустя, в 1875 г., заключает в себе 26 000 слов; таким образом, эта вторая конституция больше чем в 43 раза пространнее первой. Здесь, конечно, не может быть уже и речи о том, чтобы конституция заключала в себе только постановления о государственном строе и организации высших государственных учреждений. В Швейцарии прямое народное законодательство оказывается причиной внесения в конституцию статей, не имеющих отношения к государственному строю и государственным учреждениям, вследствие других обстоятельств. Благодаря прямому народному законодательству в Швейцарии не только существуют более сложные формы для издания конституционных законов, но в известном отношении, как это ни парадоксально, здесь легче издать конституционные законы, чем обыкновенные. С одной стороны, каждый конституционный закон для того, чтобы вступить в силу, обязательно должен быть подвергнут референдуму, но с другой — инициатива изменения только конституционных законов может исходить от самих швейцарских граждан. Если швейцарские граждане, не состоящие народными представителями, желают, чтобы был издан какой-либо закон, то они могут добиться издания его только в порядке конституционного законодательства, но не в порядке обычного законодательства. На основании швейцарской федеральной конституции 50 000 швейцарских граждан могут потребовать, чтобы было приступлено к пересмотру конституции, а по конституционному закону, изданному в 1891 г., то же число граждан может возбудить инициативу и об издании отдельного конституционного закона; в противоположность этому конституция не предоставляет швейцарским гражданам права инициативы по отношению к обыкновенным законам. Вследствие этого, когда вскоре после издания закона 1891 г. в Швейцарии возникло движение против убоя скота по еврейскому способу, без предварительного оглушения, и был составлен проект о запрещении его законодательным путем, то организаторам этого движения ничего не оставалось, как предложить запретить его путем издания конституционного закона. Соответственный законопроект действительно был составлен, скоро собрал 50 000 подписей и был затем не только принят законодательным собранием, но и получил одобрение народа прямым голосованием. Таким образом, 20 августа 1893 г. был издан первый конституционный закон, возникший по инициативе швейцарских граждан, и швейцарская конституция обогатилась статьей 25bis, которая гласит: «Строго воспрещается выпускать кровь из животных на бойнях, не оглушив их предварительно; это постановление относится ко всем способам убоя и ко всем видам скота». Конечно, содержание этой статьи не имеет ничего общего с конституцией как совокупностью законов о государственном строе и высших органах власти, тем не менее благодаря тому, что она издана в виде конституционного закона, она составляет часть формальной конституции. Наряду с этими обстоятельствами, приводящими к тому, что конституционные хартии заключают в себе часто очень много норм общеправового, а не конституционного характера, есть целый ряд причин, вследствие которых эти хартии далеко не заключают в себе всех норм конституционного права. Таким образом, писанные конституции могут быть не только богаче, чем следует, но и гораздо беднее действительной конституции страны. Выше мы указали, что только американские государства создали институт верховных судов, которые следят за неприкосновенностью конституции и согласованностью с ней обыкновенных законов. Во всех европейских государствах таких судов нет, и потому возможно, что конституция будет нарушена законом, изданным обыкновенным законодательным путем. Этот вопрос много раз очень обстоятельно разрабатывался в литературе; особенно большое значение имело в свое время исследование немецкого государствоведа Роберта фон Моля «О правовом значении противоконституционных законов». Р. фон Моль и большинство ученых первой половины XIX столетия отрицали правомерность за обыкновенными законами, нарушающими конституцию, и даже 83 требовали, чтобы судьи и должностные лица отказывались их применять. Теперь, однако, отношение к этому вопросу изменилось, так как если при издании закона обычным порядком ни одним из органов, участвующих в законодательстве, не будет обращено внимание на то, что предлагаемый закон изменяет конституцию, и потому он должен быть издан в порядке конституционного законодательства, то такой закон после своего издания обыкновенно входит в силу, и не существует органов государственной власти, которые могли бы помешать его осуществлению. Конечно, такой закон может касаться только мелочей и подробностей конституции, но он не может изменять основных конституционных положений, устанавливающих организацию высших государственных учреждений, так как подобное неправомерное изменение не может пройти незамеченным. Вследствие этого некоторые теоретики государственного права справедливо настаивают на том, что законы, издаваемые в ненадлежащем порядке и нарушающие хотя бы мелочи конституции, должны признаваться недействительными. Но пока факт издания и вступления в действие таких законов не может подлежать сомнению. Поэтому для ознакомления с действительной конституцией некоторых государств часто недостаточно обращаться к их конституционной хартии, так как, кроме хартии и наряду с ней, в них существует целый ряд законов, которые регулируют вопросы, относящиеся к конституционному праву, хотя они и изданы в порядке обыкновенного законодательства. Особенно часто в конституции вводятся изменения, без соблюдения установленных форм, благодаря парламентским уставам или регламентам. Парламентские уставы или регламенты устанавливают внутреннюю организацию и порядок делопроизводства в самом парламенте. Право выработки и издания своих уставов принадлежит каждой палате в отдельности. Устав одной палаты не может быть подвергнут рассмотрению в другой и не нуждается ни в чьем утверждении, кроме самой палаты. Поэтому само право вырабатывать свой устав называется, правда, не совсем точно, автономией палаты. Конечно, все конституции предусматривают, чтобы парламентский устав или регламент не нарушал тех положений, которые установлены конституцией. Несмотря на это, парламент в своем регламенте и в своей деятельности, касающейся внутреннего распорядка, может произвести самое грубое нарушение конституции. Так, например, во Франции в эпоху реставрации самым тяжелым дисциплинарным наказанием для депутатов, которое предусматривал парламентский устав, было внесение в протокол заседания вотума порицания. Но когда 26 февраля 1823 г. один из депутатов, известный вождь тогдашней радикальной партии Мануэль позволил себе сделать намек на казнь Людовика XVI, то несколько дней спустя он был исключен из палаты на все время текущей сессии. Протест значительного меньшинства против такого произвольного насилия, противоречащего конституции, не допускавшей лишения депутата его полномочий, совсем не был принят во внимание; большинство даже воспротивились чтению этого протеста вслух и внесению его в протокол. Таким образом, депутат, получивший свои полномочия от народа, был произвольно лишен своих прав палатой народных представителей. Несомненно, здесь была нарушена конституция, но никаких путей для восстановления попранных прав народного представителя не было. К этой же эпохе реставрации относится случай, когда регламентом палаты пэров было введено правило, несогласное с конституцией. Статья 18 конституционной Хартии 1814 г. устанавливала, что каждый закон должен быть свободно принят большинством каждой из двух палат; никаких постановлений о характере этого большинства сделано не было, но ясно, что это большинство должно было заключаться по крайней мере в том, что налицо в данном собрании должно быть больше половины ее членов. Между тем палата пэров определила число, при котором палата может принимать решения с обязательной силой, в одну треть своих членов, а палата депутатов, согласно конституции, признала необходимым для действительности своих постановлений присутствие большинства членов. Но несомненно, для палаты пэров имело силу то же правило, установленное конституцией, что и для палаты депутатов. Следовательно, палата пэров в этом случае 84 своим регламентом ввела новое правило, изменившее конституцию. В наше время регламент германского рейхстага также внес изменение в конституцию Германской империи. 22 статья этой конституции объявляет заседания рейхстага публичными и ничего не упоминает относительно закрытых заседаний его. Следовательно, постановления о закрытых заседаниях могли быть сделаны только путем изменения и дополнения этой 22 статьи конституции. Между тем закрытые заседания были введены путем парламентского регламента и вошли в законную силу. Все эти факты, по внешности мелкие, чрезвычайно характерны, так как они, несомненно, свидетельствуют, что отдельные положения конституции могут быть изменены и без изменения ее текста. Но особенно большое значение для изменения конституции без законодательного изменения соответственных статей ее текста имеет обычай. Благодаря обычаю государственный строй и государственные учреждения страны получают совершенно другой вид, и конституция ее этим путем подвергается иногда «преобразованию», как выражаются Лабанд и Еллинек. Обычай имеет совершенно различное значение для конституции государства, смотря по тому, обладает ли государство писанной или неписанной конституцией. Что касается стран с неписанными конституциями, как Англия и Венгрия, то здесь совсем не ставится вопрос о том, может ли или не может обычай изменить их конституцию; этот вопрос уже предрешен; так как большинство государственных учреждений этих стран создалось путем обычая, то они могут подвергнуться и дальнейшему изменению. Здесь возникает совсем другая проблема, именно: когда обычай перестает здесь быть лишь общепринятым способом действия и превращается в правовую норму? Дело в том, что английские теоретики очень суживают понятие права. Так, Дайси считает правом только те нормы, которые «пользуются судебной защитой». Это определение соответствует ходячему взгляду на право в Англии. Например, Энсон по существу так же смотрит на право, хотя и подходит к нему с субъективной стороны, когда он принимает определение Holland'a, на основании которого право есть «способность, которой обладает один человек, контролировать с согласия и при содействии государства действия другого». Но такое определение права, заимствованное из гражданского правооборота, совершенно недостаточно для государственного права. При нем от случайных причин зависит, будут ли отнесены те или другие правила к простым обычаям (custom), соглашениям (conventions), только общепринятым правилам или к правовым нормам. Сам Дайси указывает на то, что ряд процессов, связанных в первой половине восьмидесятых годов XIX столетия с отказом радикального депутата Чарльза Брэдло принести присягу, способствовал тому, что некоторые положения, которые не считались правовыми, были признаны благодаря судебным решениям таковыми. Тем не менее Дайси отказывается провести различие между нормами права, с одной стороны, и обычаями и соглашениями, с другой. Он утверждает, что «трудно провести различие между господствующим обычаем и установленным законом». По его мнению, «многие из конституционных соглашений и обычаев так же важны, как законы», «на практике они имеют почти силу законов», «при новой или писанной конституции некоторые из них, вероятно, приняли бы форму настоящих законов». Надо заметить, что и новый исследователь английского государственного права Гатчек не дает удовлетворительного решения этого вопроса. Он утверждает, что конвенциональные правила являются «жизненным принципом английского обычного права»; в подтверждение своего положения он ссылается на английские исследования профессора Московского университета П.Г. Виноградова. Но он не проводит точной грани между конвенциональным правилом и правовой нормой. В некоторых случаях он считает установление такой границы невозможным и даже излишним. В то же время и он, повидимому, относит к конвенциональным правилам такие положения, которые следовало бы отнести к правовым нормам; так, он говорит о конвенциональных правилах, действующих contra legem; но раз они имеют силу отменять законы, то, следовательно, 85 они обладают характером правовых норм, а не простых конвенциональных правил. Но особенный интерес представляет вопрос о значении обычая для конституционного права для государств с писанными конституциями. Прежде всего надо отметить, что конституции возникли в эпоху, которая менее всего была благоприятна обычному праву. В XVIII столетии как представители школы естественного права, так и сторонники абсолютизма, хотя и по различным мотивам, одинаково отрицали правомерность обычного права. Тогда именно и создалась теория позволения (Gestattungstheorie), на основании которой обычное право может возникать только с согласия, хотя бы и молчаливого, суверена или вообще государственной власти. Эта теория и до сих пор находит сторонников, так, ее отстаивал немецкий государствовед Макс фон Зейдель. Тем не менее большинство теоретиков признает, что и при конституционном государственном строе обычай может быть источником государственного права. Так, Г. Мейер в своем «Учебнике немецкого государственного права» утверждает, что «даже существование конституционной хартии не препятствует образованию обычного права; ее определения могут быть изменены обычным правом». Но в то же время он указывает на то, что для возникновения обычного права остается только очень ограниченная сфера. По его мнению, там, где «существует точно определенная законами государственная организация и государственные органы боязливо охраняют и поддерживают действующее право, остается только небольшое пространство для обычного права». Дюги считает значение обычая еще более ничтожным. Он говорит: «Несомненно, обычай продолжает играть роль; но эта роль, хотя и славная, не настолько значительна, чтобы нельзя было ею пренебречь в общей теории правового государства». Эти мнения Мейера и Дюги типичны для современной теории государственного права. У всех остальных теоретиков государственного права мы найдем повторения их с некоторыми вариациями. Но они совершенно не соответствуют фактам. В действительности факты показывают, что обычай имеет громадное значение для изменения и развития конституций современных государств. Чтобы убедиться в этом, обратимся прежде всего к самой старой из существующих писанных конституций — к конституции С.-А. Соединенных Штатов. В С.-А. Соединенных Штатах почти сто лет не замечали или, вернее, не хотели замечать тех изменений конституции, которые постепенно были произведены путем обычая. Только в 1884 г. американский государствовед Вильсон издал книгу «О конгрессиональном управлении в С.-А. Соединенных Штатах», переведенную теперь и на русский язык, в которой прямо указал на глубокие изменения в государственном строе федерации без изменения статей ее конституции. Так, он говорит: «Нам пришлось вносить фактические изменения в нашу конституцию, не меняя в то же время ее текста. Процедура легального пересмотра конституции отличается такой медленностью и тяжеловесностью, что мы были принуждены прибегнуть к целому ряду удобных фикций». И дальше он утверждает: «Мы принуждены прибегать к внезаконным средствам изменения нашей конституции, не сознавая даже политического значения таких приемов». Вообще Вильсон приходит к выводу, что «действующая конституция совершенно не похожа на конституцию, описанную в книгах». Книга Вильсона произвела сенсацию и получила широкое распространение; в течение 25 лет она выдержала двадцать изданий. Брайс, который написал свою книгу об «Американской республике», в 1888 г. посвятил целую главу «развитию конституции путем обычая». Наконец, в 1890 г. Тидеман издал книгу, озаглавленную «Неписанная конституция Соединенных Штатов». Главные изменения американской конституции путем обычая заключаются в следующем: изменен способ избрания президента республики — выборщики теперь не выбирают президента, а подают голоса за кандидата, назначенного на партийном конвенте их партии; одно и то же лицо не может быть избираемо президентом республики неограниченное число раз, как установлено в тексте конституции, а может пробыть президентом только два четырехлетия; во время войны президенту республики предоставляются почти 86 диктаторские полномочия, сюда же относится и вся система так называемых скрытых полномочий (implied powers), благодаря ей как полномочия федерального законодательного корпуса — конгресса, так и федеральной исполнительной власти — президента, министров и федеральных чиновников распространены на целый ряд областей, которые по конституции не подчинены их компетенции, но и не изъяты из нее, так как конституция просто умалчивает о них; затем обычно-правовым путем установлено законодательство и управление путем комиссий конгресса, а также правило, по которому гражданство в федерации влечет за собой гражданство в отдельном штате. Наряду с этим можно перечислить еще целый ряд более мелких обычаев, имеющих тем не менее значение для конституции Соединенных Штатов. В противоположность Америке, во Франции обстоятельства очень мало благоприятствовали развитию конституционных обычаев. Здесь благодаря целому ряду государственных переворотов конституции были недолговечны и быстро сменяли одна другую. Кроме того, изданный в начале столетия code civil устранял обычай как источник права. Французская общая теория права до сих пор не признает правотворческого значения за обычаем, что можно видеть хотя бы по наиболее современному учебнику французского гражданского права. Это ведет, конечно, к отрицанию во Франции и в области публичного права значения обычая как источника права. Так, Лебон в своем «Государственном праве Французской республики», указывая на то, что паспорта во Франции постепенно вышли из употребления, тем не менее отмечает с сожалением, что законы о паспортах 1792 г., IV года республики и распоряжение 1820 г. формально не отменены. При этом он высказывает опасение, что этими законами правительство может воспользоваться в известный момент как средством репрессии. Но особенность конституционного развития Франции, неоднократная смена ее конституций путем переворотов, вызвала другое явление, имеющее, несомненно, обычноправовой характер. Именно во Франции выработалось учение, что отмена конституции путем государственного переворота не влечет за собой отмену всех ее статей, а только тех, которые противоречат новому государственному строю. Таким образом, в течение XIX столетия во Франции постоянно производилась рецепция фактически отмененных законов. Наиболее знаменитый случай такой рецепции произошел в двадцатых годах XIX столетия, когда суды признали силу действующего закона за пресловутой 75 статьей наполеоновской конституции, воспрещавшей возбуждение процессов против чиновников без разрешения начальства. Французские теоретики государственного права создали особую теорию, на основании которой сохранившие силу статьи отмененной конституции превращаются из конституционных законов в обыкновенные. Однако эту теорию нельзя признать вполне удовлетворительной. По крайней мере, она не может быть применена ко всем случаям подобной рецепции. В действующем конституционном праве Франции можно указать совершенно исключительный случай рецепции. Современная конституция Франции не заключает ни декларации прав человека и гражданина, ни каких-либо статей, гарантирующих эти права. Но все теоретики французского государственного права единогласно признают, что декларация 1789 г. является действующим правом во Франции. Дюги даже утверждает, что она имеет высшую силу, но он не указывает, на чем основана эта высшая сила. Несомненно, было бы крайне нелепо признавать, что декларация 1789 г. реципирована как обыкновенный закон. Но если установить, что она реципирована правосознанием всего французского народа, как обычно-правовая норма, то этим самым она естественно и получает высшее значение. Созданию новых норм конституционного права путем обычая в С.-А. Соединенных Штатах особенно способствовало толкование конституции, как мы это видели на примере так называемых скрытых полномочий. Известное толкование в качестве прецедента приводило к выработке новой нормы конституционного права. Тот же процесс можно констатировать и на развитии французской конституции. По поводу этого Эсмен говорит, 87 что толкование той или другой статьи конституции «составляет прецедент на будущее время и прибавляет к ней, таким образом, еще одну новую норму. Что конституция Соединенных Штатов развивалась именно путем такого рода прецедентов — можно считать в настоящее время общеизвестным фактом. То же самое явление замечается до известной степени и по отношению к французским учредительным законам 1875 г., т.е. по отношению к той из французских конституций, которая уже теперь должна считаться просуществовавшей наибольшее число лет». Ярким примером того, насколько чужда общей теории права, принятой у романских народов, идея о том, что обычай часто бывает творцом права, служат некоторые итальянские теоретики государственного права. Так, Бруза в своей книге «Государственное право Итальянского королевства» утверждает: «В Италии в области публичного права, подобно тому как и в области частного права, нет настоящего обычного права. Законодательная власть в Италии осуществляется только на точном основании статьи 3-ей конституционной хартии, именно сообща королем и обеими палатами парламента. Созданные этой властью законы не могут быть отменены ни путем противоречащей им практики, ни еще менее путем неприменения; при этом безразлично, находится ли такая практика в прямом противоречии законам или только отклоняется от них. Законы отменяются только последующими законами». Но тот же автор затем отстаивает положение, что хотя итальянская конституция не предусматривает особых форм для изменения конституционных законов, по отношению к этому изменению установился обычай, на основании которого в случае принятия резолюции о необходимости произвести пересмотр конституции палата депутатов распускается и назначаются новые выборы. Наряду с этим Бруза перечисляет целый ряд статей итальянской конституции, которые перестали применяться в силу обычая. Наиболее важные из них: статья 1, предполагающая существование государственной церкви в Италии, статья 28, устанавливающая цензуру для духовных книг, статья 62, допускающая употребление французского языка в итальянском парламенте, и др. Чрезвычайно интересно, что другой теоретик итальянского государственного права, Орландо, приближающийся, правда, по своему научному направлению к немецкой исторической школе юристов, не только относит все эти случаи к изменению конституции путем обычая, но и указывает еще другие аналогичные примеры влияния обычая на итальянскую конституцию. Так, например, весь вопрос о свободе союзов в Италии регулируется по преимуществу обычаем. В Германии тоже вырабатываются новые нормы конституционного права путем обычая. Это признают такие видные теоретики немецкого государственного права как Лабанд, особенно в статье «Развитие немецкой имперской конституции», и Еллинек в исследовании «Конституции, их изменения и преобразования». Однако, несмотря на высокое развитие юридических наук в Германии, и здесь замечаются некоторые колебания при признании, что то или другое изменение конституции привело к созданию путем обычая новой нормы конституционного права. В некоторых случаях определенно признается существование такой нормы обычного права. Таковой, например, признается правомерность изменений конституций путем издания конституционных законов без соответственного изменения текста конституции; иначе пришлось бы признать все подобные законы не имеющими силы. Напротив, в других случаях этот вопрос остается открытым. Так, например, на основании 12, 13 и 14 статей Германской конституции имперский союзный совет является учреждением, которое функционирует не непрерывно, а подобно рейхстагу — в известные сессии. Право открывать и закрывать сессии союзного совета предоставлено императору, причем союзный совет должен быть созван на сессию, если этого потребуют его члены, обладающие третьей частью всех его голосов. Но теперь сессии союзного совета никогда не закрываются, в последний раз он был созван 21 августа 1883 г. и с тех пор действует непрерывно. Большинство немецких ученых предпочитает, однако, признавать такое положение скорее фактическим, чем правовым. 88 Правда, Цорн признает, что союзный совет уже давно стал постоянной коллегией, а противоречащие этому статьи имперской конституции уже утратили свое значение. Но в то же время Еллинек занял менее решительную позицию. Он утверждает, что «хотя право распускать союзный совет является, несомненно, конституционным правом императора, но пользование им послужило бы признаком крайнего расстройства в организме империи». Лабанд еще более склоняется к тому, чтобы рассматривать постоянство союзного совета лишь как факт, а не как норму. Все вышеприведенные данные во всяком случае не оставляют никакого сомнения относительно того, что обычай имеет громадное значение для развития конституций; под влиянием его некоторые конституции совершенно преобразовались. Вместе с тем ясно, что возникновение норм конституционного права путем обычая является одной из существеннейших причин несоответствия писанной конституции фактически действующей конституции. Выше мы указали, что понятия конституции в формальном и материальном смысле не совпадают; здесь мы должны отметить, что они и не находятся в отношении соподчинения, т.е. мы не можем признать одно из них родовым, а другое видовым. Несомненно, целый ряд элементов является общим для обоих из них, но в то же время каждое из них заключает в себе такие элементы, которые не заключены в другом. Так, понятие конституции в формальном смысле охватывает все законы, изданные в известном конституционном порядке законодательства независимо от их содержания, и потому, как мы видели, оно часто заключает в себе и такие законы, которые не имеют никакого отношения к государственному строю и высшим государственным учреждениям. Напротив, понятие конституции в материальном смысле включает в себя только те нормы права, которые регулируют государственный строй, а также организацию и деятельность высших органов государственной власти; но такие нормы права часто являются нормами неписанного права, или же они бывают установлены законами, изданными в обычном законодательном порядке и не включенными в конституционную хартию; с другой стороны, в понятие конституции в материальном смысле не входят законы, хотя и внесенные в конституционную хартию, но не имеющие никакого отношения к действительной конституции. Ввиду всего этого мы должны признать формальное и материальное понятия конституции двумя независимыми понятиями, которые только в известных частях совпадают, подобно двум пересекающимся кругам. Оба они, как мы видели из вышеизложенного, одинаково важны для понимания того, что такое конституция. Теперь, когда мы ознакомились с конституциями, мы должны признать, что они являются одной из сильнейших гарантий господства права в современных государствах. Благодаря существованию конституций в современных государствах установлен принцип, на основании которого как государственный строй, так и организация и деятельность высших органов государственной власти регулируются нормами права. Большинство этих норм созданы органами законодательства и формулированы в писанных конституциях; некоторые из них возникли в силу фактических отношений, и мы видели, что современная теория все больше склоняется к тому, чтобы признавать их действительными нормами права, а не лишь фактически действующими правилами. Строгость определений, устанавливаемых для изменения старых и издания новых конституционных законов, сообщает последним особую устойчивость и авторитетность. С другой стороны, нормы конституционного права, возникшие путем обычая и приводящие к отмене и изменению конституционных законов помимо установленных для этого форм, обладают не меньшей авторитетностью, так как они опираются непосредственно на народное правосознание. Их сила в том, что они являются нормами обычного права, а обычно-правовые нормы, как это установили знаменитые немецкие юристы первой половины XIX столетия Савиньи и Пухта и с тех пор никто не опроверг, основаны на двух элементах — на единообразном применении и на народном убеждении, что применяемое есть право. Таким образом, в 89 этих нормах права прежде всего сказывается жизненное народное убеждение о должном в правовом отношении. Это живое и активное благодаря народному правосознанию право представляет ту несомненную силу, которая сдерживает государственную власть в известных границах и двигает развитие государства вперед. 90 Глава IX. Переход России к конституционному строю. Наши новые государственные учреждения и законы о них. Русские основные государственные законы. Около 1700 г. Петр I покончил с патриаршеством. Сначала в 1700г., после смерти патриарха Адриана, он назначил Стефана Яворского блюстителем патриаршего престола, а затем отменил совсем патриаршество, заменив его коллегиальным установлением — учрежденным в 1721 г. Св. Синодом. Самым могучим орудием для усиления царской власти были реформы Петра Великого. Они уничтожили те социальные силы, которые могли служить противовесом царской власти, и лишали всякого авторитета обычаи и традиционные установления, ограничивавшие ее. Европеизация России окупалась установлением абсолютной монархии. Со времени Петра Великого зарождается новая общественно-государственная сила. Эта новая сила — бюрократия, которая, сделавшись главной опорой неограниченной монархии, превратилась затем в одну из наиболее характерных черт нашего государственного строя. Правда, уже скоро после смерти Петра Великого у нас возникли попытки ограничить монархическую власть. Особенно близкой к осуществлению, казалось, была попытка, произведенная Верховным Тайным Советом при воцарении Анны Иоанновны в 1730 г. Но тогда ни русский народ, ни само государство не были подготовлены для другого строя, кроме абсолютной монархии. В течение XVIII столетия единственным влиятельным элементом в России были придворные круги. Главным средством, которым они располагали для устранения чрезмерного абсолютизма власти, были дворцовые революции. Путем дворцовых переворотов устранялись те императоры, которые или были неспособны осуществлять абсолютное самодержавие, или были непригодны к управлению такой обширной страной и причиняли вред государству. Последней из таких дворцовых революций было убийство императора Павла I в 1801 г. С первых годов XIX столетия начали возникать новые планы ограничить монархическую власть в России. Сперва инициатором таких планов был сам император Александр I. Но и 91 эти планы, исходившие от самого главы государства, не были осуществлены. Однако при Александре I возникло и первое крупное общественное движение, которое повело к первой попытке ограничить самодержавие революционным путем — к восстанию декабристов. Но несмотря на такое начало, весь XIX век был веком дальнейшего развития монархического абсолютизма в России. Тем не менее есть большая разница между неограниченными монархами России в XVIII и XIX столетиях. В то время как наиболее неограниченные монархи XVIII столетия Петр Великий и Екатерина II вели Россию к прогрессу, способствовали увеличению военного могущества России и усилению ее в международном отношении, наиболее неограниченные монархи XIX столетия Николай I и Александр III задерживали развитие России путем целого ряда искусственных реакционных мер и приводили Россию к внешним поражениям и военным разгромам. Стремление во что бы то ни стало задержать развитие России возникало вследствие все более выяснявшегося значения каких бы то ни было реформ, так как все они приводили и должны были привести к упразднению неограниченной власти монарха. Наконец, в XIX столетии окончательно определился характер русской неограниченной монархии: русское неограниченное самодержавие привело не только к формально неограниченной власти монарха, но и к неограниченной и бесконтрольной власти бюрократии. Русский император при всей формальной неограниченности его власти фактически не имел возможности не только заведовать всем государственным управлением, но даже контролировать его. Таким образом, получилось неограниченное и бесконтрольное управление всей страной бюрократией. Русская бюрократия заслоняла перед русским монархом народную Россию с ее истинными нуждами и потребностями. Сама по себе бюрократия, особенно в лице ее высших представителей, совершенно была оторвана от народа тем более, что значительный контингент ее состоял из аристократического элемента инородческого происхождения: из остзейских баронов, финляндских рыцарей, татарских, армянских, грузинских и других кавказских князей. Поэтому знаменитое утверждение славянофилов, что бюрократия является средостением между царем и народом, было не только удачным образом, но и точным отражением действительности. Славянофилы вскрыли ту печальную роль, которую бюрократия сыграла в отношениях между русским царем и народом, и в этом их громадная заслуга. Русский неограниченный монарх сносился только с бюрократией и совсем не мог быть осведомлен о нуждах своего государства. Поэтому формально не будучи ничем ограничен в своей законодательной и правительственной деятельности, он фактически часто не мог придавать ей то направление, которое, может быть, хотел ей придать. Как в области управления его неограниченная власть свелась к неограниченной власти бюрократии, так и в области законодательства он не мог проявить никакой инициативы, так как располагал только тем материалом, который представлялся ему в виде всеподданнейших докладов губернаторов, министров и других высших должностных лиц. Все благие намерения русских неограниченных монархов разбивались об упорное и систематическое противодействие окружавшей его среды. Это противодействие было тем действительнее, что оно выражалось в самых раболепных формах и прикрывалось лестью неограниченной власти монарха. Теперь, например, уже хорошо известно, что император Николай I всю свою жизнь стремился улучшить в России правосудие, уничтожить взяточничество и даже освободить крестьян. Но несмотря на свое долгое 30-летнее царствование, он не мог осуществить ни одного из своих намерений. Для выполнения его монаршей воли неоднократно учреждались комиссии, но они ни к чему не приводили, так как реформы были не в интересах бюрократов, из которых состояли эти комиссии. Дальнейшие исторические исследования покажут несомненно, что императоры Александр II и Александр III фактически часто также не имели возможности проводить свою волю в законодательстве и управлении. Таким образом, формально неограниченная власть русских монархов не была неограниченной фактически, так как они не могли вполне осуществлять свою волю. Но это формальное всемогущество царской власти и 92 фактическое бессилие ее хуже всего было тем, что оно приводило к разобщению монарха с народом. Вот почему в первом манифесте, учреждавшем у нас народное представительство, тогда еще в виде законосовещательной Государственной Думы, изданном 6 августа 1905г., особенно обращалось внимание на необходимость единения царя с народом. Этот манифест начинается следующими знаменитыми словами: «Государство Российское созидалось и крепло неразрывным единением Царя с народом и народа с Царем. Согласие и единение Царя и народа — великая нравственная сила, созидавшая Россию в течение веков, отстоявшая ее от всяких бед и напастей и является доныне залогом ее единства, независимости и целости, материального благосостояния и развития духовного в настоящем и будущем ». Русские монархи были принуждены отказаться от неограниченного самодержавия и создать народное представительство, т.е. перейти к конституционным формам государственного устройства под влиянием внутреннего развития самого государства. Первым из русских императоров, который сознал необходимость ограничить монархическую власть, был император Александр I. Но план реформ, составленный с этой целью Сперанским, не мог быть осуществлен целиком. Только некоторые высшие государственные учреждения были вновь созданы или реорганизованы при императоре Александре I. Так, министерства, созданные еще в 1802 г., были совершенно реорганизованы в 1811 г., и это учреждение министерств сохранялось в основных чертах до последних преобразований. Еще раньше был образован Государственный Совет; первое учреждение под этим именем было создано в 1801 г.; затем в 1810г. Государственный Совет был совершенно преобразован. Эти государственные преобразования не были, однако, закончены и предполагавшееся учреждение Государственной Думы с выборными от населения не осуществилось. После них государственное развитие России надолго прекратилось. Впрочем, Сперанскому Россия обязана и другим чрезвычайно важным актом, именно кодификацией законов. Она была произведена уже в царствование Николая I. Наш свод законов впервые был издан в 1832 г. Подготовлению России к переходу к конституционному строю больше всего способствовали реформы Александра И, произведенные в 60-х гг. XIX столетия. На первом месте среди них по своему глубокому социальному и политическому значению нужно поставить уничтожение крепостного права и освобождение крестьян в 1861 г. Этой реформой был уничтожен вредный для экономического развития и позорный для человеческого достоинства институт и была создана формальная основа для гражданского равноправия всех русских граждан перед законом. Затем громадное значение имела судебная реформа, которая совершенно преобразовала наши суды. Судебными Уставами Александра И, изданными 20 ноября 1864 г., у нас был создан суд равный для всех, устный и гласный, скорый и правый, стремящийся раскрыть истину и постановить приговор на основании действующих норм права. Наряду с профессиональными судьями, назначенными из лиц, получивших юридическое образование, был создан тогда же суд присяжных, т.е. суд сограждан, судящих по велению совести. Наконец, вместо прежнего восхождения особенно спорных дел на решение Государственного Совета и на Высочайшее имя, судам вменено в обязанность доискиваться действующей нормы права. Для лучшего отыскания наиболее подходящей к спорному случаю правовой нормы была создана система апелляционных инстанций и была учреждена инстанция кассационная, в виде кассационного департамента сената. Этим путем были строго отделены функции судебные от функций административных, исполнение которых было поручено различным органам. Наконец, очень важное значение для государственного преобразования России имело введение местного самоуправления. Прежде всего оно выразилось в земском положении 1864 г., на основании которого постепенно были введены земства в 34 губерниях центральной России. Земства впервые дали возможность русским общественным силам заняться государственным строительством, поскольку оно заключается в вопросах местного самоуправления. После создания земства было 93 реформировано также и городское положение и расширено городское самоуправление. Наряду с этими тремя главными реформами Александра II не менее значительны и некоторые другие, например, введение большей свободы печати, нового университетского устава 1863 г., введение всеобщей воинской повинности и другие. Все эти реформы вполне подготовили Россию к тому, чтобы и ее государственный строй был преобразован на конституционных началах. Первоначально и правительство было того мнения, что эти реформы должны получить свое завершение в создании народного представительства и что они являются подготовительными мерами к окончательному преобразованию русского государства. Сам император Александр II сперва тоже предполагал перейти к конституционным формам правления; он об этом заявлял неоднократно, особенно определенно при открытии финляндского сейма. Лозунг «увенчание здания» реформ был тогда одним из самых популярных лозунгов, распространенным не только среди общества, но и среди правительства. Под этим лозунгом скрывалось требование установления конституции, как несколько лет перед реформой 1861 г. под лозунгом разумного распределения экономических сил и под требованием вольнонаемного труда скрывалось требование освобождения крестьян и уничтожения крепостного права. Но этот план ввести конституционный строй и народное представительство в России не осуществился. Реакция наступила раньше, чем было создано народное представительство. К концу царствования Александр II возвратился к намерению реформировать наш государственный строй. С этой целью Лорис-Меликов в 1880 г. был наделен особыми полномочиями, и ему было поручено подготовить эту реформу. Одно время в русском обществе была популярна так называемая конституция Лорис-Меликова, и она вызывала к себе самые живые симпатии. Теперь исследования того, что подразумевалось под конституцией Лорис-Меликова, показали, что, собственно говоря, это не была конституция. Предполагалось только призвать выборных от населения для участия в совещаниях Государственного Совета, при этом права Государственного Совета, как законосовещательного учреждения, нисколько не предполагалось расширять. Таким образом, не считалось нужным создать новое учреждение — народное представительство с законодательными правами, а лишь проектировалось реформировать уже существующее законосовещательное учреждение, Государственный Совет, включив в него еще членов не по назначению, а по выборам. Наше правительство было тогда еще нерешительно и непоследовательно, несмотря на настоятельные указания на необходимость изменить наш государственный строй, ввести политические свободы и создать народное представительство. Но даже этой скромной государственной реформе не было суждено осуществиться, Александр II погиб трагической смертью в тот самый день, когда предполагалось подписать новое учреждение Государственного Совета, выработанное Лорис-Меликовым, а менее чем через два месяца, 29 апреля 1881 г., был издан Александром III знаменитый манифест, в котором Александр III заявлял о своем непреклонном намерении незыблемо охранять основы самодержавного строя в России. После этого наступила самая жестокая и ужасная реакция, которую когда бы то ни было переживала Россия. Несчастье России в том, что конституционный строй не был у нас введен в царствование Александра П. Россия была бы избавлена от многих внутренних и внешних бедствий, если бы раньше, хотя бы с большей постепенностью, у нас были созданы конституционные учреждения. Экономическое развитие России шло бы гораздо нормальнее, наше крестьянство не беднело бы так последовательно и с такой ужасающей быстротой, как это произошло в 80-х и 90-х гг.; наша промышленность развивалась бы гораздо быстрее и давала бы средства к существованию несравненно большему количеству населения, не находящему приложения для своего труда в земледелии; наше народное образование не задерживалось бы искусственно из боязни проникновения политического сознания в народные массы и развивалось бы гораздо нормальнее и успешнее; наконец, и наше международное положение было бы гораздо прочнее, могущественная и крепкая Россия внутри была бы могущественной Россией и вовне. При 94 существовании народного представительства в России, хотя бы с самыми ограниченными компетенциями, мы не пережили бы в 80-х и 90-х гг. такой ужасной реакции. Вся эпоха Александра III была проникнута боязнью, как бы не пришлось изменить наш государственный строй. Правительство было загипнотизировано страхом перед конституцией. Из-за этого страха и портились реформы Александра II; те черты их, которые придавали нашим государственным учреждениям правовой характер, были устранены контрреформами Александра III. Свою главную цель правительство видело в борьбе с обществом, и оно всячески стесняло всякие просветительные учреждения и ограничивало доступ к образованию всех слоев народа. Еще энергичнее оно подавляло всякое проявление свободной мысли или самодеятельности среди общества. Вообще, с государственной или политической точки зрения, эпоха Александра III была самой безумной эпохой, которую когда бы то ни было пережила Россия. Те основы правового строя, которые были созданы судебными уставами и земским положением, были уничтожены реформами Александра III. Россия была отброшена далеко назад, а вместе с тем она была лишена возможности мирного и постепенного развития от неограниченной к конституционной монархии. За реакцию царствования Александра III и первые годы царствования Николая II Россия жестоко поплатилась. Вместо того чтобы постепенно перейти к конституционному строю, что укрепило бы ее внутри и усилило во внешних отношениях, Россия должна была перенести разгром в войне с Японией и пережить тяжелый революционный кризис — тот кризис, который стоил стольких жертв и пока очень мало дал России осязательного. От этих бедствий, нанесенных ослаблением русского могущества во внешних отношениях и подавлением революции, дезорганизовавшей ее внутри, Россия еще и в данный момент не оправилась и еще долго не оправится. Итак, переход к конституционному строю был вызван государственным развитием России. Этот переход в силу настоятельных государственных нужд должен был совершиться даже гораздо раньше, чем он произошел. Ровно 25 лет тому назад Россия созрела для введения представительных учреждений и для перехода к конституционному государственному порядку. Наряду с внутренним развитием России как государства причиной перехода России к конституционному строю было и общественное развитие. Вполне справедливо признают, что наше государственное преобразование было подготовлено умственным и политическим развитием нашего общества. Но не подлежит сомнению, что значение этого развития несколько преувеличивают. Если мы присмотримся к нему, то должны будем признать, что ему было очень мало присуще стремление преобразовать русский абсолютно-монархический строй в конституционный. Наше чисто революционное движение сперва совершенно не занималось и не интересовалось этим, так как в 60-х, а еще больше в 70-х гг. оно ставило себе гораздо более широкие задачи и отдаленные цели. Оно стремилось к преобразованию всего социального строя, к переходу от современных экономических отношений и форм производства, основанных на частной собственности, к формам социалистическим. В 70-х гг. конституция и конституционный строй отождествлялись в наших революционных кругах с строем буржуазным, и требование перехода к конституционным учреждениям признавалось равносильным стремлению насадить капитализм и водворить буржуазию. Это мировоззрение было основано на надеждах, что Россия сможет, минуя капиталистический и буржуазный период социально-экономического развития, непосредственно перейти к социалистическому строю. Совсем не интересуясь преобразованием государственного строя из абсолютно-монархического в конституционно-монархический и даже относясь к нему враждебно, представители этого движения считали, что социалистический строй, в близкое осуществление которого они верили, быстро приведет за собой полное политическое освобождение, гораздо более окончательное, чем то, которое дают конституционные учреждения. Правда, эти революционные течения силою вещей в конце семидесятых годов выступили на борьбу с 95 правительством и должны были признать значение политических реформ. В этом заключается смысл ликвидации нашей первой крупной политической организации — «Земли и Воли» и превращения ее в Народную Волю15[1]. Но борьба, которая была начата не вследствие развития идей, а под давлением внешних обстоятельств, не могла привести к победе. В конце концов все это движение было задушено не только правительственной, но и общественной реакцией восьмидесятых годов. В начале 90-х гг. у нас возникло широкое теоретическое марксистское течение, которое скоро вылилось в мощное политическое социал-демократическое движение. В противоположность народничеству оно сразу выставило на своем знамени и политические реформы, так как его представители прежде всего настаивали на том, что всякая социальная революция есть вместе с тем и политическая революция. Поэтому нельзя не признать громадных заслуг этого движения перед русским народом и обществом; оно, действительно, способствовало тому, что значительные слои нашего интеллигентного и рабочего пролетариата сознали значение политических реформ. Однако оно не охватывало достаточно широких кругов русского общества и распространялось исключительно среди неимущих и живущих своим заработком элементов. В другие слои нашего общества оно мало проникало. Между тем для создания и успешного развития конституционных учреждений требуется, чтобы все общество и прежде всего также зажиточные и имущие слои его прониклись сознанием необходимости и полезности этих учреждений. Если верно утверждение, что наше общественное движение чересчур слабо способствовало переходу России от абсолютномонархического порядка к конституционному, то особенно потому, что зажиточные и имущие слои нашего общества очень мало были заинтересованы созданием у нас конституционного строя. Правда, дворянскими обществами и особенно губернскими и земскими собраниями неоднократно подавались петиции о необходимости переустройства нашего государственного строя. Но это были спорадические, единичные явления, появлявшиеся только тогда, когда земствам казалось, что они идут отчасти навстречу правительству; только когда правительство обращалось к земствам с призывом бороться с революцией, оно отвечало правительству петициями о необходимости введения у нас конституционных учреждений. Такие петиции составляли и подавали только отдельные губернские земские собрания, как Черниговское, Полтавское, Харьковское, Тверское, Московское и некоторые другие; конституционным движением были охвачены далеко не все земства, и оно не проявлялось с той настойчивостью и тем постоянством, которыми отличались наши чисто революционные и социалистические движения. Еще менее заметно проявлялось это движение среди зажиточного и обеспеченного городского населения. Городские думы почти совсем не участвовали в подаче петиций о необходимости создания у нас представительных учреждений. Можно указать только единичные примеры, когда городские думы подавали петиции с намеками на необходимость перехода к другим государственным учреждениям. Несмотря, однако, на относительную слабость нашего общественного движения, несомненно, и оно сыграло свою роль в переходе русского государства от неограниченной монархии к конституционной. Особенно оно проявило себя в решительный момент во время русскояпонской войны, когда целый ряд поражений России на суше и на море обнаружил совершенную несостоятельность господствовавшего у нас политического режима, приведшего к полной дезорганизации у нас целых областей управления и к крайней деморализации значительного контингента наших должностных лиц. В эту эпоху у нас возникли съезды земских деятелей, привлекшие к себе затем и городских деятелей, на которых с поразительным единодушием были приняты самые решительные постановления о необходимости реорганизовать весь наш государственный строй. Одновременно аналогичные резолюции принимались на частных собраниях, 15[1] [Тайное революционное общество народников «Земля и воля», основанное в Петербурге в 1876 г., в августе 1879 г. раскололось на две самостоятельные организации: «Народная воля» и «Черный передел». Подробнее см.: Ткаченко П. С. Революционная народническая организация «Земля и воля» 1876—1879 гг. М., 1961.] 96 устраивавшихся во всех крупных городах России представителями нашего образованного общества. Правительство очень двойственно отнеслось к этому движению. С одной стороны, в манифесте от 18 февраля 1905 г. говорилось о «вождях мятежного движения», которые «дерзновенно посягают» на «утвержденные законами основные устои Государства Российского, полагая, разорвав естественную связь с прошлым, разрушить существующий государственный строй и вместо оного учредить новое управление страною на началах, отечеству нашему несвойственных». С другой, — в тот же день был издан Именной Высочайший указ Правительствующему Сенату, в котором повелевалось: «Возложить на состоящий под председательством Нашим Совет Министров сверх дел, ему ныне подведомственных, рассмотрение и обсуждение поступающих на имя Наше от частных лиц и учреждений видов и предположений по вопросам, касающимся усовершенствования государственного благоустройства и улучшения народного благосостояния». Таким образом, этот указ, отмененный впоследствии одновременно с изданием первого Учреждения Государственной Думы, узаконивал раньше незаконно подававшиеся петиции и представления о необходимости реформировать наш государственный строй. Кульминационного пункта общественное движение достигло у нас в октябре 1905 г., когда к нему примкнули широкие народные массы, выразившие свое недовольство существующими порядками всеобщей забастовкой. Громадное значение этого движения должно было признать и правительство. Так, в манифесте 17 октября возвещено, что «от волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение и угроза целости единству Державы Нашей» и что «Великий обет царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты». А во всеподданнейшем докладе статс-секретаря графа Витте, получившем Высочайшее одобрение в тот же знаменательный день 17 октября 1905 г., признано, что «волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо как следствие частичных несовершенств государственного и социального устроения, или только как результат организованных действий крайних партий. Корни этого волнения, несомненно, лежат глубже. Они в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни. Россия переросла формы существующего строя. Она стремится к строю правовому на основании гражданской свободы». Таким образом, эти акты несомненно свидетельствуют о том, что идейные стремления русского общества заставили правительство уступить, и под напором этих стремлений правительство решило издать манифест 17 октября и все последовавшие за ним законоположения. К анализу этих законоположений, которые составляют нашу конституцию, или нашу конституционную хартию, мы и должны перейти. Прежде всего мы должны указать на то, что ни в одном из этих законоположений, изданных в 1905—1906 гг., не упоминалось слов: конституция, конституционная монархия, конституционный строй и т.д. Но это отсутствие слова «конституция» не имеет принципиального значения. В некоторых других конституционных государствах это слово также не употребляется. Так, во Франции после реставрации Бурбонов была издана хартия, в которой ни слова не говорилось о конституции. Итальянская конституция называется «статутом». Одна из наиболее старых европейских конституций, шведская, называется «формой правления», австрийские конституционные законы, так же как и наши, русские, называются «основными законами». Таким образом, отсутствие слова «конституция» не означает еще, что у нас нет конституции. Первым законодательным актом, имевшим принципиальное значение для перехода России от абсолютно-монархического к конституционному строю, был манифест 17 октября 1905 г. Но до манифеста 17 октября был издан ряд законодательных актов, учреждавших у нас народное представительство. Прежде всего в рескрипте от 18 февраля 1905 г. Государь Император возвещал о своем намерении отныне «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в 97 предварительной разработке и обсуждению законодательных предположений». Затем 6 августа 1905 г. был издан уже цитированный выше манифест, в котором было сказано, что настало время «призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включив для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов». Одновременно с этим манифестом было издано Учреждение Государственной Думы 6 августа 1905 г. и положение о выборах от того же числа. Но, как можно заключить уже на основании вышеприведенной цитаты из манифеста, Государственная Дума учреждалась как законосовещательное собрание народных представителей. Формально-юридически ее положение ничем не отличалось от положения уже существовавшего у нас Государственного Совета, который состоял в то время из членов, назначаемых Государем Императором. Однако можно сомневаться в том, чтобы в начале XX столетия даже в политически сравнительно отсталой стране, какой является Россия, могло существовать чисто законосовещательное народное представительство. Эпоха, когда действовали законосовещательные народные представительства, это XV, XVI и XVII столетия. В то время социально-экономическое развитие, а вместе с тем и политическое сознание народных масс стояло несравненно ниже, чем теперь; притом жизнь в то время шла более медленным темпом и предъявляла меньше требований к законодательству, а большинство государственных вопросов регулировалось еще обычаем. Теперь все эти условия совершенно изменились, по общему правилу народные представительства везде обладают законодательными правами, а законосовещательных народных представительств больше не существует, если не считать подобных учреждений в некоторых колониях. Поэтому и наша законосовещательная Государственная Дума, если бы законоположение 6 августа 1905 г. получило практическое применение, или была бы фактически законодательным учреждением, а законосовещательным только по форме, пока она не получила бы и формально законодательных прав, или же в случае настояний правительства на строго законосовещательном характере Государственной Думы это привело бы, несомненно, к целому ряду конфликтов. Но этому эксперименту с законосовещательной Государственной Думой не суждено было быть произведенным. Первая законосовещательная Государственная Дума должна была быть созвана на основании манифеста 6 августа 1905 г. не позднее половины января 1906 г., а уже 17 октября 1905 г. был издан манифест, которым устанавливался законодательный характер новоучрежденной Государственной Думы. Выше уже отмечено, что только с манифеста 17 октября можно говорить о переходе России от абсолютно-монархического к конституционному строю. Но что из себя представляет манифест 17 октября с формально-юридической стороны? Манифесты по действующему праву были у нас всегда торжественной формой объявления воли монарха народу. Путем манифестов Государи императоры сообщали непосредственно народу о важных событиях в своем семействе, например, о смерти царствующего императора и о вступлении на престол нового императора, о важных решениях, касающихся внешнего положения России, объявления войны и заключения мира, или о важных мерах внутреннего порядка, о законодательных или административных реформах. Так, издание законоположения 1861 г. об освобождении крестьян сопровождалось манифестом. Так же точно сопровождался манифестом и закон о всеобщей воинской повинности. В последние 25 лет перед 1905 г. был издан целый ряд манифестов, извещавших население о решении монархов сохранять незыблемым, неизменным и неприкосновенным наш государственный строй. Таков был манифест императора Александра III от 29 апреля 1881 г. и манифесты императора Николая II от 23 февраля 1903г. и 18 февраля 1905г., сюда же можно отнести отчасти и манифест 6 августа 1905 г. Так как манифест издается от имени Государя и за его подписью, то, по действовавшему у нас раньше праву, он являлся 98 законом по форме, но в большинстве случаев он не был законом по содержанию. Большинство манифестов не заключало в себе никаких юридических норм. Кроме того, будучи непосредственным выражением воли монарха, обращенной к народу, манифесты исходили прямо от него и не проходили тех стадий, которые были установлены для законов, издававшихся в обычном порядке. Но, несомненно, некоторые манифесты имели важное законодательное значение и создавали коренные изменения в нашем законодательстве. Относительно манифеста 17 октября 1905 г. не может быть сомнения, что он является законодательным актом, и притом таким, который изменил весь наш государственный строй. Вопрос возникает только относительно того, устанавливает ли манифест 17 октября непосредственно новые правовые нормы и, в частности, нормы конституционного права или только намечает общие принципы для будущих законодательных актов. Для ответа на этот вопрос вспомним прежде всего основное содержание этого манифеста. Оно заключается в словах: «На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов. 2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе в мере возможности соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. 3) Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей». Спрашивается, являются ли эти пункты статьями закона, т.е. правовыми нормами, которые непосредственно должны быть применяемы, или это только указание для дальнейшей законодательной деятельности. К мнению, что манифест сам по себе есть закон, повидимому, склоняется В. М. Гессен16[2]. Он утверждает, что «манифест 17 октября вводит конституционное начало в новое государственное право России; это начало формулировано в 3 пункте манифеста. И если бы все содержание манифеста исчерпывалось только этим пунктом — и тогда мы должны были бы признать, что в России есть конституция, следовательно, нет самодержавия и не может его быть». Еще определеннее в этом смысле высказывается проф. Юрьевского университета Шалланд, так как он противопоставляет первым двум пунктам третий, подчеркивая его значение как юридической нормы. Он говорит: «Первый пункт манифеста, устанавливающий необходимость дарования "населению незыблемых основ гражданской свободы", не является юридической нормой, полагающей основание субъективным публичным правам; он содержит только политические принципы, общие директивы будущих норм. Второй пункт манифеста носит программный характер. Он имеет в виду расширение избирательного права. Третий — центральный пункт — уже без сомнения есть настоящая юридическая норма».С этими мнениями, высказанными Гессеном и Шалландом, нельзя согласиться. Еще до издания Учреждения Государственной Думы 20 февраля 1906 г. мне пришлось высказаться относительно значения манифеста 17 октября в том же журнале «Полярная Звезда», где появилась статья Гессена, и я указывал на то, что по точному смыслу манифеста он не является конституцией и вообще не есть закон, а только обещание издать закон17[3]. К этому мнению присоединяется и Лазаревский, который высказывает аналогичный взгляд в своем курсе «Лекции по русскому государственному праву». Что манифест 17 октября не состоит из законодательных норм, это видно из слов 16[2] [Имеется в виду статья В. М. Гессена «Самодержавие и манифест 17 октября», опубликованная в журнале «Полярная звезда» (1906, № 9. С. 623—634), издававшемся в 1905— 1906 гг. под редакцией П. Б. Струве. Цитируемый далее отрывок из статьи — на с. 633— 634.] 17[3] [См.: Кистпяковский Б.А. Конституция дарованная и конституция завоеванная // Полярная звезда. 1906. № 11. С. 747—754.] 99 самого текста манифеста: «На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли» и затем перечисление того, что должно быть выполнено. Все эти выражения показывают, что еще должны быть изданы законы, путем которых осуществлялись бы указанные в манифесте принципы. Но надо признать, что манифест 17 октября занимает исключительное положение среди других законодательных актов. Принципы, возвещенные им, совершенно изменили наш государственный строй. Поэтому его нужно сопоставить с теми декларациями, которые в других государствах вводили новое государственное устройство, как, например, Декларация независимости С.-А. Соединенных Штатов в 1776 г., Декларация прав человека и гражданина во Франции в 1789 г. и аналогичные им акты монархов, изданные при учреждении конституции. В этом смысле манифест 17 октября 1905г. является чрезвычайно важным источником нашего нового государственного права. Но с этой точки зрения нет никакой разницы между тремя пунктами, из которых состоит существенная часть манифеста. Все эти пункты одинаково важны для реорганизации нашего государственного строя. В первом пункте впервые устанавливается необходимость даровать населению основы гражданской свободы, обеспечив неприкосновенность личности и свободу совести, слова, собраний и союзов. До этого в нашем законодательстве эти свободы не признавались и о них законодательство наше молчало. Второй пункт, конечно, по своим практическим последствиям имеет пока меньшее значение, он только расширил избирательные права на новые классы населения. Особенно важное значение он имел для среднего городского населения и для рабочих, которым Положением о выборах 6 августа 1905 г. не были предоставлены избирательные права в Государственную Думу. Но этот пункт манифеста заключает в себе и вторую часть, именно признание необходимости со временем ввести общее избирательное право в России, причем осуществление этой реформы предоставляется нашему народному представительству, то есть Государственной Думе. Поэтому в этой своей части он имеет громадное принципиальное значение, так как указывает программу для будущей законодательной деятельности и для дальнейшей демократизации нашего народного представительства. Наконец, третий пункт устанавливает, что наша Государственная Дума отныне должна быть законодательным учреждением, а не законосовещательным, и, следовательно, ни один закон не может восприять силу без утверждения его Государственной Думой. Таким образом, все эти три пункта одинаково важны и они являются источниками нашего конституционного права. Не являясь статьями закона, подлежащими непосредственному применению, они тем не менее устанавливают те принципы, на основе которых теперь покоится и должно покоиться все наше государственное устройство. Так как последнее по самому своему существу представляет из себя известную систему, то она и должна определяться в общих принципах, положенных в основу всего государственного правопорядка, а не в отдельных статьях закона. Я указал, что манифест 17 октября 1905 г. заключает в себе обещание издать известные конституционные законы. Это обещание было выполнено в целом ряде законодательных актов. Прежде всего было положено начало для выполнения второго пункта манифеста; 11 декабря 1905 г. был издан Высочайший указ Правительствующему Сенату об изменении положения о выборах в Государственную Думу. Этим указом, как уже отмечено выше, избирательные права были распространены на новые категории населения; особенно большое значение он имел для городского населения и для рабочих. Затем 20 февраля 1906 г. был издан манифест об изменении учреждений Государственного Совета и о пересмотре учреждений Государственной Думы. Одновременно был издан Высочайший указ 20 февраля 1906г. о переустройстве Государственного Совета и новом Учреждении Государственной Думы, Высочайше утвержденном того же 20 февраля 1906 г. Затем последовали правила 8 марта 1906 г. о порядке рассмотрения росписи государственных доходов и расходов, а равно о произведении казной расходов, росписью не 100 предусмотренных. Наконец, 23 апреля 1906 г. был издан Высочайший указ об утверждении новых Основных Законов и одновременно самый текст ныне действующих Основных государственных законов, а 24 апреля 1906 г. Высочайший указ об утверждении учреждения Государственного Совета и вместе с ним само Учреждение Государственного Совета. Эти законодательные акты были главными актами в эпоху нашего государственного преобразования. Они преобразовали наш государственный строй, превратив его из абсолютно-монархического в конституционный. Но какие из этих законодательных актов являются конституционными законами и составляют нашу конституцию? Лазаревский высказывает мысль, что нашу конституцию составляют одни только Основные государственные законы. Таким образом, он не включает в число конституционных законов ни Учреждение Государственной Думы, ни Учреждение Государственного Совета, ни Положение о выборах в Государственную Думу. Это же мнение проводится, по-видимому, и в сборнике «Современные конституции», изданном под редакцией приват-доцентов государственного права Нольде и Гессена; во II томе в качестве приложения к этому сборнику напечатаны русские Основные государственные законы, но не приведены Учреждения Государственной Думы и Государственного Совета и Положение о выборах в Государственную Думу. Таким образом, редакторы этого сборника склоняются, по-видимому, к тому мнению, что русскую конституцию составляют только Основные государственные законы. Но этот взгляд на русские конституционные законы нельзя признать правильным. И по существу, т.е. по содержанию, и по форме нашими конституционными законами являются не только Основные государственные законы, но и Учреждения Государственной Думы и Государственного Совета и Положение о выборах в Государственную Думу. Особняком стоит лишь пятое законоположение из вышеназванных, именно правила о рассмотрении росписи доходов и расходов, так как по форме оно не является конституционным законом. По содержанию эти четыре законодательных акта составляют нашу конституцию потому, что в них устанавливается характер нашего государственного строя, организация наших высших государственных учреждений и их функции, а также гарантируются неприкосновенные права личности и основные начала свободы. По форме наши конституционные законы разделяются на две категории, соответственно тому двойному характеру гарантий, которые создаются для этих законов. С одной стороны стоят Основные государственные законы, с другой — Учреждения Государственной Думы и Государственного Совета и Положение о выборах в Государственную Думу. Основные государственные законы являются конституционными законами по форме потому, что они подлежат изменению не иначе, как по почину Государя Императора. Этот вопрос регулируется в 8 статье наших Основных Законов, которая гласит: «Государю Императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по Его почину Основные Государственные Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и в Государственной Думе». То же положение, поскольку оно касается главным образом Государственного Совета и Государственной Думы, высказано также в 107 статье Основн. Зак., в 43 Учр. Госуд. Совета и в 32 статье Учрежд. Госуд. Думы. Итак, наши Основные государственные законы наделены особой неприкосновенностью, они могут изменяться только в особом законодательном порядке. Этот особый законодательный порядок распространяется только на инициативу по отношению к изменению этих законов, которая принадлежит одному монарху. Раз Государь Император внесет предложение об изменении Основных государственных законов, они пересматриваются затем в том же порядке, который установлен для пересмотра и изменения всех остальных законов, т.е. для их изменения так же обязательно согласие Государственной Думы и Государственного Совета и утверждение Государя Императора. Спорным остается вопрос: предоставлено ли Государственной Думе право петиций о необходимости изменения наших Основных государственных законов? По точному смыслу вышеприведенных статей лишь почин или инициатива пересмотра наших 101 Основных государственных законов не принадлежит Государственному Совету и Государственной Думе, но в них не заключается запрещения Государственной Думе и Государственному Совету обращаться с всеподданнейшим ходатайством, петицией или адресом к Государю Императору относительно необходимости изменения тех или других статей наших Основных Законов. Такая петиция или адрес не являются законодательным почином, так как они выражают лишь общие пожелания и не приводят в движение органов законодательной власти. Их подача была бы воспрещена нашими Основными Законами только в том случае, если бы Госуд. Совету и Госуд. Думе не только не принадлежало бы право возбуждать предложения об отмене или изменении Основных Законов, но и вообще обсуждать их без особого всякий раз на то полномочия от Государя Императора. Этот вывод вытекает из сравнения вышеприведенных статей наших законов с аналогичными статьями в других конституциях. Так, в баварской конституции 1818 г. соответственное положение было формулировано в словах: «Предложения о сем (т.е. об изменении и дополнении конституции) могут исходить только от короля, и сословия могут обсуждать их только в том случае, если король их сословиям представит». Тут закон вполне точно и определенно воспрещал народному представительству не только законодательную инициативу по отношению к конституционным законам, но и вообще обсуждение предложений об их изменении. В наших законах последнего ограничения компетенции Госуд. Совета и Госуд. Думы нет. Из практики нашей первой Государственной Думы мы знаем, что в ответ на речь Государя Императора, воспоследовавшую при открытии Государственной Думы, наше народное представительство выработало адрес с представлением о необходимости изменения Основных государственных законов. Тем не менее этот вопрос остается спорным, так как в указе о роспуске первой Государственной Думы именно это деяние Государственной Думы было поставлено ей в вину и указано в числе поводов ее досрочного роспуска. Три остальных законоположения, составляющих нашу конституцию — Учреждение Государственной Думы, Учреждение Государственного Совета и Положение о выборах в Государственную Думу с формальной точки зрения являются конституционными законами на другом основании. По отношению к изменению их почин принадлежит одинаково как Государю Императору, так и членам Государственного Совета и Государственной Думы, и вся дальнейшая процедура их изменения совершается в обыкновенном порядке. Но тем не менее и эти законы обладают специальными гарантиями, и они также особо неприкосновенны. Эта особая неприкосновенность их устанавливается 87 ст. наших Основных Законов, которая заключает в себе чрезвычайно важные конституционные гарантии. Статья 87 устанавливает, что когда Государственная Дума не заседает, а ввиду чрезвычайных обстоятельств требуется издать какой-нибудь закон, то по представлению совета министров этот вопрос регулируется указом Государя Императора. Таким образом, этим путем издается закон вне обычных форм без согласия Государственной Думы и Государственного Совета, но это закон не обыкновенный, а особый; действие его ограничено во времени, и он не может вносить изменения в некоторые из наших законов. Временный характер этого закона обусловлен тем, что он должен быть внесен в Государственную Думу, и если он в течение двух месяцев после созыва Государственной Думы и Государственного Совета не был внесен, то действие его прекращается само собой. Затем, если бы даже он был внесен, то он сохраняет свою силу только до тех пор, пока Государственная Дума и Государственный Совет не рассмотрят его; но если Государственная Дума или Государственный Совет при рассмотрении его отвергнут, то он теряет свою силу. Наконец, этот закон, как дословно гласит вторая часть 87 статьи Осн. Зак., «не может, однако, вносить изменений ни в Основные Государственные Законы, ни в Учреждения Государственного Совета или Государственной Думы, ни в постановления о выборах в Совет или в Думу». Таким образом, вторая часть 87 ст. имеет чрезвычайно важное значение в смысле гарантий нашего конституционного строя. Благодаря ей ни в коем случае не могут быть изменены 102 Основные Законы, Учреждение Государственной Думы, Учреждение Государственного Совета и Положение о выборах путем Высочайшего указа. Эти последние гарантии неприкосновенности наших конституционных законов имеют с политической точки зрения гораздо большее значение, чем вышерассмотренные гарантии неприкосновенности Основных Законов, так как они установлены в пользу народного представительства, а не в пользу традиционной власти монарха. Нужно, однако, указать на то, что после роспуска второй Государственной Думы Положение о выборах было изменено без согласия Государственного Совета и Государственной Думы. Поэтому Положение о выборах в Государственную Думу 3 июня 1907 г., заменившее раньше действовавшее Положение о выборах, было издано с нарушением статьи 87 наших Основных Законов. Но хотя оно и вошло в силу, оно не отменило этой статьи. Формально статья 87 сохранила полную силу, был издан лишь единичный законодательный акт с нарушением этой статьи. В манифесте издание его мотивировалось исключительными обстоятельствами, и с государственноправовой точки зрения нужно считать, что закон 3 июня был еще актом переходного времени. Хотя он нарушил уже установленную нашу конституцию, но надо стремиться к тому, чтобы он был последним нарушением нашей конституции и чтобы отныне наши конституционные законы изменялись не иначе, как с согласия народных представителей. Итак, у нас существует два рода формальных гарантий неприкосновенности тех законов, которые определяют наш государственный строй. Это дает нам право признавать с формальной точки зрения не только Основные государственные законы конституционными законами, но и Учреждение Государственного Совета, Учреждение Государственной Думы и Положение о выборах. Относительно того, что все эти четыре законодательные акта по содержанию являются конституционными законами, не может быть сомнения. Заключая в себе правовые нормы, определяющие наш государственный строй, а также организацию и деятельность высших органов государственной власти, они вводят новый у нас принцип ограничения монархической власти. После издания этих законов Государь Император не является монархом неограниченным, так как первая статья наших прежних Основных Законов, гласившая: «Государь Император есть монарх неограниченный, самодержавный. Повиноваться верховной Его власти не токмо за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает», теперь заменена статьей 1, формулированной следующим образом: «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная, Самодержавная власть. Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Таким образом, в этой статье исключен предикат «неограниченный»; Государю Императору теперь принадлежит только верховная, самодержавная власть, но не неограниченная, как это было раньше. Затем в следующих статьях определяется, в чем заключается верховная самодержавная власть, принадлежащая Государю Императору, и вместе с тем устанавливаются ее ограничения. Так, на основании 7 статьи, «Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственной Думой». Затем 10 статья в первой своей части устанавливает, что «Власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Императору в пределах всего Государства Российского». Таким образом, законодательная власть здесь противопоставляется власти управления, так как одну Государь Император осуществляет в единении с Государственным Советом и Государственной Думой, а другую единолично. Но если эти власти противопоставлены, поскольку они осуществляются различным составом органов, то в следующей статье наших Основных Законов они объединены, поскольку в основание их положен один и тот же принцип верховенства закона. Эта 11 статья гласит: «Государь Император в порядке верховного управления издает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов». Здесь устанавливается правило, на основании которого указы, изданные в порядке верховного управления, должны по своему содержанию соответствовать законам, т.е. не 103 могут им противоречить, отменять и изменять их. Таким образом, в основание всего управления у нас положен закон, т.е. признано, что управление должно быть подзаконным. Возникает очень интересный вопрос: не создано ли нашими новыми Основными Законами разделение властей? Из вышеприведенных ссылок мы видели, что в этих законах говорится о «власти законодательной», например в 7 статье, и о «власти управления», например в 10 статье. Однако под «властью законодательной» и «властью управления» надо подразумевать в данном случае не обособленные власти, которые поручаются известным органам власти, а только функции власти, т.е. совокупность тех действий, которые составляют или законодательство, или управление страной. Термины «власть законодательная» и «власть управления» употреблены здесь, несомненно, для того, чтобы обозначить разделение между функциями государственной власти, а не между самими властями. Эта терминология не была чужда нашему законодательству и раньше. Так, в Судебных Уставах 20 ноября 1864 г. первая статья Учреждений Судебных Установлений гласит: «Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему Сенату, в качестве верховного кассационного суда». Следовательно, еще тогда словом «власть» обозначались функции судебной власти, а не сама судебная власть, принадлежащая Государю Императору, от имени которого суды осуществляют свои функции, как это теперь определено и Основными Законами в 22 статье. Во всяком случае важно отметить, что более чем за сорок лет до создания народного представительства судебные функции были у нас совершенно выделены, и этим путем у нас был подготовлен правовой порядок. Что касается до созданного нашими новыми Основными Законами разграничения между законодательными и правительственными функциями, то более подробно мы остановимся на нем в связи с учением о функциях. Здесь укажем только на то, что предоставление этих функций различным органам, как это можно заключить из внешнего сопоставления 7 и 10 статей наших Основных Законов, лишь кажущееся. В действительности они принадлежат одним и тем же органам и только осуществляются в различном порядке и различных формах. Так, Государю Императору одинаково принадлежат и законодательные, и правительственная функции, как это вытекает из самого текста 7, 10 и многих других статей наших Основных Законов; но законодательствует он при содействии Государственного Совета и Государственной Думы, а управляет без такового содействия. В противоположность этому Государственный Совет и Государственная Дума, по точному тексту наших Основных Законов, только законодательствуют и непосредственно не участвуют в управлении. Однако это не значит, что государственное управление совсем не регулируется Государственным Советом и Государственной Думой. Даже помимо того, что управление у нас осуществляется на основании тех законов, которые издаются с их согласия, им предоставлен целый ряд законных средств влиять на то, чтобы правительство управляло страной так, как это, по их мнению, желательно и полезно. Одно из первых таких средств заключается в праве устанавливать бюджет, так как даже при крайне ограниченных бюджетных правах наши Государственная Дума и Государственный Совет имеют возможность отдавать предпочтение одним отраслям управления перед другими, снабжая их большими средствами. Затем они имеют возможность влиять на управление путем реорганизации различных учреждений и органов подчиненного управления, а также создания новых должностей и упразднения старых. Наконец, что еще важнее, наше народное представительство имеет право контролировать деятельность правительственных учреждений и должностных лиц путем запросов. Право запросов, как оно формулировано в 108 статье Осн. Зак., 44 ст. Учр. Госуд. Совета и 33 ст. Учр. Госуд. Думы, заключается в том, что Государственный Совет и Государственная Дума могут запрашивать министров и главноуправляющих отдельными частями о таких действиях, последовавших со стороны их и подчиненных им должностных лиц, которые им представляются незакономерными. На практике этот контроль простирается гораздо 104 дальше, чем это установлено буквой закона. Само правительство, нуждаясь в поддержке народного представительства и в сочувствии общественного мнения страны, часто считает полезным обращаться к Государственной Думе с объяснениями и оправданиями своей деятельности в таких отраслях управления, которые формально совсем не подчинены контролю Государственной Думы. Так, на основании 12 ст. наших Осн. Зак., вся внешняя политика является исключительной прерогативой Верховного управления; между тем министр иностранных дел уже не раз давал объяснения перед Государственной Думой по поводу нашей политики и на Дальнем, и на Ближнем Востоке. Из всего сказанного ясно, что введением народного представительства у нас не создано разделения властей. Наши Основные Законы и Учреждения Государственного Совета и Государственной Думы лишь дальше провели то обособление различных функций государственной власти, которое было намечено уже реформами Александра П. Впрочем, выше мы пришли к заключению, что разделение властей фактически даже невозможно; там, где оно проводится конституцией, например, в С.-А. Соединенных Штатах, оно создает лишь некоторое разобщение между органами законодательной и правительственной власти. Однако наши конституционные законы не устанавливают и этого разобщения; напротив, относительно законодательства в них прямо указано, что наши верховные законодательные органы действуют «в единении», что же касается органов правительственной власти, то у нас созданы формальные условия для того, чтобы привести их к тесному общению с нашим народным представительством. Из вышеприведенного рассмотрения наших конституционных законов мы видели, что они слагаются из четырех законодательных актов, а не из одной конституционной хартии. Однако доминирующее положение среди них занимают Основные Законы. Что наши Основные Законы не составляют еще всей нашей конституции, это не единичный пример среди других конституционных законодательств. В этом, отношении может быть проведена параллель между нашими Основными Законами и конституционными законами Швеции. Последние состоят из двух законодательных актов, из так называемой «формы правления», которая соответствует нашим Основным Законам, и «устава риксдага», который соответствует нашим Учреждениям Государственной Думы и Государственного Совета. То же мы видим в одной из более молодых современных конституций, в конституции третьей республики во Франции; она состоит из целого ряда законодательных актов, среди которых три имеют особенно большое значение. Однако у нас с тем обстоятельством, что наши конституционные законы не изложены в одном законодательном акте, связана еще одна особая черта. Эта особая черта заключается в чрезвычайной многочисленности статей, из которых состоят наши конституционные законы. Этих статей, если считать Основные Законы вместе с Учреждением о Императорской Фамилии, которое само состоит из 99 статей, 710. Такого большого количества статей нет ни в одной из современных конституций. Большинство современных конституций состоит из ста с небольшим статей, и самые обширные и пространные из них заключают двести статей или немного больше. Здесь мы имеем, несомненно, исключительную особенность наших конституционных законов, и она объясняется теми особыми обстоятельствами, при которых она издавалась. Разработка и издание их велись не систематически и не по строго выработанному плану; а смотря по тому, как требовали жизнь и быстро развивавшиеся события 1905—1906 гг. Одни законодательные акты издавались за другими, и некогда было думать о их кодификационной переработке и слиянии; этим объясняются и так часто встречающиеся повторения в них. Изучая Основные Государственные Законы и сравнивая их с Учреждениями Государственного Совета и Государственной Думы, а также последние между собой, мы найдем в них целый ряд статей, которые повторяются по два или по три раза дословно или почти дословно. Особенно легко можно было бы слить Учреждения Государственного Совета и Государственной Думы в один законодательный акт. Учреждение Государственной Думы состоит из 63 статей, а Учреждение 105 Государственного Совета из 124 статей; но в последнем только первые 65 статей имеют отношение к Государственному Совету в его целом и к его функциям как законодательного учреждения, а среди них есть несколько десятков статей, которые повторяют дословно соответственные статьи Учреждения Государственной Думы с заменой имени одного государственного органа другим. Остальные 59 статей Учреждения Государственного Совета, составляющие второй и третий раздел его, посвящены департаментам и особым присутствиям в Государственном Совете и государственной канцелярии. Связь этих учреждений с Государственным Советом чисто формальная и отчасти случайная; в частности, по отношению к департаментам и особым присутствиям она выражается в том, что членами их назначаются члены Государственного Совета из числа его членов по Высочайшему назначению, а по отношению к государственной канцелярии — в том, что на нее возложены кодификационные работы. Эти учреждения могли бы быть и исключены из состава Государственного Совета. Но при теперешнем их положении относящиеся к ним статьи Учреждения Государственного Совета составляют как бы приложение к нему. Совершенно особое место среди наших конституционных законов занимает Учреждение о Императорской Фамилии, которое до государственных преобразований последнего времени составляло часть Основных государственных законов и теперь продолжает быть связано с ними в кодификационном отношении. Но в то же время Основные государственные законы, изданные 23 апреля 1906 г., коренным образом изменили государственно-правовое значение этого учреждения. Они заключали в себе две статьи — 24 и 25, которые касались наших старых Основных Законов. 24 статья суммарно определяла, что постановление Свода Законов, т. I, ч. I, издания 1892 г. о порядке наследования престола, о совершеннолетии Государя Императора, о правительстве и опеке, о вступлении на престол и о присяге подданства, о священном короновании и миропомазании, о титуле Его Императорского Величества и о государственном гербе, о вере, т.е. прежние статьи от 3 до 46 сохраняют силу Законов Основных. Затем 25 статья дословно гласила: «Учреждение о Императорской Фамилии (Свод Зак., т. I, ч. I, изд. 1892, ст. 82-179 и прил. II-IV и VI), сохраняя силу Законов Основных, может быть изменяемо и дополняемо только Лично Государем Императором в предуказан-ном Им порядке, если изменения и дополнения сего Учреждения не касаются законов общих и не вызывают нового из казны расхода». При новом издании первого тома Свода Законов 24 статья Осн. Зак. 23 апреля 1906 г. оказалась выполненной путем внесения названных в ней статей в новые Основные Законы с изменением их нумерации. Напротив, 25 статья тех же Законов, изменившая государственно-правовой характер тех статей старых Основных Законов, которые составляют Учреждение о Императорской Фамилии, внесена в новые Основные Законы и помещена в них под номером 125. После нее Учреждение о Императорской Фамилии целиком заняло место в новых Основных Законах в статьях от 126 до 223, которая является заключительной в этих законах. Но связь его с Основными Законами обусловлена тем, что оно занимает особо почетное и совершенно исключительное положение в нашем законодательстве. Оно определяет понятие Императорской Фамилии, т.е. очерчивает круг лиц, принадлежащих к ней, права отдельных членов Императорской Фамилии, находящиеся в зависимости от степени родства с царствующим Императором, имущественное положение членов Императорской Фамилии, условия для вступления в брак членов Императорской Фамилии и вообще частные вопросы, касающиеся Семьи и всего рода Государя Императора. По содержанию это семейный закон царствующего у нас дома. От аналогичных семейных законов западно-европейских царствующих домов он отличается главным образом тем, что не включает в себя статей закона о престолонаследии, отнесенных к общей части наших Основных Законов. Дальше при рассмотрении вопроса о престолонаследии мы увидим, какие вытекают из этого последствия. Здесь заметим только, что Учреждение о Императорской Фамилии есть частный закон, касающийся только членов Императорской Фамилии, а не всего русского 106 государства и его подданных. Поэтому ему придан и особый формальный характер, заключающийся в том, что изменения его не подлежат рассмотрению Государственного Совета и Государственной Думы, а производятся единоличной властью Государя Императора. Исключение составляют те случаи, когда изменения Учреждения о Императорской Фамилии касаются законов общих или вызывают новые расходы из казны; тогда соответственные статьи этого Учреждения изменяются в том же порядке, как и остальные статьи Основных Законов, т.е. по почину Государя Императора и с согласия Государственного Совета и Государственной Думы. Необходимо отметить еще одно обстоятельство, касающееся Учреждения о Императорской Фамилии; в нем в статье 222 говорится: «Царствующий Император, яко неограниченный Самодержец, во всяком противном случае имеет власть отрешать неповинующегося от назначенных в сем законе прав и поступать с ним, яко преслушным воле Монаршей». Итак, в то время как в начале Основных Законов, в 4 статье предикат «неограниченный» устранен из нашего законодательства и Государю Императору присвоена лишь «Верховная Самодержавная власть», но не неограниченная, здесь термин «неограниченныйСамодержец» еще удержан. Можно ли, однако, на этом основании считать, что неограниченная власть Государя Императора еще сохранена? Конечно, нет. Выше мы установили, что Учреждение о Императорской Фамилии не заключает в себе норм общего законодательства, а потому и 222 ст. его не касается наших государственных учреждений и имеет отношение только к Императорской Фамилии; таким образом, если термин «неограниченный» в данном случае еще имеет какое-нибудь значение, то только для членов Императорской Фамилии. Несомненно, однако, эти слова «яко неограниченный Самодержец» оставлены в нашем законодательстве по недосмотру, так как в 24 и 25 статьях было суммарно определено, что названные в них статьи старых Основных Законов сохраняют силу Основных Законов; на этом основании они были перепечатаны в том виде, как издавались раньше, и не было предоставлено на благоусмотрение Государя Императора о необходимости согласовать эту статью со всеми остальными статьями Основных Законов. Тем не менее пока статья 222 в нынешней ее формулировке включена в наши Основные Законы, она имеет силу; но значение ее нельзя распространять путем толкования и на остальные статьи наших Основных Законов. Она не может отменить 4 статьи их потому, что она находится среди тех статей, которые принадлежат к Учреждению о Императорской Фамилии, и, следовательно, если она и создает неограниченную власть Монарха, то только в ограниченном круге Императорской Фамилии. Единственный вывод, который можно из нее сделать, заключается в том, что если член Императорской Фамилии ослушается воли Государя Императора, то Государь Император может поступить с ним, как неограниченный Самодержец. Не противоречит ли, однако, признанию государственного строя, созданного у нас законодательством 1905—1906 гг. конституционным, сохранение титулов «Самодержавный» и «Самодержец»? В нашей литературе были высказаны очень противоречивые взгляды на этот вопрос. Так, наш известный юрист Нечаев высказал мнение, что под термином «Самодержец» подразумевается только неограниченность внешняя, т.е. верховенство государственной власти в международных отношениях. Он вывел это заключение из рассуждений Сперанского в его «Руководстве к познанию Законов», которое может отчасти рассматриваться как комментарий к составленному им нашему Своду Законов. Но большинство теоретиков государственного права не соглашается с мнением Нечаева, и оно, несомненно, основано на ошибке. Сам Сперанский видел в титуле «самодержавие» слияние понятий неограниченности во внешних международных отношениях и неограниченности во внутренних отношениях, он считал, что он объединяет и внешнюю независимость, и внутреннее полновластие. Несомненно также, что до 1905 г. под терминами «Самодержавный» и «Самодержец» подразумевалась власть неограниченная и автократическая. Однако эти титулы усвоены русскими монархами очень давно; впервые они стали применяться еще царем Иоанном III. Вместе с 107 византийскими придворными обычаями, этикетом и эмблемами они были перенесены к нам из Византии благодаря женитьбе Иоанна III на княжне Софии Палеолог. Русские цари и императоры твердо держались этого титула, и он проходит через всю историю развития не только царской и императорской власти у нас, но и всей нашей государственной власти. Но именно благодаря этому титулам «самодержавный» и «самодержец» в различное время придавали совершенно различное значение. Если в течение XVIII и XIX столетий с ним отождествлялось понятие неограниченной власти, то раньше, в XVI и XVII веках, когда у нас созывались земские соборы и когда власть царя была ограничена Боярской Думой и патриаршеством, под ними не могла пониматься неограниченная власть или, по крайней мере, сама неограниченность имела другой характер. Какое же они значение имеют? Ясно, что как раньше они подвергались известной эволюции и в разные эпохи в них вкладывалось различное содержание, так и теперь, после издания новых Основных Законов и Учреждений Государственной Думы и Государственного Совета, в них должно быть вложено другое содержание. Теперь они не могут больше обозначать неограниченной власти Государя Императора, а лишь ее верховенство. Эти титулы чересчур тесно и неразрывно связаны со всем развитием у нас монархической власти; ни один русский монарх не может отказаться от них, и в них наиболее типично выражается характер нашей конституции как конституции дарованной. Однако сами по себе титулы не могут иметь не только решающего значения для государственного строя, но и быть показателем его. Не государственный строй определяется ими, а они определяются государственным строем. В этом смысле высказался и высший представитель правительства — председатель совета министров в заседании третьей Государственной Думы 13 ноября 1907г. Более близкое знакомство с нашими конституционными законами должно нас привести к заключению, что они вполне могут быть сопоставлены с конституционными законами других государств. Если они несколько уже определяют права народного представительства и если наше народное представительство основано на менее демократических началах, чем в других, более развитых государствах, то не подлежит сомнению, что конституционный государственный строй у нас установлен и у нас существует конституция. Большинство современных конституционных государств начинали свое конституционное развитие с учреждений еще менее демократических и обладавших еще более тесными и узкими правами. Поэтому законодательством 1905— 1906 гг. у нас создана прочная основа для нашего дальнейшего конституционного развития. Установленные им гарантии и их неприкосновенность должны обеспечить нам возможность непрерывного развития без новых потрясений. 108 Глава X. ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСПОДСТВА ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВАХ От частного вопроса о русских конституционных законах мы должны возвратиться к основным вопросам общего конституционного права. Мы прервали выяснение принципов общего конституционного права на более детальном определении условий, гарантирующих господство права в современных государствах. Но для того, чтобы нам была ясна связь с предыдущим, мы должны вспомнить о том ходе рассуждений, который был усвоен в нашем изложении. Прежде всего мы выяснили, что государственное право изучает государство с юридической точки зрения, т.е. как правовое явление, и такое изучение особенно важно потому, что современное государство основано на господстве права. Затем, ознакомившись с государством в самых общих чертах, мы увидели, что всякое государство состоит из трех элементов — власти, народа и территории. Изучение государства и есть изучение этих элементов, причем государственное право изучает правовую природу их. Мы начали с самого важного и основного элемента — с власти, мы остановились на проблеме власти, исследовали существо ее и в связи с этим занялись вопросом, чем гарантируется правовой характер власти. Мы отвергли теорию разделения властей, как несоответствующую фактам и неправильную, и пришли к заключению, что гарантии правового характера государственной власти надо искать не в разделении ее, а в других ее свойствах. Эти гарантии мы открыли в господстве права, а в частности — в господстве верховного закона в государстве, в участии народного представительства в законодательстве и в обеспечении неприкосновенности и свободы личности. Господство верховного закона выражается в том, что государственный строй и государственные учреждения основаны в современном государстве на конституции, которая поставлена во главе всего современного правового порядка. В связи с этим мы и остановились на 109 развитии верховной власти в России и особенно сосредоточили свое внимание на русских Основных Законах, Учреждениях Государственного Совета и Государственной Думы и Положении о выборах в Государственную Думу как на таких законах, которые соответствуют западно-европейским конституционным законам. Теперь нам нужно перейти к двум другим гарантиям, которые обеспечивают правовой характер власти в современных государствах. Эти гарантии суть народное представительство и права человека и гражданина. Но эти гарантии тесно связаны со вторым элементом, из которого состоит всякое государство, т.е. с народом. Поэтому мы должны сперва определить то государственно-правовое положение, которое народ занимает в современном государстве. Только выяснив его, мы сможем вполне понять значение и народного представительства, и прав человека и гражданина для современного конституционного государства. Ясно, что народ — столь же неотъемлемый элемент государства, как и сама власть. В правовом государстве сама власть находит свое обоснование в народе и его правосознании; поэтому можно сказать, что в правовом государстве народ является в известном смысле наиболее существенным элементом. Народ не есть совокупность разрозненных индивидуумов. Напротив, он представляет из себя чрезвычайно многообразную организацию. Особенно сложна и многообразна организация современных народов, члены которых связаны бесчисленным множеством экономических, социальных и правовых отношений. Но государственное право изучает только правовую организацию народа. С государственно-правовой точки зрения, народ представляет из себя правовой союз. Раньше мы уже определили государство как правовой союз народа, находящий свое завершение в органах власти. Народ как правовой союз играет в жизни государства двоякую роль: с одной стороны, народ как орган государства, создающий путем выборов один из высших органов власти — народное представительство, является субъектом власти, с другой стороны, он подчинен установленным органам власти, а потому он составляет в то же время и объект государственной власти. Эти два государственно-правовых свойства народа особенно определенно различаются в государствах, признающих принципы народного суверенитета. Впервые это различие установлено Руссо; он квалифицирует лиц, участвующих в создании общей воли, или воли государства, как граждан (citoyens), напротив, в качестве обязанных повиновением государству, или общей воле, — как подданных государства (sujets). В противоположность этому в государствах, не признающих народного суверенитета, свойства народа и каждого его члена как субъективных элементов власти в значительной мере затушеваны. Так, в современных конституционных монархиях как теоретики, так и практики стремятся выдвинуть на первый план государственно-правовые свойства народа как объекта власти. Теоретики государственного права и государственные деятели настаивают прежде всего на том, что народ состоит из подданных государства. Но такая резкая постановка вопроса о подданстве, несомненно, представляет тоже большие неудобства. Она не соответствует фактам и не может быть согласована с государственно-правовыми отношениями в современных конституционных государствах. Во всех современных государствах народ в той или другой степени приобщен к власти. Выше мы видели, что большинство современных конституционных государств основано на компромиссе, который заключен между идеей народного суверенитета и традиционной формой власти, созданной еще абсолютной монархией. Благодаря этому компромиссу и в современных конституционных монархиях народ хотя бы отчасти является носителем или субъектом власти. Однако в конституционных монархиях избегают вскрывать эти отношения и обыкновенно избирают средний путь, при котором эти элементы подданства и власти затушевываются. Этот средний путь находит свое выражение и в терминологии. Так, например, в Германии одинаково избегают употребления терминов как «гражданин», так и «подданный», вместо них придумали средний термин — «принадлежащий к государству» (Staatsangehoriger или 110 Reichsangehoriger). Но, несмотря на это, не подлежит сомнению, что во всех правовых государствах, не исключая и конституционных монархий, народ и во всей своей совокупности, и в виде отдельных личностей является не только объектом власти, но и субъектом ее. Этот характер народа в современных государствах гарантируется самим государственным устройством. Наиболее простым и естественным государственным устройством является республика с непосредственным народным правлением. В таких республиках все вопросы решаются народным собранием всех наличных граждан, происходящим обыкновенно под открытым небом. Это народное собрание соответствует нашим древним вечам, или нынешним мирским сходкам в сельских общинах. Однако непосредственная демократическая республика может существовать только в очень небольших государствах. Среди цивилизованных народов она сохранилась только в маленьких лесных и сельских кантонах Швейцарии. Не подлежит сомнению, что необходимое условие ее существования заключается в том, чтобы государство состояло из небольшого числа жителей, не превышающего несколько десятков тысяч. В современной Швейцарии непосредственная демократия существует в 4 кантонах: Ури, Унтервальден, Аппенцель иГларус. Так как Унтерваль-ден и Аппенцель каждый состоит из двух полукантонов, первый из Верхнего и Нижнего, а второй из Внутреннего и Внешнего, то это число увеличивается еще на два. Таким образом, в современной Европе есть только 6 непосредственных демократий, которые управляются мирским сходом, состоящим из всех граждан. Все эти 6 республик являются очень небольшими государствами; так, Ури имеет только 20 000 жителей, значит, в нем взрослого мужского населения не более 5000, Верхний Унтервальден имеет только 15 000 жителей, Нижний — 13 000, Внешний Аппенцель — 56 000, Внутренний — 14 000 иГларус — 32 000 жителей. Напротив, кантон Цуг, имеющий теперь 26 000 жителей, отменил у себя непосредственную демократию и ввел народное представительство уже в 1814 г. В 1848 г. к системе народного представительства перешел также и кантон Швиц, состоящий теперь из 57 000 граждан. Из этих цифр видно, что существующие теперь в Европе непосредственные демократии, за исключением Внешнего Аппенцеля и Гларуса, состоят из минимального количества граждан. По количеству населения они равняются не более пятнадцатой или двадцатой части среднего русского уезда и могут быть сопоставлены только с нашей волостью. Но в современных крупных государствах, состоящих из миллионов и десятков миллионов жителей, весь народ или все полноправные граждане не могут собираться для установления законов и решения государственных дел. Поэтому в них собрания всего народа заменяются собраниями народных представителей. Народные представительства являются выразителями воли народа, в их постановлениях должно отражаться народное правосознание. По общепринятой в современной теории государственного права конструкции воля и мнение народного представительства выражают волю и мнение всего народа. Потребовался, однако, долгий процесс исторического развития для того, чтобы идея народного представительства выкристаллизовалась и получила свое полное осуществление в современном государстве. Народное представительство сложилось постепенно чисто историческим путем в Англии. В процессе выработки тех исторических форм парламентских учреждений, которые создались в Англии к началу XVIII столетия, сознательный элемент почти не участвовал. Но тем большее значение сознательная и планомерная деятельность имела в Англии для определения содержания, внутренней сущности, или, так сказать, духа народного представительства. Через все развитие английского парламента проходит красной нитью одна идея — это борьба за право. Народные представители в Англии боролись за право, когда они отстаивали права парламента в вопросах обложения, когда они нападали на злоупотребления королевской властью и на неправильные действия должностных лиц, когда требовали, чтобы никто не подвергался аресту и наказанию иначе, как по приговору суда, и настаивали на независимости суда, когда они заботились о дальнейшем развитии права и настаивали на издании новых законов. Вообще, какое постановление ни принимал бы английский 111 парламент, он всегда отстаивал его во имя той или другой правовой нормы, силу и действие которой он этим подтверждал. Таким образом, народное представительство в лице английского парламента всегда являлось носителем правовой идеи, по самому существу ему было свойственно стремление к осуществлению господства права в государстве. С конца XVII столетия на развитие народного представительства начал влиять новый фактор. К этому времени начала зарождаться современная теория народного представительства, и постепенно его значение и деятельность подверглись рационализированию. Передовые мыслители XVII и XVIII столетий выдвинули те идейные элементы, которые заключаются в народном представительстве как государственном учреждении. Этим мы обязаны главным образом Локку и Монтескье. Не меньшее значение имел также Руссо, хотя он и отрицал народное представительство как таковое, и в частности, очень резко критиковал английскую систему народного представительства; но в то же время он косвенно способствовал распространению идей народного представительства, так как благодаря ему общее признание получила идея, что закон должен быть выражением общей воли народа, а при современных государственных условиях единственное средство для осуществления этой идеи заключалось в создании народного представительства. В настоящее время как идея, так и само учреждение народного представительства сделались всеобщим достоянием. Практически это выразилось в том, что английские государственные учреждения были заимствованы всеми политически развитыми народами и превратились в неотъемлемую принадлежность современных культурных государств. О современной цивилизации часто говорят, что она сложилась из трех элементов — из греческой философии, христианства и римского права. Но это справедливо лишь отчасти; только если брать европейскую цивилизацию до XVIII столетия, то все существенное и важное в ней можно свести к этим трем элементам. В самом деле, несомненно, современная наука уже вся была в зародыше в греческой философии. Греческая философия создала основные принципы логики и математики, положила основание астрономии, физике и всему естествознанию, а также наметила в главных чертах все современные гуманитарные науки. Христианство дало современному миру вместе с религией признание общечеловеческой солидарности и уважение к человеческой личности как таковой. Благодаря христианству была признана самоценность всякой личности и равноценность личностей между собой, а вместе с тем личность была поставлена настолько высоко, что стала возможной и вся современная культура, и развитие народов и обществ. Наконец, третий чрезвычайно важный элемент современной цивилизации — это римское право. Римское право, нормирующее главным образом гражданские отношения и гражданский оборот, создало ту школу, в которой могла выработаться дисциплина личного и общественного труда и развиться современная промышленность. Благодаря строгим определениям римского права, регулирующим отношения, возникающие между лицами из-за имущественных и других интересов, могла создаться гражданская цивилизация. Таким образом, до XVIII столетия, несомненно, все существенное и важное в европейской цивилизации исчерпывалось или сводилось к этим трем элементам. Но для характеристики европейской цивилизации, начиная с конца XVIII столетия, к ним нужно прибавить еще два элемента, чрезвычайно важных и существенных; это — современная промышленная техника и конституционные государственные учреждения. Эти два элемента совершенно преобразовали жизнь культурного человечества. В частности, современная промышленная техника коренным образом перестроила экономическую жизнь культурных народов и привела к глубоким переменам в их материальном быте. Современная техника проникла во все области труда, и благодаря ей были созданы новые формы и виды труда, он был организован на новых началах и стал несравненно производительнее. Поэтому получилось громадное накопление богатств, которое 112 совершенно было бы немыслимо без современной техники. Современные народы так богаты, как не снилось народам XVI и XVII столетий, а материальное богатство — это величайшее благо, создающее условия и для духовной культуры. Богатство, доставляя досуг, дает возможность людям работать умственно; пока, правда, досугом обладает сравнительно незначительное количество лиц, но современная техника настолько перестраивает всю экономическую жизнь, что подготовляются основания для таких социальных преобразований, которые дадут возможность пользоваться благами богатства и широким народным массам. Таким образом, современная техника приведет в конце концов к тому, что все будут иметь достаточно досуга для удовлетворения чисто духовных потребностей, для умственных занятий, нравственного усовершенствования, созерцания произведений искусства и религиозных утешений и религиозного осмысления жизни. Не меньшее значение имеют и конституционные учреждения. Они преобразовали всю современную политическую и государственную жизнь, дав народным массам возможность участвовать в ней и определять ее. Они открыли пути и создали средства, при помощи которых народ сам может организовать свое государство и направлять его деятельность. Если еще в первой половине XVIII столетия признавалось бесспорной истиной, что свобода и демократия невозможны в обширных государствах, обладающих десятками миллионов жителей, то теперь не возбуждает больше возражений обратное мнение. Эта коренная перемена во взглядах объясняется тем опытом, которым мы обязаны конституционным учреждениям и прежде всего народному представительству. Все это заставляет нас поставить конституционные учреждения, и в частности, народное представительство, рядом с четырьмя названными выше элементами, определяющими всю современную культуру. Создав у себя народное представительство, Англия оказала громадную услугу всему человечеству, так как все культурные народы реципировали это учреждение у Англии и оно сделалось всеобщим. Мы можем здесь только коснуться народного представительства, чтобы отметить его значение как гарантии правового характера государственной власти. С точки зрения теории государственного права, народное представительство есть орган власти, и потому учение о народном представительстве относится к учению об органах власти, в связи с которым мы и рассмотрим подробно организацию и деятельность народного представительства. Здесь нам важно только указать на то, что народное представительство, как по своей исторической роли, так и по своей организации и функциям, в настоящее время является основным элементом для создания господства права в современном государстве. Благодаря ему вся деятельность современного государства регулируется правовыми нормами и подчиняется народному правосознанию. 113 Глава XI. ТЕОРИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВ. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА Третьему условию господства права в современном государстве — гарантии права и свободам личности — многие теоретики приписывают наиболее существенное значение. Громадное значение его само собою очевидно, так как личность человека и совокупность лиц, т.е. общество, составляют основу как права, так и государства. Государственные интересы ни в каком случае не должны всецело поглощать интересы отдельных лиц. Отдельная личность не есть лишь средство для государства, ее нельзя считать лишь придатком к государству. Напротив, личность есть основание всякой общественной и государственной жизни. Там, где личность лишь средство для государства, там государство превращается в деспота, власть которого приобретает характер чистого произвола. Такой деспотический характер имеет абсолютно-монархическое государство. Здесь интересы государства и власти — все, а личность — ничто. Правовым государство становится только в том случае, если устанавливается принцип, что человеческая личность существует независимо от государства и имеет как бы приоритет перед ним. Мы обязаны тому же XVIII столетию, которое было колыбелью и идеи писанных конституций, и теории народного представительства, провозглашением принципа безусловной ценности личности в государственной жизни. Но, может быть, права и интересы личности всецело ограждаются народным представительством и участием народа в законодательстве? Может быть, то, что мы называем правовым или конституционным государственным строем, исчерпывается лишь известной организацией государственных учреждений, при которой воля народа становится законом? Исторический опыт показывает, что для действительного осуществления правового порядка и для устранения государственного деспотизма одного участия народа в выработке законов и в контроле над их исполнением далеко не 114 достаточно. Даже при самых радикальных и демократических формах народовластия и народоправления народ или его уполномоченные склонны превращать свою верховную власть в абсолютную или деспотическую. Примером такого деспотического правления именем народа была якобинская республика во Франции. Деспотизм большинства и, в частности, народа, часто бывает не менее жестоким, чем деспотизм одного лица, монарха; в некоторых случаях он даже более ужасен и беспощаден, так как большинство считает себя более непогрешимым, чем каждый человек в одиночку. В отдельном человеке скорее заговорит совесть и любовь к другим людям, чем в толпе, которая фанатически увлечена какой-нибудь идеей. Поэтому само по себе народовластие еще не может оградить от деспотизма граждан, их личность и свободу. Исторический опыт заставил признать, что для установления правового порядка необходимо не только участие народа в создании законов и в контроле над их исполнением, для этого необходимо еще и ограничение самой государственной власти, т.е. уничтожение абсолютизма и неограниченности или «самодержавия» верховной государственной власти. Это не есть ограничение какого-нибудь органа или носителя государственной власти, не монарха или народа, а самой власти как таковой. В правовом государстве верховная государственная власть, даже когда она всецело принадлежит народу, не абсолютна, или не «самодержавна», а ограничена; ей положены известные пределы, которых она не может преступать. Такие пределы или границы создаются, однако, не какой-либо другой государственной или хотя бы негосударственной властью, а известными принципами или правовыми отношениями, которых государственная власть не может нарушать. Государство не имеет права стеснять или нарушать субъективные политические и публичные права своих граждан. Так называемые личные права или свобода личности и все вытекающие из них общественные свободы ненарушимы для государства и неотъемлемы у отдельных граждан иначе, как по суду. Этот неприкосновенный характер некоторых субъективных прав отмечается и в законодательстве или путем торжественного провозглашения их в декларациях прав человека и гражданина, или путем особой кодификации их в конституциях. Впервые на Европейском континенте декларация прав была провозглашена французским Национальным Собранием в 1789 г., затем она была принята с некоторыми изменениями и дополнениями почти во все конституции европейских народов. Декларация прав человека и гражданина подействовала в XVIII столетии, как политическое откровение. Она вызвала всеобщий восторг и более всех других принципов XVIII столетия воодушевляла людей на борьбу за новый государственный строй и новый правовой порядок. Всем тогда казалось, что государство, построенное на принципе декларации прав человека и гражданина, будет идеальным. Теперь, однако, отношение к принципам декларации прав человека и гражданина совершенно изменилось; восторг и воодушевление сменились полной холодностью. Это объясняется, конечно, в значительной мере тем, что принципы эти отчасти стали общими местами, само собой понятными истинами. Никто теперь не сомневается в том, что нормальное существование и развитие общества и государства невозможно без свободы личности, слагающейся из личной и домашней неприкосновенности, свободы передвижения, свободы профессий, без свободы совести и ее разветвлений — свободы слова и печати, свободы собраний и союзов. Среди общего холодного отношения к принципам декларации прав установился также совершенно будничный чисто утилитарный взгляд на провозглашенные декларацией свободы. Эти свободы теперь рассматривают обыкновенно лишь как средство успеха в политической борьбе. Так как политическую борьбу особенно энергично ведут трудящиеся классы, то чаще всего обосновывается и развивается необходимость этих свобод для этих классов. Утилитарная точка зрения ведет к тому, что за ними признается лишь относительное значение. Средство, годное и полезное в одно время, может оказаться негодным и бесполезным в другое. Отрицая безусловный характер за принципами 115 декларации прав человека и гражданина, некоторые сторонники социалистического строя у нас доходили до предположения, что трудящиеся классы в случае победы могут для борьбы с буржуазией отменять'всеобщее избирательное право и даже ограничить свободу слова, собраний и союзов. С другой стороны, за принципами декларации прав признавался только временный характер. Декларацию прав человека и гражданина называли Евангелием буржуазии; в ней видели нечто присущее лишь буржуазному или конституционному государству, в противоположность абсолютно-монархическому строю, нечто совершенно ненужное в социалистическом государстве. Но все эти мнения о значении декларации прав являются следствием недостаточно вдумчивого отношения к ее принципам. О декларации прав часто судят по отдельным частностям, над нею произносят суровый приговор на основании крайне неправильного и извращенного применения ее в жизни. Но при этом упускают из вида, что принципы декларации прав не только никогда не были осуществлены целиком, но и для осуществления их иногда были придуманы такие формы, которые приводили к их упразднению в жизни. На декларации прав человека и гражданина подтвердился несомненный факт, что провозгласить какой-нибудь принцип, хотя бы и в виде закона, и осуществить его в жизни — далеко не одно и то же. Впрочем, по отношению к декларации прав проявилось не столько неумение осуществить ее принципы, сколько нежелание осуществить их. Собственно говоря, вся история западно-европейских конституционных государств заключается как в попытках со стороны народных масс вполне осуществить принципы декларации прав, так и в постоянной борьбе с ними со стороны враждебных им сил — представителей старого режима, старавшихся совершенно упразднить их. Тотчас после провозглашения декларации прав во время великой французской революции обнаружилось, что принципы ее невыгодны социально и экономически могущественным классам. Поэтому они всеми силами пытались бороться с этими принципами, чтобы по возможности ослабить их применение в жизни, а вместе с тем приспособить конституционное государство к своим интересам. Новейший историк французской революции Олар очень хорошо описывает, как неохотно и как бы под внешним давлением Национальное Собрание провозгласило декларацию прав. Когда, однако, декларация прав была провозглашена, то ее, как метко выразился один из современников, сейчас же поспешили завесить «священным покрывалом». Смельчаки в Национальном Собрании часто заявляли: «я разорву, я отдерну покрывало», но большинство боялись естественных и логических выводов из декларации. Они не только не позволили извлечь эти выводы и применить их в жизни, но даже тотчас отступили от них. Так, одним из первых выводов из декларации прав было всеобщее и равное избирательное право. Между тем Национальное Собрание, провозгласившее в декларации прав, что закон есть общая воля народа и что все граждане равны, ввело ценз и соответственно ему деление граждан на активных и пассивных. Таким образом, уже первая французская конституция, т.е. первая конституция в Европе, полна противоречий. С одной стороны, ей предшествует в качестве введения декларация прав, а с другой, в противоположность принципам декларации ею вводится ценз, непрямые выборы и деление граждан на участвующих в законодательстве путем избрания представителей и не участвующих. Но если и во время великой французской революции, т.е. в период величайшего подъема сознания народных масс и наибольшей готовности со стороны привилегированных классов жертвовать своими преимуществами, если и в это время принципы декларации прав далеко не могли быть осуществлены, то, конечно, они не могли быть осуществлены целиком ни в один из последующих периодов вплоть до настоящего времени. Их осуществлению в последующее время мешало общее разочарование в принципах великой французской революции, явившееся вследствие ее неудачи. Вместе с тем появилось очень скептическое отношение к самой декларации прав человека и гражданина, и ею в значительной мере перестали интересоваться. Таким образом, случилось, что то священное покрывало, которым была завешена декларация прав еще во время великой французской революции тотчас после 116 провозглашения ее, и до сих пор не отдернуто. Практически оно и не могло быть отдернуто, так как полное и последовательное осуществление декларации прав человека и гражданина, несомненно, привело бы к социалистическому строю. Поэтому только вместе с осуществлением государственных форм будущего декларация прав человека и гражданина целиком воплотится в жизнь. В теоретическом отношении покрывало, которым была завешена декларация прав, постепенно отодвигается лишь в самое последнее время. Только теперь из декларации прав стремятся устранить временные и случайные элементы как нечто несущественное и совершенно чуждое ей. Вместе с тем все больше проникают в существо ее или в ее внутренний смысл. А проникновение во внутренний смысл декларации прав приводит к тому, что наряду с правами политическими должны быть поставлены права социалистические, наряду со свободой от вмешательства государства в известную сферу личной и общественной жизни должно быть поставлено право каждого гражданина требовать от государства обеспечения ему нормальных условий экономического и духовного существования. Поэтому не подлежит сомнению, что чисто утилитарный взгляд на права человека и гражданина в социалистических кругах должен смениться более серьезным отношением к ним. Это более серьезное отношение к правам человека и гражданина должно привести к признанию, что требование осуществления прав человека и гражданина является таким же неотъемлемым требованием социалистического строя, как и требование народовластия. До сих пор думали, что только правовой или конституционный строй нуждается в осуществлении декларации прав, а так как по своей социальной структуре современное конституционное государство буржуазно, то и декларацию прав поспешили объявить Евангелием буржуазии. Только теперь начинают постепенно признавать безотносительное значение принципов декларации прав; вместе с тем все сильнее убеждаются, что социалистический строй еще более, чем правовой, нуждается в последовательном и полном проведении в жизнь этих принципов и что их полное осуществление в жизни тождественно с социалистическим строем. Переходя к рассмотрению теоретического значения прав человека и гражданина, мы должны вспомнить, что права человека и гражданина первоначально были провозглашены как нечто абсолютное и метафизическое. Их реализация в практической жизни была постулирована во имя их высшего безотносительного значения. В них видели раскрытие самой сущности общественного союза и положения в нем отдельных личностей. В этом абсолютном или метафизическом значении личных и общественных свобод заключался, по убеждению их первоначальных поборников, весь их смыл, их сила и роль в общественной и государственной жизни. Их неотъемлемость и неприкосновенность была прямым непосредственным следствием их абсолютности. Абсолютное значение прав и свобод, провозглашенных в декларации, выводилось из естественных прав человека. Отношение их к обществу и государству, или, вернее, отношение этих последних к ним, устанавливалось на основании учения об общественном договоре. Школа естественного права учила, что всякое общество основано на общественном договоре; все права общества и государства слагаются из прав отдельных лиц, перенесенных ими путем договора на общество и государство; но при заключении общественного договора отдельные лица отказываются и вообще могут отказаться в пользу общества и государства только от части своих прав и только для того, чтобы тем вернее сохранить остальные свои права. Они даже прямо покупают отказом от части своих прав обязанность общества охранять их остальные права, т.е. их личную и общественную свободу, которая по существу неотъемлема. Теоретики естественно-правовой школы считали основой всех общественных и государственных явлений только единичную личность и простую арифметическую сумму их. За государством не признавалось никаких самостоятельных прав, независимых от переуступленных ему прав отдельных лиц. Поэтому отрицалась также всякая правомерность захвата со стороны государства больших прав, чем сколько ему было передано отдельными лицами. Всякий захват был не только противозаконен, но 117 и как бы противоестественен; если он и превращался в действительность, то только как аномалия, извращение и временное патологическое состояние. Однако жизненная практика и исторические события, как уже отмечено выше, показали, что мало было провозгласить принципы личной и общественной свободы для того, чтобы они проникли во всеобщее сознание, сделались неотъемлемой частью государственной организации и действительно осуществились в жизни. Принципы были неоднократно провозглашены, а осуществление их подвигалось очень медленно, притом их осуществление как бы не стояло ни в какой зависимости от их провозглашения. Сила идей декларации прав в действительности оказалась менее реальной, чем были убеждены те, кто впервые их провозглашал. Даже безусловно истинные идеи не реализовались лишь в силу присущего им внутреннего значения, ценности и достоинства. Поэтому не замедлила возникнуть реакция против естественно-правовой школы, которой проникнуты все политические учения XIX столетия. Реакция направлена, однако, не против учения о необходимости известных личных свобод и прав, а против естественно-правовой теории их оправдания, против естественно-правового учения об их правовом, социальном и политическом значении. Но вместе с другой теоретической окраской, придаваемой этим политическим правам или свободам личности, отмежевываются им и другие границы, за ними признается совсем другой общественный и государственный характер. Теперь они уже далеко не естественное отражение самой сущности общественного союза, они лишаются своего абсолютного идейно-метафизического значения; понятно, что и их неотъемлемость, и неприкосновенность отрицается. Критика теории школы естественного права ведется представителями двух различных наук — истории и социологии, с одной стороны, и правоведения, с другой. Замечательно, что в то время как историки и социологи в общей массе примыкают к прогрессивным течениям, а юристы по большей части являются консерваторами, те и другие вполне сходятся в результатах своей критики. Главный пункт критики заключается в том, что публичные и политические права вовсе не являются субъективными правами подобно частным правам, например, имущественным или праву на доброе имя. Если признавать за личностью такие права как свободу совести, свободу слова, свободу профессий, свободу передвижения и тому подобные, то отчего, говорят противники естественно-правовой школы, не провозглашать права свободно ходить гулять, права молиться, права посещать театр, права обедать в любое время, одним словом, не конструировать все естественные проявления человеческой жизни в виде каких-то субъективных прав. Чем отличается свобода передвижения или свобода профессий от права ходить гулять и от права ездить на лошадях и по железной дороге? Историки и социологи видят в провозглашении личных и общественных свобод как субъективных публичных прав чисто историческое явление. Они считают это провозглашение всецело обусловленным известным историческим и социальнополитическим моментом и видят в нем отражение государственных и политических запросов определенной эпохи. Так как, говорят они, абсолютно-монархическое государство отрицало и ограничивало свободу личности и общества, простирая чересчур далеко свою опеку над ними, то правовое государство считало нужным провозгласить эти свободы в качестве субъективных публичных прав. Когда, однако, забудутся все ограничения свободы, созданные абсолютно-монархическим государством, когда опека государства над личностью и обществом отойдет в глубь истории и сделается лишь преданием, то все эти так называемые права перестанут быть правами и превратятся как бы в естественное проявление человеческой личности вроде права ходить гулять. В самом деле, требование таких свобод как свобода передвижения или свобода профессий объясняется существованием податных сословий и паспортной системы. Когда деление на сословия и особенно выделение особой категории податных сословий, а также паспорта отойдут совершенно в область исторического предания, то право на свободу передвижения и свободу профессий не будет даже ощущаться и сознаваться теми, кто 118 будет их осуществлять. К этой историко-социологической теории, отрицающей за правами человека и гражданина значение субъективных прав, т.е. прав личности, и видящей в них результат и стадию известного исторического и социального развития, присоединяется еще соответствующая юридическая теория. Некоторые юристы считают свободу личности, вытекающую из прав человека и гражданина, не субъективным правом граждан, а лишь результатом объективного права, т.е. следствием общего государственного правопорядка, установленного в современных конституционных государствах. Первый выступил с этой теорией еще в 50-х гг. XIX столетия немецкий юрист Гербер, основатель юридической школы государственного права. В своем сочинении «О публичных правах» (Ueber offenthche Rechte), вышедшем в 1852 г., он утверждает, что «при ближайшем анализе убеждаешься, что понятие гражданства есть чисто политическое, а не юридическое понятие; оно определяет лишь политическое положение индивидуума при свободомыслящем и конституционном правительстве». По его мнению, гражданскополити-ческие права «всегда остаются лишь отрицанием и отстранением государственной власти к границе ее компетенции; они лишь предел власти монарха, рассматриваемые с точки зрения подданных. Поэтому юридическая конструкция может заключаться только в том, чтобы превратить эти отрицания в положительные определения прав государственной власти. Это объективные абстрактные правовые нормы для осуществления государственной власти. Для отдельного гражданина они имеют лишь то следствие, что при условии определенного положения дел они создают правомочие (право в субъективном смысле), например, право на отмену известного распоряжения». К этому пониманию гарантий личной свободы в конституционном государстве присоединился целый ряд немецких юристов, как, например, Захариэ, Георг Майер, Ренне и др. Но особенно энергично в защиту его выступает проф. Страсбургского университета Лабанд. Он утверждает, что «права свободы или основные права— это нормы для государственной власти, которые она сама для себя устанавливает; они создают пределы для правомочий должностных лиц; они обеспечивают каждому его естественную свободу действия в определенном объеме, но они не обосновывают субъективные права. Они не права, так как у них нет объекта». Таким образом, по мнению этих юристов, личные свободы вовсе не права в субъективном смысле, а лишь следствие общего правопорядка и прежде всего известного правового принципа: все, что не запрещено, то дозволено. Выражаясь юридическим языком, личные свободы — это не субъективные права, а рефлексы объективного права. Чтобы уяснить себе, что понимают юристы чпод рефлексом права, приведем один пример из частноправовых отношений, заимствованный у известного юриста Иеринга. Когда квартирант 2-го этажа кладет на лестницу, ведущую в его квартиру, ковер, то и квартиранты 3, 4, 5-го и т.д. этажей, пользуясь общей лестницей, приобретают право ходить по ковру, когда они идут по лестнице. Но квартиранты 3, 4, 5-го и т.д. этажей не имеют субъективного права на пользование этим ковром. У них есть только субъективное право пользоваться лестницей, и рефлексом, отражением этого права является право пользования ковром. Точно так же в публичноправовой сфере государство устанавливает в своих собственных интересах известный публично-правовой порядок. Оно определяет в своих законах, что оно не вмешивается в известные дела и отношения своих подданных или граждан. Как результат этих законодательных определений получается известная сфера свободы личности и общества. Она является, однако, лишь следствием или рефлексом объективного права, но отнюдь не субъективным правом отдельных личностей или граждан. Но несмотря на все остроумие этих теорий, они по существу неправильны. Как историкосоциологические, так и юридические теории, отрицающие за свободой личности характер субъективных публичных и политических прав, страдают одним и тем же недостатком. Они так заняты обществом и государством, что совершенно игнорируют самостоятельное значение личности. В самом деле, историки и социологи, сводя все к эволюции 119 общественных отношений, не обращают внимания на то, что в этой эволюции, кроме общества, есть еще другой постоянный элемент — отдельные лица, из которых состоит общество. Выводить все из свойств общества и сводить все к различным стадиям общественного развития крайне неправильно, так как кроме свойств общества есть еще и постоянные свойства отдельных личностей. Таким образом, под влиянием своего теоретического интереса к обществу историки и социологи переоценивают его и практически. Ту же ошибку повторяют по-своему юристы, отрицающие правомерность субъективных публичных и политических прав. Для них источником и носителем права является исключительно государство. Поэтому отдельные лица, с их точки зрения, имеют права только по милости государства и только как отражение и следствие государственных установлений. Согласно с этим, государство сосредоточивает в себе всю совокупность прав, представляя в государственно-правовом смысле как бы самоцель, а отдельное лицо есть лишь подчиненное средство в достижении государственных задач. Одним словом, государство для них все, а отдельные лица ничто. Ясно, что юристы, отрицающие за правами человека и гражданина характер субъективных прав, переоценивают государство и недооценивают личность. Между тем не надо быть сторонником естественного права и апеллировать к метафизическим сущностям, чтобы признать за личностью известные неотъемлемые права, ненарушимые для государства. Отрицать их — это значило бы признавать за государством абсолютное значение, видеть в нем метафизическую сущность, для которой личность лишь неважный придаток. Правильнее всего признать интересы личности и интересы государства равноценными; как личность, так и государство являются соподчиненными самоцелями, причем ни те, ни другие не могут быть только средством. В действительности все права личности и свободы общения основаны на разграничении сфер деятельности государства и индивидов. Этого не отрицают и те юристы, которые не считают права личности субъективными правами, так как отрицать существование этой границы значило бы признавать или государство всем, а отдельных лиц ничем, или же наоборот, считать личность самодовлеющей и самоудовлетворяющей себя силой, а государство лишь подчиненным ей средством. Лучшее решение юридического вопроса о субъективных публичных правах дано Еллинеком, посвятившим этому вопросу специальную монографию «Система субъективных публичных прав» (System der subjektiven offentlichen Rechte; 2-е изд. 1905). Путем обстоятельного и глубокого анализа Еллинек приходит к заключению, что публичные и политические права являются такими же субъективными правами, как и частные гражданские права. Вместе с тем он дает самую правильную и исчерпывающую классификацию субъективных публичных и политических прав. Так как эти права основаны на разграничении сферы деятельности между личностью и государством, то в основу классификации их и должно быть положено отношение личности к государству. В самом деле, все субъективные публичные и политические права заключаются или 1) в свободе личности от государства, или 2) в праве личности на положительные услуги со стороны государства, или 3) в праве личности на участие в организации государства, т.е. в праве влиять на направление государственной деятельности. К этим трем категориям и сводятся все субъективные публичные и политические права. Что касается первой категории субъективных публичных прав, то они все заключаются в свободах, почему их часто называют просто свободами или политическими свободами, гарантируемыми конституцией. Они сводятся к праву на невмешательство государства в жизнь и деятельность отдельных лиц. Первое место среди этих прав занимает неприкосновенность личности, жилища и писем иначе, как по постановлению суда, а также полная свобода передвижения, не стесняемая никакими полицейскими правилами, т.е. отмена паспортной системы и свобода занятий. Сюда же относится свобода совести, т.е. право исповедовать любые научные, политические и религиозные убеждения, право 120 изменять их — право верить и не верить и переходить из одной религии в другую. Наконец, сюда же относится и право высказывать свои мнения и взгляды, т.е. свобода слова, и право свободно печатать и распространять их, т.е. свобода печати. К правам личности относятся и те свободы, которые необходимы для нормального общения лиц между собой: отсюда вытекает свобода собраний и временных соглашений — стачек, а также свобода постоянных организаций и союзов. Вторую категорию субъективных публичных прав составляют права личности на положительные услуги со стороны государства. В современном конституционном государстве эта группа прав поставлена в чрезвычайно узкие границы. Сам Еллинек считает наиболее важным правом этой категории право на правовую охрану со стороны государства. Каждый гражданин имеет право требовать от государства, чтобы его законные интересы ограждались государством. На этом основании покоится все процессуальное право, предоставляющее каждому гражданину субъективное право призвать к себе на помощь суд и заставить его дать решение по тому делу, в котором он считает свое право нарушенным; добившись от суда благоприятного для себя решения, он имеет затем право обратиться к административной власти для восстановления своего права. Несмотря, однако, на чрезвычайную важность этого вида прав на положительные услуги со стороны государства, им далеко не исчерпываются субъективные публичные права этого рода. Но современное правовое государство пока еще не в состоянии осуществлять самую важную группу прав на положительные услуги со стороны государства; группу эту составляют социалистические субъективные права. В современном государстве делаются только частичные попытки осуществить эти права. Такой характер имело, например, провозглашение права на труд во Франции в революцию 1848 г.; это было, действительно, признание субъективно-публичного права на известную услугу со стороны государства, предполагавшее полную перестройку отношений между личностью и государством. Сюда же относится право на обеспечение в старости или на случай болезни и неспособности к труду там, где обязанность обеспечивать лежит на государстве, а не на каких-нибудь специальных организациях, и где этой обязанности соответствует субъективное право. Вполне и систематически осуществить эти права сможет только социалистическое государство. Оно должно будет признать право каждого на полное развитие своих способностей, т.е. право получать то образование, которое соответствует как достигнутому уровню знаний, так и желаниям и способностям каждого. Одновременно оно должно будет создать организацию для осуществления права каждого на приложение своего труда и своих сил к той деятельности, которая соответствует личным способностям и симпатиям каждого, вследствие чего возникнет субъективнопубличное право каждого на землю и орудия производства. Наконец, оно должно будет обеспечить право каждой личности на полное удовлетворение всех ее нормальных потребностей. Все эти социалистические права можно объединить в одной общей формуле, признав за каждым право на достойное человеческое существование. Ясно, что такое субъективное право может быть осуществлено только в государстве будущего, которое не только создаст соответствующую организацию, но и признает за собой обязанность удовлетворять субъективные права этого рода. Третью категорию субъективно-публичных прав составляют права личности на участие в организации государства и в направлении его деятельности. Сюда относятся собственно политические права. Основным политическим правом на участие в руководстве государством является избирательное право, в обоих его видах, как активное, так и пассивное. Оно обеспечивает каждому возможность влиять на тот или другой состав народного представительства, а через него на всю законодательную и правительственную деятельность государства. Наряду с этим основным политическим правом все остальные права этой категории имеют второстепенное значение. Сюда относится право на занятие должностей и выполнение известных функций, как, например, судейской в суде присяжных. К этому разряду прав надо отнести также право петиций, которое 121 заключается в праве влиять на ход государственной жизни, хотя и путем совещательного голоса. В известных случаях, однако, право петиций может иметь очень большое политическое значение. Перечень всех этих прав должен нас убедить, что мы имеем здесь дело не с простым следствием объективного правопорядка, а с управомочением отдельных лиц в точном смысле слова. Благодаря признанию этих прав человека и гражданина в правовом государстве подданные действительно становятся гражданами. Признание их субъективными правами влечет за собой и все вытекающие из этого последствия: как и всякие другие права, субъективно-публичные права подлежат судебной и административной защите. Лица, субъективно-публичные права которых нарушены, могут установленным порядком требовать и добиваться восстановления их. От частных прав личности публичные права ее отличаются тем, что не могут быть отчуждаемы, они не подлежат свободному обороту, подобно гражданским правам. Только те лица, которым они принадлежат, могут ими пользоваться, но они не могут никому передавать их. Перейдем теперь от теории к практике, от рассмотрения теоретического значения субъективных публичных прав и их системы к вопросам об их признании в законодательстве и об их осуществлении в жизни. Мы должны рассмотреть два вопроса: во-первых, как в законодательство современных государств постепенно проникали эти права в виде норм закона, и затем, во-вторых, как эти права осуществлялись в самой жизни, какими способами и какими приемами они гарантированы. Форма, в которой эти права проникли в законодательство, создана была знаменитой французской «Декларацией прав человека и гражданина», которая являлась кодификацией субъективных публичных прав в том виде, как они понимались в XVIII столетии. История декларации прав человека и гражданина аналогична истории писанных конституций. Англия не имеет декларации прав в точном смысле слова, так как она не знает законодательных актов, которые были бы кодификацией субъективных публичных прав. Но Англия имела другие чрезвычайно важные законодательные акты, послужившие в XVIII столетии образцами для выработки деклараций прав человека и гражданина. Такими актами английского законодательства являются великая хартия вольностей 1215 г., петиция о правах 1628 г., декларация и билль о правах 1689 г. Декларация прав человека и гражданина в форме кодификации основных прав личности возникла, как и писанные конституции, в Северной Америке. Впервые декларация была провозглашена в штате Виргиния в 1776г.; она составляла введение к конституции этого штата. Из конституции штата Виргиния она была заимствована и перенесена в конституции большинства других штатов; это случилось в первое десятилетие после издания виргинской конституции. Затем из Америки идея и форма декларации прав перекочевала в Европу. Знаменитая декларация прав человека и гражданина, выработанная французским Национальным Собранием в 1789 г., состоит из 17 статей. Эта декларация провозглашает принцип народного суверенитета, устанавливает безусловное господство права во всей государственной жизни, равенство всех перед законом и подчинение всех велениям государственной власти. Из свобод личности эта декларация гарантирует свободу совести, слова и печати, но она ничего не говорит о чрезвычайно важном виде свободы — о свободе союзов и собраний. Наконец, 17 статья ее объявляет собственность священной и неприкосновенной. Французский конвент развил эти положения в новой декларации прав человека и гражданина, заключающей 35 статей; и она также составляет введение к конституции 1793 г. Замечательно, что и в этой декларации, которая в последней статье провозглашает священное право на восстание в тех случаях, когда правительство нарушает права народа, нет упоминания о свободе собраний и союзов. Тот же конвент в 1795г. в ином составе своих членов выработал «Декларацию прав и обязанностей человека и гражданина», являющуюся частью конституции третьего года республики. Уже заглавие показывает, что в эту декларацию введен новый элемент — обязанности; в ней права кодифицированы в 22 статьях, а обязанности — в 9. В первых конституциях об обязанностях ничего не говорилось, так как 122 старый режим достаточно вселил их в сознание подданных и они подразумевались сами собой; но после целого ряда революционных годов почувствовалась необходимость напомнить о них. В остальной своей части эта декларация не вводит ничего нового и является повторением двух предшествующих деклараций. Хартия Людовика XVIII, изданная в 1814 г., не могла совсем обойти тех вопросов, которые были выдвинуты декларацией прав человека и гражданина; но вместе с тем в ней не могли быть сохранены во всем объеме те принципы, которые были провозглашены декларацией. Поэтому в ней избран средний путь и вместо прав человека и гражданина в ней введены статьи о «публичных правах французов». Это общее заглавие первых 12 статей хартии. Для хартии человек и гражданин не существуют, есть только французы; конечно, это совершенная несообразность, так как в правовом государстве имеют права и свободны не только подданные и граждане данного государства, но и все люди, живущие на его территории. Иностранцы не пользуются политическими правами, но все блага свободы и гражданских прав распространяются и на них. Таким образом, состав свободных и управомоченных лиц в современном конституционном государстве наиболее правильно определяется формулой — человек и гражданин. Количество свобод, гарантированных хартией, также чрезвычайно ограничено. Из 12 статей только 4 посвящены установлению свобод французов; конечно, нечего и говорить, что среди этих свобод нет ни свободы союзов, ни свободы собраний. В 1830 г. после июльской революции эта хартия была пересмотрена и издана с согласия палат, но в вопросе о правах граждан она не вводила ничего нового. Бельгийская конституция 1831 г. не внесла ничего принципиально нового в решение этого вопроса, и тем не менее она имела очень большое значение для его регулирования, так как она создавала компромисс между принципами и формами декларации прав 1789г. и первыми статьями хартии 1814г. Второй отдел бельгийской конституции посвящен бельгийцам и их правам, таким образом, эта конституция усваивает ту форму, которая говорит только о гарантированных правах граждан данного государства. Но вместе с тем она чрезвычайно подробно, точно и широко определяет права и свободы граждан. В этом отношении она далеко превосходит все предшествующие европейские декларации, так как предоставляет гражданам и свободу собраний, и свободу ассоциаций. Таким образом, бельгийская конституция, установив окончательно реестр прав и свобод граждан, вместе с тем и окончательно ввела практику, на основании которой в конституциях перечисляются лишь гарантированные права того народа, который составляет данное государство. Все конституции, изданные в эпоху революции 1848 г., следуют этой практике; во всех их говорится о гарантированных правах той национальности, государственный строй которой конституируется. Таким образом, итальянская конституция говорит о правах итальянцев, прусская — о правах пруссаков и т.д. Даже конституция второй французской республики говорит не о правах человека и гражданина, а о правах французских граждан, гарантированных конституцией. Но теперь признается совершенно неотъемлемой основной частью всякой конституции установление известных гарантированных прав личности. Однако в 70-х гг. XIX столетия появляются две конституции, которые совсем не заключают в себе указания ни на декларацию прав, ни на гарантии прав. Это 1) ныне действующая конституция Германской империи 1871 г. и 2) французские конституционные законы третьей республики 1875 г., остающиеся в силе и до сих пор. Но Германская империя является федеративным государством, состоящим из 25 государств, из которых 23 имеют свои конституции. В этих конституциях всем гражданам гарантированы определенные публичные права и свободы. Исключение составляют лишь два государства, входящие в состав Германской империи — это великие герцогства Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелиц. В них до сих пор еще нет конституций и формально еще никогда не были провозглашены права человека и гражданина. Несомненно, эти две конституции 70-х гг. составляют новое явление в законодательстве 123 современных европейских государств. В них сказалось недоверие к законодательному провозглашению голых принципов. Теперь придается большее значение детальному законодательству, чем установлению известных принципов в конституциях. Действительно, германская конституция, не гарантирующая формально никаких прав личности, тем не менее предоставляет имперскому законодательству регулировать те области законодательства, которые касаются свободы граждан. На основании этого рейхстаг и правительство Германской империи энергично принялись за законодательную разработку соответственных норм права, и в результате получился целый ряд замечательных, прямо образцовых законов, определяющих наиболее существенные права немецких граждан. Особенно замечательны в этом отношении имперские законы о свободе передвижения, о свободе профессий и германский имперский закон о печати; наконец, в прошлом году издан закон о союзах и собраниях, чрезвычайно расширяющий свободу в этой сфере проявления самодеятельности личности и общества. Правда, проведение этого закона куплено дорогой ценою для негерманских национальностей, так как, расширив свободу немецкого народа на свободу собраний и союзов, он одновременно чрезвычайно ограничил вплоть до полного отрицания свободу ненемецких народностей, входящих в Германскую империю, главным образом поляков. Все эти законы Германской империи имеют силу на всей ее территории; поэтому они действуют, конечно, и в Мекленбург-Шверине, и в Мекленбург-Стрелице.Таким образом, оказывается, что и в тех государствах, в которых конституционный строй формально не установлен, тем не менее благодаря действию германской конституции и в частности благодаря имперскому законодательству все конституционные права личности вполне гарантированы. Что касается французской конституции, то принципы 1789 г. несомненно вошли в ее состав. Но, как было выяснено выше, при рассмотрении вопроса о влиянии обычая на преобразование конституционных учреждений, эти принципы, провозглашенные декларацией прав человека и гражданина, вошли в состав конституционного права современной Франции при третьей республике в виде обычного права. Таким образом, для современной Франции декларация прав 1789 г., которая нигде не названа в качестве закона, всецело сохраняет свою силу. С этим согласны все теоретики государственного права во Франции, и во главе их Эсмен и Дюги. Мы должны перейти теперь к рассмотрению второго вопроса, поставленного выше, — к вопросу, как осуществлялись отдельные права человека и гражданина в жизни. Не менее, чем при создании конституционных учреждений, и в этом случае Англия является классической страной и сыграла самую передовую роль. Она создала те правовые формы и юридические средства, которые гарантировали права личности, и потому она послужила образцом, так как на своем примере показала, как надо осуществить права человека и гражданина в действительности. Среди различных прав человека и гражданина на первом месте надо поставить, несомненно, неприкосновенность личности как самое элементарное, но вместе с тем и самое существенное благо, гарантируемое устойчивым правопорядком. Так же точно исторически право на неприкосновенность выработалось в Англии раньше других прав личности, ввиду чего мы и должны начать с него. Для признания неприкосновенности личности, т.е. для установления принципа, что человек может быть задержан и лишен свободы только на строгом основании закона и только по приговору суда, потребовался длительный исторический процесс и упорная борьба. Неприкосновенность личности осуществлена в Англии под именем Habeas Corpus Act; это странное название, означающее в переводе на русский язык «ты имеешь тело», объясняется средневековой формулой, произносившейся судьей при аресте и освобождении арестованного; оно сделалось лозунгом правового строя вообще. Первоначально неприкосновенность личности была гарантирована в виде привилегии королем Иоанном Безземельным, в Magna Charta Libertatum18[1] в 1215 г. 39 статья этой 124 Великой хартии вольностей гласит: «Ни один свободный человек не может быть задержан, заключен, лишен имущества, поставлен вне закона, изгнан и утеснен каким бы то ни было образом, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе как по суду равных ему и по закону страны». Эта знаменитая статья послужила принципиальной основой всего правопорядка Англии, так как английские юристы всегда ссылались на нее, когда отстаивали неприкосновенность личности и ее свободы. Конечно, установленный ею принцип не мог сразу войти в жизнь; уже одно то, что в течение первых двух столетий после ее издания она подтверждалась 37 раз, показывает, что она часто не исполнялась, так как иначе она не нуждалась бы постоянно в своем подтверждении. Действительно, в те периоды, когда парламенты были в силе, они настаивали на подтверждении хартии и на точном ее выполнении, напротив, когда короли могли обходиться без парламента, они нарушали хартию и часто расправлялись с неугодными им лицами без суда. Нарушения неприкосновенности личности особенно участились во времена королей из династий Тюдоров и Стюартов. В их эпоху действовала знаменитая Звездная Палата — особый тайный суд, состоящий при королевском совете; само существование этого чрезвычайного суда было противозаконно, но в этот период английской истории целый ряд дел исключался из ведения регулярного судопроизводства и передавался на решение чрезвычайных судов. Поэтому в 1628 г., в третий год царствования второго короля из династии Стюартов, Карла I, парламент сделал представление королю в особом акте, названном «Петицией о праве», в котором настаивал на соблюдении прав парламента и особенно на гарантиях неприкосновенности личности. Из одиннадцати статей «Петиции о праве» восемь посвящены вопросу о личной неприкосновенности; в них парламент ссылается на Великую хартию вольностей, жалуется на несоблюдение королевских указов о Habeas Corpus, настаивает на строгом применении их, на уничтожении чрезвычайных форм судопроизводства и суда по законам военного времени. После упорного сопротивления Карл I должен был уступить перед энергичными требованиями парламента и санкционировать «Петицию о праве», подписав ее выполнение. Однако немедленно после этого он распустил парламент и затем почти двенадцать лет управлял страной без содействия парламента. В этот период противозаконные действия властей и нарушения личной свободы особенно умножились. Но постоянное нарушение законов не развратило английский народ, а только усилило его решимость отстаивать старые законы страны и правовой порядок. Поэтому, когда в 1640 г. Карл, вынужденный обстоятельствами, снова созвал парламент, то настроение страны было таково, что этот парламент, известный в истории под именем «долгого», стал во главе революционного движения, захватил в свои руки всю власть и самостоятельно правил страной. Долгий Парламент начал с преследования злоупотреблений и водворения законного порядка, но ему не удалось осуществить свою первоначальную цель, так как эпоха революции была для Англии вместе с тем и эпохой гражданской войны. Период гражданской войны и последовавший за ним период республики с сопровождавшим их военным деспотизмом революционных войск и их вождя Кромвеля были мало благоприятны для строгого соблюдения неприкосновенности личности и индивидуальной свободы. Еще менее могла восторжествовать законность после смерти Кромвеля, когда наступила реакция, приведшая к реставрации Стюартов. Но как ни полна была эта реставрация в политическом отношении, она не могла уничтожить всех результатов революции. Сила прогресса в том и состоит, что даже самая крайняя реакция не может его совершенно сломить; часто именно в период реакции осуществляется то, что было невозможно осуществить во время революционно-реформаторского подъема. Только в первый период реставрации, пока производились расчеты за крайности революции, индивидуальная свобода нарушалась; но реставрация не возобновила Звездной Палаты и ее деятельности, а главное, смена в очень короткий период времени противоположных политических режимов исказила безотносительную ценность законности и неприкосновенности личности. Поэтому в 1679 г., когда реакция еще не прошла целиком, 125 был издан парламентский акт, который называется «Акт о лучшем обеспечении свободы личности и о предупреждении заключений за морем». Этот акт более точно и определенно устанавливал способы и формы применения указов о Habeas Corpus. Co времени его издания индивидуальная свобода в Англии была вполне гарантирована и не подвергалась грубым нарушениям, если не считать короткого периода ее истории. Этот период наступил непосредственно после смерти Карла I в 1685 г. и восшествия на престол его брата Иакова. Но царствование Иакова II, отличавшееся произволом и целым рядом насилий, продолжалось всего три года и закончилось новой революцией, изгнанием Иакова и устранением от английского престола мужской линии династии Стюартов. В 1688 г. на английский престол был призван Вильгельм III, представитель новой династии Оранской, а в 1689г. он утвердил выработанный парламентом билль и декларацию о правах, которыми подтверждались все старые законы Англии о правах парламента и личной неприкосновенности английских граждан. Но неприкосновенность личности в Англии обеспечивается не столько парламентскими законами и биллями, сколько замечательной организацией английских судов и совершенством форм английского процесса. Исследователь английских конституционных учреждений Дайси высказывает мнение, что даже парламентские провозглашения права «имеют некоторое сродство с судебными решениями». По его мнению, «петиция о праве и билль о правах не столько "провозглашения прав" в иностранном смысле слова, сколько судебные осуждения различных притязаний и действий короны, которые тем самым объявлялись незаконными». Приказы о habeas corpus составляют часть английского процессуального права; акт о habeas corpus 1679 г. более точно и определенно устанавливает те правила, которые соблюдаются при выдаче этих приказов. На основании его всякий арестованный, считающий себя лишенным свободы незаконно или неправильно, может просить суд выдать ему приказ-habeas corpus; с такой же просьбой может обратиться родственник заключенного, его поверенный или любое лицо, интересующееся его судьбой. Приказ-habeas corpus есть распоряжение суда, обращенное к должностному или частному лицу, держащему кого-нибудь в заключении, о том, чтобы он доставил заключенного в суд. По получении приказа-habeas corpus тюремный смотритель или тот, кто держит в заключении лицо, названное в приказе, должен в самое короткое время доставить заключенного в суд и дать подробное объяснение о причинах, обстоятельствах и времени задержания его. По представлении заключенного суд немедленно приступает к расследованию причин и обстоятельств, приведших к его аресту, и в случае признания их незаконными или неправильными тут же освобождает заключенного. Точное и строгое выполнение всех отдельных правил, касающихся приказа-habeas corpus, обеспечивается тем, что на нарушителей их налагаются тяжелые штрафы. Эта простая процедура, в связи с правом, предоставляемым всякому, неправильно или незаконно арестованному, предъявлять иск об убытках к нарушителю его свободы, вполне гарантирует личную неприкосновенность в Англии. Ее значение и характер дает Дайси право придти к заключению, что английская конституция «есть конституция, созданная судебными решениями, и имеет все отличительные черты, как дурные, так и хорошие, свойственные праву, выработанному путем судебной практики». Таким образом, неприкосновенность личности является с конца XVII столетия неоспоримым достоянием всякого английского гражданина. В XIX столетии были проведены законодательным путем некоторые усовершенствования в применении приказов-habeas corpus на новые категории лиц. Так, актом 1816 г. были улучшены формы применения приказов-habeas corpus к неуголовным делам, т.е. к тем случаям, когда, например, требуется возвращение ребенка родителям, или освобождение психически здорового из дома умалишенных, или же отпуск из монастыря монаха или монахини, не желающих в нем оставаться. В противоположность столь раннему и столь совершенному осуществлению индивидуальной свободы, поскольку она заключается в неприкосновенности личности 126 или, по образному выражению английских актов, в свободе тела, индивидуальная свобода как свобода духа и совести очень медленно и поздно осуществлялись в Англии. Вообще почва Европы была крайне неблагоприятна для признания принципа свободы совести, и в этом отношении Англия не составляла исключения. Но тем не менее англичанам ранее других европейских народов было присуще стремление осуществить и эту сторону индивидуальной свободы; и те элементы английского народа, которые не мирились с отсутствием свободы в этой области и видели невозможность осуществления ее на почве старой Англии, осуществили ее на почве новой Англии в колониях Северной Америки, превратившихся впоследствии в С.-А. Соединенные Штаты. Идея свободного обсуждения и решения вопросов совести или религиозных верований получила широкое распространение в эпоху реформации. Сама реформация явилась следствием критики и отрицания некоторых положений, на истинности и непреложности которых настаивал католический Рим. Но вожди реформации проводили критику только до известных пределов и отвергали только некоторые положения, установленные римско-католической церковью; затем они остановились в своей критике и потребовали от всех своих последователей, чтобы они также остановились, отрицая за ними свободу подвергать сомнению те положения, истинность которых они считали основанной на Священном Писании. Всех несогласно мыслящих они так же жестоко преследовали, как и католическая церковь. Так, Кальвин способствовал тому, что Цвингли как еретик был сожжен в Цюрихе; Лютер не воспрепятствовал казни Иоанна Лейденского; основатель реформационной церкви в Англии, Генрих VIII, возвел на эшафот известного автора «Утопии» Томаса Мора за его преданность католицизму. Реформация, возникшая отчасти благодаря свободе критики и отрицанию некоторых положений религии, не только не привела к признанию свободы совести, а наоборот, вызвала религиозные войны. Те политические организации, которые создались в Европе, долго не могли усвоить того положения, что государство и правительство не должны вмешиваться в сферу религиозных верований и научных убеждений, являющихся свободным достоянием каждого. Поэтому в результате религиозных войн, которые возникли благодаря реформации, в конце концов был признан лишь принцип cujus regio ejus religio, т.е. чье царство, того и религия. На основании этого принципа признавалась правомерность существования в Европе государств, исповедующих различные религии, но население каждого из них должно было исповедовать ту же религию и иметь те же верования, как и его король, т.е. носитель монархической власти и его правительство. Англия принимала участие во всех религиозных войнах Европы в XVI и XVII столетиях, становясь на сторону протестантских государств. Одновременно с этой внешней политикой английское правительство внутри преследовало не только католиков, но и последователей различных реформированных сект, чуждавшихся официально признанной в Англии протестантской церкви. Таким образом, представители этих сект должны были особенно почувствовать значение принципа свободы совести. Однако осуществить этот принцип им удалось только на совершенно новой почве английских колоний в Северной Америке. Начиная с первых десятилетий XVII столетия, сюда стекались беглецы из Англии, преследуемые за свои религиозные убеждения. Последователи одной из наиболее гонимых сект — пуритане — основали в 1629 г. в колонии Массачусетс город Салем; но и они заключили договор, на основании которого в этой общине могли жить только пуритане. Однако, в 1631 г. к ним из Англии переселился молодой пуританин Роджер Вильяме; когда он был избран священником общины Салем, он стал проповедовать с церковной кафедры полную свободу совести и отделение церкви от государства. Это не встретило сочувствия и, разойдясь с большинством членов общины Салем, он с небольшой группой сторонников переселился в колонию Род-Айленд. Здесь в 1636 г. он основал город Провиданс, который стал родиной свободы совести. Положенные в основание всего политического строя общины Провиданс принципы свободы вероисповеданий скоро сделались господствующими в Америке. Американцы до сих пор 127 свято чтят имя Роджера Вильямса как первого проповедника свободы совести. Напротив, в самой Англии, как уже отмечено выше, в противоположность принципам неприкосновенности личности, принцип свободы совести был осуществлен чрезвычайно поздно. Обстоятельства английской истории не благоприятствовали осуществлению свободы совести. Английская революция была произведена по религиозным мотивам, но когда побеждали представители одного направления, они преследовали представителей другого. Так, во время господства Долгого Парламента, т.е. с 1640 по 1647 гг., пресвитериане преследовали представителей англиканской церкви. Затем, когда власть перешла от пресвитериан к пуританам, последние притесняли пресвитериан. Во времена реставрации, начиная с 1660 г., преобладающее значение опять приобрела англиканская церковь, и сторонники ее преследовали и пресвитериан, и пуритан; все эти реформированные церкви одинаково преследовали католиков. После второй революции, к началу XVIII столетия, в Англии, однако, водворился мир между различными реформированными церквями. Представители их убедились в бесполезности взаимных преследований и вместе с тем научились благодаря долгой и открытой борьбе уважать друг друга. Поэтому ограничения прав представителей той или другой из реформированных церквей были уничтожены. Но представители католицизма и в течение всего XVIII столетия преследовались самым жестоким образом. В течение всего этого столетия паписты, или католики, считались в Англии государственными изменниками. Католики в это время были лишены не только политических прав, но и ограничены в своих гражданских правах; только в конце столетия были, наконец, отменены гражданские ограничения католиков. Наконец, только в 1829 г. произошло полное уравнение католиков в политических правах; начиная с этого года, католики могут занимать государственные должности, участвовать в суде присяжных и быть членами английского парламента. Эмансипация евреев была произведена еще позже, лишь в 50-х гг. XIX столетия. Наконец, последние ограничения прав по религиозным основаниям пали в Англии в 1880г., т.е. только четверть столетия тому назад. Свобода печати в Англии никогда не была провозглашена как законодательный принцип. Эта свобода была осуществлена благодаря отмене закона, устанавливавшего целый ряд цензурных ограничений и налагавшего тяжелые наказания за преступления в печати. Очень тяжелые наказания за преступления в печати были введены в Англии при Генрихе VIII и королеве Елизавете. Они были удержаны, что особенно замечательно, и в эпоху английской революции, во времена господства Долгого Парламента, провозглашения республики и учреждения протектората. Таким образом, первая английская революция не принесла с собою свободы печати, несмотря на то что один из духовных вождей ее, пуританин и поэт Мильтон, горячо выступил в защиту этой свободы. При возвращении Стюартов и реставрации старых английских учреждений снова были подтверждены законы, ограничивающие свободу печатного слова, но как и раньше, лишь на известный срок. Наконец, в 1695 г. этот срок истекал, и английский парламент отказался возобновить эти законы. Таким образом, именно в этом году, ,т.,«. только спустя несколько лет после второй революции, в Англии печатное слово сделалось свободным. Еще замечательнее тот способ, каким в Англии осуществлена свобода собраний. В Англии совсем нет закона о свободе собраний, но в ней и нет надобности издавать такой закон, так как свобода собраний не отрицается и существует фактически. Теоретик английского конституционного права Дайси по этому поводу говорит: «Наши правила о публичных собраниях могут служить лучшим примером того, как английская конституция основывается на правах частных лиц. Право собираться есть не что иное, как результат взгляда судов на индивидуальную свободу личности и индивидуальную свободу слова. Нет никакого специального закона, разрешающего А, В, С сойтись где-нибудь на открытом воздухе или в другом месте с законной целью; но право А идти, куда ему вздумается, если он не совершает этим правонарушения, и говорить В все, что он захочет, если в словах его не будет заключаться никакой клеветы и ничего мятежного, право В 128 делать то же самое... и т.д. до бесконечности, ведет к тому результату, что А, В, С, D и тысяча или десять тысяч других лиц могут (вообще говоря) сойтись в каком-нибудь месте, где всегда каждый из них имеет право быть с законной целью и законным образом». Таким образом, в Англии свобода собраний есть следствие особого представления о свободе личности как проявлении естественных прав всякого человека ходить, куда угодно, и говорить все, что не является нарушением закона. Но нельзя из этого делать тот вывод, который был высказан в нашей первой Государственной Думе в дебатах о проекте русского закона о свободе собраний. Тогда высказывалось мнение, что в Англии свобода собраний совершенно не ограничена и для нее нет абсолютно никаких пределов. Это утверждение неправильно; в Англии всякая свобода существует только постольку, поскольку она не нарушает прав и интересов других. Хотя в ней нет никаких законов, ограничивающих свободу собраний или свободу слова и печати, но это не значит, что эти проявления общественной жизни не регулируются в ней никакими правовыми нормами. Напротив, в Англии есть целая система обычно-правовых норм, созданных судебными решениями, которые вводят эти виды свободы в известные границы. В частности, например, устраивать собрания в тех местах, где это мешает передвижению, хотя бы на проезжих дорогах или на полотне железной дороги, в Англии нельзя. Так же точно в Англии запрещено собираться на известном расстоянии от парламента под открытым небом, так как предполагается, что всякое народное собрание может принять бурный характер и нарушить спокойствие и равновесие народных представителей; они тогда не будут в состоянии достаточно беспристрастно, хладнокровно и объективно обсуждать те вопросы, которые рассматривают, могут принять опрометчивое и поспешное решение. Одним словом, в Англии есть целый ряд ограничений свободы собраний, созданных обычаем и судебными прецедентами; они, однако, установлены не в интересах власти, не для того, чтобы избавить ее от лишних хлопот и забот, а в видах общественной пользы, для устранения резких столкновений между противоположными интересами и для взаимного ограждения свободы всех и каждого в отдельности. В противоположность Англии, во Франции заботились главным образом о торжественном провозглашении индивидуальной свободы. Так, седьмая статья Декларации прав провозглашала: «Ни один человек не может быть подвергнут обвинению, задержанию или заключению иначе как в определенных законом случаях и согласно предписанным им формам. Кто испрашивает, изготовляет, исполняет или заставляет исполнять произвольно приказы, подлежит наказанию; но всякий гражданин, вызываемый или задерживаемый в силу закона, должен немедленно повиноваться: сопротивляясь, он совершает преступление». Другие статьи Декларации прав, как, например, 1, 4, 8 и 9, также устанавливали различные положения, обеспечивающие неприкосновенность личности. И хотя Декларация прав составляла введение в конституцию 3 сентября 1791 г., в 1 титуле ее еще особо было установлено, что «конституция гарантирует равным образом как естественные гражданские права: свободу всякому человеку идти куда угодно, оставаться в любом месте и оставлять его, не опасаясь быть задержанным или арестованным, иначе, как согласно формам, определенным конституцией». Эти положения повторялись затем в той или иной формулировке во всех без исключения последующих французских конституциях. Но в течение почти целого столетия они оставались лишь голыми принципами и не осуществлялись в жизни. Все французские правительства их нарушали. Так, конвент уже в 1793 г. издал распоряжение арестовать всех подозрительных лиц и держать их в заключении до окончания войны. Этим он подал пример для всех последовавших затем произвольных актов подобного же рода. Наряду с прямыми нарушениями принципов, провозглашенных декларацией прав человека и гражданина, во Франции совсем не позаботились о конкретных и практических формах их осуществления. Наш известный ученый Максим Ковалевский в своем сочинении «Происхождение современной демократии» останавливается на том поразительном факте, что деятели, вырабатывавшие первые французские конституции, 129 совсем почти не занялись правильной организацией судов. Происходило это вследствие того, что в эпоху великой французской революции все думали, что к захвату власти и злоупотреблению ею склонны только монархи. Между тем опыт показал, что если в самой организации власти нет ограничивающих ее форм, то необходимо возникает злоупотребление властью, кому бы эта власть ни принадлежала. Так, в великую французскую революцию после ниспровержения монархии первые захватили власть и злоупотребили ею якобинцы, т.е. представители наиболее демократической партии того времени. Целым рядом нарушений конституции они проложили путь для последующего государственного переворота Наполеона I. Деятели первой французской революции не позаботились даже упразднить деспотизм и своевластие чиновников, установив правильные формы их ответственности. Напротив, как раз во время господства якобинцев был издан декрет, воспрещавший судебное преследование должностных лиц без согласия их начальства. Этот декрет явился источником знаменитой 75 статьи первой Наполеоновской конституции, так называемой конституции 8-го года республики, изданной в 1799 г. Она устанавливала правило, что для судебного преследования чиновников необходимо согласие Государственного Совета, т.е. высшего административного учреждения. Эта статья очень долго делала чиновников почти безответственными за самые грубые правонарушения; между тем она оказалась чрезвычайно живучей и пережила все революции и все государственные перевороты, которыми так богата история Франции XIX столетия. Только последний переворот, 1870 г., приведший к низложению Наполеона III и учреждению республики, послужил поводом и к отмене этой статьи, которая была совершена декретом временного правительства. Постепенно, однако, из некоторых правил, вызванных применением этой статьи, во Франции выработалась особая система судебного преследования должностных лиц. Система эта, получившая свое завершение лишь при ныне существующем республиканском строе Франции, заключается в том, что чиновники ответственны не перед обыкновенными судами, а перед особыми, так называемыми административными судами. Суды эти созданы специально для решения вопросов о преступлениях по должности чиновников. Система особых административных судов оказалась очень удобной для большинства современных государств с развитой и могущественной бюрократией, и она была заимствована у Франции всеми конституционными государствами на Европейском континенте, за исключением Бельгии. Таким образом, современные конституционные государства выработали две совершенно различные системы судебного преследования должностных лиц. За преступления по должности по англо-американской системе, усвоенной отчасти и Бельгией, должностные лица ответственны перед обыкновенными судами. Жалобы на них подаются в те же суды, в которые подаются и исковые прошения по всем гражданским делам; эти же суды определяют и степень виновности должностных лиц, а также меру наказания тех из них, которые злоупотребили своей властью и нарушили частные права граждан. По французско-немецкой системе судебное преследование чиновников допускается только перед специальными административными судами. Детальное изучение и оценка той или другой системы судебного преследования чиновников составляет предмет не государственного, а административного права. Здесь необходимо указать только на то, что все демократические прогрессивные партии считают более рациональным делать чиновников ответственными перед обыкновенными судами; они полагают, что обыкновенные суды могут гораздо беспристрастнее и объективнее решать вопросы о злоупотреблении властью чиновниками, чем административные суды, тесно связанные со всеми интересами администрации и потому более склонные покрывать злоупотребления властью, произведенные своими же братьями чиновниками. Но вопрос этот гораздо более сложен, чем может показаться с первого взгляда, так как система административных судов связана со всем бюрократическим режимом, господствующим в большинстве современных конституционных государств. 130 Как медленно осуществлялась во Франции индивидуальная свобода, провозглашенная декларацией прав человека и гражданина, можно судить по тому, что принцип неприкосновенности личности иначе как по суду нарушался по Франции даже в половине XIX столетия. Так, после июньского восстания 1848 г. все участники его, не убитые на баррикадах и не расстрелянные непосредственно после подавления этого восстания, были сосланы административным порядком без суда в заатлантическую колонию Кайенну. Сторонники такой расправы с восставшими рабочими в июньские дни оправдывали ее тем, что иначе пришлось бы предать участников военному суду, а военный суд приговорил бы их к гораздо более тяжелым наказаниям. Но это, конечно, не оправдание, так как само собой ясно, что военные суды для лиц гражданского звания являются одним из видов злоупотребления властью. В Англии, например, военные положения и военные суды для лиц, не состоящих на военной службе, совсем не применяются и никогда не могут быть введены. Напротив, во Франции неприкосновенность личности в половине XIX столетия особенно часто нарушалась именно путем введения военного, или, по французской терминологии, осадного, положения. В этом случае Наполеон III только более систематически и последовательно применял те репрессивные меры, нарушавшие индивидуальную свободу, которыми позволили себе воспользоваться республиканцы 1848 г. Так, за применение административной расправы к участникам июньского восстания, которыми были по преимуществу рабочие, республиканцы 1848 г. жестоко поплатились. Через три с половиной года Наполеон III совершил свой государственный переворот и также административным путем расправился с республиканцами. Наполеоновские проскрипции, примененные в таких широких размерах после 1852 г., были именно расправой без суда. Эпоха Наполеона III отличалась также и частым применением осадного положения, а оно ведет к переходу власти от гражданских должностных лиц к военным и временно упраздняет все гарантии неприкосновенности личности. Таким образом, действительная неприкосновенность личности осуществлена во Франции только третьей республикой; только при существующем государственном строе во Франции строго соблюдается правило, на основании которого ни одно лицо не может быть удержано в предварительном заключении без постановления судебного следователя и подвергнуто наказанию без приговора суда. Но и теперь во Франции остаются в силе некоторые статьи законов, которые дают административным властям более широкие полномочия, чем это согласно с принципами неприкосновенности личности; и теперь знатоки фактического правопорядка во Франции настаивают в интересах осуществления индивидуальной свободы на необходимости улучшить административный и судебный персонал. Наконец, надо вспомнить, что даже существующая теперь во Франции неприкосновенность личности сделалась возможной лишь спустя 100 лет после великой французской революции. Так же медленно осуществлялась во Франции и свобода печати, которая в принципе тоже была провозглашена декларацией прав и затем устанавливалась всеми французскими конституциями. Замечательно, однако, что большинство мер, ограничивающих свободу печати, было придумано уже после революции, именно в течение XIX столетия. Так, при реставрации и июльской монархии были введены очень крупные налоги для получения права издавать повременные издания, особенно для права издавать газеты. Эти налоги служили обеспечением громадных штрафов, которые налагались на органы печати. Число процессов, возбуждавшихся против оппозиционных органов, было неимоверно велико. Так, против каждого из двух республиканских органов, издававшихся в эпоху июльской монархии, именно против «National» и «Tribune», возбуждено было до 1000 процессов. В конце концов оба эти органа прекратили свое существование за неимением средств вследствие непосильных штрафов. Но и при таких условиях положение печати при июльской монархии было более сносно, чем при Наполеоне III, т.е. в 60—80-х гг. XIX столетия. Наполеон снова ввел концессионную систему во Франции, т.е. обязательство получать разрешение для издания новых повременных изданий. Он установил систему 131 трех предостережений и предоставил право министрам без суда приостанавливать и закрывать газеты. Вообще это была знакомая нам система, так как наш старый закон о печати 5 апреля 1864 г., потерявший силу лишь в 1905г., был почти точной копией наполеоновских законов, действовавших во Франции в 60-х гг. Действительная свобода печати во Франции была введена только третьей республикой, и притом не сразу, а только в начале 80-х гг. прошлого столетия. Труднее и медленнее всего в современных государствах создаются правовые формы для осуществления свободы союзов. Это происходит оттого, что даже конституционное государство долгое время считало опасным предоставить союзам полную свободу, как бы опасаясь их конкуренции. Еще больше осуществление этой свободы было замедлено тем обстоятельством, что в свободе союзов нуждаются главным образом широкие народные массы и прежде всего население промышленных центров, особенно фабричные рабочие. Между тем рабочие сознали свои интересы, сплотились и приобрели политическую силу далеко не сейчас же после первого завоевания политической свободы. Поэтому даже такие передовые конституционные государства как Англия и Франция, обладая уже полноправным народным представительством и развитыми конституционными учреждениями, не допускали свободы ассоциаций. Так, например, в Англии еще в конце XVIII столетия и в начале XIX были изданы строгие законы против рабочих ассоциаций. Но жизненные интересы рабочих заставляли их создавать союзы для борьбы за лучшие условия своего существования и для защиты своих прав. Вследствие, однако, строгих запретительных законов эти союзы должны были быть тайными, а их нелегальное существование придавало и всей их деятельности нелегальный характер, часто они принимали даже террористическое направление. Тогда правительство и парламент пришли к заключению, что им легче иметь дело с открытыми союзами, чем с тайными, и таким образом для лучшего наблюдения за союзами и для борьбы с террористическим направлением их парламент издал в 1824 г. закон, разрешающий образование рабочих союзов. Хотя уже в следующем 1825 г. этот закон был значительно ухудшен, тем не менее со времени издания его, т.е. со второй четверти XIX столетия, начинается легальное развитие английских рабочих союзов; благодаря этому закону постепенно особую силу и могущество приобрели в Англии профессиональные организации рабочих, так называемые тред-юнионы. Но борьба за полную свободу и неприкосновенность прав рабочих союзов в Англии продолжается и до сих пор. Не все политические партии в Англии одинаково сочувственно относятся к профессиональным организациям рабочих, и консерваторы часто довольно определенно выступают против расширения их прав, что особенно резко сказалось в правление последнего консервативного министерства. Английские суды также часто оказываются не на стороне широких прав профессиональных союзов и пользуются всяким законным поводом, чтобы своими решениями ограничивать эти права. Так, в 1902 г. Тафвальская компания железных дорог предъявила иск союзу железнодорожных рабочих о возмещении убытков, которые она потерпела благодаря стачке, возникшей под влиянием союза, причем она ссылалась на один старый давно забытый закон. Суды, опираясь на консервативно настроенное в своем большинстве общественное мнение, признали, что закон, на который ссылается компания, действует и применим в данном случае, а потому они решили дело не в пользу союза рабочих; последний должен был уплатить 100 000 руб. судебных издержек и 200 000 руб. для возмещения убытков компании. Этим решением стремились воспользоваться и многие другие акционерные компании, и собственники различных промышленных предприятий. Таким образом, пока действовал этот закон, стачки становились невозможными и угрожали полным разорением профессиональным союзам. Но это вызвало очень сильное политическое движение среди рабочих и послужило одной из причин падения последнего консервативного министерства. Нынешнее либеральное министерство в Англии в первую очередь провело закон об имущественной неответственности профессиональных рабочих союзов — тред-юнионов за стачки. Со 132 времени издания этого закона в 1906 г. союзы рабочих не могут быть присуждены к возмещению убытков, причиненных предпринимателям стачкой, хотя бы они были даже инициаторами стачки; в то же время этот закон легализировал право пикетировать, т.е. право рабочих в случае объявления стачки устанавливать вблизи от места работы свои отряды из агитаторов для убеждения товарищей не идти на работу и исполнять постановление союза и организаторов стачки. Таким образом, этим законом, одним из самых либеральных в Европе, в Англии снова была восстановлена полная свобода и неприкосновенность имущественных прав союзов. Но самые невероятные затруднения встретило осуществление свободы союзов во Франции. В XVIII столетии трудно было даже предугадать, какое громадное значение для народных масс будет иметь свобода союзов. Поэтому тогда и не могли признать свободу союзов существенной составной частью прав человека и гражданина. Напротив, путем абстрактных теоретических рассуждений тогда приходили даже к полному отрицанию свободы союзов. Особенно поразительно то, что даже самый радикальный мыслитель XVIII столетия Руссо, исходя из своих общих предпосылок о народном суверенитете, сделал вывод, не допускавший свободы союзов. Этот отрицательный вывод относительно свободы союзов мы находим в третьей главе второй книги его сочинения «Общественный договор» («Contrat social»), озаглавленной: «Может ли общая воля ошибаться?» Здесь Руссо рассматривает условия, необходимые для того, чтобы получить действительную общую волю народа. Он говорит: «Если бы в то время, когда решение постановляет достаточно сознательный народ, граждане не имели никаких сношений между собой, то из большого числа незначительных различий проистекала бы всегда общая воля и решение было бы всегда правильным. Но когда в ущерб великой ассоциации (т.е. ассоциации народа) образуются партии, частичные ассоциации, то воля каждой последней становится общей по отношению к своим членам и частной по отношению к государству; можно в таком случае сказать, что голосующих уже не столько, сколько людей, а лишь сколько ассоциаций». На этом основании он приходит к заключению: «Очень важно, следовательно, для того, чтобы получить проявление общей воли, чтобы в государстве не было частных обществ и чтобы каждый гражданин решал только по своему усмотрению». Итак, Руссо, с точки зрения отстаиваемого им народного суверенитета, заключавшегося в господстве общей воли народа, не только не допускал необходимости и правомерности деления народа на партии и всякие ассоциации, но даже считал существование их противоречащим общему благу и нарушающим общую волю народа. Впрочем, враждебное отношение к частным ассоциациям было господствующим в XVIII столетии, и Руссо только обосновал его с точки зрения своих идей. Понятно поэтому, что первая французская декларация прав человека и гражданина, как и первая французская конституция, совсем не упоминали о свободе союзов. Ничего не говорила об этой свободе и ни одна из последующих конституций эпохи великой революции, не исключая даже демократической конституции 1793 г. Национальное Собрание 1789—1791 гг. считало своей задачей даже борьбу с разными корпорациями, причем не только устраняло их принудительный и ограничительный характер, вредно влиявший на развитие промышленности, а и совсем уничтожало и запрещало их, не вникая в их специальное назначение. Заодно с цехами, совершенно отжившими учреждениями средневековья, оно уничтожило и корпоративно-автономное устройство университетов, чем был нанесен сильный удар свободе научного преподавания в университетах. Это привело к упадку университетской науки и университетского преподавания во Франции, потому в XIX столетии университеты во Франции стояли ниже, чем в Германии, которая сохранила непрерывность развития университетских корпоративных учреждений и университетской автономии. Из этого примера можно видеть, как вредно при решении сложных общественных вопросов распоряжаться суммарным путем: из того, что к эпохе французской революции цехи отжили свое время и задерживали промышленное и экономическое развитие Франции, нельзя было делать вывода, что необходимо 133 упразднить и корпоративное устройство университетов, которое, напротив, способствовало развитию науки и гарантировало ее свободу. Но то же Национальное Собрание выступило и прямо против рабочих ассоциаций. Когда в связи с революционным движением во Франции возникло стачечное движение рабочих, то Национальное Собрание стало на сторону работодателей против рабочих. 17 июня 1791 г. Национальным Собранием был единогласно принят закон, воспрещавший всякие рабочие коалиции как противоречащие конституции. Под коалициями подразумевались не только постоянные союзы, но и временные объединения для определенной частной цели, например, для повышения заработной платы. Таким образом, этот закон запрещал стачки, а нарушителей его объявлял врагами конституции. Несмотря, однако, на резко выраженный эгоистически классовый характер этого закона, если судить о нем по его результатам и последствиям, его нельзя признать проявлением только классовых тенденций Национального Собрания. То, что он был единогласно принят, доказывает, что он явился следствием господства известного предрассудка, что стачки рабочих противоречат общему благу. Можно сказать, что в то время еще не было сделано открытие, что свобода союзов есть неотъемлемая составная часть истинной свободы личности. Впрочем, в разгар революции закон этот фактически не действовал, так как, несмотря на его существование, стачки все-таки возникали и оканчивались большей частью победоносно для рабочих. К репрессивным мерам он приводил только в эпоху реакции, но в эту эпоху был издан и целый ряд новых чисто карательных законов против ассоциаций. Особенно замечателен наполеоновский закон 22 жерминаля XI года республики, т.е. 1801 г. по общему летоисчислению. Этот закон гласил: «Всякое соглашение рабочих, имеющее целью прекращение работы в одно и то же время... и т.д. будет наказываться тюремным заключением не свыше трех месяцев». Основные положения этого закона вошли затем в Наполеоновский кодекс и послужили материалом для 414-416 ст. уголовного уложения. Тем не менее все эти законы против союзов и стачек не могли совершенно задушить стачек, и стачечное движение постоянно возрастало и увеличивалось; особенно сильным оно сделалось в эпоху июльской монархии. Но эти законы приводили к тому, что стачечникам приходилось часто расплачиваться за стачки не только экономически в случае их поражения, но и в уголовном порядке, неся наказания и по суду. Наконец, республиканская конституция 1848 г., изданная после февральской революции, устанавливала в статье 8 свободу стачек и союзов. Это была первая французская конституция, вводившая эту свободу в число прав человека и гражданина. Но в то же время не были отменены 414—416 статьи уголовного кодекса, воспрещавшие и каравшие как уголовное преступление всякое сообщество, имевшее больше 20 членов. При таких условиях статья конституции, провозглашавшая свободу союзов, оказывалась, конечно, совершенно не действительной. Впрочем, наступивший вскоре наполеоновский переворот и новая реакция уничтожили это принципиальное провозглашение свободы союзов вместе с самой конституцией. Но именно в эпоху Наполеона III замечается особенное усиление рабочего движения во Франции; стачки сделались, наконец, настолько обычным явлением французской экономической жизни, что правительство скоро увидело невозможность, несправедливость и нелепость борьбы с ними путем уголовного закона. Тогда еще при Наполеоне III в 1864 г. был издан закон, допускавший свободу коалиций. Однако этот закон разрешал только временные соглашения между рабочими, и им были легализированы только стачки, но он не коснулся постоянных союзов. Для них оставались в силе статьи уголовного кодекса, воспрещавшие всякие союзы, имевшие больше чем 20 членов. Таким образом, закон 1864 г. фактически сводил на нет ту свободу стачек, которую он устанавливал; потому что стачка может быть только тогда рационально проведена, энергично и солидарно осуществлена, если она подготовлена хорошо организованным союзом, а для этого рабочие должны иметь и право устанавливать постоянные союзы. 134 Полную свободу союзов, а вместе с тем и стачек, суждено было опять осуществить во Франции только третьей республике. Притом эта свобода явилась последней, так как в противоположность свободе личности и свободе печати, которые были осуществлены сравнительно скоро после низвержения Наполеона III, законы о свободе союзов заставили себя ждать еще довольно долгое время. Только после окончательной победы и упрочения республиканского большинства в палатах был, наконец,1 проведен в 1884 г. закон о профессиональных синдикатах, на основании которого рабочие союзы могли свободно возникать с соблюдением известных правил, а вместе с тем получили право на легальное существование многие сотни уже раньше фактически существовавших союзов. Однако, несмотря на громадное значение этого закона для рабочих организаций, он все-таки был только частной мерой, так как ограничивался профессиональными синдикатами. Полной свободы общественных организаций и союзов Франция дождалась лишь в начале XX столетия. Только в министерстве Вальдека-Руссо и по его инициативе, почти на наших глазах, в 1901 г. был издан, наконец, закон о свободе союзов вообще. Теперь все роды организаций, не преследующие запрещенные и уголовно наказуемые цели, могут свободно возникать во Франции с соблюдением известных правил, которые установлены в интересах гражданского оборота, а не полицейского надзора. Но и этот закон еще не признает союзов, возникших на основании его, совершенно полноправными юридическими лицами, а наоборот, несколько ограничивает их в правах. Борьба за свободу союзов продолжается во Франции и до сих пор. Теперь она идет из-за права чиновников, главным образом учителей, почтовых и телеграфных служащих, устраивать союзы. Французское правительство в одних случаях отрицает, а в других ограничивает это право, причем иногда распространяет понятие чиновника на всех лиц, находящихся на службе у государства. Но борьба ведется энергично и последовательно, хотя, к сожалению, не всегда целесообразно. Во всяком случае, можно быть уверенным, что французское общество скоро будет иметь и эту свободу. Эти краткие исторические очерки осуществления отдельных видов прав человека и гражданина должны убедить слушателей, что эти права, как и вообще всякая свобода, осуществляются путем долгой, упорной и систематической борьбы. Никакой революционный порыв не может принести с собой действительной свободы. Он ведет только к перемещению власти, а новые общественные элементы, получив в свои руки власть, часто не умеют обращаться с нею и, стремясь во что бы то ни стало удержать ее, прибегают к произвольным средствам и к более грубому нарушению свободы, чем прежние обладатели власти. История не знает более коренных и глубоких переворотов, чем английская революция, произведенная Долгим Парламентом с 1640 по 1649 гг., и великая французская революция конца XVIII столетия, и тем не менее они не осуществили не только свободы собраний и союзов, но даже и неприкосновенности личности. Для действительного осуществления свободы мало провозгласить основные принципы ее, что только и может быть сделано во время революции, нужно выработать еще детальные формы для ее фактического существования. Формы осуществления свободы лучше всего создаются самой жизнью в процессе борьбы за них. Борьба должна вестись планомерно, последовательно, целесообразно и разносторонне. Нужно бороться за осуществление всех видов субъективных прав и свобод, а не одного какого-нибудь вида. Прежде всего каждый должен отстаивать свои права на том месте, на которое его поставила жизнь, и проводить принцип свободы в той сфере деятельности, в которой он работает. Затем особенно важна совместная и коллективная борьба за общие свободы. Поэтому такое громадное значение имеет свобода союзов, которая, как мы видели, труднее и позднее всех осуществляется; для устойчивости свободных форм жизни необходимо существование и развитие всех видов союзов, а не одних только политических партий, как думают некоторые. Не надо смущаться препятствиями и расхолаживаться неудачами, а неуклонно идти к цели — полному осуществлению свободы личности. 135 Глава XII. ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУССКИХ ГРАЖДАН Установление субъективно-публичных прав граждан тесно связано, как мы видели, с введением конституционного строя. В России до государственной реформы 1905—1906 гг. личность не имела никаких субъективных прав по отношению к государству, и ее положение определялось исключительно объективным правопорядком. Это приводило в конце концов к бесправию личности перед государством и властью. Поэтому о «правах человека и гражданина» у нас можно говорить, только начиная с Манифеста 17 октября 1905г. Соответственное положение Манифеста гласит: «На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной Нашей воли: 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». После этого в Основные Законы 23 апреля 1906 г. была введена особая 8 глава «О правах и обязанностях российских подданных», состоящая из пятнадцати статей (статьи 69—83). В вышеприведенной формуле Манифеста 17 октября можно провести разницу между свободами и неприкосновенностью личности. В то время как свободы даруются Манифестом впервые, неприкосновенность личности получает в нем особое подтверждение и характер, что выражено в словах «действительная неприкосновенность личности». Это объясняется тем, что неприкосновенность личности формально уже существовала у нас, по крайней мере, она была гарантирована нашим объективным правопорядком. Еще в Судебные Уставы Александра II 20 ноября 1864 г. были включены правила, которые должны были вести к установлению неприкосновенности личности. Правила эти изложены в 8, 9 и 10 статьях Устава Уголовного Судопроизводства. Они гласят: «Никто не может быть ни задержан под стражей, иначе, как в случаях, законами определенных, ни содержим в помещениях, не установленных на то законом» (ст. 8). 136 «Требование о взятии кого-либо под стражу подлежит исполнению лишь в том случае, когда оно последовало в порядке, определенном правилами сего устава» (ст. 9). «Каждый судья и каждый прокурор, который в пределах своего участка или округа удостоверится в задержании кого-либо под стражею без постановления уполномоченных на то мест и лиц, обязан немедленно освободить неправильно лишенного свободы» (ст. 10). Эти три статьи могли бы достаточно гарантировать неприкосновенность личности в России, если бы они действительно соблюдались. Но неприкосновенность личности не могла у нас развиться путем строгого соблюдения судебного порядка и процессуальных форм, как это было в Англии. Для этого у нас не было ни достаточно независимых от центральной правительственной власти судов, ни достаточно совершенного судебного персонала. Даже та доля независимости, которая предоставлена нашим судебным учреждениям по закону, обыкновенно тем или другим путем устраняется нашей центральной властью. Так, например, судебные следователи по закону у нас несменяемы, но в последние десятилетия правительство назначало только исполняющих должность судебных следователей, а последние, конечно, никакими правами несменяемости не пользуются. Однако неприкосновенность личности не осуществлялась у нас при старом режиме не только вследствие зависимости наших судебных учреждений от центральной правительственной власти. Кроме того, наше правительство целым рядом законодательных положений создало массу исключений, в которых судебные уставы вообще и 8, 9, 10 статьи Уст. Угол. Судопр. в частности не применяются. Часть из этих положений введена в самые судебные уставы, и это привело к так называемой порче их. Другая часть существует в виде временных правил об исключительных положениях, т.е. об усиленной и чрезвычайной охранах и военном положении. Все эти новые и исключительные законы предоставляли административным властям такие широкие полномочия, что при них неприкосновенность личности ничем не была гарантирована. Порча судебных уставов заключалась в том, что, начиная с 1871 г. (после Неча-евского процесса), к ним был издан целый ряд дополнений, вводивших различные исключения из нормального судебного и процессуального порядка. Так, в эпоху Александра II 1035 статья Устава Уголовного Судопроизводства неоднократно, по крайней мере 16 раз, была снабжена добавлениями. Развитие 1035 статьи привело к тому, что все преступления, так называемые государственные или политические, были изъяты из ведения общей следственной власти и переданы для дознания в жандармские управления, что и было выражено в форме: «Дознания о государственных преступлениях производятся вообще офицерами отдельного корпуса жандармов». Благодаря этому гарантии, созданные 8, 9 и 10 статьями Уст. Угол. Судопр., были совершенно парализованы и их охранительное по отношению к личности действие уничтожено. Применение их было ограничено только уголовными преступлениями; напротив, наиболее важные преступления, политические, при преследовании которых больше всего можно опасаться превышения власти и произвола со стороны должностных лиц, были изъяты из их действия и других гарантий. Еще большие ограничения судебных уставов были введены в эпоху Александра III. Вскоре после вступления его на престол 14 августа 1881 г. были изданы знаменитые временные правила о местностях, находящихся на положении усиленной охраны, и это положение было распространено на целый ряд городов и губерний. Правда, не вся Россия была поставлена на положение усиленной охраны, но самые важные местности ее, наиболее культурные и центральные; а так как это положение господствовало в столицах, то хотя формально оно и не распространялось на провинции, фактически оно применялось и там благодаря циркулярам и вообще более широким полномочиям провинциальных властей по отношению к местному населению. Временными правилами о местностях, находящихся на положении усиленной охраны, созданы чрезвычайно обширные полномочия административных властей, и в частности министров, генерал-губернаторов и губернаторов, по отношению к свободе и неприкосновенности частных лиц. На основании этих правил генерал-губернаторам и губернаторам предоставлялось право издавать 137 обязательные постановления, за нарушения которых они могли устанавливать без следствия и суда наказания, как заключение под арест не свыше трех месяцев и высылка из вверенной их управлению местности. Те же правила предоставляли министру внутренних дел право входить в соглашение с министром юстиции и назначать тем же административным путем лицам, привлеченным к дознанию по обвинению в политических преступлениях, более тяжелые наказания вплоть до высылки в отдаленные местности империи на пять лет. Таким образом, даже та неприкосновенность личности, которая была провозглашена в Судебных Уставах Александра И, фактически совсем не осуществлялась, и это показывает, что даже она не могла существовать в России без известных конституционных гарантий. Впрочем, мы должны вспомнить, что и в Англии она осуществлялась параллельно с развитием прав английского парламента и отчасти благодаря борьбе парламента за нее. Поэтому обещание Манифеста 17 октября «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности» имеет громадное формальное и принципиальное значение. Благодаря Манифесту и нашим новым Основным Законам неприкосновенность личности, по крайней мере в принципе, объявлена основой нашего нового государственного строя. Правила, гарантирующие неприкосновенность личности, формулированы в наших Основных Законах в тех же выражениях, как и в Судебных Уставах Александра П. Вместе с правилом, устанавливающим неприкосновенность жилища, они изложены в четырех статьях: 72-75, которые гласят: «Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, законом определенном» (ст. 72). «Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, законом определенных» (ст. 73). «Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения сих деяний уголовными законами, если притом вновь изданные законы не исключают совершенных виновными деяний из числа преступных» (ст. 74). «Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище без согласия его хозяина обыска и выемки допускается не иначе, как в случаях и порядке, законом определенных» (ст. 75). Несмотря, однако, на тождественность формулировки, между этими статьями и соответствующими им статьями Уст. Угол. Су-допр. есть большая принципиальная разница, так как теперь ими определяются не только нормы объективного процессуального права, но и субъективные «права российских подданных», о чем свидетельствует их включение в Основные Законы и наименование главы, часть которой они составляют. Впрочем, пока это принципиальное изменение в правовом положении русской личности не отразилось на ее фактическом правовом положении. Это объясняется тем, что наше детальное законодательство и полномочия наших судебных и административных властей еще не согласованы с принципами, введенными в наши Основные Законы. Первая и вторая Государственная Дума подготовляли особые законопроекты о неприкосновенности личности, но они не успели быть проведенными через все законодательные стадии и не сделались законами. Все же наше процессуальное право пока осталось старым, а в последние годы созданы даже новые изъятия из нормальных форм судопроизводства для политических преступлений. Даже после государственной реформы фактически существующее правовое положение русских подданных ухудшилось, так как исключительные положения распространены на более широкие пространства России и введены в более тяжелых формах. Так, многие местности были объявлены на довольно продолжительные сроки на военном положении, в других еще до сих пор существует чрезвычайная охрана. Одновременно еще шире стали применяться исключительные формы суда; наряду с сохранением для менее значительных политических преступлений административных форм судопроизводства, само существование которых есть нарушение гарантий неприкосновенности личности (так как административное судопроизводство не есть судопроизводство в точном смысле слова и часто ведет к наказанию без установления 138 вины), у нас введены особые по своему составу суды для политических преступлений и получили широкое применение военные суды для более тяжких политических и уголовных преступлений, совершенных и гражданскими лицами; военные суды связаны с введением не только ненормальных форм судопроизводства, но и очень жестокой системы наказания и особенно частым применением смертной казни. Правовая основа для введения у нас исключительных положений заключается в самих наших Основных Законах. Так, на основании ст. 15 Осн. Зак. «Государь Император объявляет местности на военном или исключительном положении», а исключительные положения временно упраздняют нормальные гарантии неприкосновенности личности и ее свободы. Это установлено ст. 83 Осн. Зак., последней статьей в главе «о правах и обязанностях российских подданных», она гласит: «Изъятия из действия в сей главе постановлений в отношении местностей, объявленных на военном положении или в положении исключительном, определены особыми законами». Однако этих законов у нас пока нет, вместо них у нас действовали временные правила 14 августа 1881 г., о которых сказано выше; они были установлены сперва на пять лет и затем постоянно утверждались опять на определенное число лет. После издания Осн. Зак. 23 апреля 1906 г. срок их истекал 4 сентября того же года, но Высочайшим указом от 5 августа срок действия их был продолжен на один год, до 4 сент. 1907 г. После этого еще два раза срок действия их был продлен на один год; в последний раз указ 28 авг. 1908 г. продлил их действие до 4 сент. 1909 г. Так как в Осн. Зак. прямо сказано, что отклонения от нормального правопорядка, создаваемые военным и исключительным положениями, должны быть определены законами, а у нас пока не изданы законы об исключительных положениях и существуют лишь временные правила с ограниченным сроком действия, то обыкновенно ставят вопрос, согласно ли с Осн. Законами удлинение срока действия этих временных правил Высочайшими указами, изданными не в порядке ст. 87 Осн. Зак. Несомненно, с формальной стороны это есть несоблюдение точного смысла Осн. Законов, но объясняется оно тем, что в данной области законодательства продолжается еще переходное состояние. Надо признать, что издание временных правил об исключительных положениях в порядке ст. 87 Осн. Зак. с обязательством внесения их затем в Государственную Думу в качестве законопроекта представляло бы тоже значительные неудобства. Возвращаясь к статьям наших Осн. Законов, устанавливающих неприкосновенность личности и свободы, мы должны прежде всего обратить внимание на то, что, как показывает название главы — «о правах и обязанностях русских подданных», которую они составляют, у нас усвоена система установления не только прав, но и обязанностей. В первых двух французских декларациях прав человека и гражданина перечислялись только права граждан, об обязанностях ничего не говорилось, так как на них достаточно настаивал старый режим. Притом само собой подразумевалось, что правам соответствуют обязанности, как обязанностям — права; вероятно, считалось достаточным, что об обязанностях говорило все остальное законодательство. Но когда во время революции обнаружилось непомерное предъявление претензий относительно своих прав со стороны отдельных общественных групп и крайняя забывчивость по отношению к своим обязанностям, то было признано ошибкой то, что декларации говорили только о правах, но не об обязанностях. Поэтому в третьей французской конституции 1795 г., выработанной конвентом, наряду с правами говорится и об обязанностях граждан: та же система усвоена и конституцией второй республики 1848 г. У нас из пятнадцати статей 8-й главы Осн. Зак. об обязанностях русских подданных говорят две — 70 и 71-я статьи. Они устанавливают: «Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское населения без различия состояний подлежит воинской повинности согласно постановлениям закона» (ст. 70). «Российские подданные обязаны платить установленные законом налоги и пошлины, а также отбывать повинности согласно постановлениям закона» (ст. 71). Но этими двумя 139 статьями, конечно, не исчерпываются обязанности русских граждан, как вообще к воинской повинности и уплате податей нельзя свести все обязанности граждан в современном правовом или конституционном государстве. Даже в наших Осн. Зак. можно указать статьи, которые, несомненно, устанавливают другие, более общие обязанности русских граждан. Так, в следующей, 9 главе Осн. Зак. ст. 85 гласит: «Сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских подданных и для иностранцев, в Российском государстве пребывающих». Эта норма, выраженная в общем утвердительном суждении, дополняется затем нормой, выраженной в отрицательном и грамматически частном (партикулярном) суждении, заключающемся в ст. 95, именно — «никто не может отговариваться неведением закона, когда он был обнародован установленным порядком». Повиновение законам есть первая и наиболее общая обязанность граждан. В конституционном государстве эта обязанность приобретает особое значение и нравственную санкцию благодаря принципу господства права. На основании его обязанность повиновения законам является взаимной; повиноваться законам обязаны не только граждане, но и все власти и даже сам глава государства; притом каждый должен повиноваться законам и исполнять их в той сфере деятельности, которая ему предоставлена. Так как при современном развитом правопорядке законов очень много и большинство из них устанавливает какую-нибудь обязанность граждан, то количество отдельных обязанностей граждан совершенно необозримо и детальное перечисление их невозможно; да оно и ненужно, так как вело бы лишь к пересказу различных статей законов. Но если детальное перечисление обязанностей совершенно бесполезно, то их классификация чрезвычайно важна, так как она дает возможность более рельефно представить себе их главное содержание и гораздо легче обозреть их объем и распространение. Выше мы классифицировали права граждан и установили три категории их, здесь мы должны указать на то, что все обязанности граждан могут быть сведены к двум категориям обязанностей. Граждане обязаны проявлять по отношению к государству, во-первых, верность и, во-вторых, повиновение. Обязанность верности государству с первого взгляда — чисто этическая обязанность. В самом деле, любить свое отечество, защищать его всеми средствами, жертвовать для него всем — это прежде всего высокий нравственный долг. Всякий человек должен получать от своей совести указание на то, в какой мере и в какой степени они должен выполнять этот долг. Но с этой этической обязанностью связаны и известные юридические последствия; здесь гражданину приходится иметь дело не только со своей совестью, но и с известным публичным правопорядком. Публичный правопорядок в современных государствах предписывает также и юридическую обязанность верности. В этом отношении чрезвычайно знаменательна вышецитированная ст. 70 наших новых Осн. Зак., которая устанавливает, что «защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». Здесь при установлении этой публично-правовой обязанности прямо отмечена словом «священная» и ее религиозная, а следовательно, и этическая санкция. Обязанность верности существует одинаково как для обыкновенных граждан, так и для должностных лиц и представителей власти. Для последних выполнение этой обязанности даже гораздо сложнее и труднее. Она не исчерпывается лишь отрицательным требованием — не совершать государственной измены, а заключается в положительных требованиях — везде и всегда служить и способствовать пользе и благу государства, а в этом направлении проявлять свою деятельность имеют, конечно, больше случаев, средств и прямых обязательств представители власти. Поэтому, если всякий должен защищать свое отечество и проливать за него кровь, то власти не должны легкомысленно подвергать государство опасности войны, а тем более не должны вовлекать его в безумные и бесцельные войны. Так же точно, если каждый гражданин должен способствовать всевозможным успехам своего отечества, то представители власти должны прежде всего заботиться о внешнем и внутреннем престиже и авторитете государства, а потому они ни в 140 коем случае не могут пользоваться преступными деяниями в интересах государства, хотя бы временно это было действительно полезно государству, а тем более они не могут принимать на государственную службу лиц, заведомо для них преступных. Обязанность верности есть по преимуществу гражданская обязанность; только граждане обязаны быть верными своему государству, но не иностранцы, и гражданин никогда не освобождается от этой обязанности даже вне пределов своего отечества. Напротив, обязанность повиновения распространяется на всех пребывающих на территории данного государства, что и выражено в вышецитированной ст. 85 Осн. Зак. Так как эта правовая норма усвоена всеми современными государствами, то из этого следует, что и для русских подданных в случае выезда их за границу обязанность повиновения законам своего государства в значительной мере, хотя и не совсем, прекращается; вместо нее для них наступает обязанность повиноваться законам того государства, на территории которого они находятся. Обязанностям российских подданных соответствуют их публичные права. Этот принцип открыто признан нашим законодательством, как было уже сказано выше, только начиная с Манифеста 17 октября. Основное право русских подданных есть неприкосновенность личности, постановка которой в нашем современном правопорядке была рассмотрена выше. Наряду с ним и не менее важное значение имеют свободы русских граждан. Они являются абсолютно новыми в нашем законодательстве и характеризуют наш современный правопорядок, созданный государственной реформой 1905—1906 гг., так как старый режим их не знал. Свободы, предоставленные русским гражданам, изложены в пяти статьях 8 главы Осн. Зак. Они устанавливают: «Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы государства...» (ст. 76). «Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не противных законам, мирно и без оружия...» (ст. 78). «Каждый может в пределах, установленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или иными способами...» (ст. 79). «Российские подданные имеют право образовывать общества и союзы в целях, не противных законам...» (ст. 80). «Российские подданные пользуются свободою веры...» (ст. 81). Как видно из этих статей, нашими Основными Законами гарантированы русским гражданам все те свободы, которые устанавливаются обыкновенно декларациями прав. В сравнении с декларацией прав 1789 г. наш список свобод даже более полный, так как у нас гарантируется и свобода обществ и союзов. Надо отметить, что подобно статье 17 французской декларации прав 1789 г., ст. 77 наших Осн. Зак. устанавливает: «Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ, когда сие необходимо для какой-либо государственной или общественной пользы, допускается не иначе, как за справедливое и приличное вознаграждение». Теперь, однако, несколько изменился взгляд на собственность, и многие под влиянием экономического развития и социалистических учений утверждают даже, что собственность способствует не свободе, а рабству. Однако это не совсем верно, так как только собственность на орудия и средства производства ведет часто к нравственно недопустимой и общественно вредной зависимости, почему она даже современным государством ограничивается социальным законодательством. Напротив, собственность, тесно связанная с личностью и ее проявлениями, способствует только свободе и развитию личности. Такая собственность не будет отменена и в социалистическом строе. Хотя правовое государство, окончательно утвердив абстрактный принцип частной собственности, и виновато в том, что оно допускало и допускает злоупотребления вредными сторонами собственности, но оно оказало и неоценимую культурную услугу человечеству, так как одновременно заставило признать неприкосновенной общественно необходимую и нравственно справедливую собственность. Эта хорошая сторона, гарантирующая неприкосновенность личных прав не иначе, как в известных правовых формах, заключается и в ст. 77 Осн. Зак. Она не допускает лишения имущественных прав 141 по политическим причинам, что применялось у нас, например, при конфискации польских имений после восстаний или в последние годы путем наложения административными властями непредусмотренных законом очень высоких штрафов уже с явным нарушением этой статьи. Все вышеприведенные статьи, говорящие о свободах граждан, устанавливают их только в принципе. Это вытекает из тех ограничений, которые обыкновенно заключаются во второй части этих статей, процитированных выше с сокращениями. Они довольно однообразно устанавливают, что «ограничения в сих правах» или «условия пользования этою свободою определяются законом». Ограничения эти заключаются по большей части в нашем общем законодательстве старого режима и часто по существу противоречат новым принципам. Поэтому для действительного осуществления свободы русских граждан необходимо должно быть детально пересмотрено все наше общее законодательство и изданы новые законы об условиях пользования гражданской свободой. Это одна из важнейших задач нашего народного представительства. Впрочем, и действительное публично-правовое положение русских граждан изменилось благодаря государственной реформе 1905—1906 гг., так как в переходную эпоху был издан и ряд законоположений относительно осуществления отдельных свобод. Все эти законоположения носят название «временных правил», что указывает на их переходное значение и на предполагаемую замену их постоянными законами, изданными с согласия народного представительства; они имеют громадное значение, несмотря на массу их недостатков. Переходя к более детальному рассмотрению публично-правового положения русских граждан, мы должны прежде всего отметить, что наши Основные Законы, в противоположность другим конституциям, не заключают в себе статьи, формально провозглашающей принцип гражданского равноправия всех русских подданных. Равенство перед судом всех русских подданных у нас установлено еще Судебными Уставами Александра II, и о более последовательном применении его говорится в пункте 3 Высочайшего указа 12 декабря 1904г.; но полного гражданского равноправия у нас не было и нет. Ст. 76 наших новых Осн. Зак. провозглашает лишь принцип свободы передвижения и избрания места жительства, свободы занятий и приобретения имуществ, а следовательно, ею принципиально установлено и равенство всех по отношению к этим правам. Но фактически ни свободы, ни равенства — этих основных гражданских прав — у нас не существует. В этой свободе у нас и теперь крайне ограничены некоторые инородцы, главным образом евреи, а до последнего времени она не существовала и для широких слоев коренного русского населения, принадлежащего к так называемым податным сословиям. Русские подданные еврейского вероисповедания по общему правилу могут свободно жить и передвигаться только в узких пределах черты еврейской оседлости. Вне ее правом свободного жительства пользуются только евреи — купцы первой гильдии, ремесленники и получившие диплом об окончании высшего учебного заведения. Но и в пределах черты еврейской оседлости евреи могут селиться на постоянное жительство не везде, а только в городах и местечках; кроме того, они ограничены в свободе приобретения некоторых имущественных прав, и им доступны далеко не все виды промыслов и занятий. Государственная реформа и переходное законодательство не внесли в положение евреев никаких существенных перемен, некоторые облегчения их положения чересчур незначительны и не имеют принципиального значения. В противоположность этому бывшим податным сословиям и главным образом крестьянскому населению теперь уже в значительной мере предоставлены как свобода передвижения, так и гражданское равноправие. Эта реформа проведена Высочайшим указом 5 октября 1906 г., изданным в порядке ст. 87 Осн. Зак. — «об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний». Во вступлении к этому указу сказано, что «за воспоследованием Манифестов Наших от 6 142 августа и 17 октября минувшего года, призвавших сельское население к участию в законодательстве, предстоит завершить мудрые предначертания Царя-Освободителя на возвещенных Нами началах гражданской свободы и равенства перед законом всех российских подданных». Таким образом, здесь принцип равенства, формально не включенный в Манифест 17 октября и Основные Законы, предполагается установленным ими, что, несомненно, соответствует их общему смыслу и духу. Главное содержание указа 5 октября 1906 г. заключается в предоставлении всем одинаковых прав в отношении государственной службы и в даровании «сельским обывателям», т.е. прежде всего всем крестьянам, права повсеместного жительства без увольнения из сельского общества, права перехода в другие общественные состояния без того же увольнения и права получения бессрочных паспортных книжек. Свободу собраний, обществ и союзов русские граждане начали осуществлять в 1904— 1905 гг. явочным порядком помимо всяких законов и даже вопреки прямым воспрещениям, заключавшимся в законах. Необходимость в этих свободах, несомненно, уже вполне назрела к этому времени и особенно вызывалась исключительностью исторического момента. Ввиду этого законодательные ограничения их становились анахронизмом, и у русских граждан явилось достаточно решимости прямо и открыто осуществлять свои естественные права. С другой стороны, русское правительство оказалось совершенно бессильным бороться с таким настроением русских граждан и с создавшимся благодаря ему положением вещей. Поэтому даже до Манифеста 17 октября Высочайшим указом 12 октября 1905 г. были изданы временные правила об устройстве собраний без испро-шения на то, как требовалось раньше, разрешения, а лишь с подачей в известный срок заявления по известной форме и с соблюдением определенных обязательных условий. Эти правила затем были более полно и точно формулированы в Высочайшем указе 4 марта 1906 г. «о временных правилах о собраниях». Двумя этими указами вместе с вышецитированной статьей 78 Осн. Зак. и регулируется ныне действующее наше общее право собраний. Временные правила о собраниях проводят различие между частными и публичными собраниями. Частными собраниями считаются те, которые состоят из лиц, лично известных устроителю, или из одних членов какогонибудь общества и союза, если они происходят не в театрах, концертных залах, зданиях общественных и сословных учреждений или в помещениях, специально предназначенных для публичных собраний. Они могут устраиваться без предварительного заявления или разрешения. Для созыва публичного собрания устроитель должен подать письменное заявление начальнику полиции за три дня до собрания или публикации о нем; если собрание устраивается не в месте постоянного пребывания начальника полиции, то заявление должно быть подано за семь дней. Если собрание угрожает общественному спокойствию и безопасности или преследует противозаконные цели, оно может быть запрещено начальником полиции, о чем устроители должны быть извещены не позже, чем за сутки до назначенного срока. На всяком публичном собрании может присутствовать должностное лицо по назначению губернатора или начальника полиции; в целом ряде случаев, которые формулированы очень растяжимо, это должностное лицо может потребовать, чтобы председатель или устроитель собрания закрыл собрание, или же после двукратного предупреждения само закрыть его. Несколько большая свобода предоставлена подготовительным собраниям избирателей и выборщиков в Государственную Думу. Правила об этих собраниях содержатся в Положении о выборах в Государственную Думу, именно в ст. 76-82. Свобода обществ и союзов регулируется у нас, кроме вышецитированной статьи 80 Осн. Зак., также Высочайшим указом «о временных правилах об обществах и союзах», изданным 4 марта 1906г. Обществом, в смысле этих правил, называется соединение нескольких лиц, которое преследует не получение прибыли от ведения общего предприятия, а какую-нибудь идеальную цель. Союз есть соединение нескольких обществ, хотя бы через посредство их уполномоченных. Общества и союзы, 143 преследующие религиозные цели или образуемые учащимися в учебных заведениях из своей среды с разрешения учебного начальства, подчиняются особым правилам. Лица, желающие организовать общество, должны подать об этом письменное заявление в точно установленной форме губернатору или градоначальнику, который в случае встреченного им препятствия к образованию общества передает заявление на рассмотрение губернского и городского по делам об обществах присутствия. Если в течение двух недель со времени получения заявления губернатором или градоначальником не будет сообщено определение об отказе в удовлетворении заявления с точным указанием оснований этого отказа, то общество может открыть свои действия. Для того чтобы общество пользовалось всеми правами юридических лиц, оно должно быть внесено в особый реестр. В этом случае должен быть представлен устав, составленный с соблюдением известных форм, и губернскому или городскому присутствию для рассмотрения его предоставляется месячный срок. Служащие в правительственных установлениях, казенных и частных железных дорогах и телефонных предприятиях общего пользования, хотя бы они служили по вольному найму, могут образовывать в своей среде общества не иначе, как на основании устава, утверждаемого начальством. Такие общества не могут преследовать политические цели или цели, несовместные с требованием служебного долга и с порядком и условиями службы; соединение их в союзы воспрещается. Особым более стеснительным правилам, чем общие правила об обществах и союзах, подчиняются профессиональные общества. Профессиональными обществами считаются те, которые имеют целью выяснение и согласование интересов, улучшение условий труда своих членов или поднятие производительности принадлежащих им предприятий. Профессиональные общества могут открывать отделения, но не могут соединяться в союзы. В общем, все эти правила так неточно и растяжимо формулированы и предоставляют такие широкие дискреционные полномочия административным властям по отношению к отказу в регистрации и закрытию обществ, что установленный ими «явочный» (заявительный) порядок свелся фактически к «концессионному» (разрешительному). При действии этих правил свобода собраний, обществ и союзов всецело зависит от усмотрения административных властей и от той или иной практики, усвоенной ими. Между тем практика у нас создается пока при действии положений об усиленной и чрезвычайной охране, а при таких условиях «свобода» собраний, обществ и союзов в точном значении этого слова почти совсем упраздняется. Более свободные условия для печати у нас стали создаваться, начиная с конца 1904 г., тоже сперва фактически без законодательного расширения ее свободы и даже вопреки существующим законодательным и административным ограничениям. Редакторы и издатели газет и журналов начали игнорировать многие из этих ограничений, и правительство было не в силах с этим бороться; это показывало, что ограничения эти являлись анахронизмом и не соответствовали новым условиям жизни. Поэтому правительство решило отменить и формально некоторые из этих ограничений, что и было исполнено Высочайше утвержденным 23 мая 1905 г. мнением Государственного Совета «об изменении и дополнении некоторых из действующих законоположений о печати». После издания Манифеста 17 октября первое время у нас господствовала фактически неограниченная свобода печати для существующих уже органов печати, не подчиненных предварительной цензуре. С целью регулирования и ограничения этой свободы и был издан Высочайший указ 24 ноября 1905 г. «о временных правилах о повременных изданиях». Он был дополнен Высочайшим указом 18 марта 1906 г. «об изменении и дополнении временных правил о периодической печати». Затем 26 апреля 1906 г. был издан Высочайший указ «о временных правилах для неповременной печати». Этими временными правилами вместе с ст. 70 Осн. Зак. и регулируется наше современное законодательство о печати. Ими отменена предварительная цензура, как общая, так и духовная, для повременных изданий, выходящих в городах, и всех неповременных изданий. Цензурные комитеты 144 переименованы в комитеты по делам печати, а цензоры — в членов этих комитетов или в инспекторов по делам печати. Для основания новых повременных изданий разрешительный порядок был заменен явочным. Постановления об административных взысканиях, налагаемых на повременные и неповременные издания, и правила о залогах для них отменены, а ответственность за преступные деяния, учиненные посредством печати, определена в судебном порядке. Каждый номер повременного издания и каждое неповременное издание объемом более пяти печатных листов представляется одновременно с выпуском его из типографии в установленном количестве экземпляров местному установлению или должностному лицу по делам печати. Повременные издания, содержащие в себе рисунки, эстампы и другие изображения, должны представляться не позже, как за 24 часа до их выхода, а неповременное издание не более пяти печатных листов в различные сроки, от двух до семи дней, до их выхода из типографии. Как на отдельные номера повременного издания, так и на всякое неповременное издание может быть наложен арест, заключающийся в отобрании всех экземпляров, предназначенных к распространению, в том случае, если в издании, подлежащем аресту, содержатся признаки преступного деяния, предусмотренного уголовным законом. Одновременно с арестом вопрос о нем и в подлежащем случае о привлечении виновного к уголовной ответственности должен быть передан на решение суда; суд или утверждает арест, или отменяет его; повременное издание суд может приостановить до судебного приговора или совсем прекратить после него. Несмотря на то что свобода, предоставленная нашей печати этими правилами, далеко не так велика и всякое злоупотребление ею может быть немедленно прекращено судебными и административными властями, даже в этих пределах свобода печати в данное время у нас не существует. Очень большие ограничения создаются для нее благодаря тому обстоятельству, что почти все местности, где выходят наши повременные и неповременные издания, находятся на положении усиленной или чрезвычайной охраны. Обязательными постановлениями, издаваемыми в порядке исключительных положений генерал-губернаторами или губернаторами, между прочим снова введены административные взыскания, налагаемые на печать; в последнее время они практиковались как в виде очень высоких и разорительных денежных штрафов, так и в виде приостановки и полного запрещения издания. Ограничения свободы веры являются наиболее бессмысленными и безобразными; в эту область, определяемую совестью каждого отдельного человека, государство менее всего имеет право и возможность вторгаться. Но при старом режиме наше правительство не решалось оставить в покое даже совесть русских подданных и отказаться от ограничения прав лиц, принадлежащим к некоторым вероисповеданиям, от преследования раскольников и сектантов и от запрещения переходить из православия в другие вероисповедания. В царствование императора Александра III была введена только некоторая, очень ограниченная терпимость по отношению к старообрядцам. Укрепление веротерпимости было возвещено и в Манифесте Императора Николая II, изданном еще 26 февраля 1903г. Затем в Высочайшем указе 12 декабря 1904г. было повелено «подвергнуть пересмотру узаконения о правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и независимо от сего принять ныне в административном порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте их всякого, прямо в законе не установленного, стеснения». Наконец, среди свобод, созданных государственной реформой 1905—1906 гг., религиозная свобода естественно явилась первою. Уже 17 апреля 1905г. был издан Высочайший указ «об укреплении начал веротерпимости». Манифестом 17 октября и вышецитированной ст. 81 Осн. Зак. свобода веры была признана основой нашего нового государственного строя. Так как от отсутствия свободы веры особенно страдали старообрядцы и сектанты, то для действительного осуществления этой свободы особенно важное значение имеет изданный 17 октября 1906 г. на основании ст. 87 Осн. Зак. Высочайший указ «о порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последователей 145 старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов». На основании всех этих законоположений и прежде всего указа 17 апреля 1905 г. православные получили право переходить в другие христианские вероисповедания. Лица, перешедшие в православие из нехристианских вероисповеданий, или хотя бы потомки таких лиц, могут возвращаться в свою первоначальную веру или веру своих предков. Между вероучениями, которые прежде назывались одним общим именем «раскол», проведено различие, и они разделены на три группы: 1) старообрядческие согласия, 2) сектантство и 3) последователи изуверных учений, самая принадлежность к которым наказуема в уголовном порядке. Само название раскольников исключено из нашего законодательства, а последователям толков и согласий, приемлющих основные догматы православной церкви, но не признающих некоторых ее обрядов и отправляющих богослужение по старопечатным книгам, присвоено наименование старообрядцев. Старообрядцам и всем другим сектантам, не придерживающимся изуверных учений, разрешено свободное исповедание их веры и отправление религиозных обрядов по правилам их вероучений. Духовным лицам, избираемым общинами старообрядцев и сектантов для отправления духовных треб, присвоено наименование «настоятелей и наставников», и они наделены всеми правами духовных лиц других вероисповеданий. Этим духовным лицам разрешено свободное отправление богослужений и всех духовных треб как в частных и молитвенных домах, так и в иных случаях, с воспрещением лишь в некоторых случаях надевать священнослужительское платье. Распечатаны все молитвенные дома, закрытые как в административном порядке, так и по определению судебных мест, и разрешен ремонт старых и постройка новых молитвенных домов и церквей всех христианских вероисповеданий при условии соблюдения известных правил. Установлено, что в учебных заведениях всякого рода в случае преподавания в них Закона Божия инославных христианских исповеданий это преподавание должно вестись на природном языке учащихся и должно быть поручаемо лицу того же вероисповедания. Старообрядческие и сектантские общины подчинены не общим правилам об обществах и союзах 4 марта 1906 г., а особым, установленным указом 17 октября 1906 г.; необходимость особых правил вытекала из того обстоятельства, что старообрядческие и сектантские общества, состав которых до известной степени определяется принадлежностью к определенной секте или вероучению, естественно должны иметь отчасти публично-правовой характер. Публично-правовой характер этих общин выражается в том, что некоторые лица при известных условиях являются обязательно их членами. Так, не может быть отказано в приеме в общину, образуемую на основании указа 17 октября 1906 г., лицам, входившим до издания этого указа в состав того старообрядческого общества, из членов которого образуется община. Некоторые лица являются членами общины по рождению, именно лица, записанные в книгу рождений общины. Соответственно этому старообрядческие и сектантские общины наделены особыми правами и обязанностями. Между прочим, государство их уполномочивает и обязывает исполнять некоторые функции, которые в других случаях исполняют должностные лица государства или представители государственной церкви. Так, например, членам этих общин, главным образом их духовным лицам, поручено вести книги гражданского состояния старообрядцев и сектантов. Осуществление различных свобод мы могли здесь рассмотреть только в самых общих чертах, поскольку им определяется общее положение граждан и отношение их к государству в целом. Исследование детальных юридических вопросов, возникающих при этом осуществлении, есть дело не государственного, а отчасти процессуального и главным образом административного права. Подводя итоги и давая общую характеристику публично-правового положения русских граждан, мы должны признать, что неприкосновенность и свобода личности далеки еще у нас от полного осуществления. Последнему особенно мешают «исключительные положения», распространенные на столицы и большинство наиболее центральных и 146 культурных мест империи. Но даже в данный момент, при крайне ненормальных условиях переходного состояния, все-таки заметна принципиальная перемена, происшедшая в правовом положении русских граждан; теперь даже в местностях, объявленных на положении усиленной и чрезвычайной охраны, русские граждане пользуются большими правами и свободой, чем они пользовались до 1903 г. Конечно, при существовании этих положений невозможно сколько-нибудь нормальное осуществление прав и свобод граждан, и потому надо пожелать возможно более скорого снятия их и освобождения от них всех местностей империи. Это будет зависеть от поведения и деятельности нашего народного представительства. От Государственной Думы будет зависеть и действительное осуществление свобод на основании тех временных правил, которые были изданы в 1905—1906 гг., а также их дальнейшее законодательное обеспечение и развитие. Все эти временные правила должны быть заменены постоянными законами, как это было предусмотрено при самом издании их. Во второй Думе в своей программной речи председатель Совета Министров развил систематический план тех законопроектов, которые правительство намеренно внести в Думу для действительного обеспечения гражданской свободы и осуществления правового строя; в третьей Думе об этом намерении правительства было подтверждено, хотя уже и не так определенно. Но третья Дума уже принялась за разработку законопроектов о свободе вероисповедания и об организации старообрядческих общин, и эти вопросы она в общем решила удовлетворительно. Однако неприкосновенность личности и свободы будут неизменно осуществляться у нас только тогда, когда они будут гарантированы как субъективно-публичные права русских граждан. Для сообщения им этого формально-юридического свойства мало еще одних законов о свободах, а нужны также правильные законы об ответственности должностных лиц. Эти последние законы должны предоставить каждому гражданину, субъективнопубличное право которого нарушено, возможность преследовать нарушившее его должностное лицо в уголовном и гражданско-правовом порядке, предъявляя к нему иск о возмещении убытков. Только такое юридическое обоснование прав личности делает их действительно неприкосновенными. Надо не забывать, что все это может быть достигнуто только путем спокойной и упорной настойчивости в преследовании определенной цели; цель эта в дальнейшем мирном развитии нашего конституционного строя. 147