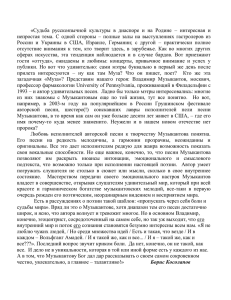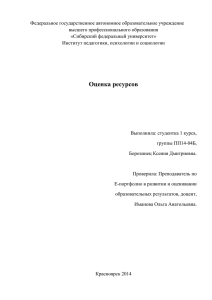А.П. Рогов, "Мир русской души" - Поволжский государственный
реклама
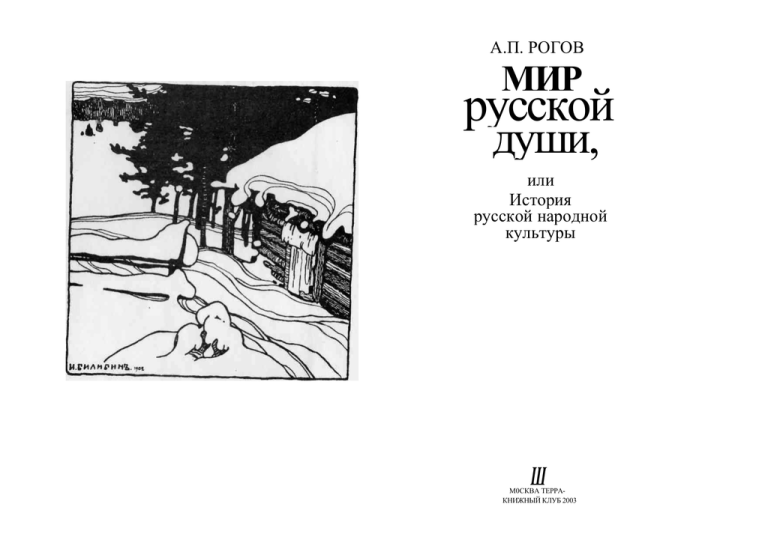
А.П. РОГОВ МИР руccкой души, или История русской народной культуры Ш М0СКВА ТЕРРАКНИЖНЫЙ КЛУБ 2003 УДК 947 ББК 63.3(2) Р59 ОТ АВТОРА Рогов А. П. Мир русской души, или История русской народной культуры. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2003. — 352 с: ил., 64 с. ил. ISBN 5-275-00906-2 Русь изначальная... Святая Русь! Какая глубина лежит в этих словах! А в чем их суть? Автор книги исследует богатый пласт народной культуры и прослеживает вехи ее развития, начиная с одежды, зодчества, преданий и обычаев, заканчивая фольклором и ремеслами Древней Руси. УДК 947 ББК 63.3(2) © А. П. Рогов, 2003 © ТЕРРА—Книжный клуб, 2003 Что узнаем мы из большинства историй России? Узнаем ее географическое положение и природные условия. То, как отдельные племена и княжества сложились в государство, как оно развивалось, кто и как им правил. Какие вело войны. Кто принес ему наибольшую пользу, а кто вред. Узнаем и о духовной жизни страны, о ее культуре, о роли во всем этом Православной Церкви. Но ведь с определенного времени в России фактически было две культуры — господская и народная. Однако почти все истории рассказывают нам в основном о первой, о культуре господской, и чаще всего столь подробно, что мы знаем о ней, наверное, почти все. Хотя известно ли вам, что дворян в России было всего лишь около двух процентов населения, а со всей чиновничьей армией и военной верхушкой господ не более пяти процентов?.. Ну а как жил бытово и духовно народ — остальные девяносто пять процентов русских? Из чего складывался мир народной русской души? Об этом в общих историях вы не узнаете почти ничего. Но ведь духовный мир формирует культура, и мир русской души сформирован именно народной культурой. И у нас существует множество трудов по ее отдельным областям. По русскому фольклору. О религиозных исканиях народа. О его святых угодниках и подвижниках. О его жизненном укладе. Об обычаях, традициях и поверьях. Об одежде. Праздниках, песнях и танцах. Народном зодчестве. Иконописи. Художественных промыслах. Да, по существу, и вся великая русская художественная литература тоже ведь о народе, о народном и национальном. Разве этого мало? Мало. Ибо по сей день нет труда, объединяющего все это воедино и показывающего, что только вся народная культура в целом формировала и формирует мир русской души, только она делает русских русскими. То есть речь идет о едином .своде всего этого, о цельной истории народной культуры, которая и позволит нам наконец воочию увидеть, чем \ке действительно велика великая Россия. 5 Я, разумеется, отлично понимаю: чтобы охватить и осветить весь духовный мир русского народа, не хватит и тридцати толстенных томов. Но нужда в сем столь остра, столь вопиюща,— ибо не знает большинство нынешних россиян свой народ, постыдно, позорно не знает! — что я счел возможным и попытался обозначить хотя бы основные составные неповторимого, необъятного мира русской души.. ИЗНАЧАЛЬНОЕ Сейчас, когда большинство живет в городах, особенно в крупных, которые все сильнее походят друг на друга, кажется, что природа, среда обитания почти не влияют на формирование человека, на формирование его физического обличья, его психики и характера. Но это не так: оно просто слабее, чем прежде, и менее заметно. Прежде основная масса народа жила ведь в деревнях, появлялась там на свет и уходила в мир иной века и века подряд. Земледельческой, крестьянской была страна вплоть до двадцатого века, и связан был русский человек со своей землей практически всем своим существом, каждой клеточкой и дыханием своим и подчинялся ей, и душу имел и мысли только такие, какие растила она. А она, изначальная, коренная, еще доуральская Русь, хотя и входила территориально в Европу, занимая по площади почти половину ее, природно от остальных ее стран сильно отличалась; общая площадь Европы 11,6 миллиона квадратных километров, а европейская часть дореволюционной России и Советского Союза 5,6 миллиона. Правда, заняла Русь эти великие пространства не сразу, но с конца пятнадцатого века уже была самым большим государством континента. Однако, если среднеянварские температуры в Мадриде, например, плюс 4, в Лондоне — плюс 3, Париже— плюс 2, Берлине — минус 1, то в Москве и южнее ее — от минус 8 до минус 12, а в Нижнем Новгороде, Перми, Самаре и Архангельске еще холоднее. Сельскохозяйственный период в Западной Европе продолжается в среднем восемь месяцев, а в южных странах — Италии, Греции, Испании, Болгарии — еще дольше, а у нас пять, шесть и лишь местами до семи месяцев. От двадцати до пятидесяти процентов северо-русской равнины занимают болота, непригодные ни для каких угодий. На гигантских пространствах многие века были сплошные, порой непроходимые леса — хвойные, лиственные, ду- бовые; там, где нынче лесостепь и даже чистые степи, то есть ниже Орла, Пензы, Тамбова, тоже некогда были леса, и большинство среднерусских и северных пахотных земель, включая знаменитое Владимирское Ополье, начинались в глубине веков с кулижных полей — кулижек, то есть с самого примитивного подсечного земледелия, когда мужик или несколько мужиков выбирали место в лесу у реки, речки или озерка, валили столетние сосны, светлые березняки, черный липняк или неохватные дубы, корчевали, выжигали пни и, мешая золу, пепел с землей и навозом деревянными сохами, косулями и мотыгами, год за годом превращали в плодоносящую пашню. И все расширяли и расширяли их новыми пожогами, вырубкой, корчевкой. Сколько всего за полтора, два тысячелетия было так отвоевано миллионов квадратных десятин и верст у лесов русским крестьянином — кто теперь возьмется хотя бы прикинуть и подсчитать их, если и в Средней России вместо лесов теперь остались местами лишь жалкие, просвечивающие насквозь колки. И уж совсем трудно себе представить, сколько мужицких жил лопнуло на таких тяжких работах-надрывах, сколько из них пало навеки тут же в только что проложенные борозды! Многое превозмог русский крестьянин, многое сумел. Но огурцов на Северной Двине, на Пинеге и Мезени вырастить все-таки не смог, обходился без них. И пшеничка в большинстве мест не вызревала, и ячмень и ржица, случалось, даже в Новгородской и Вологодской губерниях уходили иногда недозревшими под снег. Это называлось — зеленые годы, то бишь голодные. И дыни с арбузами в коренной России никогда не вызревали. Плодородных земель до слияния с Украиной и обретения южных областей было мало, а там и засухи мучили, ибо вокруг Парижа, скажем, осадков выпадает до тысячи миллиметров в месяц, а в нашем Ставрополье лишь четыреста. А сколько надо было запасти крестьянину сена, чтобы его коровы, лошади, овцы и козы кормились нормально и в хлевах в долгие суровые зимние месяцы с ноября по май, до новой зеленой травки. На сенокосы выходили повсюду буквально все — мужики, парни, бабы и девки. В считанные дни ведь надо было управиться до непременных в эти сроки дождей: все скосить, высушить, сметать в стога, поставить зароды, перевезти домой. А к сену той же скотине и другой живности требовались еще зерно, отруби, солома, свекла. А сколько труда уходило на посевные, на огороды, на жатву, сушку и обмолот жита, выращивание и обработ7 ку других культур, среди которых была и такая сложная, трудоемкая и сверхнеобходимая, как лен. И по домашнему хозяйству всегда полно забот. Ни дня свободного не знали русские крестьянин и крестьянка в страдную летнюю пору. Зимой было, конечно, полегче, но лишь чуть полегче, потому что на Руси крестьянин чаще всего и избу ставил себе своими руками, и все, что к ней прилежит, ладил, вообще все, все по хозяйству делал в основном сам. А крестьянка и пряла, и ткала, и всю семью обшивала, одевала в холщовые новины и непокупные сукна и ситцы. Да и промышляли многие разными ремеслами — какой-никакой, а все приработок к собственным харчам-то. И были еще великие морозы и великие снега долгими зимами, съедавшие целые горы дров. Были великие половодья и непролазные распутицы, отрезавшие селения друг от друга и от всего мира. Вот и подумайте: мог ли человек слабый, ленивый, невыносливый и нетерпеливый жить такой жизнью, все больше и больше осваивая, обустраивая, расширяя и улучшая и улучшая свои трудные земли? Конечно, это было под силу только воистину сильным, очень выносливым, терпеливым, решительным, стойким и смелым. И все же это лишь часть тех черт, которые сформировала в русских их земля, их природа. Любые хорошие леса сами по себе всегда большое богатство. У нас же они были не только воистину бескрайними и в большинстве своем весьма ценных пород, но и так сказочно переполнены всяческим зверьем, птицей, диким медом, ягодами, грибами и иными лесными дарами, как в никакой другой стране всего северного полушария. Русские меха — медвежьи, а с обретением Сибири и тигровые, барсовые, рысьи, оленьи, бобровые, волчьи, лисьи, собольи, куньи, горностаевые, колонковые, песцовые, беличьи, заячьи; одни хребты шкурок, одни черева (брюшки) и лапки уже в древности ценились в европейских и странах Востока как самые лучшие и желанные. В течение многих веков это был основной наш экспорт, дававший стране наибольший доход. В самой же Руси собольими сороками — связками по сорок собольих шкурок — долго рассчитывались наравне с деньгами, они служили символами достатка, ими обязательно украшались свадебные пиры, одаривали молодых, а в торжественных случаях — уважаемых и дорогих родственников, друзей, разных важных особ. У русских же государей собольи сорока были самой частой наградой для отличившихся в службе им и Отечеству. 8 Дикие жареные лебеди, журавли, глухари и гуси непременно украшали столы всех больших мирских застолий. А пернатой дичи помельче ловили тенетами, били соколами и настреливали столько, что с Вологодчины, с Каргополья, Ярославщины и других мест зимами в Москву, СанктПетербург и иные города шли целые санные обозы, груженные одними лишь морожеными рябчиками, или куропатками, или дроздами, а из южных краев — перепелками. И обозы с бочками, в которых были одни лишь соленые рыжики величиной не более трехкопеечной монеты, хаживали. И с солеными же боровиками, маслятами, груздями. И с рогожными кулями сушеных. С сушеной черникой и малиной. С бочками клюквы, моченой брусники, морошки. Из медов, как вы знаете, делали хмельные напитки, в том числе и из бортных, лесных. Приготавливали их особым образом, подолгу выдерживали в дубовых бочках и глиняных корчагах, и так называемые ставленые меды сшибали с ног похлеще всяких двойных крепчайших водок. И реками и озерами Господь одарил Россию с необычайной щедростью. Только судоходных рек было более ста, в том числе такие великие, как Волга, Ока, Кама, Лена, Обь, Енисей, Днепр, озера Ладожское, Онежское, Чудское, сказочный Байкал. Да еще Студеное и теплые моря. Рыбы в них добывалось столько, что, если бы современный человек каким-то чудесным образом увидел тогдашние уловы, он бы глазам своим не поверил. И какой рыбы: от крошечных чудских и белоозерских снетков и редкостной невской миноги до огромных белуг, осетров, стерляди, семги, лосося, тайменя, омуля. В Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, сибирских рыбных местах даже на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий воблу, тарань, синца, сушеных, мороженых и свежих щук, судаков и треску продавали в основном возами или полупудовыми снисками. И красную рыбу в основном пудами, и белорыбицу, и черную и красную икру. Какая-то рыба постоянно бывала даже в самых бедных домах, можно даже сказать, что это один из основных наших русских продуктов. К концу пятнадцатого века на Руси добывалось и производилось более двадцати различных материалов — железо, сталь, медь, бронза, керамика, стекло, эмаль, чернь, цементирующие растворы, квасцы, соль выварочная, смола, искусственные краски, клей, порох, селитра, деготь, мыло и тому подобное. А с освоением Урала и Сибири страна стала богатейшей и по многим дру9 гим ископаемым и материалам: по серебру, золоту, драгоценным камням. Селились русские многие века в основном по берегам рек. Потому что река — это лучшая дорога и любые суда — лучший вид транспорта при наших великих расстояниях. Деревни по берегам рек ставили, большинство малых и крупных городов, включая Москву, Киев, Новгород, Смоленск, Санкт-Петербург. На лодочке можно куда поблизости быстро дойти, а на барках, ладьях, расшивах и дощанниках и на тысячи верст, и любые грузы куда угодно довезти, а огромными плотами и сколько угодно леса сплавить. И зимние санные пути непременно торили по гладким ледяным речным панцирям. Причем ставились деревни и города, как правило, на высоких берегах, даже на самых высоких — на взгорьях, холмах, крутоярах, Объяснение сему наипростейшее: чем дальше и шире можешь обозреть окрестности, тем раньше заметишь врага — ведь в старину почти все селения, а тем более города (слово от слова городьба) непременно огораживались, превращались в крепости и крепостишки. И отражать нападения с высот намного удобней. Таких крепостей и крепостишек на Руси тысячи — каждый их видел сам. И одна из самых замечательных, конечно, кремль Нижнего Новгорода, который венчает высоченные Дятловы горы у самого слияния Оки с Волгой. Снизу глянешь — прямо парит кремль над 10 великим водным разливом. А сверху глянешь — вообще немеешь: простор невероятный, непостижимый, километров, наверное, на тридцать-сорок все окрест открывается. Есть крылья — разбегайся и лети, лети, захлебываясь от восторга: широченная Волга вся в двигающихся судах и суденышках, на противоположном берегу целый городок разлегся, за ним луга, поля, деревни, леса начинаются, одна гряда зелено-синяя, вторая — совсем синяя, третья уже голубовато-прозрачная — сколько до нее? По длиннющему мосту через Волгу ползут составы, крошечные машинки бегут по серым ниткам-дорогам, дымы плывут из труб тоньше спичек вдали. Будто частицу всей нашей планеты вдруг узрел с плывущими чуть ли не ниже тебя облаками и темненькой тучкой вдали, из которой хорошо видно, как серенькой кисеей свисает дождик. Сколько до нее-то отсюда?! И вот что любопытно: утро ли сейчас раннее, или день, или вечер, пусть самый поздний — тут, на площадке у стен Нижегородского кремля и на набережной по-над Волгой, всегда полным-полно народу, даже в непогоду есть народ, и большинство, если и походит, подвигается сколько-то, потом обязательно встанет, замрет, глядя в эти немыслимые дали, и не шелохнется, испытывая совершенно неизъяснимую радость и счастье и какую-то силу и гордость, что у нас такая необъятная, такая потрясающе красивая, могучая и величавая земля. Такая просторная! 11 Самое же замечательное, что точно такие же чувства испытываешь и в Жигулях, поднявшись на Молодецкий курган, на котором, по преданиям, любил сиживать Степан Разин. Наверное, ему тоже казалось, что он видит оттуда разом чуть ли не всю Русь, и ее могучие силы тоже вливались в него. И на северной Пинеге, на высочайшем крутояре напротив знаменитого Веркольского монастыря испытываешь то же самое. И в пушкинском Михайловском, когда выходишь на веранду его дома по-над подернутой утренним туманом Соротью, за которой идут поля и перелески к керновскому Тригорскому. Таких мест у нас тоже тысячи, и не только в городах, но и в селах и деревнях у нас есть обычай выходить в свободные вечера на крутояры и посидеть на специально для этого устроенных там лавочках и полюбоваться на свои просторы, свое раздолье, подышать своими ветрами, вновь и вновь впитывая в себя их широту, силу и величие. А какая задумчивая колдовская красота и поэзия прячется в наших глухих лесных озерках с темнющей водой, затянутой ярко-зеленой ряской с желтыми неподвижными кувшинками. Как потрясающе цветет лен — словно голубое шелковонежное море колышется волнами. И ведь цветет-то лен только до обеда, после полудня — никогда. А сколько всегда сияющего света в наших сквозных чистейших березняках хоть при солнце, хоть без него, когда понимаешь, что свет этот сияющий льют сами березы, не позволяя нам в их окружении не то что темных мыслей, но даже и плохого настроения: «Порадуйтесь, посветитесь вместе с нами! Посветитесь!» Зовут и зовут. А когда на поблескивающие белоснежные просторы тихо и медленно падает и падает крупный пушистый снег, что творится тогда в наших душах, какая удивительная музыка звучит в них!.. Красота земли нашей неярка, затаенна, но так бесконечно поэтична, что не любить ее глубоко и беззаветно невозможно, невыносимо. Потому-то большинство русских на чужбинах всегда так тоскуют по родине, что иноземцы даже считают ностальгию нашей сугубо национальной болезнью. Поэтому же большинство из нас по душе лирики, поэты и у нас так любят и чтут поэтов и поэзию. А необычайная широта, размах и мощь нашей земли родили в русских и такую же широту чувств, понятий и 12 помыслов. А ее великие богатства — и великую, вполне законную гордость за нее. Вот вам еще несколько характернейших черт национального характера. В древности и в средние века частые войны, захваты чужих земель и людей были, как известно, нормой. Некоторые народы и народцы только этим и кормились, богатели, размножались и крепли. И все-таки столько желающих, сколько стремилось покормиться Русью, не знала больше ни одна страна. Половцы, хазары, Батые-вы орды, литва, немецкие ордена, шведы, татары казанские и крымские, поляки, заволжские степняки — им не было числа. Битва за битвой, реки крови, горы трупов, грабеж за грабежом, разорение за разорением, пожарище за пожарищем и вереницы связанных одной веревкой полоненных, превращенных в рабов, в живой и очень выгодный тогда товар. Что было делать русскому крестьянину, да и ремесленникугорожанину? Только браться вместо орала или молотка за мечи и копья и защищаться. Князья ведь держали в своих боевых дружинах от силы пятьсот, тысячу воинов, которые, конечно, никак не могли отражать большие нашествия, многие века это делали лишь общенародные ополчения. А в 1612 году и воистину великое, когда под знамена Минина и Пожарского на Волгу к Ярославлю сошлись с оружием практически люди всех сословий и званий со всех тогдашних русских земель, в том числе мордва, черемисы, татары, вотяки, чуваши. И против Наполеона воевал, как известно, вместе с героической армией, по существу, весь народ. Мало иноземцы — русские князья тоже не один век разоряли и истязали родную землю и народ, зачастую самые ближайшие, кровные родственники нападали друг на друга: дети на отцов и дедов, братья на братьев, дядья на племянников и наоборот. Речь, понятно, об удельных князьях и их междоусобицах, их распрях с князьями великими. Ведь даже первые наши святые страстотерпцы Борис и Глеб и те из междоусобья. А у первого настоящего собирателя Руси в единое государство великого князя Ивана Третьего отец был Василий Второй Темный: потому Темный, что его родственник князь Шемяка, возжелавший владеть и его землями, городами и людьми, напал на Василия, победил, взял в плен и приказал выколоть глаза. Киевская Русь, княжества западные, республиканский Новгород, Русь Литовская, Ростово-Суздальские княжества, Великое Тверское княжество, Великое Рязанское, Смоленское, 13 Нижегородское, Московское, вольный Псков, княжества удельные, совсем крошечные, вроде Верейского, Пронского, Мценского. Так продолжалось не менее шести веков, аж до начала семнадцатого с его жутким лихолетьем и опустошением Руси поляками. Бились и бились. И основные тяготы всего этого нес на себе опять же простой народ, все те же крестьяне и ремесленники. Возникает закономерный вопрос." почему же Русь все-таки выстояла, и не только все одолела, но и собралась воедино и выросла в государство, равных которому нет на планете? Русские научились воевать лучше других? Да, наверное было и это. Но главное все же в том, что человек, не мыслящий своей жизни без породившей его земли и народа, и не может быть побежден. Не может ни отстоять ее, ни предать, ни изменить ей, даже если за это приходится платить жизнью. И вере своей православной, которая укрепляла и вела его всегда только к свету, добру, разуму и справедливости, никогда не изменял и не мог изменить. И языку русскому, столь же раздольному, могучему и богатому, как родная земля. И всему тому духовному миру, который создал за века его народ и которым жили поколения и поколения. И величайшей в мире и самой многонациональной Россия стала еще потому, что испокон века проводила политику, какой, кажется, на планете тоже больше никто не проводил. По ветхозаветной Библии мы знаем, что в глубочайшей древности завоеватели нередко уничтожали, вырезали целые племена и народы поголовно, до последнего младенца. То же самое творили Чингисхан и Тамерлан, никого не оставляли и очень любили сооружать себе памятники в виде холмов из черепов побежденных. И цивилизованные, кичащиеся своей просвещенностью англичане много позже ставили себе точно такие же памятники из черепов в завоеванной Индии, на Среднем Востоке. Не многим лучше вели себя и «передовые» по тем временам голландцы, испанцы, владевшие гигантскими колониями во всех частях света. А что творилось на Американском континенте с индейцами и чернокожими рабами еще сто, полтораста лет назад... Россия же проводила не колонизацию и порабощение соседних народов (обратите внимание — только ближних, соседних!), а всегда органично и полноправно включала их в Российскую империю и эти народы даже пользовались в разные времена целым рядом правовых и экономических преимуществ и льгот против русских. И религиозного насилия у нас никогда не было. А иноплеменные благородные, иноплеменная знать — казанские 14 татары, украинцы, поляки, башкиры, грузины, молдаване, казахи и прочие — сразу же причислялись к русскому дворянству и знати с сохранением всех их владений, состояний и служебных возможностей, в том числе высочайших — при дворе, при самом государе. Так что утверждение, что Россия была тюрьмой народов,— неправда, вернее, политическая спекуляция, ибо ограничения у нас с восемнадцатого века существовали лишь для одного народа, для пришлого, хлынувшего в Россию от преследования в других европейских и иных странах. И постыдные погромы того же народа на рубеже двадцатого века тоже ведь случились не только у нас. Ни с кем другим ничего подобного никогда не происходило, ибо и приписываемый русским так называемый великодержавный шовинизм — тоже политическая спекуляция: не болел наш народ никогда чувством национального превосходства, в том числе и над евреями — это общественно-политическая ситуация так сложилась,— а чувства превосходства, презрения или ненависти не было, не было никогда, потому только Россия и выросла в столь гигантскую и многонациональную. И это еще одна наша характернейшая особенность. МЕСЯЦЕСЛОВ В земледельческой стране и весь жизненный уклад подчинялся, разумеется, прежде всего земледельческому календарю, годовым природным циклам. Именовался наш календарь месяцесловом, и встреча нового года в древней Руси приурочивалась к началу марта, а с четырнадцатого века церковь старалась перенести начало года на первое сентября, но окончательно это состоялось лишь в 1492 году (по древнейшему христианскому летоисчислению это был год семитысячный, и именно в сей срок Священными писаниями предсказывался конец света, что, к великому счастью всех тогда и позже живущих, почему-то не свершилось, не произошло: то ли Господь передумал покончить с этим светом, то ли древние исчислители что-то не точно сосчитали— неведомо!). С первого сентября русский год начинался двести с лишним лет, пока царь Петр Первый не решил и тут быть европейцем и не указал новый, восемнадцатый век начать, как во всей Европе, с 1 января 1700 года. Правда, 1699 год продолжался у нас из-за этого всего четыре месяца, но это уже пустяки. И еще Петр взял почему-то 15 юлианский календарь, из-за чего Россия к двадцатому веку опять отстала от Европы, но уже всего лишь на тринадцать суток, ибо Европа тогда в основном жила уже по астрономически более точному григорианскому календарю. Исправлено сие было только Советской властью. Итак, четыре времени года, земледельческий годичный цикл: весна, лето, осень, зима. Каждый месяц в месяцеслове, конечно же, имел свое, родовое, рожденное опять же самой русской природой и этими циклами название: март — зимобор, протальник, березозол; апрель — снегогон, зажги снега, заиграй овражки; май — травник, травень; июнь — хлеборост, скопидом; июль — страдник, сенозарник, макушка лета; август — жни-вень, разносол, густоед; сентябрь — хмурень, ревун, заревник; октябрь — позимник, листопад, грязник, сва-дебник; ноябрь — листогной, полузимник, грудень; декабрь — студень, студный, стужайло; январь — проси-нец, перелом зимы, перезимье; февраль — снежень, бокогрей, широкие кривые дороги. Вы обратили внимание, до чего точны, красивы и поэтичны все эти названия! Имена народ давал буквально всему. Недели были: пестрая, всеядная, сырная, Фомина, зеленая; посты — холодный, голодный, великий, лакомка и другие; морозы — введенские, Никольские, крещенские, афанасьевские, власьевские. Дни, согласно святцам, носили имена почитаемых и прославляемых в оные святых, но чаще всего с такими вот определениями: Тимофей — весно-вей, Афанасий — ломонос, Марья — пустые щи, Агра-фена — купальница, Параскева — грязница, льняница, порошиха. То есть давалась основная характеристика дню, с чем он связан природно, что обычно в оный происходит или должно происходить, и плюс к этому непременно пояснялось, что именно в сей день должен делать крестьянин, к чему приступать, а к чему — ни в коем случае. И эти наставления всегда столь безукоризненны, что ныне кажется, что они рождены не миллионами самих же крестьян на основании своего же тысячелетнего опыта, а продиктованы тем, кто создал землю, весь белый свет и все живое в нем. Чтобы, значит, знали-ведали все досконально, чтобы всякое семя знало свое время. Пришел марток — надевай семеро порток. Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай. Синие облака в апреле — к теплу и дождю. Перестают топить печи в избах. Заготавливают соковицу — сладкий березовый сок. На Георгия Победоносца, по-русски — 16 Егорьев день, Егорий вешний, 23 апреля: Егорий на порог весну приволок. Ранний яровой посев с Егория. В некоторых местах выгон скота в поле. Вербой, сохраненной с предпасхального Вербного воскресенья, выгоняют, приговаривая при этом: «Христос с тобой, Егорий храбрый, прими мою животину на все полное лето и спаси ее!» В сей же день и праздник пастухов, коих одаривали чем могли, выносили им караваи и кормили в поле мирской яичницей — задабривали. А остатками караваев вечером радовали возвратившуюся домой скотину. С Егория и хороводы молодежи водить можно. А на Бориса и Глеба, 2 мая, Борис и Глеб повсеместно сеют хлеб. И начинают петь соловьи. На Аграфену Купальницу, 23 июня, накануне Ивана Купалы: репу сей на Аграфену — хороша репа будет, и еще: репа и горох сеются про воров, кто ни пройдет — всяк щипнет. С Аграфены начинают купаться, «закупываться». В этот же день заготавливают веники для бани на весь год — они самые прочные и мягкие. И парятся в бане. И главное, на Аграфену Купальницу собирают травы и коренья для лечебных снадобий, а крапиву, шиповник и другие колюче-жгучие растения вырывают и жгут, чтобы избавиться от несчастий и бед. А 14 июля, на Прокопия и на праздник Явления Казанской иконы Божьей матери — зажин ржи: зерно в колоске — не валяйся в холодке, ибо и самая сильная жара тут начинается, от которой спасительней всего есть как можно больше черники — очень помогает. Жатва же — время дорогое, никому тут нет покою, так как жнут порою — жуют зимою. А где Казанская престольный праздник — туда съезжаются гости и службы в церквах торжественные, застолья и гулянья молодежи. Но вот уж на Прокла поле от росы промокло — 12 июля, сено надо высушить до сего дня, а знахаркам-лекаркам эти великие прокловы росы собирать, так как нет лучшего средства от призору и от сглаза. 4 сентября, в Богородицу Неопалимую Купину, луков день — выкапывают лук. На Сергия Радонежского, 25 сентября, капусту рубят... Пересказывать сии мудрости можно бесконечно, ибо их многие тысячи, повторяем — почти на каждый день года и вообще на все случаи жизни; пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит — оттепель его сгонит; круг около солнца или месяца зимой предвещает продолжительные метели 17 намного больше тысячелетия, так как в нем многое явно еще от язычества, месяцеслов существовал, хранился и расширялся лишь всенародной памятью. В любом селе и городе во все времена всегда были люди, которые знали, помнили его даже весь, а большими-то частями очень и очень многие. А ведь в нем не только десятки тысяч примет, наставлений и указаний, в нем и тьма-тьмущая всяческих обрядов и действ, которые необходимо исполнять в тех или иных случаях, ритуалах, празднествах. И тысячи исполняемых при этом песен, плясок, хождений, наговоров, причетов, присказок, обращений, закличек, молений, потешек. Помнили! Все помнили, пронеся — повторим! — не менее чем через полтора, два тысячелетия. Непременно причитали, например, в Дмитровскую, родительскую дедовскую субботу 25 октября (на Дмитрия Солунского). Посещали кладбища, служили там панихиды, устраивали богатые тризны-угощения и на многих могилах надрывно причитали-плакали. Вообще-то причитать-плакать над усопшими умели почти все женщины, перенимали с детства это у матерей и бабок, но некоторых плакальщиц без рыданий невозможно было слушать — так они рвали души своими надрывными голосами, такими невыносимыми были в плачах слова: Солнце и знаки зодиака с морозами; без примет ходу нет; если галки большой стаей летают — к ненастью, садятся высоко на деревьях — к морозу, низко — к оттепели; в Богоявленскую ночь перед утренней небо открывается: о чем открытому небу помолишься, то сбудется; снег после половодья — большое для озими невзгодье; зима — за морозы, а мужик — за праздники . Русский мясяцеслов — это великая мудрейшая энциклопедия, учебник и справочник, по которым воспитывались и жили десятки поколений. Причем самое удивительное, что целиком месяцеслов, кажется, никогда не был изложен на бумаге и напечатан. Отдельные его части записывались и публиковались, и то лишь в последние два столетия, а свести все воедино вообще стали пытаться совсем недавно. В веках же, и наверняка уже 18 Как иду я, горька сирота, Как иду я, горемычная. Как в оградушку во мирскую, Как к вам, мои родители, Как к тебе, родимая матушка... ...Подымитесь вы, ветры буйные, Разнесите все желты пески, Подымите родиму мамоньку Что из этой из сырой земли... ...Ты раскройся, гробова доска, Ты откинься да полотенечко, Поднимись, родная мамонька, Ты промолви со мной словечушко, Ты прижми да к ретиву сердцу Своего дитя несчастного, На свету чтобы мне не маяться!.. Был в средневековье крупный богослов, причисленный к лику святых,— Ефрем Сирин. Празднуется 25 января. Но у нас его звали еще запечником, прибауточником, сверчковым заступником, и считали этот день и праздником домового. На Руси очень верили в домовых. 19 Правда, в разных местах они выглядели вроде бы очень поразному: где почти старичок как старичок, только маленький и в белой длинной рубахе, где уж больно лохматый, сплошь волосатый, в иных местах оборачивался и кошкой, собакой, а то и бестелесной, но видимой тенью. В каком дому хозяева были нерадивы, ленивы и неряшливы, домовой обычно поселялся вредный, сердитый, даже злой и непременно безобразничал, постоянно что-нибудь ломал, разбивал, прятал, пачкал, мусорил — не давал житья. У рачительных же, заботливых, дружных и работящих он всегда за настоящего хозяина, поддерживающего в доме самый добрый порядок, чистоту и лад между домашними. На то он ведь и домовой. И понимающие это 25 января обязательно должны были почтить его вниманием, позакармливать, поставить ему хорошую еду — лучше всего в запечье или у подпечка,— ласково при этом приговаривая: «Хозяинушка-батюшка! Хлеб-соль прими, скотинку води и побереги и нас не забудь!» Как опоэтизирован домовой! Какая пронзительная, какая высочайшая поэзия при поминовении усопших! Почти каждая примета, почти каждый совет, наставление и разъяснение зарифмованы и афористичны. То есть месяцеслов при всей своей великой мудрости и практичности еще и ярчайшее поэтическое творение русского народа, свидетельствующее о его поразительной особенности и одаренности и в этом. В месяцеслов входят и все главные русские праздники: Святки, Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иванов день. Но они так богаты всякими обрядами, действами, играми, песнями, приговорами, плясками и музыкой, что о них будет речь особая. РУСЬ ДЕРЕВЯННАЯ Когда сильный мороз и нет ветра, в зимнем лесу очень тихо. Только синицы попискивают, безмолвно снуют снегири да какая-нибудь одинокая ворона тоскливо каркнет. Другие птицы и звери от холода в гнезда и норы попрятались. И вдруг вдали стук. Да все громче, громче, все ближе, и это уже не стук, а гулкое бабаханье, эхо которого наполняет весь лес. Между деревьями показался человек. На лыжах, в овчинном полушубке, с большой деревянной дубинкой в руках. Остановился у прямых высоких сосен без сучков 20 внизу. Оглядел их, задрав голову и придерживая шапку. И — бабах дубинкой по стволу! Прислушался. Сосна отозвалась затаенным гулом. Человек вынул из-за пояса топор и сделал на ней зарубку. И на другой сделал. На третьей. А на тех, что отзывались на удары дубинкой глухо, зарубок не ставил — эти сосны были больны, с гнильцой внутри. Так в старину отбирали лес для строек. Обязательно зимой, после сильных морозов: морозы выжимают из деревьев больше влаги, чем летняя жара, в это время они самые сухие. Сосны рубили, конечно, самые прямые, длинные и толстые, срубали с них сучья и везли на место стройки. Там ранней весной соскабливали кору, бревна по-особому складывали и долго-долго сушили. В тот же год в дело никогда не пускали — только на следующий или даже на третий год. Сосна для строительства — лучшее дерево. Она смолистая, дождей и снега боится меньше других деревьев, а значит, и дольше не загнивает, не трухлявится. Очень прочен также дуб. И елка смолистая. Ее заготавливали для кровель. А крыши крыли или осиновыми досками, или осиновыми фигурными дощечками — лемехом: осина тоже стойка к влаге. Дома складывались из бревен с пазами понизу, чтобы каждое следующее очень плотно ложилось на нижнее. А на концах бревен делались еще и особые вырубки, чтобы они уже намертво сцеплялись друг с другом. Вырубки были разные и назывались: в обло, в лапу, в паз. Вся же работа называлась «вязать сруб», то есть связывать прямоугольник, клеть. Сруб-клеть — основа любого строения на Руси. Вязали их лишь летом, по теплу. Никаких гвоздей не употребляли, но ни шелохнуть, ни сдвинуть ни одного бревнышка в настоящем срубе невозможно. Они бывали маленькие и большие — у кого на какой хватало материала. Если внутри клеть не перегораживали, только клали в углу печь, изба получалась из одной комнаты, с отгороженной занавеской или дощатой переборкой кухонькой, и называлась четырехстенкой. А если сруб вязали с бревенчатой же перегородкой, то есть в две комнаты, это называлось пятистенком. Делали и по две таких перегодки, то есть шестистенки. Да еще ставили между ними переборки из досок, и комнат тогда получалось, или, по-старинному, горниц и три, и пять, и больше. Из бревен потоньше к основным срубам прирубали срубысени, разные чуланы и кладовые, крыльца, бал21 Кижи. Дом кошелем коны, иногда прирубали, а иногда и ставили отдельно хлева и сараи для домашней скотины, птицы, сена. И везде избы были разные. На Рязанщине и на средней Волге в основном невеликие, в четыре, пять, шесть окон, с высокой кровлей. На Владимирщине и под Петербургом — в два этажа, но жилой только верхний, в нижнем размещались хозяйственные помещения или летние неотапливаемые комнаты. А севернее — в Прионежье, в Карелии, на реках Северная Двина, Пинега и Мезень — избы большие-большие, в два и три этажа, и все жилые, хозяйственные и другие помещения слиты в них в одно целое и располагаются под одной с избой крышей. Там бывает и по восемь комнат-горниц. Если такая изба походила на длинный прямоугольник — она называлась изба брусом. Если была по форме буквой «Г» — изба глаголь. А если квадратная с крышей с очень неравномерными окатами — изба кошелем, то есть похожая на лежащий на земле великанский кошелек. На Севере ведь холодно, зимы там зачастую такие снежные и вьюжные, что скотину и птицу не выпускают на волю по многу дней. Да и человек в сорокаградусный мороз по воле на ветру не больно-то походит. А значит, сено для коров, лошадей, овец и коз должно быть рядом, под одной с ними крышей. И зерно, мука, крупы, овощи и прочее для людей — рядом. И сани там у крыльца не оставишь — занесет снегом так, что не откопаешь. Поэтому в тамошних избах и хозяйственную часть делали двухэтажной — этот второй большущий этаж называется поветью, и на него с улицы идут специальные бревенчатые настилы — взвозы, по которым лошади поднимаются прямо с санями и телегами. Их там, на втором этаже, и разгружают, и распрягают, и держат. И телеги и сани там же хранят, и сено. А коровы, иногда и лошади и весь другой скот содержатся внизу, куда сено им сбрасывается сверху через специальные люки. В некторых таких северных избах спокойно поместилось бы по шесть-восемь современных двух- и трехкомнатных квартир. В книге И. Маковецкого «Архитектура русского народного жилища», изданной Академией наук СССР в 1962 году, есть очень любопытная карта и таблицы. На карте — северные области европейской части России, и на фоне этих областей изображены бытовавшие там основные типы народного жилища. Просто нарисованы маленькие домики и рядом их планы — нижегородские, вятские, вологодские, волховские, кондопожские, архангельские, псковские, пинежские, костромские. Всего девятнадцать домиков, девятнадцать крошечных и поразительно разных рисованных избушек. Даже и не верится, что на такой сравнительно невеликой территории они столь разные. Но старые избы там везде и поныне такие же; все, кто знает сии края, подтвердят это. Мало того, таблицы в книге И. Маковецкого называются сводными: сводная таблица четырехстенных домов, сводная таблица пятистенных, шестистенных, двухэтажных, гоголем, кошелем — всего же их, оказывается, было только в этих немногих областях более трехсот типов. Более трехсот! Вы только вдумайтесь! И какую избу ни возьми, хоть на Севере, хоть на Псковщине, где угодно, все они непременно очень нарядны. Ненарядных строений на Руси, считай, почти что и не было. Никогда не было. Арабский географ Масуди еще в десятом веке прославлял святилища славян за красоту. А епископ Титмар Марзебургский сообщает под 1020 годом про языческое славянское капище, «художественно срубленное из дерева: его наружные стены были украшены чудесными вырезанными изображениями богов и богинь». К тем же и к более поздним временам относятся и дивные резные колонны, и детали карнизов изб из археологических раскопок в Новгороде Великом. Всегда было так: неукрашенной на Руси могла стоять изба лишь каких-нибудь немощных или убогих, 23 22 Карта основных типов русского народного жилища северных областей Фронтон избы которых недоставало сил и средств, чтобы нарядить ее. Так и говорили — нарядить избу. И обратите внимание, как называли отдельные части избто. Фасад — лицом. Обрамления окон — наличниками, украшающими лицо. Доску, прикрывающую соединениепереход сруба во фронтон,— лобной доской. А сам фронтон — челом. Наряд же вокруг него — очельем. 26 Украшения углов — причелинами. То есть избу очеловечивали, считали живой. И как живую и наряжали деревянной резьбой, иногда даже сплошной, как говорится, с головы до пят. Причем в старину прорезную, сквозную резьбу не оченьто любили-жаловали, ее было совсем мало, в основном резьба была так называемая глухая — объемная, глубокая, которую делали долотами, стамесками и резцами и в которой в причудливые растительные орнаменты включались фигурки разных животных, птиц, людей. Такая резьба при разных погодах играла по-разному каждой своей формой, линией и углублением, то есть жила своей особой завораживающей жизнью, и такая изба, конечно же, казалась живой, манила, звала к себе: «Заходи, мол, мил человек! Мы гостям завсегда рады! Погляди, как у нас и внутри-то все хорошо, да ладно, да отрадно!» Русский человек всегда понимал жизнь как дарованное свыше счастье, как радость. А стало быть, и все, что он делал своими руками, по его разумению, тоже должно только радовать, помогать жить, и дома, строения, разумеется, в наипервейшую очередь. Потому-то и превращал избы в такие дива, а по существу-то — в самые настоящие произведения искусства. Да вы сами знаете, что в каждой деревне и сейчас есть избы-загляденье, которыми не перестаешь любоваться и восхищаться. А в старину их было в тысячи раз больше, и потому-то ныне спокойно берут любые из них и помещают в музеи под открытым небом и все считают их подлинными шедеврами, А ведь создавали-то их никакие не великие зодчие и декораторы, а обыкновенные мужики-землепашцы да посадские. Страна-то лесная, и почти весь жизненный обиход россиян был, конечно, деревянным: каждый малец, а уж парнишка и подавно уже учились у отцов и дедов держать в руках топоры да струги, долота да стамески и потому умели и сруб связать-поставить, и сани и телеги сладить, и дуги гнуть, и посуду точить или резать, или лапти плести, или корзины. И где лодочники были отличные, где прялочные мастера, а где и лучше других ставили избы. Да обычно не один мастер, не два — в одиночку или вдвоем такое дело не осилишь,— работали или семьями в пять-шесть человек, или артелями. Такие семьи и артели и в другие деревни и города охотно звали, а строившиеся сами, понятное дело, во всем за лучшими тянулись. 27 - 'х^у Лобные доски Шестьсот лет назад Русь хоть и была крупнейшим государством Европы, но занимала-то все равно лишь часть нынешней европейской своей части. Между тем скандинавы уже тогда называли ее Гардарикией — страной городов. И их действительно было очень много — более трехсот, в основном, конечно, маленьких, превращенных в крепости, и тоже поначалу, разумеется, деревянных. В крупнейших из них — в Киеве, во Владимире, Новгороде, Москве, да и в маленьких тоже, жили, князья, бояре, высшее духовенство, служилые люди, воеводы, купцы и заводчики, то есть все самые состоятельные, богатые, которые при строительстве своих домов, усадеб и палат могли позволить себе все что угодно. По понятиям же и вкусам они тогда еще ничем не отличались от простого народа, не преклонялись ни перед какими Западами, как это стали делать позже. И вот что рассказывается, например, в одной из великолепнейших русских былин о молодом богатом торговом госте Соловье Будимировиче. Он прибыл в Киев по Днепру на своем «червленом ко28 рабле» (красном, красивом!) увидал там княжескую племянницу Забаву Путятишну, безумно влюбился и решил покорить ее сердце. Вернулся на корабль, собрал своих работных людей, велел взять топорики булатные и привел к Забаве в сад, в «вишенье-орешенье», приказав, чтобы они построили там для нее невиданный терем. С вечера, поздным-поздно Будто дятлы в дерево пощелкивали, Работала его дружина хоробрая, К полуночи и двор поспел: Три терема златоверховаты, Да трои сени косящатые, Да трои сени решетчатые. Хорошо в теремах изукрашено: На небе солнце — в тереме солнце; На небе месяц — в тереме месяц; На небе звезды — в тереме звезды; На небе заря — в тереме заря И вся красота поднебесная... Терем — это высокий, в несколько этажей, нарядный дом с причудливым, заостренным верхом в виде шатра или крутых, или закругленных скатов, или полубочек, или полулуковок, которые назывались кокошниками (по сходству с женским головным украшением). Даже не в самых богатых, не в царских, княжеских и боярских, но и в усадьбах людей служилых, торговых, у священников и крупных ремесленников обязательно было не одно, а несколько таких строений, называемых еще хоромами, которые причудливо составлялись из разных больших и малых срубов-клетей. У некоторых были и свои домашние церковки, и, конечно же, жилые постройки для слуг, конюшни, сараи, бани, сенники, дровяники, портомойни — это прачечные, между прочим. Располагали все так, чтобы было как можно удобней всем пользоваться и не тесниться. На Руси никогда не теснились, любили жить широко и вольготно — это тоже одна из наших национальных черт. У знатных людей усадьбы встречались огромнейшие, даже в Москве — с десятками строений, с собственными большими садами, прудами, голубятнями, зверинцами. Хоромы были в два, три и четыре этажа, и самые высокие непременно теремом, да с круговой, крытой, изукрашенной галереей для гуляния и обозрения сверху родного города. Все хоромы обязательно соединялись между собой нарядными крытыми сенями-переходами, к которым пристраивались свои островерхие теремки для обозрения двора усадьбы, и парадные, тоже конечно затейливо изукрашенные крыльца со своими шатрами. Нижние помещения хором с крошечными окошками, а то и вовсе без них отводились под разные кладовые и хранилища. В очень богатых домах там же устраивали и кухни, из которых готовые блюда подавались наверх по особым шахтам с помощью особых подъемников на веревках. На втором и третьем этажах размещались жилые комнаты, по-тогдашнему покои; столовые, спальни, гостиные. У мужчин были свои половины, у женщин — свои, и на женскую половину чужой мужчина никогда не ступал. И верхние прогулочные галереи предназначались в основном для женщин и девушек. Потому что знатным и богатым девушкам без особой надобности шастать тогда по улицам считалось неприличным, зазорным. Вот они и любовались миром с нарядных верхотур, об30 суждая попутно свои дела и новости. Впрочем, их отцы и деды тоже любили покалякать на этих верхотурах и полюбоваться родным городом и открывающимися за ним далями. Все основные улицы в древних русских городах были обязательно замощены широкими дубовыми или сосновыми плахами с ровным верхом, плотно уложенными одна к другой на длинные продольные бревна-лаги. Такие мостовые в четыре-пять метров шириной исправно служили лет двадцать-двадцать пять, если не случались слишком сильные пожары и не сжигали и их. Но земли и мусора за эти годы наносилось на них телегами, экипажами, лошадьми и людьми столько, что плахи становились не видны, и тогда на эти старые мостовые клали новые лаги, в которые врубали новые плахи. И так столетие за столетием — мостовую на мостовую на всех основных улицах, площадях и во многих дворах, а уж мостки-то, то есть тротуары понынешнему, были буквально везде. Иногда и нижние этажи некоторых домов оказывались ниже новых мостовых, и тогда такие дома приходилось «поднимать» — подводить под них новые венцы. В Новгороде Великом ученые археологи, ведя раскопки, обнаружили целых двадцать восемь мостовых, лежащих друг на друге. Нижняя была сооружена более девятисот лет назад. В новгородской влажной почве дерево очень хорошо сохраняется. Этот город даже имел канализацию из деревянных труб, устроенную тогда, когда ни Лондон, ни Париж еще и знать не знали, что это такое. Крестьянское поселение, в котором была церковь, называлось на Руси селом. А деревнями назывались селения в пять, десять, двадцать, а то и тридцать-сорок дворов, где церкви и священника не было. Но зато там непременно имелись небольшие часовенки, в которых лишь иногда устраивались службы с пришлым батюшкой, но перед иконами постоянно горели лампады и свечи и каждый мог зайти и помолиться. И на перепутьях больших дорог стояли часовенки. Ну а про города и говорить нечего, в них соборы, церкви и часовни соседствовали подчас бок о бок, занимая все наиважнейшие места, и только в Москве, к примеру, их насчитывалось около четырехсот. То есть вся Русь когда-то была в бесчисленных храмах, в сияющих золотом и совсем скромных куполах и крестах. А что такое храм? 31 Это Божий дом на земле, где человек, молясь, приобщается к Богу, сливается с ним душой, высветляет и очищает ее. И любой храм, любая церковка и часовня должны вызывать в человеке эти чувства всем своим убранством, устройством, самой службой, песнопениями, колокольными звонами. И внешне любой храм, как дом Божий должен быть самым дивным и красивым строением на земле. Но ведь и сама земля русская очень красива. Что же, казалось бы, можно еще было добавить к ее красоте? Но ведь добавили наши мужики-плотники. Делали русские деревянные храмы действительно ни на что не похожими на земле. Сказочно-затейливыми их делали, необыкновенно легкими, очень островерхими, устремленными в небо и как бы связывающими землю с небом — людей с Богом. И ставили их всегда в самых выигрышных местах — на возвышениях, на холмах в центре села, или на его краю, или на высоком крутояре над излучиной реки, и церкви эти были видны порой с разных сторон за многие, многие версты и были главными точками, главными украшениями окрестных земель, сливались с ними в единое удивительное целое, подчеркивая необыкновенную красоту друг друга. И белый свет и жизнь казались от этого людям, конечно же, еще прекрасней и радостней, и они, крестясь, возносили за то хвалу Господу Богу. Но представляете, что значит сотворить такое деревянное диво! Да притом высотой подчас в десяти-двенадцатиэтажный современный дом. Да при помощи все тех же немудреных топоров, тесел и долот. Основой любой церкви и часовни был тоже бревенчатый сруб. Но только в больших церквах помимо четырехстенок, или четвериков, как их называли, помимо пятистенок и шестистенок, были еще срубы восьмигранные — восьмерики и кресчатые — крестообразные. Были маленькие круглые срубики — барабаны. Были разные прирубы-приделы. И все они ставились один на другой в самых разных сочетаниях, но чаще как бы ступеньками вверх. И непременно покрывались высокими заостренными кровлями и кровельками и переходами-перекрытиями в виде заостренных же полубочек, кокошников, на которых поднимались купола и куполки на мощных барабанах или стройных круглых шейках. И все церкви и многие колокольни и отдельные звонницы обязательно венчали высокие островерхие, чаще всего восьмигранные шатры с главным куполом, иногда и по три шатра, из коих один был всегда главный и выше других. 32 Но ведь обыкновенные четырех- или шестистенки и обыкновенные двухскатные крыши делать в тысячу раз легче, проще, чем разные причудливые заостренные кровельки, переходы, бочки и кокошники, а тем более многометровые шатры. Тут от плотников требовалось уже не просто мастерство, а великое мастерство, так как тот же шатер — это тоже сруб, но восьмигранный и из коротких жердей, постепенно сужающихся кверху. И мало того, что все причудливые конструкции должны были быть красивы и соразмерны друг другу, в них во всех ведь тоже не было ни гвоздя, даже в куполах, подобных луковицам, и они должны были стоять века. И стояли. Значит, что же: русские плотники выбирали самое сложное, что можно было делать из дерева, и очень многие из них были великими мастерами? Да, очень многие. А если бы они не были таковыми, русские деревянные церкви не были бы столь не похожи ни на что на земле, столь радостны и легки, столь разнообразны и не связывали бы так землю с небом, а людей — с Богом. И потом, долгими зимами землю нашу укрывают обильные снега, и если бы кровли и купола деревянных церквей были бы не такие заостренные и без шатров, снег ложился бы и ложился на них непомерной тяжестью, и никакие деревянные балки и кровли не выдержали бы, проломились. А так он скатывается с них и скатывается, и любые дожди также скатываются. И вот что еще интересно. На Онежском озере есть небольшой остров Кижи, всего шесть километров в длину. Земля там чуть холмистая и очень плодородная, заселился остров в незапамятные времена, там стояло несколько сел и деревень. А на одном из холмов у самой воды располагался погост — общественный центр острова, наподобие нынешнего рай-Центра, и там возвышалась главная кижская церковь — в честь Преображения Господня, Преображенская. А надо сказать, что церкви в старину являлись и общественными зданиями. Все сельские сходы и выборы проводились возле них, с церковных крылец обращались к собравшимся с речами, с них читались указы и распоряжения, делались всякие объявления, в церквах хранили общественные деньги и ценности, и частные тоже, их колокола сзывали людей в случае каких бед. Так вот, в начале восемнадцатого века кижская ПреобРаженская церковь сгорела, и на обшем сходе жители Р шили на этом же месте построить новую и стали соби33 рать на это деньги. В те времена большинство сельских, да и городских, церквей строились на общественные средства. Когда же нужную сумму собрали, на новом сходе решали, какой должна быть новая церковь: какого типа, какой высоты, похожа ли на какую другую. Когда общее желание было определено, пригласили артель, которую сочли лучшей, и объяснили мастерам, чего примерно хотят. В 1714 году новая Преображенская церковь была готова. Высотой она тридцать семь метров — это двенадцать современных этажей. И венчают ее целых двадцать два купола, двадцать один из которых совсем как живые, будто сбегаются со всех сторон вверх к главному большому куполу, подобно детям, сбегающимся к матери или отцу. Поднимаются, поднимаются! Легкие стройные, светлые! Зрелище необыкновенное, завораживающее, особенно когда приходят белые ночи. Дерево тогда становится по цвету серебристо-голубоватым, мерцает, словно дышит, и эта несравненная сказка куполов действительно кажется живой, куда-то плывущей вместе со светящимися белесо облачками и ведущей беззвучный разговор с бездонным беловатым небом и такой же бездонной беловато-голубой водой озера. Рассказывают, что мастер, возглавлявший артель, срубившую это чудо, закончив работу, подошел к Онежскому озеру, далеко закинул в него свой топор и сказал: — Рубил эту церковь мастер Нестор, не было, нет и не будет такой... Но это всего лишь легенда, и подлинного имени ее автора мы не знаем. И на самом деле, уже тысячу лет назад в Великом Новгороде стоял дубовый храм Святой Софии «о тринадцати верхах». Чуть позже в Ростове Великом была построена многоглавая «дивная великая церковь Богородицы». Собор Николы Чудотворца в Псковской волости был «о 25 углах». Да и сравнительно недалеко от Онежского озера, на вологодском Вытегорском погосте, на пятьдесят лет раньше кижского был поставлен Покровский собор аж «в двадцать четыре главы». Инструментов русские мастера использовали очень мало. Простейшим стругом выравнивали, выглаживали доски не хуже любого рубанка, теслами, долотами и стамесками выбирали, выводили какие угодно желоба, углубления и узоры, а топорами выделывали подлинные чудеса, работая зачастую только ими, причем топоры были и с изогнутыми топорищами для выравнивания бре34 вен внутри помещений, и самой разной изогнутой формы. Пилы у мастеров тоже были, но использовались в основном для продольной распиловки бревен на доски, длинные такие пилы; бревна клали на высоченные козлы, и один пильщик стоял наверху, а второй внизу — и тянули вверх — вниз, вверх — вниз обеими руками. Концы же бревен в срубы чаще всего не пилили, а обрубали топорами. Иностранцы в старину даже смеялись: вот, мол, русские не понимают, что пилой работать намного легче. А наши на это только хитро ухмылялись. Да, конечно, пилить пилой легче и быстрей, но она рвет дерево, рыхлит его, и под нашими обильными снегами и дождями такой конец быстрее отсыреет, загниет. А топором хоть и труднее, зато он как бы кует сосну, уплотняет ее — и дождь и снег ей уже нипочем и сто и двести лет. Повторим: вязали срубы-клети лишь по теплу, летом. И еще: в старину очень любили яркие цвета, и большинство строений, включая церкви, нарядно раскрашивали и расписывали разными узорами и цветами. Даже ворота и заборы раскрашивали и расписывали причудливо, а ворота еще покрывали затейливейшей резьбой, ставили на них резные веселые фигуры зверей и птиц и многие селения выглядели от этого совершенно сказочно, очень весело. Только вот беда: у дерева есть единственный, но очень прискорбный изъян — оно легко, хорошо горит. Тем более сухое, да в сушь, да при ветре. Русские деревянные города и деревни полыхали бесконечно, даже Москва выгорала не раз буквально дотла. И Кремль выгорал, одни лишь каменные черные от огня и копоти стены с башнями да остовы белокаменных соборов и дворцов оставались. Последний величайший пожар бушевал в Москве, как известно, в нашествие наполеоновских войск. Потом почти вся Москва отстраивалась заново. И поди теперь дознайся, сколько бесподобных усадеб, хором, теремов, церквей, изб, крепостей, мельниц и прочего, прочего погибло в таких пожарах. Ведь сотни же тысяч за века, может быть, и миллионы. И там наверняка были творения еще краше тех, о которых нам известно и которые сохранились до наших дней. Но что именно представляло из себя утраченное — мы теперь уже никогда не узнаем. Печально! Ибо ничего подобного русскому деревянному зодчеству нет больше нигде на свете. Академик Игорь Грабарь вообще считал, что «Россия э преимуществу страна зодчих. Чутье пропорций, по35 нимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм — словом, все архитектурные добродетели — встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа». Другие народные искусства Грабарь просто знал меньше или не знал вовсе. ОБИХО Однако изба хоть и главная, но все же лишь часть крестьянского хозяйства. К ней нужен еще скотный двор, если он не составляет с избой одно целое. Нужны сараи для телег, саней, сох, борон и прочего инвентаря, для сена, для дров. Нужно гумно, в котором сушили сжатые зерновые и молотили их, нужен амбар для хранения зерна и мельница или хотя бы ступы для его обмолота, нужен погреб для хранения овощей, нужны бочки для солений, нужна баня, кадки, корыта, телега в хозяйстве, лучше, конечно, не одна, и соха не одна, или плуг, и бороны, мотыги, грабли, лопаты, вилы, косы, серпы — Господи, как много всего было нужно в каждом хозяйстве! А которое стояло на реке — никак не обходилось без лодки, невода, бредня, вершей, мережек. А охотничье — без ружей, рогатин, тенет, капканов, садков, самострелов. И очень многое из перечисленного большинство хозяев опять же делали для себя сами, во всяком случае все, владевшие плотницким и столярным мастерством. Если же кто-то по каким-то причинам что-то не умел, не выучился делать ладно да красиво,— скажем, колеса, или бондарить, или долбить и распаривать на огне из цельных огромных бревен лодки,— то в любом крупном селе непременно имелся и такой искусник, и обращались к нему. В другие села и деревни редко-редко когда обращались, самодостаточность была полнейшая, все умели. Только на что-то уж совсем редкое умельцы встречались пореже; ставить ветряные мельницы, например. Но на округу-то все равно они были. Ветряные мельницы удивительные сооружения. Их крылья должны все время ловить ветры, которые дуют ведь с разных сторон, то есть мельницы должны легко поворачиваться им навстречу. Крылья приводят в движение размещенные внутри зубчатые деревянные колеса, 36 пторые крутят большие круглые каменные жернова, перетирающие зерно в муку. Все это устройство, все ти колеса, валы, как и жернова, очень большие, и сами мельницы очень большие, высотой в два и три десятка метров, но все равно почти все они кажутся необычайно легкими, стройными и тоже удивительно красивыми. На Руси их существовали десятки типов, как и мельниц водяных, разумеется, с плотинами и водоемами. И вся обстановка в избах, весь домашний обиход был везде всегда собственноручный и местный. Что-то привозное — крайняя редкость. Главное в горнице — большая русская печь. На севере, где горниц по две и по три, и печей, стало быть, две или три. Возле печи у задней стены закреплена намертво широкая лавка, на которой спали. Ближе к потолку на стенах — полати, на которых тоже спали. И родительская деревянная кровать у свободной стены. Ближе к окнам — обеденный стол. Сундуки и сундучки, в которых хранились одежда и девичьи наряды и украшения. Посудный шкаф, называвшийся горкой. Скамьи, стулья и табуреты. Близ кровати в потолке металлическое кольцо: через него продевали гибкий шест и на его конце вешали детскую зыбку — потянул ее, отпустил, и она долго, долго раскачивалась на шесте. Перед печкой, в так называемом бабьем куту, то есть на кухне, отгороженной от остальной избы дощатой переборкой или просто занавеской,— кухонный стол, полки с чугунной, глиняной и стеклянной посудой, ведра, лохань, сковородки, противни, ухваты, черпаки и прочее, прочее, без чего ничего не сваришь, не поджаришь, не испечешь. В переднем углу — божница с иконами и лампадами, убранная расшитыми полотенцами и нарядными цветами из крашеной стружки. У большинства крестьян редко была какая-то еще мебель — у всех практически одно и то же. И все-таки почти у всех все это было опять же разное, хоть чуточку, но разное и, так же как изба снаружи, непременно нарядное, красивое. Лавки у стен в легком резном узоре. Ножки у стола фигурные, точеные, он с выдвижными ящиками, и они тоже в затейливой резьбе. Младенческая зыбка вся сквозная, вся из замысловатых точеных колонок, разноцветно раскрашенных. Бывали зыбки сплошь дощатые и берестяные, но тогда их нарядно расписывали цветами, фигурками птиц и животных. 37 И посудные шкафы-горки расписывали цветами и фигурами, а то и целыми картинами. А в городе Городце, что на Волге, есть посудный шкаф, на котором большие картины вырезаны из дерева; они выпуклые, горельефные, раскрашенные, а местами и вызолоченные. Рассказывают эти картины о знаменитых битвах россиян со своими врагами, и в них есть конники, пешие, убитые, деревья, пушки, терема, плачущие по погибшим воинам матери и жены. На углах же этой горки одна над другой вырезаны фигурки древнерусских князейпобедителей. Десятки фигурок, и все тоже дивно раскрашены и раззолочены. Сотворил чудо-шкаф городецкий крестьянин резчик по фамилии Токарев-Казарин. Зимами во многих горницах устанавливали и разборные ткацкие станы, чаще всего тоже затейливо украшенные резьбой. И уж буквально в каждой избе были прялки, да не по одной, а по нескольку. Днями, когда на них не работали, цельные прялки-копылы стояли на лавках и скамьях, а разъемные прялки, вернее, их лопатки висели на штырях и на гвоздях на стенах наподобие картин и были лучшим украшением любой избы. Зимой у нас в великие снега да морозы от крыльца до колодца и до проезжей дороги чуть ли не каждый день приходится прокапывать или протаптывать глубокие тропыканавы. По ним да в лютый мороз не больно-то погуляешь. Да и не успеет день в декабре или январе высветлиться, как снова наползает сутемень, сумерки, тьма. Так что все предпочитают сидеть дома, в тепле и часа в четыре пополудни уже вынуждены зажигать свет. Лет сто с небольшим назад в деревнях в основном зажигали еще лучины — длинные ровные щепочки. Брали сосновое, еловое или какое другое полешко, парили в горячей печи, потом ножом отщипывали от него во всю длину тонкие щепки. От распаренного отщипывается лучше. Целые пучки заготавливали. Сушили. Вставляли эти лучины по две, по три в светцы — высокие, точеные и разукрашенные подставки с расщелинками наверху или в похожие на них кованые из железа — и зажигали. Внизу у светцов были маленькие долбленые корытца с водой. Лучина сгорала, и ее огненные угольки падали в эту воду и с тихим шипением гасли. На их место тут же вставляли новые лучины. Свет получался довольно яркий. Пых-пых!.. Пых-пых!.. 38 Женщины и девушки в такие долгие зимние вечера собирались вместе. Соседские придут, а то и дальние оДрути и родня. И каждая со своей прялкой. Чаще всего прялки состояли из двух частей: донца и гребня или лопатки. Донце — это недлинная, но и не очень короткая дощечка со специальной головкой на концефигурным возвышением с прямоугольной дырой. Донце клалось на лавку, девушка или женщина садилась на него, а в дыру головки вставляла или большой частый деревянный гребень на высокой ножке, или лопатку — дощечку, действительно похожую на удлиненную лопатку с прорезями или зубчиками поверху. На них, на гребне или лопатке укреплялся большой ком мягчайшей золотистой кудели — по-особому обработанных стеблей льна. Были прялки и несоставные, вытесанные целиком из кривых деревьев, из их комлей, назывались копылы. Полумеханические прялки с колесами, приводимыми в движение ножной педалью, появились у нас лишь на рубеже двадцатого века, и то не везде. Из кудели пряли нитки. Одной рукой вытягивали из нее пуховинки и волокна и скручивали, свивали их, а в другой держали на весу фигурную круглую палочку — веретено, на которую наматывали только что скрученную нитку. Работа сложная, медленная, невеселая, на долгие-долгие часы. И если прясть в одиночку, можно и затосковать, уснуть. Поэтому и сходились вместе. Это называлось посиделки. Ниток ведь надо было очень много. Из них потом ткали холсты на домашних ткацких станах, а из холстов шили все легкие одежды. Вот и пряли каждый вечер всю зиму напролет все от мала до велика — от девчушек до старух, развлекая себя чем только можно, в основном-то, конечно, песнями. В низенькой светелке Огонек горит, Молодая пряха У окна сидит... Я по садику, по садику гуляла, Я с комариком, с комариком плясала,— Мне комар ножку, комар ножку отдавил, Все суставочки, суставочки переломил... Прялка считалась лучшим подарком для девочки, для девушки, для женщины. Их меняли в течение жизни не39 сколько раз. Отец делал маленькие прялочки для дочерей, когда они только начинали учиться прясть. Парни делали прялки для возлюбленных. Если подарил ее какой девушке и она приняла подарок, это означало, что у них любовь, и все смотрели уже, насколько та прялка хороша: чем красивей, чем затейливей — тем, стало быть, любовь сильней. А молодой муж, а то и немолодой, делал жене новую прялку. Тоже показывал, как он к ней относится. Так что старались мужчины в этой работе, как ни в какой другой. Всю душу, всю свою фантазию в прялки вкладывали. А девчушки, девушки и женщины, как только получали такой подарок, так сразу же шли с ним на посиделки и хвастались. И все там их разглядывали, обсуждали. Поэтому прялки тоже были везде разные, даже очень разные, и кое-где настолько затейливые, нарядные и красивые, что за ними охотились и из других мест, и мужики стали делать их на продажу, привозить на большие базары и ярмарки. Делали, разумеется, тоже зимами в маленьких бревенчатых работнях, которые в коренной России тоже были почти у каждого мужика. С Вологодчины на базары привозили прялки с широченной, самой похожей на большую лопату лопастью, только сплошь покрытую затейливой резьбой, очень часто ярко, пестро раскрашенной. И с Северной Двины прялки шли по форме такие же, но без резьбы, с дивной, тонкой, преимущественно пурпурнокрасной росписью разными узорами, в которые обязательно вставлялись картинки праздничных чаепитий, катаний на санях, райских птиц. Из ярославских краев прялки были в виде высоких стройных башенок-шпилей со сквозными прорезями со всех четырех сторон. Прямо как окошки подлинных башенокшпилей в двадцать пять-тридцать этажей с маленьким изящным орнаментированным навершием — на них и крепили кудель. А с Волги из Гордца продавали даже инкрустированные прялки, вернее, донца с головками, на которых сидели и в которые вставляли гребни. Делали их так: вылавливали в реке Узоле дубовые топляки, пролежавшие в воде десятки лет, отчего они становились черными и прочными, как железо,— то есть черный мореный дуб, сушили его, кололи на тонкие пластины и из них вырезали почти прямоугольное туловище коня с сильной, горделиво изогнутой шеей и маленькой чуткой головой, под этот силуэт выбирали на чистом осиновом донце Лопасть прялки 40 41 Инкрустированное донце Ковш углубление и сажали его туда. Клеем не пользовались, сверлили насквозь через дуб и осину отверстия и загоняли шпоны, тоже черного дерева. И не абы где загоняли, а на месте глаз, там, где сбруя пересекается, там, где хвост вяжется, где копыта. И получалось, что и резьбы-то еще никакой нет, и ног у коня нет, и гривы, и хвоста, а он все равно уже бляшками на сбруе блестит и глаз его выпуклый горит. Потом мастер лихими овальными порезами соединял шпонки-копытца с туловищем — делал ноги, от последней шпонки изгибал на доске пружинистый хвост, по шее пускал летяще штришки — гриву, и, смотришь, как будто срослись осина и черный дуб, как будто всегда были одним целым — изображением неудержимого поэтичного коня. И то, что он снизу чуточку выступает, кажется тоже естественным, словно это нарост. Кстати, эти выступы — единственные на городецких донцах, а так они плоские и резьба на них не объемная, а глубокая, штриховая, и вся светотеневая игра на донце создается только ею. Инкрустировались также и всадники на конях, и кареты и повозки, если конь был запряжен. Но все делалось тоже предельно условно, с поразительным композиционным и графическим чутьем. Экспрессия, чувство линии и движения в этой резьбе такие виртуозные, что все донца воспринимаются как нечто классическое, равное этрусским вазам или гравюрам японцев. Круг сюжетов, разрабатываемых в них, невелик. Два коня у дерева со сказочной жар-птицей на макушке. Эта сцена пришла из языческих времен, из языческой мифологии. Она встречается в иконах, в народных вышивках, в древнем литье и изображает, по определению академика Б. Рыбакова, Великую богиню, богиню Земли, превратившуюся в дерево, и «предстоящих перед ней жрецов с дарами». Но городецкие мастера, наверное, не знали, что это древняя богиня, и сделали сцену сугубо бытовой: всадники у них или с саблями, или курят длинные барские трубки, или размахивают плетками. Попадаются на конях и амазонки, а внизу почти всегда прыгают собачки. Есть лихие выезды в каретах и легких открытых колясках. Есть война: наверху, над лесами и конниками, на горячем коне летит генерал в треуголке, а пониже идет в атаку шеренга солдат, предводительствуемая офицером. Встречаются сцены гуляний, бесед, охоты и укрощения дикого коня, которую вырезал, как он сам написал, мастер Лазарь Мельников из деревни Охлебаихи. Зимами, когда не было полевых работ, крестьяне все чемнибудь промышляли, прирабатывали. Без дела сидели только лентяи. Где-то делали на продажу сани, где-то дуги, где-то бочки. Где-то плели из ивовых прутьев, из лыка и бересты корзины, короба, лапти. Где-то гнали деготь, жали конопляное и льняное масло. Во многих местах резали деревянные ложки, черпаки, ковши. Огромные красавцы ковши в виде плывущих лебедей и ладей с конскими головами вырабатывались под Тверью, под городами Вышний Волочек и Калязин. Эти ковши выдалбливали, затем выбирали теслами и выравнивали скобелями из целых могучих корневищ или из капа — наростов на деревьях, и потому они назывались коренными или каповыми. Такие ковши предназначались Для больших мирских пиров, для пиров княжеских и боярских, их было принято дарить в праздники царям и Царицам, а также именитым иностранцам, ибо красотой они отличались необыкновенной; сам рисунок, текстура Дерева подбирались в них необыкновенные, причудли- 42 43 Ковш вейшие, какие бывают только в корневищах и капах; и плюс к тому они хитро, по-особому полировались — сияли. Любое дерево ведь само по себе всегда очень красиво по текстуре — по рисунку. Русские мастера разбирались в этом бесподобно, всегда и все использовали, дерево у них всегда везде живое, чарующее. Большие точеные блюда и чаши шли с Северной Двины. Иногда на них встречаются такие вот надписи резные по бортикам или на дне: «Сия чаша немалая русского дерева работы деревенских людей. Просим кушать деревенского кваску с перишком за благодарностью». Дивные солоницы с крышками в виде утиц и креслиц резали в Подмосковье, на Волге... В общем, все, буквально все, сотворенное крестьянскими руками, было всегда очень разным, красивым, приятным, радостным и одновременно всегда удивительно умно, практично и удобно придуманным. ОДЕЖДА Человек даже в тропиках во что-нибудь да одет. Все люди на земле в большей или меньшей степени одеты, и мы прежде всего и воспринимаем каждого по его одежде — лицо-то видим потом,— а образ каждого изначальный создается именно одеждой, которая на нем и которая, стало быть, ему нравится, ибо людей, облачающихся во что ни попадя, очень мало, они исключение, патология. То есть одежда — основной показатель вкусов человека, его культуры. И целого народа, разумеется, тоже. А какова была одежда древних россиян, хорошо известно по фильмам, по книгам. Сообразная нашему климату была одежда и очень красивая, очень яркая, много44 Крестьянин в тулупе цветная, чисто черное встречалось крайне редко. И покрой как у бедных, так и у богатых был очень долгое время совершенно одинаковый, разнились лишь материалы и украшения. Мужчины на исподнее надевали порты и рубахи до колен с косым, чаще всего стоячим воротом, застегивавшимся на левом плече. Обязательно подпоясывались легким пояском. У простонародья рубахи были холщевые, а штаны из пестряди, то есть цветные, с набивным рисунком. Поверх них — узкий кафтан, позже называвшийся в народе зипуном, потому что первоначально кафтаны шились с козырями — высокими стоячими воротниками (отсюда — ходить козырем), но крестьяне убрали эти козыри, превратив кафтан-зипун в повседневную рабочую одежду, которую шили из домотканого сукна: 45 белого, серого, смурого, но никогда опять же нечерного. В некоторых местах зипуны назывались сермягой, азямами, чепанами. Зимой одевались в овчинные полушубки и тулупы. На головах — войлочные, пуховые и меховые шапки. На ногах — постолы (легкая обувь из цельного мягкого куска кожи с плетеным верхом), лыковые лапти, сапоги и зимой, конечно, валенки. Люди посостоятельней поверх кафтанов или вместо них носили дома ферязи — длинную, почти до лодыжек одежду без перехватов и без воротника, с длинными суживающимися рукавами и с множеством пуговиц или завязок спереди сверху донизу. Ферези шились из добротных тканей, холодные, на подкладках и даже на меху. Но на волю в них не выходили, для этого были опашни, однорядки и охабни. Опашень — наряд из более плотной и дорогой ткани, суженный в талии, длиною тоже до пят или пониже колена, непременно с широкими рукавами, суживающийся к запястьям. Однорядка — попроще опашня по ткани, без воротника, тоже до пят, со свободным рукавом. Охабень же хоть и похож по покрою на однорядку, но обязательно с черырехугольным откидным воротником, часто и с откидными рукавами — под ними для высовывания рук делались особые прорези. Изготавливались охабни из атласа, парчи, бархата или объяри — шелка с вплетенными в него нитками настоящего золота и серебра. Очень дорогая была одежда и в крестьянских домах вряд ли встречалась, но у торговых гостей, судя по былинам, сказаниям и сказкам, довольно часто. И даже у мастеровых, у приказных, у иконописцев. Все же остальные наряды как праздничные имелись очень у многих в простом народе — тому есть свидетельства. И шубы в народе были зимой в большом ходу. Победнее, разумеется, чем у знати и богатеев, но были. И епанчи — суконные накидки-плащи, иногда с капюшонами для весенне-осенних непогод и холодов. У женщин же основой всех одежд служил сарафан, надевавшийся поверх исподнего и верхней рубахи, получившей позже название блузки. Рукавов сарафаны не имели, но имели проймы для рук и пояса. По покрою были однорядные, двурядные, закрытые, открытые, круглые, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом. По тканям: холщевики, дубленники, крашенинники, пестряденники, кумачни-ки, ситцевики, стамедники, суконники, а у богатых ат- Женский костюм. Орловская губерния ласные, шелковые, парчовые, золототканые. Цветность опять же необозримая и яркая, не было только черных, но предпочтение отдавалось красному и синему; синие вплоть до кубовой пронзительности назывались синяками и были особенно распространены на севере. Вышивок, нашивок и других украшений на самих сарафанах делали мало, а вот верхние рубахи, особенно их то широкие, то узкие рукава, стоячие и отложные воротники и грудь расшивались всегда богатейте, и в разных местах тоже, конечно, по разному — где строчкой, где гладью, где тамбуром. Главное, к чему стремились: чтоб не только в каждом селе был свой узор, своя цветность, колорит и манера, но чтобы вышивка и каждой отдельной женщины и девушки отличалась от соседкиной, от сестриной, от ближайшей подруги. И непременно бы радовала, удивляла, 47 46 Женский костюм. Воронежская губерния украшала бы жизнь и саму хозяйку наряда. Это был общий главный принцип русского народного костюма — радовать, украшать себя и жизнь. Девушка выходила замуж и надевала поневу — бабью шерстяную юбку. Девушки их не носили, разве только уже просватанная решалась надеть. Поневы были очень нарядны: красные да синие, в крупную клетку или полосатые да с нашитыми понизу рядами кружев или тамбурных (рельефных) затейливых вышивок. Из верхних же одежд носили летники, опашни с прорезями для рук и замысловатыми откидными рукавами. И повсеместно все без исключения — телогреи и душегреи, которые ничего общего с нынешними рабочими телогрейками, конечно, не имеют. Они напоминали современные женские пиджачки и жакеты, только очень 48 Северная деревня Крыльцо избы Преображенская церковь. Кижи Главы Преображенской церкви. Кижи В избе Плетения Ткацкий стан Резной шкаф. Городец. XIX век. Прялки. Вологодская губерния. XIX век Росписная прялка. Архангельская губерния. Начало XIX века Костюм женский праздничный. XIX век Праздничная одежда. Нижегородская губерния. Начало XIXвека Кокошник. Нижегородская губерния. XVIII век Девичий головной убор. XVIII век Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке. Начало XIX века Девушка в праздничном костюме центральных губерний И. Бшшбж. Иллюстрация к сказке «Перышко Финиста — Ясна Сокола» разные — коротенькие, длинные, узкие, широкие, приталенные, гладкие, простеганные, подбитые мехом, и красивей, богаче телогрей и душегрей наряда у женщин, пожалуй, и не было. Разве только епанечки, которые существовали, однако, не везде: короткая на лямках одежка, собранная сзади и по бокам складками, из богатейшей, сплошь разузоренной, расшитой ткани. И уж совсем диво дивное — русские женские головные уборы, которые в разных местах тоже, конечно, были разные и украшались не только шитьем, в том числе золотом и серебром, но и драгоценными каменьями: кики, кокошники, сороки, убрусы, подзатыльники, сборники, платки. Это все и по форме было очень разным, и каждый головной убор имел свое строгое предназначение: для девушек, для замужних женщин, для 49 вдов. Их смены обставлялись многозначительными торжественными обрядами. На Руси все крестьянские девочки лет с десяти-двенадцати начинали готовить себе приданое. Их учили шить, плести кружева, вышивать нитками простыми, шелковыми и золотными, низать бисер и жемчуга. Любое сеймейство из последних сил выбивалось, но к сроку, к выданью у каждой девицы был сундук, а чаще два и три добрейшего приданого, о чем свидетельствуют почти все сохранившиеся крестьянские сговорные грамоты меж обрученными, в коих обозначалось, что отец с матерью дают за дочерью. И нарядов там тьма, и белья, и шубы лисьи да беличьи, и сапожек несколько пар, и иконы богатые, и драгоценности есть, да много, много чего, в том числе и чисто хозяйственного, недвижимости, скотины. А в первый же праздник вошедшая в возраст девица обязательно показывала всем, что именно она наготовила, и мы можем себе представить, как это происходило. Сундуки распахнуты, и девица с помощью матери, сестер или товарок наряжается. Надела кремовую рубаху и цветастый сарафан: розовые цветы по синему шелку. А поверх него парчовую золотую безрукавочку, кои в некоторых местах так и зовутся — безрукавками, в других — коротенами, в третьих — душегреями. На голову же водрузила шапочку из золотой парчи с высоким округлым стоячим щитком впереди, богато расшитым цветным бисером и жемчугом. Узорные нитки жемчуга свисают с этого убора и на ее лоб, и уши. Такие головные уборы назывались кокошниками, и молодые незамужние девушки носили их обязательно. А волосы их обязательно заплетались в одну косу, и от кокошника сзади на нее спадали разноцветные ленты. Когда же девушка выходила замуж, ее волосы переплетались в две косы, и с этого момента она носила другой головной убор — кику, кичку,— маленькую шапочку со вздернутым передком, наподобие пилотки, тоже богато расшитую бисером, золотом, жемчугом. Но вот к наряжающейся пришла подруга. Она в яркокрасном сарафане и голубоватой рубашке. Коротена ее в лиловатых узорах по серебряному фону. В кокошнике в центре горящий темно-вишневый камень. Надели девушки на шеи и по нескольку ниток цветных бус — янтарные, коралловые, жемчужные. На плечи накинули яркие цветастые платки. И теперь вот поворачиваются, оглядывают себя в зеркале на стене — такие красавицы, что ни в сказке ска50 ни пером описать. Чистые царевни-лебеди, как у Душкина: А сама-то величава, Выступает словно пава. Павами и поплыли на улицу, где нынче редкостный здник — Метищо — смотрины всех здешних девиц на ыданье. Со всей округи съехались парни с родителями и без оных выбиратьсебе невест. Девицы будут долго ходить шеренгами по деревне и петь, а собравшиеся разглядывать их, потом будут общие хороводы, пляски, песни, знакомства, угощения. ПОВЕРЬЯ, ПРЕДАНИЯ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ Когда кто обзаводился новой избой, но ставил ее не сам, а нанимал мастеров-домовиков, при сговоре обязательно выставлял им первое угощение — заручное. Заручались, что все будет сделано, как желает хозяин. Второе угощение выставлялось плотникам, когда те выкладывали первый основной ряд сруба из самых толстых бревен — венец. Где имелись лиственницы, это делалось из них: лиственница от влаги не гниет и с годами становится только прочней, как железо становится. По углам венец опирался или на большие камни, или на могучие дубовые пни, покрытые для удержания влаги снизу берестой. Третье угощение-празднество было, когда на выведенный до верха сруб, на последний его венец поднимали и укладывали поперек со стены на стену матицу — мощную балку, к коей крепится потолок. Как только она ложилась намертво, к ней привязывали в середине лыком овчинную шубу, хозяин ставил в переднем углу зеленую ветку березы и икону, зажигал перед ней свечку. Затем на верхний венец взбирался самый ловкий и легкий из плотников и обходил его весь, рассевая по сторонам хлебные зерна и хмель. Хозяева же в это время молились в свежем срубе перед иконой. Наконец плотник-севец вступал на матицу и обрубал поданным ему топором лыко, державшее овчинную шубу, которую внизу подхватывали все присутствующие. И вынимали Из ее карманов заранее положенные туда хлеб, соль, кусок жареного мяса, кочанчик капусты и в стеклянной посудине вино. Все это торжественно выпивалось и съедалось, и добавлялись другие щедрые угощения, чтобы 51 в новом доме, значит, в будущем всегда было тепло, как тепла овечья шуба и всегда было обилие съестного, и все были всегда цветущие и здоровые, как зеленая ветка березы в углу, а икона — чтобы с ними всегда был Бог. В четвертый раз мастерам устраивали угощение, когда они на кровлю совсем готового дома водружали деревянного конька, то есть завершали стройку. В язычестве солнце считали главным божеством, приносящим тепло, дававшим всему жизнь, и люди полагали, что по небу солнце ездит на конях или на коне, а иногда и принимает его облик. И верили, что, если нарисовать или вырезать солнечный круг из дерева или нарисовать, вышить или вырезать из дерева коня и поместить его на самую макушку дома,— над ним всегда будет солнце. У этого коня-божества было даже собственное имя — Вязима. С тех давних пор деревянных коньков и помещают на гребне кровель, и само это место впереди гребня называется конек. А в глубочайшей древности и настоящие конские черепа укрепляли на крышах. И была поговорка: «В кобылью голову счастье». Итак, под конька — четвертое угощение. Не удивляйтесь, что плотников за время работы столько раз угощали. Их вообще всячески привечали и обхаживали, стараясь ничем не задеть, не рассердить и, не дай Бог, обидеть. Потому что, если рассердить, разозлить настоящего плотника-домовика, он мог в любой из пазов самого отличного сруба сунуть всего-навсего маленькую щепочку, и такой дом уже плохо бы держал зимой тепло. Или мог на кровле изнутри так прибить доски об решетку, что в непогоду на чердаке кто-то как-буд-то начинал страшно завывать, или стонать, или ухать. Плотники много напридумывали подобных отместок за недоброту. Прежде же чем войти в новую избу жить, хозяева непременно пускали впереди себя кошку: считалось, что кошки имеют какую-то особую связь с домовыми и те даже принимают иногда их облик, и надо было, чтобы домовой первым вошел в дом, ознакомился с ним и почувствовал, как его тут чтут и понимают, что именно он в сем доме будет хозяин истинный. Помните, на Ефрема Сирина-то, сверчкового заступника, 25 января домовым устраивали даже целый праздник, выставляли в подпечье угощения. Так что кошек в каждом доме держали не только для борьбы с мышами и крысами, но и для поддерживания связей с ним, с хозяином. 52 кошка, перебежавшая дорогу, особенно черная, как вы знаете, предвещала неудачу, несчастье (кошками ведь и ведьмы любили оборачиваться!), и многие сразу поворачивали назад или обходили опасное место стороной Миллионы и миллионы и по сей день поступают так же. И заяц, перебежавший путнику дорогу, предвещал тоже самое. Известно, что даже Пушкин, поспешавший в декабре двадцать пятого из Михайловского в Петербург к декабристам, поворотил из-за зайца назад. И баба с пустыми ведрами на пути — к беде. А встретившиеся по дороге похороны, гроб с покойником— будто бы совсем наоборот: к какой-то удаче, радости. Поверья существовали и существуют поныне чуть ли не на все случаи и события жизни. И большинство из них пришло, несомненно, из самых седых, дохристианских времен, когда злые и добрые силы и духи правили миром безраздельно, и от злых существовали специальные обереги, заклинания, заговоры, и каждый должен был знать их и знал, чтобы защищаться и спасаться. Церковь крестившейся Руси с первых же дней своего существования, разумеется, повела борьбу с этими языческими поверьями, но преуспела в сем мало, можно сказать, что совсем не преуспела, лишь увязала некоторые с некоторыми святыми и священными датами. Очень любили, например, на Руси гадания; гадали поразному и на разное в любое время. Церковь же не возражала лишь против гаданий на Святки, и особенно накануне Крещения, подчеркивая тем самым, будто бы предсказываемое в такие большие дни предопределено и свыше и не может не сбыться. Вечера между Новым годом и Крещением назывались страшными вечерами, и больше всех в это время усердствовали девушки, нередко гадали ночи напролет. Ходили слушать за деревню на перекресток дорог: в какой стороне залает собака — туда и замуж идти. Подслушивали под чужими окнами: если внутри шумят, ругаются — в плохой дом выйдешь, если смеются — в хороший, веселый. Повсеместно выходили полоть снег: собирали его в полу шубы или полушубка, потом пригоршнями перебрасывали через левое плечо, приговаривая, припевая: «Полю, полю белый снег, полю, приговариваю: взлай, взлай собачка на чужой стороне, у свекра на дворе, у свекрови на печном столбе, у ладушки на кроватушке. Миленький, ау-ууу!» А 53 Самым распространенным было гадание с петухом. Девушки раскладывали на полу щепотку крупы, кусок хлеба, ножницы, золу, уголь, монеты, ставили зеркало и миску с водой. Вносили и пускали петуха. Смотрели, что он клюнет в первую очередь: крупу — к богатству, хлеб — к урожаю, ножницы — суженый будет портной, золу — заядлый курильщик, уголь — к вечному девичеству, монеты — к деньгам, клюнет зеркало — муж будет щеголем, начнет пить воду — быть мужу пьяницей. Кое-где выдергивали из стогов колосья: окажется с зерном — быть замужем за богатым. Костромские девки клали матерям под матрасы сковороды, а под кровати сковородники — печь блины и кормить ими жениха. Самым страшным было гадание ночью в пустой бане, где на лавке или на полке ставилось зеркало, по бокам него зажигались по свече, девица (женщины это тоже проделывали) садилась напротив и в полном одиночестве глядела в это зеркало. На воле мороз, нередко воет вьюга, скребется жестким снегом в стены, толкается в замкнутую изнутри дверь, в бане, конечно, не топлено, промозгло, зябко, по углам вязкая темь, язычки свечей от каждого движения тревожно трепещут, готовые вот-вот погаснуть, и потому гадающая старается вообще не шевелиться; глядит и глядит до боли в глазах в сумрачное зеркало, коченея от холода и страха — страшных шорохов и воя за стенами, и напряженно давящей тишины внутри,— глядит и глядит, пока кроме собственного отражения и банной мглы не увидит еще что-то или кого-то, что подскажет, обозначит ее дальнейшую судьбу. Иногда на это уходили часы, ни жива, ни мертва обратно возвращалась, а то за гадавшими даже ходили, приводили окоченевших и онемевших от ужаса. Всякое ведь виделось. Потому что в предкрещенские вечера нечистая сила особенно усердствовала, стараясь заполучить в свои поганые лапы еще хоть одну христианскую душу. Потому народ и назвал эти последние святочные вечера страшными. Правда, и без озорства и хулиганства парней они не обходились: то поленницу повалят, то дверь снаружи чем ни то подопрут или ворота завалят, или на крышу потихоньку залезут и трубу заткнут тряпьем, и дым повалит в избу. Но и нечистые, мохнатые с копытцами ведь точно так же проказничали... А с двадцать третьего на двадцать четвертое июня праздновался Иван Купала, или Иван Травник, как называли его кое-где. Хотя вообще-то на Руси указом царя 54 ексея Михайловича он был запрещен еще в семнадцатом веке, но все равно во многих местах праздновался,том и сейчас не забыт, например, на Волге. У растений в эти дни кончается буйный рост, они накапливают свои лучшие соки, начинают созревать злаки, а нечистая сила будто бы именно тут и пытается нанести им наибольший вред, погубить уже наметившийся урожай. И, чтобы отогнать нечистую силу, люди зажигали в Иванову ночь костры, ибо огонь для злых духов самое страшное — полная погибель. На лучших видных местах зажигали, и никто в эту ночь не спал, даже грудных младенцев с собой приносили. Березы вокруг украшали цветными лентами. Проводили между кострами скотину, сами прыгали через огонь, чтобы очиститься отогнать всякую погань, спалить ее. Потом водили хороводы, пели, плясали, устраивали разные игры, догонялки: Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо — Птички летят, Колокольчики звенят: Диги-дон, дигидон, Убегай скорее вон... Девушки пускали по воде венки: гадали — к какому месту приплывет, оттуда суженый будет. Многие парились в эту ночь в банях только что связанными свежими вениками — такая парилка, говорят, самая что ни на есть здоровая. И полезные лечебные травы все собирали именно на Купалу, уходили за ними в луга, в леса. А у кого сердце было беспокойное и непугливое, и вовсе забирались в самые глухие лесные чащобы и овраги. Искали таинственный цветок папоротника, который, как известно, цветет только в эту единственную ночь, даже не в ночь, а всего лишь в какой-то час, отделяющий одну зарю от другой. И главное, что из многих, многих тысяч папоротников цветет всего лишь один. Причем тот, до которого добраться труднее всего, i лежка зверя может рядом оказаться — волчья или медвежья. И чапыжник вокруг непролазный — за рубаху Цепляется, лицо в кровь дерет. А в вышине, над головой, На скрипучих черных деревьях кто-то вдруг жутко хохочет, и потом страшный скрежет по ветвям и ледяное от туда дуновение. И кто-то вроде сзади грузно подкра55 дывается, тяжело пыхает. А если оглянешься — вмиг тихо станет, и все деревья в сизой мгле застынут черными чудовищами. Потом в другой стороне ухнет и засвистит длинно и кошмарно, так, что дух займется. И кто-то вцепится сзади в рубаху намертво. Или в ногу, или в волосы. Вот тут уж надо про все забыть и рвануться из последних сил. И помнить только, что следует все время вверх глядеть. Как небо там деревьями совсем закроется, без единого просвета, как почувствуешь под ногами мягкую сырость и почудится тебе, что ты в страшную черную яму провалился,— тогда глаза вниз и смотри вблизи вокруг напряженно и долго — может, и увидишь тот цветок. Красоты он будто бы необыкновенной: совсем простой, но лучше всех цветов на свете — переливается разными цветами и живет прямо на глазах. Живет так, что человек потом никогда этого забыть не может. И рассказать об этом не может. При его появлении все вокруг будто бы вмиг немеет, свист и уханье исчезают, и все деревья и травы замирают, как зачарованные, не шелохнутся. И ночь заметно светлеет, словно сумрак прогоняется трепетанием этого живого цветка. И человек не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Это-то и есть самое страшное. Потому что цветок папоротника — это ведь цветок счастья. И весь секрет в том, чтобы опять пересилить себя, оторвать от земли окаменевшие ноги, протянуть вперед окаменевшие руки и коснуться заветного цветка. Если коснуться, а лучше даже сорвать, то он повлечет тебя куда-то поблизости и остановится там, где тебе следует немедленно начать копать принесенной с собой лопатой. Копать без устали, не разгибаясь и ни в коем случае не оглядываясь, не обращая внимания на то, что опять поднимутся жуткий шум, свист, хохот и тяжелый топот, которые с каждой минутой будут нарастать и приближаться. Потому что если оглянешься, то увидишь в деревьях огромных неведомых чудовищ, а под ними огромных огненных коней с огромными страшными всадниками в седлах. Они будут кружить по краю оврага или низины, будут глазеть на тебя выпученными огненными глазищами и спрашивать друг друга гулкими пещерными голосами: — Кто это?! Кто?! Кто?! Те всадники — злые духи земли, хранители ее кладов. Иванова ночь — единственная ночь в году, когда сундуки с этими кладами выходят из сырых недр на просушку; там, где они выходят, и распускается цветок 56 поротника. А всадники сторожат сундуки. И спасение лшь в том, чтобы не отвечать им, а все время копать. Яаясе когда кони окажутся рядом и обдадут лицо твое воим лютым жаром, а уши запечатает грохот копыт, •рели же сундук к тому времени уже отрыт и золото и драгоценности из него уже у тебя в руках, надо кинуть на землю белую простыню, тоже, разумеется, принесенную с собой, и лечь на нее. Всадники мигом окружат простыню и будут говорить такие слова: _ Кто это лежит, труп? — Давай тогда в гроб класть. .— А он длинный, не поместится. .— Давайте тогда ноги обрубим... Кони своими огромными копытами огненными будут возле самых твоих ребер переступать, опалят их жаром, но ты все равно молчи и не двигайся. Это они так, пугают. И что другое страшное говорить станут — тоже молчи. Следи только: как отдаляться начнут, тогда вскакивай — и прочь от того места. Как можно быстрее прочь! И ни в коем случае не поминай Бога и не крестись. Разом все исчезнет, как будто ничего и не было. И никакого богатства в карманах и за пазухой не окажется. Да, видно, уж больно сильный страх человек терпит: никого еще не было, чтоб не перекрестился и чтоб все не пропало. Некоторые вроде бы и цветок видели, и богатства в руках держали, а вот до дома его никто не донес. Никто!.. Врачей, как известно, в древности заменяли знахари, ворожеи, повитухи, ведуны, нередко и колдуны, чародеи. Место в тогдашней жизни они занимали огромнейшее, в каждом селении были такие умельцы. Только колдуны и чародеи встречались, конечно, намного реже, потому что, по всеобщему убеждению, они продавали свои души и знались с чертями,— а кто станет делать это в открытую, они действовали в основном скрытно, и заполучить их помощь было очень непросто, лишь через знакомства да по доверию. Знахари же, повитухи, ворожеи и ведуны сами чертей боялись как огня, и черти и* за их знания сильно не любили, старались всячески навредить, как всякому другому крещеному человеку. Знахари и ведуны потому так и звались, что знали, какими чудодейственными лекарственными травами или чем другим какую болезнь лечить. И как эта травы или другое обрабатывать, приготавливать, с чем мешать, на чем настаивать, как именно употреблять. Мно57 roe знали-ведали, побольше, наверное, некоторых нынешних однобоких медиков-профессоров-то. Зубы у человека болели — давали ему жевать девисил или кололи начетверо рябиновый сук, шептали над ним молитву святому Антонию и клали на больные зубы на продолжительное время. Очень помогало. От легкого кашля кормили печеным луком. Болела голова — обкладывали ее глиной или листьями кислой капусты, обвязывали и велели читать молитву Иоанну Предтече. От удушья давали пить настоянный на водке ирной корень. При грыже поили семенем травы елкий, настоянном в вине, а для детей — в молоке. При застое мочи и трудных родах давали настоянную в теплой окуневой ухе или теплом молоке траву колун. Лишаи натирали свежевыжатым соком калины. Отнимались ноги — сажали человека в муравьиную кучу. При болях в пояснице клали на нее теплые хлебы, накладывали ненадолго горячие горшки, молились образу Всех Святых. От лихорадки поили настоем полынных листьев, от побоев и ран — зверобоем на водке. Очень многое лечили самым что ни на есть сильным пропариванием в бане, разным крепчайше посоленным питьем, натираниями хреном, перцем, редечным соком. Вместо воды в настоях нередко использовали только росу, собираемую в синие стеклянные посудины по заре на Прокопия-Жатвенника, 8 июля. От очных призоров и стрельбы в висках собирали дождь на Илью Пророка 20 июля. Вовсю пользовались заговорами, наговорами, нашептываниями, то есть, по-нынешнему, психотерапией, приносившими людям зачастую куда большую пользу, чем какие-либо лекарства-снадобья. «Заговаривал я у раба Божьего такого-то двенадцать скорбных недугов: от трясовицы, от колючки, от свербежа, от стрельбы, от огневицы, от ломоты, от колотья, от дерганья, от моргания, от слепоты, от глухоты, от черной немочи. Ты, злая трясовица, уймись, а не то прокляну в тартарары; ты, неугомонная колючка, остановись, а не то сошлю тебя в преисподнюю земли; ты, свербеж, прекратись, а не то утоплю тебя в горячей воде; ты, стрельба, остановись, а не то засмолю тебя в смоле кипучей; ты, огневица, охладись, а не то заморожу тебя крещенским морозом; ты, ломотье, сожмись, а 58 сокрушу тебя о камень; ты, колотье, притупись, а не то распилю тебя на мелкие частички; ты, дерганье, воротись, а не то запружу тобою плотину на мельнице; ты, морганье, окрутись, а не то в печи банной засушу;ты, слепота, скорчись, а не то утоплю тебя в дегте; ты, глухота, исчезни, а не то засмолю в бочку и по морю пущу, ты, черная немочь, отвяжись, а не то заставлю воду толочь. Все вы, недуги, откачнитесь, отвяжитесь, удалитесь раба Божьего такого-то по сей час, по сей день, по его жизнь моим крепким словом». И любовными приворотами знахари и ведуны владели, начиная их обычно так: «Исполнена есть земля дивности. Как на море на Океяне на острове на Буяне есть бел горюч камень Алатырь, на том камне устроена огнепалимая баня, в той бане лежит разжигаемая доска, на той доске тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски, и бросаются тоски из стены в стену, из угла в угол, от пола до потолка, оттуда через все пути и дороги и перепутья, воздухом и аером. Мечитесь тоски, киньтесь тоски и бросьтесь тоски в буйную его голову, в тыл, в лик, в ясные очи, в сахарные уста, в ретивое сердце, в ум и разум, в волю и хотение, во все его тело белое и во всю кровь его горячую, и во все его кости и во все составы: в 70 составов, полусоставов и подсоставов. И все его жилы: в 70 жил, полужил и поджилков, чтобы он тосковал, горевал, плакал бы и рыдал по всяк день, по всяк час, по всякое время, нигде б пробыть не мог, как рыба без воды. Кидался бы, бросался бы из окошка в окошко, из дверей в двери, из ворот в ворота, на все пути и дороги, и перепутья с трепетом, тружением, с плачем и рыданием, зело спешно шел бы и бежал, и пробыть без нее ни еди-ныя минуты не мог...» Даже злых и вредных домовых, слишком уж досаждавших хозяевам, знахари и ведуны брались усмирять: в день Трех Святителей, 30 января, резали в полночь черного петуха, выпускали его кровь на голик и выметали этим голиком все углы в домах и дворах, где бесчинствовал распоясывавшийся. И накануне свадеб знахарей, а то и колдунов непременно приглашали в дома, где они игрались: чтобы те осмотрели все углы, притолоки и пороги, не прячутся и где злые духи, и прочли над ними заговоры-заклинания. Потом знахари и колдуны поили молодых наговорной одой, дули на скатерть, обметали голиком потолки, кабливали вереи, клали ключ под порог, выгоняли со 59 двора черных собак, осматривали метла, окуривали бани, сбрызгивали наговорной водой кушанья, вязали спальные снопы, подкладываемые в постель новобрачных под перины, ездили в лес за бузиною и вручали свату ветку девятистручкового стручка. Эта ветка считалась сверхмагической — все отгоняла, поправляла и сохраняла. Со свадьбами вообще было связано больше всего поверий, правил и обрядов. И хотя в разных местах они тоже имели какие-то свои отличия и особенности, основа все-таки везде оставалась единой на протяжении не менее, наверное, тысячелетия. Причем действо это всегда продолжалось несколько дней, обрядов исполнялось чуть ли не сотни, и потому тут мы покажем всего лишь один, но из самых важнейших. Передовщину позвали справить свадьбу. Нет, нет, не свахой, на то были свои соловьи разливанные — любой лежалый товар могли сбыть, ровно золото. Да и называлось это — сладить свадебку, а ее пригласили справить: проследить, помочь, чтобы все шло как надо, чтобы, не дай Бог, не допустить где какой огрешки — ведь как на свадьбе все заладится, так, значит, во всю жизнь и будет,— в это верили свято. Справщиками очень дорожили, особенно когда в доме невеста шла перваком да сильно молодая и не больно певкая. Ведь сколько ей обрядов-то надо было пройти, сколько причетов и песен перепеть — на каждый шаг свой. И не только у нее — у подружек песен еще больше: перед просватаньем, на по-сидках, при зарученье, на девичнике при прощании с косой и волей, утром в день свадьбы, на проводах к венцу, при встрече от венца, при входе молодых в дом, на пиру — там всем свои величанья, после пира, молодоженам, корильные... Редко-редко какая девка даже половину-то знала из того, что нужно. А передовщица — все. Девка была средненькая и росту среднего, круглолица, нос вздернутый. Звали Катей. И уж больно тиха, говорила тихо-тихо. Решила, что такая сама ничего не сможет, придется все время быть передовщицей-подго-лошницей — все зачинать, а она бы только подпевала. И подружек, ладно помогающих, надо отобрать. Удивлялась, и какой видный парень-то ее брал. Но голос у Кати оказался неплохой — чистый, звучный. С другими пела хорошо, а одна, когда пробовала причеты,— робела. Очень за нее боялась. Назначили просватанье. Стали резать скотину. Наказали привезти из города доброго вина красного да конфет, пряников и других сладостей, остальное было свое. 60 Катя мать, сестры и подружки с утра до ночи кто с иглой, кто у корыта, кто у печи, кто с соленьями да вареньями, а кто и во дворе калит большие камни и растленными бухает их в огромные бочки — варит густое, хмельное пиво. И хотя двадцативедерные бочки накрыты тяжелыми дубовыми крышками, из-под них валит сероватый пар, и сильный горьковато-сдобный запах шипящего варева растекается по открытому двору и дальше по деревне, и все, кто оказывается поблизости, с удовольствием принюхиваются, оживляются, улыбаются и скоро уже кажется, что вся деревня наполняется такой же суетой, как дом невесты, таким же радостным предощущением большого-большого праздника. Вроде бы даже и сама земля его ждет — притихшая, светлая, вся в сухом тепле. Октябрь, а будто новое бабье лето. Передовщица все время рядом с Катей и ближайшими ее подругами — наставляет: _ Значит, при просватанье, мои ясные, заводим «С устья березового». Тут на посидках — «Весла в поле» или «По сенечкам батюшковым». При проводах жениха с зарученья — «Уж вы, соколы, соколы»... И вот уже зазвенели, захлебнулись радостью колокольцы, шаркуны и бубенцы, во множестве подвязанные к дугам тарантасов и телег, оплетенным яркими лентами. Будто все вокруг зазвенело, и звон этот покатился в поля, делаясь все глуше, глуше, пока не исчез вовсе, но в деревне все ждали, напрягали слух и час, и два и наконец опять услышали — катится обратно, катится волной веселый заливистый звон, срывая людей с мест и притягивая их к дому невесты. Многодневное действо русской свадьбы началось, а передовщица все боялась за Катю. Две недели ее готовила, а боялась: та уже робела меньше, но как все при большом народе-то получится? Прошли малые смотрины, когда родители невесты встречали жениха, его отца, свата и других честных гостей у своего крыльца, с почетом заводили их в дом, где под образами уже горели свечи, усаживали по старшинству за стол... Отец невесты со сватом били по рукам через подол праздничной суконной сибирки свата, а мать жениха их разнимала. Теперь Катя считалась окончательно просватанной, и ее голову и плечи накрывали большим синим платком-фатой, и она уже не имела права ходить в церковь, в гости, должна была, переступая любой порог, креститься, а когда поедет на могилы родных или к близким род61 ственникам — это делали все,— то обязана была закрываться там платком с лицом и, ничего и никого не видя, все же непременно и непрестанно кланяться из телеги направо и налево. Всю дорогу кланяться... Пошли трехдневные посидки — главная невестина тягота, когда ее с утра до ночи окружали родственницы и ближайшие подружки, свадебные праворучница и леворучница, и еще шли и шли просто подруги, просто знакомые и просто зрители посмотреть, как она плачет и расшибается, как не хочет расставаться с молодостью, с батюшкой и матушкой, с дорогими подружками, с сестрами и братьями, с волей вольною в отчем доме, с родной деревней. И хотя многие девки шли замуж охотою, а часто и по любви, все равно так уж от века завелось, что невеста должна была петь-плакать, обливаясь горючими слезами и заходиться, падать на пол или на лавки, или хотя бы метаться по избе, стуча рука об руку, чтобы окружающие видели и, главное, поверили, что она и правда в великом горе и надрыве идет в чужой дом не своею волей и знает, какая тяжкая участь ждет ее отныне. Наверное, когда-то, совсем-совсем давно, веря в обереги, люди считали, что, если чего-то очень сильно и принародно страшиться, плакать и не хотеть, оно на самом деле окажется много-много лучше. Дело было трудное: переплакать требовалось со всеми по отдельности, причем каждой родственнице и каждой подружке предназначался свой особый плач. Без подголовницы ни одна девка с этим не справлялась. Но есть же разница: все за невесту петь или только зачинать, подсказывать. Когда Кате дары от жениха принесли, передовщица, например, изготовилась на весь плач: Не подходите, не приносите и не дарите Дорогими меня гостинцами. А Катя вдруг как застонет в голос: Вы скажите, лебеди белые, Князю да первобрачному Заочное да челобитье. Чтоб он жил да не надеялся, Искал бы новую да молодую, Меня получше да покраше... Передовщица возрадовалась: «Пошло!» Настало время «жемчуга» — оплакивания, расставания с девичей красотой. Катю обрядили в лучший парчо62 Й сарафан, в нежно-голубую шелковую кофту, в дивную головную повязку, на которую нацепили множество ниток разного жемчуга. Голова девушки словно в жемчуужном дожде оказалась. Праворучница и леворучница твели ее под локотки на середину горницы, как раз напротив матери поставили, и все при этом поднялись. Передовщица была сзади Кати. Но даже и рта не успела раскрыть, как та повела сама, да сразу с такой надсадой, что все замерли: Ты желанная моя, болезна, В день денная печальница, В ночь ночная богомолыцица! И запокачивалась, как под ветром, а в глазах слезы. Все стали ей подпевать: Посмотри-ко ты, погляди На меня многокручинную: Меня красит ли, хорошит ли Меня природная девья красота И дорого мое цветно платьице? Хоть не скажешь, моя желанная, Сама знаю, ведаю: Не красит и не хорошит Дорога моя девья красота. Потемнела да почернела Черне черного потолка, Черне ворона поднебесного... А на следующее утро спозаранку топили баню, и Катя ходила туда париться с праворучницей, леворучницей и передовщицей. Дверь запирали изнутри, чтобы, не дай Бог, кто чего не напортил. И когда топили баню, тоже все время присматривали — мало ли ворогов и охальников. Главное тут было — невесту хорошо попарить да помыть, чтоб была как новорожденная. А веничек, которым она парилась, надо приберечь — которая Девка следом этим веником попользуется, тоже вскорости замуж пойдет. Потом Катю одевали уже в самое-самое лучшее, и она сидела и ждала с подругами в своей светелке, когда снова приедет жених со свитой и родными. Но только теперь, заслышав звон бубенцов и колокольчиков, в невестином доме позакрывали все ставни и ворота и все попрятались — женихов поезд будто перед Устьщ домом остановился. Правда, девки набились на 63 повети и через оконца и щели в воротах поглядывали наружу, но без единого звука — полная тишина. Дружки жениха с розовыми повязками на рукавах постучали в дверь кулаками. Не дождавшись ответа, постучали покрепче сапогами — все одно молчок. И лишь когда приезжие достали специально привезенную оглоблю и забарабанили в ворота ею, их распахнули, гостей впустили, и прямо в сенях их встретили невестины родители с зажженными свечами в руках. Опять рассаживались по старшинству. Опять всех обносили угощением, но только делал это уже отец невесты. Опять вывели Катю, но только уже под платком-фатою, а отец, мать и сваха встали обочь ее. Присутствующие поднялись. — На той ли сватался? — спросил Катин отец. — На той,— ответил жених. — Люба ли? — Люба. Теперь опять Катя обносила всех вином и пивом, просила отведать угощения на столе, где были в основном разные пироги, положенные по свадебному обычаю один на другой, крест-накрест, и еще разная рыба, каши, жареная птица. Выпивая, большинство клали на поднос или в рюмки деньги, а она одаривала их платками, поясами, варежками. Жениху самый красивый платок. Он им утерся, свернул и спрятал в карман, а в рюмку опустил целый червонец. И уже не отходил от Кати, стоял сзади, ждал, когда ее отец поднимется из-за стола и спросит: — Всем ли было, все ли довольны? Все тоже поднялись и нестройно с поклоном ответили: — Все довольны, всем было. А женщины и девушки запели жалобную «Дымно во поле, дымно» — про то, как голубок тосковал и звал свою любимую... Катю повели к себе. Жених вместе с другими шел следом и все норовил наступить ей на ногу. Дружка же приплясывал и приговаривал: — Скок через порог, едва ноги приволок, идет дружка-лаконожка, за скобу руками, за молитву зубами... Раздайтесь да расступитесь на все четыре стороны, да пустите нашего князя новобрачного дать на бела бели ла, на красны румяна. А ты, красна девица, красная кня гиня, первобрачна молодица, не куражься, гордостьспесь оставляй здесь, а низкий поклон клади да к нам вези: у нас горка крутенька, водица близенько, коромыс64 лицо тоненько, ведерышко маленько; под гору ходи — не запинайся, на гору ходи —не задыхайся... В светелке жених впервые принародно, при подружках целовал Катю, прощался с ней до завтра и дарил еще денег — на белила. А потом она здесь же потчевала своих подружек, а Остальные свадебники на нескольких телегах с песнями укатили к жениху угощаться и петь. И пели там за полночь. И у Кати в светелке пели до первых петухов. Поутру, ни свет ни заря все опять были на ногах — пришел наконец день венчания. Катю сразу же, даже не покормив, только одев, повели в горницу. Там ее стоя ждали мать, сестры и все, кто был рядом в эти дни, и еще много зрителей, которые сгрудились у распахнутой в сени двери. В сенях тоже были зрители. И к окошкам с той стороны много поналипло. А по небу быстро неслись рваные сизоватые тучи, все в одну сторону — на закат. Значит, дождя не должно быть. Про это все думали, и все радовались — не подвела погодка. Катя запела: Ты сдыми, моя однокровна, единоутробна, Свои руки белые на мою буйну голову И сойми мою девью красоту... Две сестры потянули с нее синий платок, но Катя уцепилась за него и не давала. Они стали хватать ее за руки и все-таки сдернули платок, но под ним оказался второй — нежно-зеленый. Она не давалась пуще прежнего, охала, что-то вскрикивала, и эти охи-вскрики превратились в пронзительный причет, в котором были взлеты необычайной красоты и чистоты. У Кати как будто прорезался новый, удивительный голос, который невозможно было слушать — так он рвал душу, становясь с каждой секундой все надсадней и пронзительней. И она все рвалась, не давалась, но ее уже держали за руки и за плечи несколько подруг, и она могла только раскачиваться из стороны в сторону и раскачивать державших, и ее богатая русая коса уже моталась сзади, и проворные чужие руки уже расплетали ее и скоро расплели, и стали расчесывать, а она рвалась еще сильнее, и теперь сзади мотались еще и рассыпанные роскошные волосы. Ч-то именно, какие именно слова она выпевала, поначалу было не разобрать, слышались лишь хлещущие: << Уж!.. Уж!» Голос все накалялся, накалялся... Потом стали Различимы и слова: 65 Уж и не походила я, не погуляла, Уж я жила у вас да красовалась, Уж и когда в пелены да пеленалась, Уж и когда в зыбочке да качалась. Уж ты, тятенька, меня годов в десять да увез, Уж в семнадцать — взамуж давать. Уж как я вам да надоела, Уж я и была, видно, у вас да непословна, Моя головушка была да непоклонна, W Резвы ноженьки мои да небежливы... Девью косу-красу перед венчанием расплетали всем невестам, чтобы сразу после венчания заплести уже две, как замужним. Так что любая девушка знала этот причет назубок, видела и слышала на многих свадьбах, а замужние так и сами когда-то все его пели или повторяли за передовщицами. Привычными были здесь и пронзительные вскрики-всхлипы; с высоченными подголосками пели очень многие не только плачи и причеты — очень низкие ноты всегда перемежались высоченными. И все-таки голос Кати достиг такой пронзительности, в нем была такая боль, такая тоска и печаль по уходящей вольной юности и детству, что у многих пошел озноб по спинам. А ближние подруги сперва даже растерялись и замешкались, потому что они собирались сыграть, разыграть этот плач, как разыграли все предыдущие, но у нее это была никакая не игра, а настоящая трагедия, как будто она и взаправду шла за немилого и нелюбимого, и вот сейчас ничего не видела и не слышала, умываясь горючими слезами, и не пела, не пела, а в истинном забытье голосилаплакала-причитала, рвала, омывая слезами, души и себе и всем окружающим. И все, кто был в горнице, одна за другой тоже начали плакать по-настоящему, а потом некоторые даже и навзрыд. Все сгрудились возле нее и гладили, пытаясь успокоить, а она уже уронила голову на плечо леворучницы и только тихо вздрагивала и пронзительно выводила: Уж в чужих-то да людях добрых Уж надо жить да умеючи... Уж надо шелковой травы да пониже, Уж ключевой воды да пожиже... Затихнув, Катя стояла сколько-то не двигаясь, опустив голову. И никто вокруг не двигался. Затем она обмякла, медленно подняла осунувшееся заплаканное лицо, глубоко вздохнула и вдруг улыбнулась — улыбнулась 66 смущенно, и всех оглядела с этой смущенной, несколько даже виноватой улыбкой, и в ее больших, еще не просохших серо-зеленых глазах засветилась радость. ее лицо засветилось, и она сделалась совсем непохожей на прежнюю Катю — эта была куда взрослее, вроде бы даже и выше ростом, спокойная, умная, хорошо сознающая, что ей предстоит. Хотя сама Катя об этом, наверное, и не думала, просто чувствовала, что обильные горючие слезы действительно омыли, высветлили ей душу, и та сейчас словно растет и ширится, постигая истинное значение предстоящего. Передовщица ликовала. Значит, не зря она почти три недели не отходила от нее, не зря втягивала в каждый плач, в каждую песню, во все обряды. Сердце и душа у девчушки оказались умными, уже почувствовали, в чем главное предназначение женщины на земле. Почувствовали! А впереди Катю ждал еще свадебный поезд, венчание в церкви, обратная дорога, трехдневный свадебный пир, величание гостей, приход одетых в лохмотья колдуна или колдуньи, которые будут стучать в пол железной или деревянной клюкой, приплясывать и приговаривать: «Сколько в лесу пеньков — столько вам сынков! Сколько в лесу кочек — столько дочек»... Ждала ее и первая брачная ночь, до которой они с молодым мужем почти целый день ничего не ели... А на следующее утро потешная баня вдвоем и потешное подметание пуха в горнице, и передвигание стола... И перегащиваться они должны были со всеми основными родственниками... Многое еще ждало Катю впереди, но с этого утра она была готова ко всему, она уже знала, понимала, что новая семья — это новое звено жизни. И очень важно, как оно зачинается — во зле, в небрежении и походя или в добре, красоте и разуме. Сотворение нового человека, нового мира должно быть чисто и свято. К жизни надо относиться свято. ПРАЗДНИКИ Праздников на Руси было много, и общих и местных — престольные почти в каждом селе, но главных четыре: Пасха, Троица, Рождество и Масленица. Пасха сейчас снова празднуется широко, и, главное, о ней большинству хорошо известно: это Великий день, Светлый день, воспевающий воскресение Христа, при67 нявшего мученическую искупительную смерть ради спасения всего человечества. В христианстве это событие не просто главное — оно основополагающее, и каждый православный, как и все остальные христиане мира, так или иначе, но непременно отмечают и всегда отмечали его: в православных храмах идут непрерывные, необычайно торжественные пасхальные службы, светятся пасхи, куличи и яйца, возглашается великое «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!», свершаются ночные, при горящих свечах и фонарях крестные ходы вокруг храмов и многое, многое другое, в чем вы наверняка участвовали или участвуете постоянно каждую Пасху. Поэтому здесь мы остановимся лишь на том, что ныне свершается в сей праздник или редко, или вовсе уже не свершается. Накануне Вербного воскресенья веточками вербы и сейчас обзаводятся почти все, ставят их в вазы, в банки с водой, а вот хлестаться ими уже не хлещутся, а прежде это делали обязательно; все друг друга похлестывали, прежде всего детей, приговаривая при этом: «Верба хлест, бьет до слез». Действо считалось магическим: так передавали силу здорового, распускающегося дерева человеку, что растущему человечку было особенно необходимо. И еще в Вербное воскресенье в столице Руси непременно устраивалось Шествие на осляти. В затененных углах, у заборов и стен еще лежали остатки серого, обтаявшего, ноздреватого снега, везде блестели лужи, земля была липкой, скользкой, курилась видным густым сырым паром, но небо сияло такой пронзительной чистой голубизной, такой бездонной глубиной без единого облачка, слепящее солнце грело так ласково и сильно, а воздух был так легок, прозрачен и духовит, что люди, тысячи, десятки тысяч людей, наслаждаясь всем этим, не замечали, кто стоит на сухом, на плахах мостовой, а кто прилип или увяз в раскисшей земле или грязном снегу, или вовсе торчит в луже. Все были нарядно одеты, все улыбались друг другу, даже незнакомые, весело перекликались, балагурили, смеялись, и каждый держал в руках темновишневые или зеленоватые веточки вербы с нежными пуховыми сережками, которые, если приложить их к носу и губам, всегда так ласково и смешно щекочутся и так свежо, тонко и отрадно пахнут. Это делали очень многие и другим под нос совали. Весь Кремль снаружи окружало сплошное, широченное, яркое, весело гудящее, колышущееся праздничное 68 КОЛЬцо. Мальчишки и молодые парни торчали и деревьях, и на крышах ближних строений. Наверное, не только вся Москва, но и окрестные села и деревни были сейчас тут. Свершалось ежегодное шествие на осляти вокруг Коемля. Христос-то за пять дней до своей крестной смерти въехал в Иерусалим на осле, и народ иудейский приветствовал его ветками финиковых пальм или иерусалимской ивы. Пальм на Руси нет, но зато ивы-вербы полно. И ослов нет, и его в шествии заменял невысокий солово-серый конь, крытый парчовой попоной, а восседал на том коне митрополит Московский и всея Руси, а позже патриарх в золототканой ризе и драгоценной митре, с животворящим крестом в одной руке и богатым, со сканью и каменьями Евангелием в другой. Убор коня был тоже в узорном серебре, шитый шелками, с цветными кистями, а повод очень длинный, локтей в двадцать, сами же удила держал рукой патриарший конюший старец, а уж повод рядом с ним с одной стороны патриарший же дьяк, а с другой — государев думный дьяк, на три же шага впереди середину повода держал какой-нибудь именитый боярин, князь или воевода, а еще на три шага впереди конец повода был уже в руках самого Государя Всея Руси. Вступали они медленно, торжественно, одежды были на них самые богатые и нарядные: на Государе и на князьяхбоярах, как и святейшем, все тоже золототканое, в каменьях, на Государе так еще и широкое ожерелье на плечах, сплошь в рубинах, лалах да опалах, а на голове шапка Мономаха, низаная дивным жемчугом с каменьями и увенчанная сказочной голубоватой жемчужиной размером с голубиное яйцо. Все это сияло, сверкало, переливалось, полыхало, слепило и радовало и веселило не меньше, чем солнце, небо и вербы Вселенски могуче гудели все кремлевские и московские колокола. Дюжины две расторопных детей боярских в красных одеждах с серебром расчищали в народе перед шествием путь и, где не было больших луж и грязи, на Дубовых плахах мостовых и на мостах через Неглинную расстилали цветные сукна, народ тут же забрасывал их ветками с серебристыми пушистыми сережками, по которым все и шествовали; следом за «осля», с восседавшим на нем патриархом, шли власти — сотни две высших священнослужителей, тоже, конечно, в самом нарядном и торжественном облачении, а за ними сотни три знатнейших мирян. 69 Народ, завидя их, во всю мощь тысяч глоток кричал, пугая кремлевских птиц, взмывавших стаями в небесную голубизну: — Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне! И следом многие так же громогласно и радостно начинали петь: «На престоле на небеси, на жребяти на земле носимый, Христе Боже, ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущий Ты: благословен еси, грядый Адама воззвати». Власти и знать эти слова тоже подхватывали и у Угловой башни, и у Неглинной, и когда поднимались к Никольским воротам. Святейший держал Евангелие в левой руке, а правой с большим крестом величественно благословлял народ и легонько кивал головой направо и налево, отвечая на низкие поклоны, на коленопреклонения и ликующие крики приветствовавшей его паствы. Благословлял и воздевал очи к небу. Благословлял и воздевал. По завершении шествия в Успенском соборе была обедня, после нее у святейшего стол для властей, для Государя, его бояр и других лиц, участвовавших в торжественной процессии. Святейший одаривал Государя за «труды ведения осля» десятками золотых червонцев, несколькими сороками соболей, кусками рытого цветного бархата, атласа или какой другой дорогой материи. И князей, бояр и воевод одаривал, которые трудились в ведении осля. И дьяков. И конюшего старца. Но уже не так щедро, разумеется: серебряными кубками, кусками кизилбашской парчи, немецкого сукна. Дети боярские, расчищавшие и устилавшие путь, во время этого стола под окнами патриаршей палаты пели хвалебные песнопения Христу... А в чистый четверг страстной недели во всех домах и избах обязательно мыли с дресвой стены, мыли, скоблили ножами полы и столы — наводили идеальную чистоту, в которой только и подобает встречать Великий Светлый день. Варили овсяный кисель, ставили его на подоконник или выносили на крыльцо и даже на улицу, к овинам, приговаривая: «Мороз, мороз, не бей наш овес!» или: «Мороз, мороз, поди к нам кисель с молоком хлебать, чтоб тебе наше жито и поле оберегать, градом не бить, червем не точить и всему бы в поле целу быть!» Оберег был одним из вернейших. 70 Готовили и так называемую четверговую соль. Ни в другие дни ее не готовили. Заворачивали поваренную соль в тряпичный узелок, кое-где смешивали ее с квасной гущей, кое-где насыпали в какую-нибудь посудину и ставили в печь на угли, на самый жар — пережили Иногда она становилась почти черной, иногда с боровым отливом, но всегда намного вкуснее некаленой. И использовалась как сильное лекарство от многих недугов. И повсеместно все красили в этот день яйца, первоначально, разумеется, естественными красителями: березовыми листьями, чебрецом, фуксином, чаще всего луковой шелухой, коей красят и поныне. В девятнадцатом веке появились специальные пищевые красители. Использовали также разноцветные кусочки красящих материй, отчего яйца получались пестрыми — мраморными. Было много и расписанных доморощенными художниками и детьми. Были с рисунками и узорами и профессионалов, нанесенными горячим воском, который налеплялся на скорлупу, затем яйца опускали в краску, после высыхания воск соскабливали, и рисунок или узор получался белый, очень красивый. Яйцо же — естественный символ новой зарождающейся жизни, и чтобы жизнь была прекрасной, надо, чтобы и ее символ был как можно красивей, отрадней. И всеобщее одаривание ими друг друга на Пасху означало то же самое — пожелание лучшей, хорошей жизни. Освященным яйцам приписывались магические свойства: что это-де лучшее средство для тушения пожаров; их хранили за божницами, и когда у кого случался пожар — бросали в огонь, после чего тот должен был быстро утихнуть. Чтобы коровы не болели, их гладили пасхальными яйцами по хребтам, особенно перед выгоном в поле. Опускали их в воду и потом этой водой умывались, чтобы быть красивыми. И повально все катали яйца — главная любимейшая игра была у русских пасхальная, начинавшаяся в первый же день Пасхи и продолжавшаяся всю неделю. Выбирали на деревенской улице какое-нибудь ровное голое место с бугорочком сбоку, или даже ставили сбоку особые деревянные лоточки, и с них пускали, скатывали яркие, а в основном-то красные нарядные яйца. Игра заключалась в том, чтобы попасть, Ударить своим яйцом по ранее скатившемуся,— ударивший забирал его себе. И главное тут было, чтобы твое яйцо не разбилось,— разбившиеся выбывали из игры, наши мастера, выбиравшие такие крепкие яйца, что 7 1 выигрывали десятки и десятки чужих. На эти катания везде и всегда сходились все от мала до велика, и играли стар и млад с великим азартом и весельем. И в последние века наверняка мало уже кто знал, что когда-то это катание совершалось для того, чтобы освященным ярко-красным, голубым, желтым или каким еще красивым яичком разбудить заспавшуюся за долгую зиму землю, пожелать и ей добра. И еще на Пасху обязательно и повсеместно устраивали качели и качались на них. И чем смелее, выше и веселей качались, тем, значит, опять же сильнее будоражили, быстрее будили землю. Для того же мужикам и парням разрешалось в эти дни залезать на колокольни и трезвонить в колокола сколько душе угодно и как можно веселей и праздничней. А второй день после Пасхи — это Радуница, основной день поминовения усопших. Все сходились на кладбищах, приносили с собой еду, яйца, пиво, брагу, вино. Священники служили панихиды, женщины голосили, причитали, «окликая» усопших родных, на могилы клали и крошили крашеные яйца, пироги, блины, кутью, другие угощения, лили масло, пиво, вино — «мертвым на еду», угощали их ради великого праздника воскрешения из мертвых. И сами тут же угощались между могилами или прямо на земле, или на специально для такого случая сооружаемых столах. Так обильно всегда угощались и пили «заедино с оставившими сей бренный мир родителями и родственниками», что поминовение чаще всего переходило в настоящее пиршество, причем веселое, с песнями и приплясами, которое длилось нередко до ночи. Церковь яростно восставала против таких «окли-чек», против по существу вроде бы даже кощунственного пьяного разгула,— знаменитый Стоглавый собор при Иване Грозном даже попытался положить ему конец — запретил, чуть ли не проклял, но из этого ничего не вышло: «оклички» с пирушками на могилах продолжались и продолжались до самых недавних времен. Потому что фактически это были так называемые тризны по усопшим, которым куда больше лет, чем христианству на Руси. Языческие волхвы считали, что человек не должен бояться смерти, должен потешаться над ней, отпугивать, и чем смелее, чем озорнее он это делает, тем вернее это у него получится, тем дольше она будет держаться от него подальше. Волхвы когда-то и руководили большими тризнами, целые потешно-издевательские спектакли над смертью устраивали, в чем им помогали 72 скоморохи. Скоморошество вообще выросло когда-то из волхования. Радуницы — всего лишь наследницы тех великих массовых тризн. Троицу церковь тоже празднует ныне широко, и основное о ней большинству тоже хорошо известно. Она приходится на пятидесятый день после Пасхи, но торжества начинаются еще в четверг, называющийся Семиком, как и вся седьмая послепасхальная неделя называется Семиковой, а также Русальной, Зеленой, Гря-ной, и Семик несомненно тоже старше Троицы — он знаменовал прощание с весной и встречу лета, прославлял растительность и плодородие, символами которых на Руси стала березка. У других народов похожие праздники существовали, но березка — символ сугубо русский, символ самой России, ее природы. Ветками недавно распустившейся, свежей, пахучей березы в Семик украшали все селения, все дома снаружи и внутри, все церкви, а полы в них устилались све-жескошенной травой. Прихожане шли к обедне с букетами цветов, клали их возле икон, и в избах клали, и все, все вокруг было напоено в сей день духовитой бодрящей свежестью и запахами набиравшей силу зелени и цветов. Главное же действо Семика — выбор девушками в ближнем лесу (мужская половина почему-то не допускалась к этому действу) самой красивой березки, которую срубали, приносили в село, устанавливали на видное место, украшали цветными лентами, бусами, платками, и девушки начинали ее заламывать, завивать: завивать прямо на ней из ее ветвей большие кольца, венки. И из срезанных ветвей и цветов плели венки, кое-где скрытно, чтобы никто не видел посторонний, и потом гадали на этих венках так же, как на Ивана Купалу — пускали по воде: к какому берегу поплывет — туда замуж идти, утонет — скорая смерть. Через венки же на наряженной эерезе девушки, а следом и бабы, и парни, и мужики трижды целовались — кумились. Покумившиеся как бы становились кровными родственниками, обещали дружить всю жизнь. Покумимся, кума, покумимся, Чтобы нам с тобой не браниться, Вечно дружиться... сам чем-нибудь при этом обменивались: платками, бусами, кольцами, нательными крестами. Обряд считался 73 очень сильным, и даже давние враги нередко прибегали к нему, чтобы покончить распри. Ну а не получалось — раскумлялись, возвращали потом то, чем обменивались. Многие же после целования через заломленные березки действительно дружили всю жизнь. После кумления водили вокруг и возле берез хороводы, устраивали игры, вечером непременно угощались яичницей, угощали ею и березки. Иногда все это делалось и не в деревне, а на полях, у леса, у рек, и в конце концов разукрашенную, завитую березку торжественно несли и опускали в реку — чтобы напилась досыта водой, чтоб вся зелень пила летом досыта, вдоволь, не было б засухи. А русальей эта Троицкая неделя называлась еще потому, что существовало поверье, что именно на Троицу русалки выходят из воды, бегают по полям и лесам и совращают, заманивают к себе в водяные пучины легковерных. Начало этому поверью в древнейших языческих русалиях — завершение целого цикла земледельческих празднеств, и у русских его отголоски почти не удержались, лишь у украинцев и белорусов: у них русалок поминают по сей день и легенд об их играх и совращениях тьма-тьмущая. Помните, и у Николая Васильевича Гоголя есть. У русских же главным осталось лишь убеждение, что русалки — «красивые нагие девы с распущенными длинными волосами, выплывающие при лунном сиянии на поверхность реки и озера», то есть то, что они неразрывно связаны с водой, которая так необходима летом, а значит, и с потоплением березки связаны — к ним ведь ее отправляли... В череде же святочно-рождественских праздников, про которые тоже многие многое знают, хочется подчеркнуть только то, чего не было у других народов, ибо ряженые и колядования есть у многих, и разные игры и потехи есть, и не вкушают за столами на Рождество до первой звезды, а славелыцики, особенно дети, ходят по домам с большой блестящей звездой, но вот костры из соломы или навоза в навечерии перед Рождеством во дворах жгли только на Руси; придут из церкви и сразу поджигают, «родителей греют, так как умершие в это время встают из могил и приходят греться». А все домашние стоят вокруг костра в полном безмолвии — почтение оказывают усопшим. В рождественские морозы-то больно холодно лежать в промерзшей земле. И действа на Крещение сугубо наши, русские: крещенский снег собирали для беления холстов, а также от разных недугов; умывались им, собирали снег для ба74 ни-такая баня все исправит, красоты прибавит. Ну и онечно наши знаменитые купания в Иордани. На Крещение в удобном для подхода месте на реке или каком ином большом водоеме во льду вырубалась квадратная прорубь» называемая по имени реки, где крестился Христос, Иорданью. К ней устраивался торжественный крестный ход, служился молебен, вода в Иордани святилась, священники раздавали ее прихожанам, а потом очень и очень многие купались в этой проруби раздетые, несмотря ни на какие, даже самые лютые крещенские морозы, окунались с головой: недужные — дабы излечиться от болезней, а здоровые — чтобы очиститься от грехов, смыть их сей святой обжигающе ледяной водой. Случаев простуды от сих купаний, как ни странно, не зарегистрировано ни единого, хотя купались ежегодно миллионы не менее тысячи лет подряд. И уж совсем национальный, народный, никак не связанный с христианством праздник — наша Масленица. Честная, широкая, веселая, семикова племянница, объедуха, сырная неделя, которая справляется за семь недель до Пасхи и приходится на период с конца февраля до начала марта... Запахи были такой вкусноты, что, только пробуждаясь, еще не открыв глаза, уже сглатывали обильную слюну и заходились от радости. — Уууу-у-ух-х! — С сим возгласом и вскакивали. А на столе уже высилась высокая стопа блинов, источавших прозрачный, вовсе одуряющий парок, вокруг стояли миски со всем, что к ним полагалось, и сияющие, разалевшиеся от печного жара, по праздничному принаряженные хозяйки вытирали полотенцами руки. — Видишь, госпожа Авдотья Изотьевна уже у нас, уже пожаловала. Авдотьей Изотьевной в народе звали Масленицу. — Вижу! Вижу! С Масленицей! Расцеловались. — Угощай! Заиндевелые окна розовели — значит, там поднималось солнце. Первый блин легонько мазали маслом, свертывали вчетверо и клали на оконницу — усопшим родителям и предкам. Второй блин тоже сдабривали маслом, но побольше, тоже складывали вчетверо, подносили к носу, втягивая его немыслимый сдобно-маслянистый теплый аромат, потом целиком отправляли в рот, в который он еле влезал, раздув щеки, но не жевали его, а медленно разми75 али языком, и он как бы сам собой там таял, пока не растаивал, не исчезал весь,— и это была такая длинная, такая нежно-масляная, мягко-кисловато-блинная вкуснотища, такое наслаждение, такой восторг и бог еще знает что за распрекрасное, что все сладко жмурились и чуть слышно блаженно мурлыкали — и были воистину счастливы. Счастливы редкостно. И не только от блина, конечно, а от самого этого утра, от предощущения, что эта Масленица будет необыкновенной, все будет необыкновенно радостным, каким еще никогда не было. Третий блин поливали сметаной — и вкус был другой. Потом ели с красной икрой — опять новый вкус и новое удовольствие. Потом со снетками. Снова с маслом. С тонким пластиком семги, которую тоже не жевали, а, смакуя, разминали языком, и она тоже исчезала. Выпивали стаканчик холодной рябиновой. А хозяйки пригубливали сладкой вишневочки. Со стопы блинов не оставалось ни одного. И отправлялись на ледяные горы, которые на Масленицу строили в каждом селении, в каждой слободе, каждом городе и даже во дворах. В Москве главные горы устраивались под кремлевской стеной на крутых берегах Неглинной — за Арсенальной башней. Высокие были горы и очень длинные. Одна — у самой башни, вторая — поодаль напротив. Еще большие горы строились за Кузнецким мостом на Трубе. Там Неглинная была совсем мелкая, широкая, летом застаивалась, превращаясь в большое непролазное болотце. А зимой это болотце превращалось в огромный каток, с двух сторон его были взгорья, к Сретенке очень крутые, и горы начинались с них, люди с большой скоростью выкатывались на ровный лед и долго, долго катились по нему. Солнце еще только поднялось над заснеженными крышами, из большинства труб еще вовсю текли дымы, везде еще пекли блины, в ядреном воздухе плавали их запахи, а народу у гор понабралось уже полно, и ребятня уже с визгом, смехом и гомоном каталась с них на чем ни попадя. Наверху же стояли несколько парней с большими и малыми расписными санками, кричали зычно, чтоб все вокруг слышали: — А что ж Масленицы-то не видать? Не заблудилась ли? Никто не встречал? — Стречали! Стречали! Мы стречали! — горланила в ответ внизу ребятня, показывая на воткнутое неподалеку в снег небольшое неказистое чучелко в драном девчо76 чьем сарафане и мятом цветастом платочке, изготовленное из соломы. _ Молодцы! Вот вам за это на леденцы да на стручки царьградские. Швыряли ребятам гроши и полушки. Там визг, хохот, кутерьма хватающих, подбирающих, вырывающих друг у друга монетки. - Эй! Эй! Несите ее скорей! Мальчишки выдергивали чучелко из снега, поднимали наверх, и оно водружалось на перила. Кто-нибудь из парней запевал: Дорога наша гостья Масленица Авдотьюшка Изотьевна! Дуня белая, Дуня румяная, Коса длинная, трехаршинная, Лента алая, двуполтинная, Платок беленький, новомодненький... Многие начинали подпевать: Состречаем тебя хорошенько: Сыром, маслом, калачом И печеным яйцом. На Масленицу был обычай катать с гор молодоженов, прилюдно глядеть-оценивать, какая меж ними любовь — сильная ли? Молодая поднималась на верхнюю площадку, где уже стоял ее муж. В красной или синей бархатной шубке, отороченной белым горностаем, в лазорево-золотом набивном платке, белолицая да румяная, носик вздернутый, глаза горящие, и хохочет от души. Заглядение! Меж парней даже некоторое замешательство от восхищения. Однако муж уже сидел на санках, и ей велели сесть ему на колени, а санки держали. Стали меж собой громко обсуждать, чтобы все слышали, что не видно совсем, что эта имярек любит этого имярек — еле обнимает, не целует. Загалдели, заорали: — Не видим! Не верим! Споцелуй зараз пятнадцать раз — может, и поверим! Двадцать пять зараз! — крикнул другой.— Двадцать пять! Двадцать пять! — подхватили остальные. Примораживай! Примораживай! — кричали снизу. То есть не отпускай санки, пусть примерзнут, пока не нацелуются. ~ Будя, ребята, будя! — хохочет муж.— Ведь правда замерзнем. 77 Жена целовала его в губы, потом в щеки, в нос. Целовала озорно, но по-настоящему, не стесняясь. А он все крепче прижимал ее к себе. Парни, а за ними и народ внизу все громче и громче считали: «Пять!.. Восемь!.. Пятнадцать! Двадцать три!.. Двадцать три!.. Двадцать три!..» Это они поцеловались взасос так долго, что у некоторых от зависти повытягивались лица. Все хохочут. — Ну и ну! И-и-их-х ты!.. Завидно! — В толпе заорали.— Ве-е-ери-и-им! Любит! Любит! Пускай! Пуска-а-ай-й! Санки сильно толкнули, и пара ринулась, понеслась, обжигаемая морозом, вниз, и им обоим, наверное, казалось, что они летят в счастье и это оно их обжигает и так сладостно испепеляет души. Скатывали всех молодоженов деревни, села, улицы, слободы, всем считали поцелуи-выкупы, все кричали и веселились, и только после этого начиналось всеобщее повальное катание на чем придется: санными поездами, отдельно на санках, просто на ногах, на обледенелых рогожках и дощечках, просто на задницах, лежа на пузе. Сшибались в кучи-малы, ставили синяки и шишки, ломали санки, кровавили носы, но серьезных увечий никогда не бывало, и не лезли на гору лишь ветхие старухи да старики, но кричать тоже кричали, переживали, советовали, смеялись, радовались и вспоминали друг перед дружкой, как они тоже когда-то «йэ-э-эхх!». Весь народ по всей России был в те дни на улицах и площадях. И все сани и саночки, которые катились и неслись во весь опор, пугая и разгоняя пеших, обдавая их снежной пылью и паром разгоряченных коней. Сани и саночки все разноцветные, расписные, в нарядных коврах, медвежьих полостях, лентах и бумажных цветах. Тройки, пары, одиночки. Все в заливистых бубенцах, шаркунах и колокольчиках. Кони большей частью отменные, много редких, норовистых, подобных огненным демонам, особенно в Москве, на укатанной до слепящего блеска ледяной Москвареке, где всю Масленицу шли большие бега-состязания. И упряжи одна богаче другой, многие в серебре и с дорогими каменьями. Гривы и хвосты коней то заплетены в косички, то шелковисто расчесаны вразлет, на спинах золототканые, парчовые, бархатные и иные разноцветные попоны с бахромой и кистями. Оглобельки и дуги у одиночек тоненькие, полированные, редких пород дерева. В больших санях-розвальнях мужики и бабы навалом — визжатхохочут, заливаются-поют или 78 избытка радости просто орут-надрываются — славят МасленицуКатались все дни. Полно было ряженых: кто победней в вывороченных наизнанку тулупах и полушубках в разном пестром тряпье, с ярко размалеванными лицами, а кто побогаче — ив нарядах разных народов, с пазными масками-личинами человечьими, звериными и чудищ неведомых волосатых да полосатых, да голых и гладких, как куриные яйца. Двери кабаков, трактиров, харчевен и прочих питей-нозакусочных пристанищ непрерывно хлопали или вообще не закрывались, и оттуда на мороз клубами валил призывный блинно-винно-съестной пар, жар, дух. Всюду музыка, пляски, качели, обнимания, лобызания, валяние в снегу, бои снежками и без, угощение сладостями и семечками, питье прямо из бутылок и кувшинов. Балаганы, визгливый Петрушка в красном колпаке, мутузящий дубинкой обманщика лекаря-иноземца. Поводыри с учеными медведями, козами и свиньями в людских одеждах. Иноземцы с танцующими собачками, и крутящиеся колесом, и изрыгающие изо рта огонь, и всякие иные комедианты, музыканты и затейники не только на площадях, у катальных гор, но и на торжках, у ворот и даже во дворах. Вечерами запаляли костры и смоляные бочки, зажигали разноцветные фонарики, в городах пускали фейерверки. Веселье не затихало и за полночь. Лица. Лица. Лица. Миллионы лиц. Все разные, но ни одного печального, ни одного грустного, злого — только веселые, сияющие, озорные, хохочущие, любопытные, хитрые, хмельные, счастливые. Все, все! И шубы, шапки, кафтаны, платки, армяки, шляпы, салопы, сапоги, туфли, валенки, перчатки, рукавицы — тоже все только самое что ни на есть лучшее, нарядное, цветастое, яркое, веселое. Все это непрерывно двигалось, где-то бурлило, закипало, закручивалось, замирало, шарахалось в стороны, гудело, взревывало, взвизгивало, заходилось смехом, громоподобно ахало, пронзительно голосило, зазывая на «блинки горячие, скусные, кусачие», на «обитель звериный — воистину убойный!», на «патоку с имбирем, за которую денег не берем, почти что даром даем!». Как на масляной неделе Из трубы блины летели, Уж вы блины мои, Уж блиночки мои... 79 Обязательно ходили друг к другу в гости. Зятья обязательно в «тещин день», в среду или пятницу, посещали тещ, чтобы отведать специально для них испеченных блинов и пирогов. И наконец, зазывали, приглашали весну, тепло — солнцето повернуло на весну. Так и приговаривали: «Уходи весна ко дну, присылай весну!» Принаряженные чучела Авдотьи Изотьевны возили с песнями и шутками по улицам, а в конце недели, на Прощеное воскресенье, когда все просили друг у друга прощения за вольные и невольные грехи, соломенную Масленицу провожали, хоронили — торжественно сжигали и вокруг жгли костры из всякого старья и хлама. Тоже, разумеется, с песнями и плясками. То есть провожали, хоронили зиму, хотя она еще могла ударить и морозами, и большими снегами, но ведь солнце-то все равно уже сияло вовсю, по-весеннему. Повторим: этот праздник у нас из самых древнейших, еще языческих, церковь, кроме непосредственного участия в весельях, ничего в него не внесла, и вы видите, сколь он был широк, разгулен, многогранен, продолжаясь целую неделю,— вот как народ умел погулять, повеселиться, распотешить душу и тело. Какова душа народная — таковы и его праздники. ВЫСОТА, ВЫСОТА ЛЬ ПОДНЕБЕСНАЯ Много веков подряд по бесконечным русским дорогам среди прочих путников ехали в телегах и санях, а чаще шли пешком люди, которых все сразу отличали от остальных. Иных только по обличью и поведению, других потому, что они везли с собой особо сложенные сооружения из палок и разноцветных расписных холстин, или несли заботливо завернутые в разные тряпицы домры, гудки, гусли, или вели за собой на цепях, на ремнях и веревках выученных всяким штукам измученных дальними дорогами медведей, коз, собак, свиней, а иногда и совсем редких заморских зверей и птиц, вроде обезьян и попугаев. Да, речь, конечно, о скоморохах — удивительных людях, которые, как уже говорилось, ведут свое происхождение из языческих глубин, где верховодили волхвы. Волхвы ведь лицедействовали, устраивали большие ритуальномистические действа-представления — волхования, в которых обязательно едко, а то и просто весе 80 потешались над тем, чего особенно боялся древний человек; это были своеобразные защиты-обереги, со-4 провождавшиеся пением, музыкой, плясками,— отсюда и пошло скоморошество. А с принятием христианства оно превратилось в представления-развлечения, представления-поучения. Под силу такое было, конечно, лишь людям особенным, наделенным редкими талантами складывать стихи и говорить увлекательно-складно, лучше всего тоже стихами, и изображать кого и что угодно, и петь, играть музыку, плясать, дрессировать зверей, а если требовалось, и кувыркаться-акробатничать. То есть и сочинители и исполнители одновременно. Скоморохами становились только воистину для этого рожденные. А вот сколько существовал этот русский бродячий театр, сейчас и приблизительно не скажешь: с волхованиямито, выходит, тысячелетия. Несомненно, что и очень многое из нашего фольклора — их творения. Сначала действа-волхования сочиняли, а потом и разное другое: сказания, былины, сказки, притчи, потешки-скоморошины (видите, даже название особое имелось), конечно же песни — и сами все это исполняли. И были еще так называемые калики перехожие, которые пели-разносили в основном духовные песни и сказы... Усть-Ежуга, как большинство пинежских деревень, стояла по-над самой рекой на двух довольно высоких для здешних мест горах. Так их ставят, «чтобы вешняя вода не пообидела». Часть деревни на одной горе, часть на другой, а меж ними внизу в Пинегу впадала небольшая таежная речка Ежуга с коричневой водой. Маленькие речки тут все с такой водой, потому что текут в основном по торфяникам. Деревня была не из великих, но бойкая, славная, с ямской станцией — тракт на Мезень с нее начинался. Очень важный тракт, единственный в те края. Обозы шли в десятки, сотни саней — ездили ведь только зимой, летом дороги здесь из-за тех же торфяников и болот почти непроходимы, и люди пользовались реками. J- каждый обоз в Усть-Ежуге конечно останавливался — которые с Мезени к Архангельску, и которые туда ,потому что дальше на двести верст сплошное безлюдье тайга, только вдоль тракта несколько избушек пона-авлено, чаблусы называются — для отдыха путников. Постоялый двор ямской станции был огромный — лько возов и возчиков не случится, все убирались. 81 Однако многие постоянные возчики предпочитали останавливаться у Кабалиных. Места хватало, изба у них была настоящая пинежская: три просторные горницы, да светелка, да две горницы поменьше в зимнике. Возчики входили намерзшие, с сосульками на усах и на поднятых воротниках кожухов и полушубков. Громко топали стылыми валенками, стучали задубевшими рукавицами, стягивали шапки, крестились и кланялись, а обкусывая или отдирая заскорузлыми пальцами сосульки с усов, интересовались, как житье-бытье и здоровьичко почтенного Никифора Никитича и всего семейства. Седобородый Никифор Никитич тут же распоряжался или сам хлопотал насчет самовара и похлебки или решал еще раз протопить по такому случаю печь — это когда было уже очень морозно или одежа у мужиков оказывалась шибко заледенелой, требовала серьезной сушки. Изба быстро наполнялась густым кислым запахом разогреваемой сырой овчины, крепко шибающим в нос духом множества мужицких портянок, пощипывающим глаза махорочным дымом и дымом потрескивающих лучин, которых ради гостей запаляли сразу штук пять. Но, пока все двигались и размещались, в избе нисколько не светлело — желтое пламя лучин моталось, дрожало, по стенам и потолку плясали причудливые тени. Светлело только, когда все рассаживались, и становилось слышно частое фыканье угольков, падающих в воду, в корытца светцов. Вечеряли не спеша, добавляя к кабалинской похлебке и шаньгам кто что имел в дорожном припасе. Разомлев от еды и тепла, соловели, потели, скидывали с печи на пол подсохшие горячие кожуха и полушубки и валились на них, обмякшие, блаженные. Кое-кто вскоре и всхрапывал, но большинству было не до сна — Никифор Никитич уже бередил, уже разжигал их своими вечными, бесконечными вопросами-расспросами. «Какой нынце на Мезени яцмень?» — говор у старика был самый что ни на есть пинежский.— Каку брали семужку?.. Построил ли в Палеме Акимхромой свою хитру мельницю?.. Было ли еще где, что на Агриппину-купальницю лошади не хотели идти в реку? На Пинеге было. Отцего, непонятно... Цто слыхать про волю? Верно ли, цто мужики на Волге хотят земли вовсе без выкупа и бунтуют, жгут господ, и разоряют казенки — не желают больше пить вина?..» Гости таращат глаза; они и ведать про то не ведали, откуда ему все это известно. — Целовек верной сказывал... 82 Старик был не только крайне любопытен, но и мудр, и чаще всего получалось, что через скорое время уже но обозники ему, а он им что-нибудь рассказывал да объяснял. А ведь среди них тоже были люди очень знающие и умные, а уж видели-то некоторые столько, что внучку Никифора Никитича Марьюшку даже зависть брала: и в Петербурге бывали, и в Москве, и в Сибири, а иные на ладьях и по студеному океану аж до самого Груманта хаживали. Девчонкой, пока она глядела на них с печки, Марьюшка не очень-то понимала, почему так происходит: почему все так слушают и любят деда? А потом стала понимать, что он говорит всегда то, что интересно и нужно знать всем, об очень важном для жизни говорит. И она в такие вечера не пропускала уже ни одного слова. Уйдет в бабий кут мыть посуду и моет ее тихо, старается ничем не громыхнуть, не стукнуть, вслушивается во все, что говорится за пестрой сиреневой занавеской, отделяющей кут от горницы. А когда уж притомятся мужики и дух в избе станет совсем тяжкий, и дед приоткроет в сени дверь, и никто уже не будет менять в светце все пять лучин, будут гореть лишь одна-две, и лежащих от них вдали совсем уже невозможно будет разглядеть в сизой зыбкой полумгле, тогда-то ктонибудь и скажет: — Спеть-то споешь, Никитич? Дед заповорачивается, запокашливает и чуть надтреснуто, но внятно и вкрадчиво зарокочет: Што издалеча да из чиста поля, Из того раздолья широкого, Тут не грузна туча подымаласе, Тут не оболоко накаталосе... Светлые глаза его под кустистыми бровями затуманятся, весь он тихонько запокачивается, бороду вздыбит. Тут не оболоко обкаталосе, Подымался собака, злодей Калин-царь... тл заволнуется, сверкнет глазами, голос возвысит. он станет чистый и гулкий. И хотя каждый, конечно, нал эту старину, слышал с детства десятки раз, напряженный гулкий бас все равно словно подхватит его и понесетв немыслимую даль, в эту самую старину, когда по земле ходили и всамделишный собака Калин-царь, и всамделишние Алеша Попович с Ильей Муровичем — Никифор Никитич называл его только так,— а во 83 стольном во граде во Киеве правил Владимир-князь —. Красно Солнышко. Марьюшка слушает и в который уже раз думает, что старины — это голоса минувшего, бывалошнего. И еще думает, что, если бы все старины вдруг по чьей-то воле исчезли, исчезло бы и прошлое, как будто его и не было. А ведь было. Было же! Вот как все зыбко-то! Вот, значит, сколько заключено в простых привычных словах, сложенных в напевы! В душе от этих раздумий что-то холодело, тревожно сжималось... Дед знал много старин: про молодость Добрыни Никитича и бой его с Ильей Муровичем, про купание Добрыни и бой его со змеем Горынищем, про Алешу Поповича и сестру Петровичей, про Соловья Будимировича и Забаву Путявисьню, про князя Михаилу, про Ивана Грозного и его сына... Знал даже старину, которую не знал больше никто: про Вавилу и скоморохов. Но пел ее редко. Остальные же, если разойдется, мог петь одну за другой хоть всю долгую зимнюю ночь, и не было случая, чтобы даже те, кто уснул с вечера, не проснулись и не слушали бы его. Но последнее время стал помаленьку сдавать Никифор Никитич — уже ведь давно за семьдесят: одну-две старины пропоет, и голос сядет, задышит тяжело, виновато разведет руками: — Голосу не хватает...— И к ней, к Марьюшке: — Давай, подхватывай! А она уж на лавке у печки сидит, уже приготовилась. Выждет момент полной тишины, откинется назад, курносый нос вверх, на выпуклом широком лбу испарина — волновалась, не могла не волноваться! Большие глубокие глаза тоже вверх и уж ничего не видит. Зачастила звонко, сразу играя голосом: Во тау-ль и во городи, Во тауль в хорошем-е Поизволил наш царь-государь, Да царь Иван Васильевич. А поизволил женитисе, Да не у нас, не у нас на Руси, Да не у нас в каменной Москвы, Да у царя в большой орды Кострюка, сына Демрюковича, Да у его на родной сестры, Да на Марье Демрюковны... 84 'Это был «Кострюк», которого на Пинеге очень любили даже тех, кто еле-еле напевал старины, и то всегда просили исполнить именно его, и многие только его и умели петь. Петь-рассказывать о забавном случае, которой якобы произошел во время женитьбы Ивана Грозного на этой самой Марье Демрюковне. Сначала царь, как полагается, отправился в Орду свататься, и там «пиро-вал-жировал государь», а «оттули поход учинил» назад, о свою-то в каменну Москву, да он ко церкви пборное да к монастырям церковное, да они веньцами веньцалисе,да перснями поменялисе»... И снова пировал-жировал государь. Говорил его шурин тут, Кострюк, Демрюков сын: «Уж ты ой еси, царьгосударь! У вас есть ли в каменной Москвы, У вас есть ли таковы борцы, А со мной поборотисе, А с Кострюком поводитисе? Да из дани, да из пошлины, Из накладу-то великого?» А говорил тут царьгосударь, Да царь Иван Васильевич: «А любимый дядюшка! Да Микита Ромоданович, Уж ты выйди-ко на улоньку, Затруби-ко в золотую трубу, Штобы чюли за рекой за Москвой, Штобы чюли три брателка Да три брата родимые: Первый брат и Мишенька! Второй брат и Гришенька! А третий брат и Васенька!..» Современному человеку трудно представить себе пение старинщиков. Ничего похожего или близкого к их манере теперь не существует. Поэтому большинству поначалу оно показалось бы и не пением, а довольно монотонным речитативом. Но это только поначалу — минуту или две , не больше, а потом эта монотонность обернулась бы совершенно неведомой и удивительной звуковой ритмикой. Как будто волны звуковые-голосовые на тебя катывают с голосовыми же всплесками-гребнями, ни все шире, эти волны, все могучей, как в разошедшемся море, а всплески все выше, все напряженней, и 85 каждое слово окрашивается ими необычайно, становится тоже очень напряженным. И уже поражаешься и не понимаешь, как у человека хватает на все это дыхания и голоса, ведь старины-былины очень длинные. Но зато тут же хорошо понимаешь, нет, не просто понимаешь, а всем своим существом ощущаешь и осознаешь, что это именно пение, может быть, самое изначальное, какое только знал человек, и потому-то и самое страстное и магическое. Оно завораживает, оно захватывает, волнует и Необычайно возвышает, это пение, и открывает перед тобой не только то, про что поется, но и нечто большее, невероятно важное и такое же огромное, древнее и родное, как сама Мать-земля. А у Марьюшки еще и голос был необыкновенной теплоты, нежности и силы, и, кроме того, она всегда безумно переживала и волновалась, словно та свадьба, о которой пела, происходила не сотни лет назад и не на царском дворе в белокаменной Москве, а совсем недавно и рядом, при ней, при самой Марьюшке, и впечатления от этой свадьбы были такие яркие, что она никак не может успокоиться: торопится, частит, а временами и вовсе захлебывается, давится от смеха, даже слов не разобрать. Замоскворецкие брателки Мишенька, Гришенька и Васенька, конечно, учуяли-услышали зов золотой трубы, явились на царский двор. А Кострюк-то там все «поскакивае, Кострюк поплясывае». Он кичится своей силою, он уверен, что выиграет великий заклад. Однако старший из братьев, Мишенька, говорит царю: «Мне-ка не с кем боротисе». И Гришенька не хочет марать руки об ордынца. И лишь младший, Васенька, готов с ним «поводитесе», но ...Я топеря со царева кабака, У меня болит буйна голова, Шипит ретиво сердце... Ему трижды наливают для опохмелки по чаре вина, «да не велику — четвертиною», и только после этого Васенька схватывается с Кострюком. Но тот сшибает его, да не единожды, а дважды, и Вася даже охромел, но все же на «ножку-то справился», за одежу супротивника «ограбился», всю порвал и поднял его. «На руках-то ей потрехивает, до земли-то не допускает». И тут-то через рванье все увидели, что это вовсе не Кострюк-Демрюк, а сама Марья Демрюковна. 86 Да она проклиналасе, Да она заклинал асе: «Да не дай бог бывати здесь, У царя в каменной Москвы!..» Эти слова Марьюшка уже и не поет, а проговариваеле сдерживая новый приступ смеха, а ее ослепительно сияющие глаза устремлены вверх — туда, где Васенька потрехивает эту обнажившуюся вдруг во всех твоих женских прелестях Марью Демрюковну. Она видит Она даже обхватила себя за узенькие плечики и, раскачиваясь, долго и звонко хохочет, никак не может остановиться. И все мужики в избе тоже хохочут. Они тоже видят эту Марью Демрюковну и скокливого Кострюка и как пировал-жировал грозный царь. «Пировал-жировал!.. Жи-ро-вал!»—ну как тут его не увидеть. Некоторые даже приподнялись и сидят теперь на своих одежах, вытирая обильную испарину, и неотступно, завороженно смотрят на Марьюшку, кто-то даже торопливо запалил еще две лучины, чтобы было хоть немного посветлей. Дед удовлетворенно кряхтел: — Может, «Усишша». — Могу! — Она знала пятнадцать дедовских старин. Несколько пока не выучила, он их почти не пел... После кончины Никифора Никитича Кабалина Марьюшка неудачно выйдет замуж, станет Марьей Дмитриевной Кривополеновой, рано овдовеет, будет побираться, чтобы прокормить себя и дочь, и в конце концов прославится на всю Россию как «вещая старушка», как одна из последних великих русских сказительниц. Но вот кто теперь нам скажет, когда именно рождены былины, которые пели ее дед, она и сотни, а за века тысячи тысяч сказителей? Когда родился совершенно гениальный богатырский цикл с Ильей Муромцем, Доб-рыней Никитичем и Алешей Поповичем, новгородские «Садко» и «Василий Буслаев», захватывающе напряженные по^ сюжету и драматизму «Данила Ловченин» и по-тичнейший, околдовывающий своей словесной вязью «Соловей Будемирович», что начинается ныне всем знакомыми словами: 87 В «Святогоре и Микуле Селяниновиче» рассказывается, что Святогор увидел на пути впереди себя прохожего, но никак не мог его догнать на добром своем коне. Наконец окликнул того. «Приостановился прохожий, снимал с плеч сумочку и кладывал сумочку на сыру землю. Говорит Святогор-богатырь: «Что у тебя в сумочке?» — «А вот подыми с земли, так увидишь». Сошел Святогор с добра коня, захватил сумочку рукою, не мог пошевелить; стал здымать обема рукамы, только дух под сумочку сумел подпустить, а сам по колена в землю угряз. Говорит богатырь таковы слова: «Что у тебя в сумочку накладано? Силы мне не занимать стать, а я и здымать сумочку не могу».— «В сумочке у меня тяга земная».— «Да кто же ты есть и как тебя именем зовут, звеличают, как по изотчины?» — «Я есть Микулушка Селянинович». Крестьянин Микула Селянинович. Он землю орал, обрабатывал. Потом князь Вольга застал его за этой работой, и вся княжеская дружина не могла даже приподнять его сошку кленовую с лемешками серебряными. Вот, значит, в ком все силы жизненные и вся тяга земная и без кого нам ее не одолеть, не поднять — без крестьянина! Основных былин у нас почти шестьдесят, и некоторые из них имеют до трехсот вариантов, и, кроме уже названных, обязательно нужно упомянуть еще «Калику-богатыря», «Авдотью Рязаночку», «Дюка Степановича», «Чурилу Пленковича», «Сорок калик со каликою», «Ивана Гостиного сына»... Нарочно перечисляем так много, чтобы виднее было, какое это великое богатство — наш былинный эпос, который, к величайшему прискорбию, подавляющее большинство русских ныне совсем не знает. А между тем там есть образы такого исполинского масштаба и такой художественной яркости, каких больше не было во всей последующей литературе, и есть такая виртуозно-колдовская словесная вязь и поэзия, что от восторга теряешь дар речи и даже не знаешь, с чем сравнить. Например, это: По саду, саду по зеленому Ходила-гуляла молода княжна Марфа Власьевна, Она с камня скочила на лютова на змея; 88 Обвивается лютой змей Около чобота зелен сафьян, Около чюлочика шелкова, Хоботом бьет по белу стегну, И в та поры княгиня понос понесла, А понос понесла и дитя родила. А на небе просветя светел месяц, А в Киеве родился могуч богатырь, Как бы молоды Вольх Всеславьевич... ...В семь лет грамоте выучился, Письмо ему в наук пошло... А и будет Вольх десяти годов, В та поры поучился Вольх по премудростям: А и первой мудрости учился — Обертываться ясным соколом, Ко другой-та мудрости учился Вольх — Обертываться серым волком, Ко третей-та мудрости учился Вольх — Обертываться гнедым туром — золотые рога... ...Молоды Вольх догадлив был: Сам обернулся мурашиком и всех добрых молодцов мурашками — Прошли они стену белокаменну... А вот из «Ивана Годиновича», который добывал себе невесту и вроде бы добыл, но к их шатру нагрянул поганый парищо Кощерищо, чтобы отбить ее, они стали драться, Иван одолевал и крикнул избраннице, чтобы она подала ему нож добить врага окончательно. Говорит тут парищо Кощерищо: — А й же ты, Настасья Митриёвична! Не подай ножища-кинжалища! Как за им ведь будешь жить, Будешь слыть бабой простомывная, Будешь старому, молодому кланяться. А й за мной ведь будешь жить, Будешь слыть царицей вековечной, Будет старый ведь, малый те кланяться. А й у бабы волос долог, ум короток. Выскакивав Настасья из бела шатра, А й хватает Иванушку Годиновича за желты кудри, А й сбивает Иванушку Годиновича о сыру землю, А й привязали Иванушко Годиновича Ко тому ли его ко сыру дубу, 89 А й той ли его все ковыль травой, А й сами свались во бел шатер. Мало времечко миновалоси: Прилетело три сизых, три малых, три голубя, А й друг промеж другом спрогоркнули: — За что эта головушка привязана, Привязана головушка, прикована? — Ради девки, ради бляди, ради сводницы, Ради сводницы, все душегубницы. Эти речи татарину не взлюбилися, Выскакивает татарин из бела шатра... А вот из «Василия Буслаева»: Которого возьмет он за руку — Из плеча тому руку выдернет, Которого заденет за ногу — То из жопы ногу выломит; Которого хватит поперек хребта — Тот кричит, ревет, окорачь ползет... А это из «Ильи Муромца и Калина»: Как от ржанья лошадиного Унывает сердце человеческо... ...Конца краю силы насмотреть не мог... Ей-богу, не хочется останавливаться, хочется выписывать еще и еще — и самому радоваться и вас порадовать. Кстати, Лев Николаевич Толстой задумывал написать роман о русских богатырях и драму о Даниле Лов-чанине, но, к сожалению, не успел. Невозможно точно сказать, и сколько уже веков существуют большинство всем нам знакомых и таких любимых наших сказок. Нет, любимых — слишком осклизлое слово, тут большее: они в нашей плоти и крови — наши сказки. После колыбельных песен ведь именно они начинали лепку русских душ. А в древности особенно и буквально всех: и кто начинал жизнь в лубяных зыбках в курных избах гденибудь на Печоре, и кто в срачицах тончайшего полотна грелся, подобрав под себя ножонки, на изразчатых муравленых лежанках в каких-нибудь боярских и даже царских теремах. Всем одинаково сказывали мамки, бабки и деды про царевну-лягушку, про Кощея Бессмертного и Василису Прекрасную, про -90 колобок, Ивана-царевича и Серого волка, Марью Моревну и Емелю на печи, про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, про Сивку-Бурку и гусей-лебедей... Повспоминайте, повспоминайте сами, сколько их всего,сказок-то. И сколько воистину гениальных, не уходящих из нас до самой кончины. И многие бессмертные песни — иначе и не скажешь, во они звучат поныне,— существуют века. «Ты взойди-красно солнышко», «Вниз по матушке по Волге»,Эх, ухнем!», «Во саду ли, в огороде», «Я посею ли мла-<( тенька», «По улице, мостовой», «Соловей мой,соловеюшка», «То не ветер ветку клонит», «Во лузях», «Во поле березонька стояла»... В старину пели почти все. Тогда жизни без песен вообще не существовало. Теперь-то все радио поет и разная другая техника, и жизнь вроде бы тоже вся в песнях, но живой человек стал петь в сто, в тысячу раз меньше, а некоторые и вовсе уже никогда не поют, только поорут иногда случайно в застолье и думают, что тоже пели. А настоящая песня — это совсем другое, без нее человеку и пить-то невозможно, без нее душа глухой делается. Прежде люди ой как хорошо это понимали. Потому всю жизнь за песни и держались. Народился человек — мать сейчас же ему колыбельную по десять раз на дню. Уже, значит, песней ему душу лепит. И так потом на каждом шагу: в играх, в церкви, на покосе, на жатве, на гуляньях, когда женился человек, когда помер, когда поехал куда — как всегда удивительно пели на Руси в дорогах-то, как чувствовали, как понимали песенность самой необъятной своей земли! Под последний сноп были песни, целое представление под последний сноп устраивали, всей деревней выходили его зажинать... И сколько же знал каждый тогдашний человек песен, если только свадебных их существовало более четырехсот. А были ведь еще наулочные песни, трудовые, плясовые, любовные, рекрутские, духовные, арестантские, потешные, солдатские, величальные, игровые, детские; были, как Уже говорилось, погребальные и поминальные причеты и плачи, заговоры, наговоры и присказки. Один из пронзительнейших плачей-зовов к родимой матушке, лежащей в могиле, мы уже приводили в главе «Месяцеслов»,а колдовскизавораживающие наговоры знахарей и ворожей — в главе «Поверья, предания, обычаи, обряды». Представить себе жизнь русских без поэзии вообще невозможно — она вошла в их плоть и кровь, стала почти сутью; ведь даже приметы, пословицы, поговорки, Рисказки и загадки у нас чаще всего рифмованы, рит91 мичны, афористичны. Да и в просторечии русские жуть как любят красное, ядреное, меткое, точное словцо и говор ладный да складный, и какие по этой части есть мастаки и великие таланты, каждый знает отлично — так порой прижгут, припечатают, что хоть стой, хоть падай.. Или, как сказал Николай Алексеевич Некрасов: «Лучше не напишешь — хоть проглоти перо!» Много говорено, да мало сказано. Счастье не конь, хомут не наденешь. Русский не боится креста, а боится песта. Брюхо злодей — старого добра не помнит. Легко ранили — а головы не нашли. Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Их около тридцати тысяч — русских пословиц, поговорок, присказок, прибауток, скороговорок и тому подобного. Есть буквально обо всем на свете. А каждая пословица, по определению Владимира Ивановича Даля,— это ведь коротенькая притча; «суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности. И, как всякая притча, полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования, поучения». А поговорка — окольное выражение, переносная речь, иносказание, обиняк, но без притчи, без суждения. А все вместе они еще одна, такая же необъятная, как мясецеслов, энциклопедия народной мудрости «и суемудрия, в которой и стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселие, горе и утешение в лицах». И кто их сочинил — неведомо никому, но все их знают и на них учатся. Зато хорошо известно: что рождались они только в народе, и высшее общество долго их не принимало, потому что это были картины чуждого ему быта, да и не его язык. МУЗЫКА Пастуший рожок, сзывающий стадо, слышишь в деревне обычно еще сквозь сон — от него и пробуждаешься. И испытываешь странное чувство, словно слышишь не музыку, а саму зарю, само занимающееся утро. Даже если это утро пасмурно и дождливо, нехитрый наигрыш нехитрого рогового или берестяного рожка все равно 92 такой сияюще зоревои, в нем всегда столько напевности и прозрачности, простора, солнца и тепла, что чудится что все это рожок вливает и в твою душу, переполняет ее через край, и ты, независимо от возраста, радуeшься этому утру, этому новому дню и тому, что живешь на земле совсем-совсем как в детстве — взахлеб. Спросите кого угодно, кто слышал утренний рожок,-все подтвердят, что испытывали похожее, и большинству еще казалось, что с этих минут у них и впереди теперь будут только солнце, простор и радости. Сейчас-то если и есть у каких пастухов такие рожки, наверняка на всю Россию считанные единицы. А еще лет пятьдесят-семьдесят назад их было полно, и пробуждались под их прозрачные, веселые, зовущие невесть куда напевы миллионы и миллионы почитай что во всех русских селах и деревнях. И триста лет назад миллионы и миллионы так пробуждались. Причем и во всех небольших и малых городах, ибо скотину тогда держали и там. И семьсот, и тысячу лет назад, и невесть еще сколько до того. И души эта музыка тоже лепила своей глубочайшей зоревой красотой, особенно ребятне. А былины, торжественные славы князьям и их ратям и исторические сказания пелись в древности под переливчатый, колдовской рокот гусель яровчатых, многострунных, которые были широко распространены у восточных славян уже в шестом веке. А на бой воинов тогда поднимали громогласные ревы медных и серебряных труб, неудержимая дробь барабанов, гром литавр. Плясал же народ под залихватские пиликанья двух-и трехструнных гудков, напоминавших скрипки, переборы домр, перезвоны бубнов, напевы сопелей и дудок. Музыка этих же инструментов сопровождала и некоторые ритуальные и обрядовые действа, которых, как вы знаете, было превеликое множество. А вот песни обрядовые пелись уже без сопровождения, как сольные, так и хоровые, вся их мелодика, все звуковое узорочье выводилось голосами. И лирические и бытовые песни никогда не сопровождались музыкой. А они были в основном протяжными, широко распевными, какими только и могли быть песни на такой просторной земле, и вместе с тем они были всегда душевно очень напряженными,— русские же не Умеют чувствовать в полсилы, только в полную, до кипения и взрыва! — и эти глубочайшие состояния и на93 строения передавались в песнях тоже только голосами как одиночными, так и многими, слитыми воедино: протяжное многоголосье расцвечивалось необычайно, с непременными подголосками, подчас пронзительнейшими до озноба, которые оттеняют баритональные и басовые фоны, а первый голос ведет и ведет свой задумчивый или грустный, или тоскующий, или обнадеживающий, или печальный, или веселый, или еще какой проникновен-нейший рассказ, который всем переворачивает души. Но на какую именно мелодию, что исполнилось, мы, к сожалению, не знаем, ни одной подлинной древней песенной мелодии не записано, хотя нотная, так называемая крюковая грамота существовала на Руси уже в двенадцатом веке. И все же представить, почти что воскресить, почти что услышать тогдашнее народное пение мы можем, потому что оно, точнее — принципы протяжной народной песни легли когда-то в основу русского церковного богослужебного пения, так называемого знаменного распева. Знамена — это особые нотные знаки, похожие на крючки, которые ставились в церковных книгах над словами ирмосов, кондаков и стихирий, показывая, как именно они должны петься. Это называлось еще крюковой нотацией, и изобретена она на Руси вероятнее всего в одиннадцатом веке, во второй его половине, так как от двенадцатого века сохранилось уже несколько таких певческих крюковых книг. Дело в том, что музыкальные инструменты в православных храмах запрещены, и все богослужения сопровождались и по сю пору сопровождаются только пением хоров, одного или двух, на правом и левом клиросах. Знаменный же распев был подразделен на три: на распространенный, или большой, особо пространный и мелодически очень цветастый, который употреблялся по большим праздникам; на средний, или обычный большой, менее пространный и цветастый,— для воскресных дней; и малый — из сжатых и кратких напевов, употребляемых вне торжественных богослужений. Вообще-то в основе их всех лежали еще греческие восемь гласов или напевов — восьмигласие, октоих, но богатейшие мелодические принципы протяжной народной песни позволили и на этом восьмигласии развить, расцветить каждый распев необыкновенно, причудливейше, превратив русскую литургию тоже в нечто совершенно неповторимое как в хоровом, так и в вокальном искусстве, ибо знаменное пение включало в себя и демественное, то есть сво -94 бодное, использование и красоты редчайших голосов. Действенное пение очень любил еще Ярослав Мудрый.. Да каждый бывавший или постоянно бывающий в русской церкви, где есть настоящий хор, прекрасно знает, как бесподобно его пение, как оно величественно,п'оникновенно, страстно, богато, а зачастую и виртуозно мелодически, как завораживает и облегчает, высветляет душу, отрывая ее от земли и унося в горние выси. К пятнадцатому веку на Руси были распеты очень многие церковные книги, и знаменный распев достиг такого же высочайшего совершенства и национального своеобразия, как иконопись и зодчество. И к счастью, древние грамоты и книги сохранили нам и имена выдающихся распевщиков, а по существу-то композиторов, сочинявших и исполнявших первыми эти духовные песнопения.. В Новгороде Великом в первой половине шестнадцатого века славился Иван Акимов сын Шандуров, который помимо распевов написал и музыкальную грамматику: «Учение о триестествогласии, или тризвучии, правила гармонии, указывающие пределы для мелодических скачков голоса». В «Усольской стране» знаменитым распевщиком был Степан Голыш, создавший свою певческую школу, из которой вышел еще один блестящий композитор и певец — Иван Лукошко, или Лукошков, в иночестве Исайя, ставший архимандритом Рождественского монастыря во Владимире. У новгородцев братьев Василия и Саввы Роговых у каждого была своя самостоятельная певческая школа, в которые приезжали учиться чуть ли не со всей Руси — так они славились. Причем Василий, в постриге Варлаам, руководил ею до последнего дня своей жизни, а она была долгой, и упокоился он в высочайшем сане митрополита Ростовского. Вот как ценились и почитались подобные творцы! При Иване Грозном очень славилась школа его певчих дьяков Федора Христианина и Ивана Носа. Иван Нос распел стихири, богородичные, многое Другое. Дьяк Иван Безбородов распел Псалтырь. И каждый истинный творец конечно же вносил в это искусство что-то свое, новое, так что знаменные распе-вы непрерывно совершенствовались, усложнялись, богатели, никогда вместе тем не теряя своей корневой связи и опоры на протяжную народную песню. Даже Грозный царь и тот ведь, как известно, вложил сию копилку пусть небольшую, но все же свою толику:написал две стихири- сами стихи, указав мотив, на который они должны петься. Одну — посвященную памяти митрополита Петра, перенесшего столицу митрополии 95 из Владимира в Москву, вторую — посвященную Сретенью Владимирской Богоматери. И еще написал канон ангелу «Грозному воеводе», который подписал своим любимым литературным псевдонимом: «Парфений Уродивый». Вы вдумайтесь: деспот, страшнее которого русская история не видела, сочиняет духовные песнопения, и безумно любит их, и всякое иное пение любит, и всякую музыку — слушал гусляров, рожечников, гудошни-ков и иных музыкантов постоянно; и знает, понимает, чувствует все это не хуже своих талантливейших рас-певщиковкомпозиторов Федора Христианина и Ивана Носа. Значит, какой же высочайшей была тогда музыкальная культура! И литературная, поэтическая тоже, ибо он ведь был и талантливейшим литератором, публицистом и философом. И не только он. Не случайно в библиотеке знаменитых Строгановых только певческих книг было сто четыре, и первые принадлежали еще первому Анике Строганову, жившему на рубеже пятнадцатого—шестнадцатого веков. А сколько имен таких же людей история просто не сберегла. Существовали еще и так называемые покаянные, слезные, умильные, духовные стихи, псалмы, которые пели не в церквах, а дома. Особенно широкое распространение они получили в первой половине семнадцатого века, чему немало способствовал выдающийся сочинитель таких псалмов архимандрит Новоиерусалимского Новоспасского монастыря Герман — поэт-песнопевец, который тоже сумел соединить православную гимническую поэзию с народной протяжной песней. Его пасхальное песнопение «Веселия днесь и спасения час» и псалом «Христос рождается» не только скорбно-молитвенны, но и очень личностны, самоуглубленны: «Плавая водою, омываемая тою, зрю ту умерша, писаши вирши Герман, рыдая, поя и вздыхая, месяца мая...» Да и сами лирические и бытовые протяжные песни, в которых народ изливал свою душу, мелодически непрерывно совершенствовались, обретая все новые и новые краски и эмоциональную глубину. В шестнадцатом веке такими прежде всего были очень любимые всеми «Высоко сокол летал», «Ай не павушка по двору», «Ай взошла на меня тоска», «Не кукуй кукушечка», «Вы раздайтесь, расступитесь добры люди», где жена не пускает пьяницу мужа домой, приговаривая: Ты ночуй, ночуй, невежа, за воротами, Тебе мягкая перина та пороша, 96 А высоко изголовье подворотня, А как тепло одеяло темна ночка, Шитой браной положек часты звезды. Каково тебе, невежа, за воротам, Таково-то мне младеньке за тобою, За твоею дурацкой головою... Я ПОСЛАЛ ТЕБЕ БЕРЕСТУ У нас давным-давно твердят и пишут, даже в школьных учебниках, что дореволюцонная, а тем более допетровская Россия была-де чуть не сплошь неграмотной, дремуче-темной, даже из священников многие, будто бы еле-еле умели читать или вовсе не умели и все церковные тексты заучивали с голоса наизусть. Встречали подобные утверждения? Но это полнейшая и подлейшая неправда. В первую очередь — подлейшая. Известный филолог академик Алексей Иванович Соболевский еще в конце девятнадцатого века по далеко неполным древним документам уже показал истинную грамотность на Руси с пятнадцатого по семнадцатый век включительно. Так вот, в семнадцатом белое духовенство было поголовно грамотным, черное — на три четверти, из крупных и мельких земле- и душевладельцев грамотных было чуть больше половины, из посадских — более двадцати процентов, а из крестьян всех категорий — более пятнадцати. Повторим: это данные лишь из тех документов, которые Соболевскому удалось разыскать на исходе девятнадцатого века. А в пятидесятые годы уже прошлого, только что минувшего века археологи академики Артемий Владимирович Арциховский и Валентин Лаврентьевич Янин, ведущие многолетние обширные раскопки в Великом Новгороде, нашли там, как вы наверняка знаете, первые берестяные грамоты. Берестяные грамоты — это продолговатые полоски эересты, которые использовались на Руси для писания вместо бумаги. Писали на них костяными или железными заостренными палочками, называвшимися писалами: буквы прочеркивались, продавливались на бересте. Дорогие бумагу и пергамент использовали тогда только для наиважнейших государственных и торговых документов, все остальное — на бересте по всей Руси. Сергий Радонежский, к примеру, писал письма, в том числе и великому князю, в основном на ней. Были и берестяные 97 Берестяная грамота книжки, даже еще в девятнадцатом веке встречались в поморских и сибирских краях. В Новгороде же их обнаружили потому, что там влажная и особого состава почва, в которой береста и вообще дерево хорошо сохраняются чуть ли не тысячу лет. А в других почвах или совсем, или почти не сохраняются. Раскопки в Новгороде продолжаются по сей день, и с пятидесятых годов грамот там найдено уже более тысячи. Есть и двенадцатого, и тринадцатого, и последующих веков, и писаны они людьми самых разных сословий и положений, включая знаменитого ныне мальчика Онфима, оставившего нам свою азбуку и детские рисунки с пояснениями, и крестьянскую девку, ведущую речь о любви. Крестьян, простолюдинов, ремесленников в этих переписках, сообщениях, приказах, деловых отчетах, договорах и долговых расписках вообще большинство. И есть с сообщениями-уведомлениями, что и до этого, мол, «Я послал тебе бересту». «От Микити к Ульяниц. Пойди за мьне. Яз тобе хоцю, а ты мене. А на послух Игнат Моисеев». Это отрывок из брачного договора тринадцатого века, Игнат Моисеев выступает тут как свидетель сговора. А вот «Поклон от Смена к невестке мое. А же будешь не поминала, ине у тебя солоду было, а солод ржаной в подклете, и ты возьми коробью, а муке колко надобь. И ты испеки в меру. А мясо на сеньнике. А что рубль дать Игнату, и ты дай». То есть по берестяным грамотам получается, что во всех слоях населения уже в тринадцатом, четырнадца-том и пятнадцатом веках грамотных было куда больше, чем показал Соболевский. Насколько конкретно больше — каждый четвертый или даже третий? — сейчас 98 Раскопки в Новгороде сказать невозможно, никаких точных подсчетов не сдеешь, но сам факт, что значительно больше, несомненен. Судя по берестяным грамотам, процент грамотности нат Руси вообще был намного выше, чем определил Собо99 левский. И выше, чем в тогдашней Европе, ибо летопись наша еще под 1030 годом сообщает, что Ярослав Мудрый, придя в Великий Новгород, собрал «от старост и поповых детей 300 учити книгам». А Стоглавый собор в 1551 году особо подчеркивал, что «прежде сего училища бывали в российском царствии на Москве и в Великом Новгороде и по иным городам». И посмотрите, как всегда относился русский человек к книге. В любом писаном завещании наследникам прежде всего перечислялись завещаемые им иконы как высшая духовная ценность, а второй строкой всегда шли книги, хотя они бывали и не духовного содержания, а за ними — драгоценности в золоте, серебре и каменьях, и лишь потом все остальное имущество движимое и недвижимое и капиталы. Литература письменная, книжная появилась у нас, как известно, с принятием христианства, а первые духовные и недуховные книги привозились на Русь из Византии и из восточных православных епархий. И церковнославянский язык нашей тогдашней книжной письменности был заимствован у болгар — славянская письменность великих Кирилла и Мефодия. Однако академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, знавший сей предмет как никто, не без гордости подчеркивал, что русская литература «древнее, чем литература французская, английская, немецкая». А византийская литература и ее ареал не знали такого жанра, как летописание, на Руси же он появился очень скоро — это наша знаменитая «Повесть временных лет» — бесподобно написанная начальная русская летопись. Считают, что основы ее относятся к одиннадцатому веку, а легендарный монах Нестор лишь окончательно все обработал в самом начале двенадцатого. И не менее знаменитое «Поучение Владимира Мономаха» — тоже неведомого другим народам нового, русского жанра. Да и наше гениальное «Слово о полку Игореве», рожденное в том же двенадцатом веке, совершенно уникально по жанру, коему нет подобия во всей мировой литературе. Оно с потрясающей силой соединяет в себе бесподобное ораторское искусство с чисто народными пронзительнейшими плачами и словами. Да в каком простом сюжете-то: ничем не выдающийся, не великий князь проигрывает половцам битву (тоже никакую не наиважнейшую!), попадает в плен, бежит из него, по нему сильно тоскует жена. Больше ведь ничего. Но автор проникает в такие психологические глубины, поднимается 100 до таких художественно-символических обобщений и призывов, что они навсегда стали для Руси путеводными. И позже появлялись новые жанры: политической легенды- «Сказание о князьях Владимирских», «Москва-третий Рим», историко-бытовые повести «О Петре и Февронии», «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе», «Сказание о Дракуле-воеводе». К семнадцатому веку в литературе были еще мудрейшее «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, потрясающее по душевному надрыву и страсти «Моление Даниила Заточника», скорбные «Слово о погибели русской земли» и «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Путешествия Афанасия Никитина», письма Епифания Премудрого и его же подобное необыкновенной песне «Житие Сергия Радонежского», переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским, «Сказания Авраама Палицина», приключенческие, сатирические и бытовые повести «О Бове-королевиче», «О Ерше Ершовиче», «О Горе-злосчастии», «Шемякин суд», «О Савве Грудцыне», «Фроле Скобееве» — и каждое из этих произведений чем-нибудь да поразительно. «Горе-злосчастие», например,— совершенно удивительным отношением к маленькому человеку, дошедшему до последней степени нищеты и морального падения; повесть глубоко сострадает ему и с необыкновенной художественной силой зовет каждого проникнуться чужой бедой, понять таких людей, и если и не помочь, то хоты бы посочувствовать им. Этими гуманистическими тенденциями «Повесть о Горе-злосчастии» во многом опережала литературу своего времени и была как бы провозвестницей основных направлений великой русской литературы девятнадцатого столетия. «Создателями этой литературы,— пишет Лихачев,— были простые крестьяне, ремесленники, мелкое духовенство, влачившее жалкое состояние — то в церковных хорах, то в незначительных церковных приходах, иногда мелкие торговцы и вовсе бездомные люди, «скитавшиеся меж двор» и перебивавшиеся случайными заработками. Для произведений этой народной литературы характерна их живая связь с фольклором и резко критическое отношение к действительности. По большей части это произведения сатирические, зло осмеивающие суд, порядки монастырей, социальное неравенство и прочее. Стоили книги тогда дорого, и в бедных домах они встречались. конечно, не часто. Однако книгочеев и среди бедных, судя по всему, было полным-полно. В те вре101 мена ведь существовал обычай в конце рукописных, а потом и печатных книг оставлять несколько чистых страниц для разных помет, и владельцы их обязательно писали там свои имена и звания, а нередко и свое мнение о книге, и те, кому они давали ее читать, тоже часто писали свои имена, звания и мнения, и по таким сохранившимся фолиантам видно, как много народу читало почти каждую книгу и как много среди них было крестьян, посадских, ремесленников. «Цветник духовный» попа Ивана читал Сумского посада мещанин Максим Рогозин, крестьянин Архангельского уезда Василий Андреев Антуфь-ев» и еще четыре имени. «Лечебник» жильца Григория Ефремова чли его мать, подъячие Карпушка Тараканов и Якушка Штука, отец Якушкин и другие». Была и еще одна очень распространенная форма пользования книгами — приобретение их в складчину. «Сию книгу (духовный сборник) писал поп Иван Шапкин Пунемец, а цену ему от письма склали христолюбцы Иван Семенов Патрик две гривны денег, Савва Заруцкой с Пунемы полполтины, Никита Овдокимов дал бычка, и того бычка продали, а взяли на нем осьмнадцать алтын, и те деньги отдали за тое же книгу, Конон Софронов два алтына, Тимон да Варлам Осиповы гривну да прикладных денег дали гривну». Видите, как набирали полтора рубля — деньги для конца шестнадцатого века весьма и весьма приличные. И поп Иван Шапкин явно работал один, может быть, сам и переплетал. То есть книга была из дешевых. А над изготовлением уже среднего достоинства книг, не говоря о самых богатых, требовались ведь доброписец чернописный, писавший основной текст, требовался писец статейный, который киноварью вязь делал, заставочный писец, рисовавший заставки и буквицы, живописец иконописный, создававший миниатюры, златописец, покрывавший твореным золотом «статии, заставки и части миниатюр». Плюс к этому мастера, которые сшивали отдельные тетради воедино, которые изготавливали из дощечек обложку и обтягивали ее кожей, покрывали кожу тиснением, устраивали медные или серебряные застежки. Плюс к этому мастера, украшавшие оклад: златокузнещ, среброкузнец и сканный. Редко, редко когда многое из этого умел делать один человек, минимум три, четыре, а то и десять-двенадцать человек долго-долго трудились над каждой книгой, и чтобы приобрести такое произведение не хватило бы и семи—десяти бычков. Тем более поразительно, что, несмотря на такую дороговизну, книг у людей было довольно много 102 только у состоятельных, но у средних и даже вовсе скудных. «Апостол» купил у окольничего В. Стрешнева крестьянин села Турунтаева Вологодского уезда Кузьма Алексеев». «Хронограф» дал во вклад рукописный Павел Титов сын Щука». Крепостной крестьянин Дмитрия Поварского Иван Осипов Попов продал торговому человеку Никите Юрьеву рукописную «Минею общую». Соборники «История Казанского царства» и «Жития» принадлежали крестьянину из деревни Жирова Андрею Иванову. Книга «Мая цветник» принадлежала крестьянину села Иваново Никифору Горелину... Подобных свидетельств много, и это только по сохранившимся документам и в так или иначе зафиксированных книгах, а подавляющее большинство их ведь нигде не фиксировалось, и, что еще важнее, сколько их, книг-то, погибло на Руси, в деревянной Руси, если каждый ее город, село и деревня и многие монастыри не единожды выгорали буквально дотла от стихийных пожаров и подожженные врагом. Конечно же, погибло книг во много-много раз больше, чем сохранилось и как-то зафиксировано. И все-таки в книгохранилище Кирилло-Белозерского монастыря, например, к концу шестнадцатого века насчитывалось более тысячи трехсот книг, в Соловецком монастыре — почти полторы тысячи, в ТроицеСергиевом — семьсот пятьдесят; в остальных — поменьше. Ходят легенды о якобы совершенно необыкновенной по подбору и количеству книг библиотеке Ивана Грозного, но она загадочно исчезла и никак не находится, так что ничего толкового о ней сказать нельзя. Несомненно лишь то, что она была, и наверняка интереснейшая. А вот какую в то же самое время библиотеку имел известный солепромышленник Аника Строганов, мы, к счастью, знаем: двести пять книг. А к началу семнадцатого столетия у всех Строгановых их насчитывалось уже около девятисот — больше, чем у Государя и даже у патриарха Филарета, отца первого из династии Романовых у него их было двести шестьдесят одна. Других точных данных по серьезным книжным собраниям не существует, есть лишь косвенные сообщения,что они имелись во всех церквах — десятки и даже сотни книт, в основном, разумеется, богослужебных, духовных. И многие частные лица имели по нескольку десятков книг, но подавляющее большинство-то всего по нескольку штук, и тоже в основном, конечно, духовных, из главных канонических и неканонических. 103 Тогдашняя литература процентов на восемьдесят-девяносто была духовной, и эта массовая тяга русских в первую очередь именно к таким книгам свидетельствует, что они уже и тогда прежде всего искали в них не развлечений и забав, не советов, как побыстрее обогатиться или половчее что-то устроить,— они искали в книгах ответы на главное, что должен понять каждый человек: кем, зачем и как устроен этот поднебесный мир, и что в нем предначертано именно ему, конкретному человеку и конкретной душе, и как он должен по-настоящему, по совести и по-божески устраивать и свою жизнь, и свою ДУШУ- Душа уже и тогда была у нас главнее всего. И еще одно: русские книгописцы, помимо строения — тогда говорили только так! — богодухновенных «Евангелий», «Апостолов», «Псалтырей», очень любили строить, составлять удивительные Соборники — сборники, в которые, наряду с сочинениями, поучениями и словами великих святых и отцов церкви, помещали и многое другое: местные летописные своды и выборки из каких-то сводов, жития русских святых и разных подвижников, свои собственные сочинения, раздумья и пояснения, чисто литературные произведения. А многие русские святые, подвижники и святители и сами при жизни были искуснейшими книгописцами, и их соборники превращались в подлинные энциклопедии, дававшие читателям и новые обширные знания, и новые мысли. Преподобный Кирилл, основатель знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря и современник Андрея Рублева, например, среди прочих своих писаний оставил и сочинения «О стадиях и поприщах», «О широте и долготе земли», «О земном устроении» и «О расстоянии между небом и землей», в которых вступил в полное противоречие с главным авторитетом по этой части для тогдашней церкви Козьмой Индекопловым, утверждавшим, что земля стоит на семи столпах. Кирилл же Белозерский считал, что она висит в воздухе «посредством небесной празности», а по форме напоминает яичный желток, то есть шарообразная. Протяженность же земли по экватору по Кириллу равна 240 000 стадий, а «небо отстоит от Земли на такое расстояние, что человеку, делающему в день по 20 поприщ (около двадцати верст), пришлось бы идти 500 лет». Это все писано им в 1412 году на основании изучения наблюдений и вычислений тогдашних «звездоблюстите -104 - и землемерителей» всего света, труды которых он явно знал. А семьюдесятью годами позже иеромонах того же онастыря книгописец Ефросин в одном из своих Соборников записал большое сказание о Куликовской битве, Слышанное им когда-то от некоего старца Софония-рязанца. Не записывал вслед за сказывавшим Софонием, ниоткуда не переписывал, а записал целиком по памяти причем не сразу, а через приличное время. Вот была память! И это сказание Софоний даже никак не озаглавил, Ефросин сам назвал его «Задонщиной», которая теперь украшает любую хрестоматию древнерусской литературы. Да, художественно «Задонщина» впрямую подражает «Слову о полку Игореве», но это говорит о том, насколько популярно было «Слово...» уже тогда, в пятнадцатом веке, что ему не стесняясь талантливо подражали. Есть подозрение, что Ефросин если и не целиком придумал этого «некоего старца Софония», то все равно внес в «Задонщину» очень много своего — по памяти ведь, говорит, записывал. И «Сказание о Дракуле-воеводе» иеромонах Ефросин первым поместил в книге. И повести «О Китоврасе» и «Об Индийском царстве», которые выбрал, пересказав из «Александрии» — чрезвычайно популярного средневекового приключенческого романа об Александре Македонском. В заключение повествования Ефросин добавляет, что «Александр Македонский умер в Вавилоне... Жил же тридцать два года. Покорил двадцать два варварских народа и четырнадцать эллинских племен, создал одиннадцать городов. От Адама до смерти его прошло лет 5167, а до рождества Христа он был за 300 лет и 33 года...» Вот как широко и цельно видел мир и историю человечества сей иеромонах Ефросин да и все другие наши Древние литераторы и книгописцы. ИЗЪМЕЧТАНА ВСЕЮ ХЫТРОСТЬЮ Первые каменные храмы тоже созданы у нас христианством, и строились они поначалу, разумеется, тоже по образу и подобию византийских и болгарских. Причем служили они тогда не только культовым целям — храмы являлись и символами княжеской власти, их могущества были главным украшением для городов, превосходя остальные, в основном деревянные, постройки своей величиной и монументальностью. Возле них, как уже го105 ворилось, устраивались все важнейшие общенародные сборища, торжества, в них хранились главные священные реликвии и казна. Идеи величия и мощи, выражаясь сегодняшним языком, были главными идейно-художественными задачами тогдашней церковной архитектуры, и в Киевской Руси культивировались поначалу, как в Византии и Болгарии, формы скупые и строгие, размеры грандиозные, под стать государству. Однако довольно скоро стало появляться немало и вполне самостоятельного. В новгородско-псковском зодчестве византийское влияние уже не чувствуется вовсе. Тут все с самого начала было предельно просто и мощно даже и при малых размерах, без геометрической сухости, словно эти здания не выкладывали из тесаных тяжеленных камней, а лепили из мягкого материала руки какого-то великана, который страшно не любил прямых и острых линий — все неровно сглаживал, отчего древние новгородско-псковские строения кажутся совершенно живыми, полными силы и красоты. Близ Новгорода у знаменитой церкви Спаса на Нередице появилась и первая русская колокольня, а в Пскове — оригинальные, будто небольшие фигурные стеночки с прорезями, звонницы, которых дотоле не было нигде и которыми можно любоваться бесконечно. Владимиро-суздальское зодчество отличалось удивительно одухотворенным изяществом и стройностью, а потом и тягой к богатому узорочью, к белокаменной резьбе. Небольшая речушка Нерль близ Владимира. Сейчас рядом и никакого селения нет, а там на низком бережку в двенадцатом веке вырастает церковь Покрова Богородицы совершенно немыслимой стройности, чистоты, простоты и глубочайшей, неброской, именно русской красоты; прямо как юная ясная душевная русская невеста самого Господа Бога стоит и светится — беленькая, беленькая и нежная. Ее поставил великий князь Андрей Боголюбский в память по своему безвременно скончавшемуся юному сыну. А тридцатью годами позже в самом стольном тогда Владимире по-над Клязьмой поднимается тоже невеликий по размерам, но поразительно внутренне могучий Дмитровский собор, который покрыт снаружи такой фантастической, многозначительной и изящной белокаменной резьбой, какая есть еще только на Георгиевском соборе в соседнем Юрьеве Польском, сооруженном в те же времена. Ныне эти богатейшие, сказочно-загадоч106 ные, полные идеоматического смысла рельефы с полным основанием считаются шедеврами мирового искусства, репродукции с них есть во всех историях искусство, что именно зашифровано в сих многочисленных дивных фигурах, ученые, как ни бьются, до сих пор так и не разгадали. Слишком, видимо, поздно взялись за то когда ключ к подобным идиомам был уже давно потерян. Нет на земле ничего похожего и на московский Кремль. В какое угодно время с какой стороны ни подойдешь — с Москворецкого ли моста, с Софийской ли набережной, с Красной площади, от Манежа и Волхонки, куда ни взглянешь — везде радость и загляденье: и стены, и башни, и храмы, и купола, и Иван Великий со звонницей; все палаты и дворцы, и сам холм-то этот редкостно величавый, так горделиво вознесший над Москвой это чудо. У большинства из бывавших там не единожды наверняка есть и что-то такое, что запало в душу больше всего и стало чем-то очень дорого и любимо: у одних, возможно, это тесно сошедшиеся Патриаршая палата и ризница, у других — навершия Потешного дворца с множеством тонкошеих золотых куполков поблизости или чтото иное в жарком сиянии золота, свечении мрамора и блескучих переливах муравленых изразцов. Если иноземец, совсем не знающий Россию, нигде, кроме Москвы, больше в ней не бывавший, видит хотя бы один лишь Кремль, он все равно уже понимает, чем наша страна отличается по облику от других стран. А при внимательном рассмотрении и всю ее историю может здесь увидеть. Потому что ничего похожего на Спасскую башню, на Боровицкую, на Кутафью и другие на земле Действительно больше нет. И колокольни подобной Ивану Великому с его звонницей нигде нет. И подобных соборов и палат. И Теремного дворца. И дворцов, возведенных позже. Тут все неповторимо русское, и потому-то само собой, а не по чьей-то воле московский Кремль УЖ(! давным-давно стал ярчайшим символом России. Даже не символом, это намного большее — он как некая гантская драгоценность, вобравшая в себя все самое прекрасное, что было и есть в России и русских людях за все прожитые ими века. А теперь давайте вспомним, что основные храмы колокольню Ивана Великого и башни Кремль обрел уже пятьсот лет назад, еще при Иване Третьем, великом князе Московском, который начал собирание разрознен107 ных русских удельных земель в единое целое,которого за это первым нарекли Государем и Царем всея Руси объявив, что он лишь обличьем, как все люди, а на самом деле наместник самого Господа Бога на русской земле. При нем же, при Иване Третьем, впервые прозвучало знаменитое: «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать!» И он же, овдовев, взял себе второй женой принцессу из некогда великой византийской династии Палеологов Софью, и сделал герб византийский — двуглавого орла — и гербом собираемой им Руси. Хорошо известно, что этот брак, это породнение со столь громкой династией нужны были Ивану для поднятия международного престижа его государства и для возвышения над другими русскими князьями, терявшими независимость. И необыкновенная пышность его двора, введение при нем очень торжественных церемоний и ритуалов преследовали ту же цель. И Москву, и в первую очередь Кремль он стал перестраивать-отстраивать для того, чтобы сделать их краше всех других городов, то есть сделать истинной столицей большого государства. И лучшей помощницы и даже вдохновительницы в этих делах, чем новая великая княгиня, которую в Москве стали именовать Софьей Фоминишной, Иван не мог бы и придумать. Ее семья жила в изгнании в Италии, там она входила в возраст, там воспитывалась, серьезно и многому училась и, конечно же, была вся пропитана воспоминаниями и преданиями о былом необыкновенном величии Палеологов. И ей, конечно же, хотелось такого же величия на Москве. А женщина она была твердая, тонкого ума и очень деятельная, не мытьем, так катаньем, впрямую или сложными интригами, но своего, задуманного добивалась всегда. И перестроить-отстроить Кремль по-настоящему, по ее твердому убеждению, могли только лучшие зодчие мира — итальянцы — фряги, как их тогда называли на Руси. Итальянцы были и в ее свите, которая прибыла с ней в Москву. Но в основном приехали греки. Свита была очень большая. Русь никогда не чуралась никаких иноземцев, но греки в ней в те времена преобладали. Из греков поначалу поставлялись, как известно, довольно долго наши митрополиты, другие иерархи и духовные деятели, иконописцы, зодчие, а русский монастырь был на их удивительной святой горе Афон, и всякий истый наш монах непременно ходил туда приобщиться великих тайн и откровений. 108 Наша тогдашняя духовная связь, вернее, даже единство, с Грецией, тоже, пожалуй, не имеет ничего похожего в мире. И все-таки столько греков и фрягов, сколько их стало при Софье Фоминишне, Москва дотоле никогда не видела. Многие высшие должности при дворе перешли в их руки, даже главным великокняжеским казначеем стал грек Траханиот. Из русских же зодчих на кремлевских работах осталась одна лишь артель псковичей, строивших Благовещенский собор и церковь Ризположения. А новый Успенский собор, на месте обветшавшего и снесенного старого, возводил широко известный в Италии Аристотель Фиорованти. Архангельский — Алевиз Новый Бон Фрязин строил колокольню Ивана Великого. Марко РуФФо и Пьетро Солари — Грановитую палату. Башни и стены Кремля — Антон Фрязин, Марко Фрязин Пьетро Солари и Алевих Фрязин. Двадцать лет кипели эти работы при самом Иване Третьем и еще лет десять-при их с Софьей сыне Василии Третьем. Причем сразу же родилась и потекла в народ легенда о том, как русские зодчие-псковичи начали сами возводить в Кремле главную святыню Руси — новый Успенский собор, но столь сложная задача оказалась им не по силам — они якобы слишком неумело готовили раствор для таких толстых стен, и почти завершенная постройка вдруг рухнула. Поэтому-де и был приглашен на возведение святыни пусть и не православный, а латинянин, но очень именитый Аристотель Фиорованти, а за ним и другие. Верно, было: почти построенное вдруг рухнуло. Но только одного история не упоминала: что именно в эти дни в Москве случилось невероятно редкое для нее сильное землетрясение. И были другие разрушения. I еще не упоминалось, конечно, что все, что до того было построено на Руси, то есть тысячи и тысячи храмов, крепостей, монастырей и всего иного, было построено самими русскими, среди которых псковские мастера считались за лучших, и ни одно их из строений ни до, ни после того не рухнуло. Ну Да ладно, слишком много воды утекло. В общем, фряги построили то, что им заказывали.Вот только выглядел их Кремль сосем не так, как нынче. Лишь Благовещенский и Успенский соборы и церковь Ризположения были точно такие же. Помните: Благовещенский и Ризположения строили именно псковичи. А Успенский собор государь Иван Третий повелел Фиорованти сделать по образцу прежней святыни послекиевской Руси — Успенского собора во Владимире. Зодчий 109 ездил туда, провел все необходимые обмеры и в общем, ни в чем не отступил от образца, добавив к нему лишь немногое, что одобрил великий князь. И облик Архангельского собора Алевиза Нового был в принципе, по требованию великого князя, традиционно русским, но тогда он не имел позднейших больших пристроек с двух сторон и стоял геометрически очень сухой, как бы голый что выглядело непривычно для Руси. А колокольня Ивана Великого не имела двух верхних ярусов и ничего действительно великого из себя не представляла. И слитая с ней церковь-звонница Иоанна Лествечника была много ниже и не такой нарядной. Башни же Кремля все до единой лишь чуточку возвышались над стеной и представляли из себя прямоугольники с огороженными площадками наверху. То есть это были типичные крепостные башни типичного средневекового европейского замка-крепости, построенного для защиты от врага. Московский Кремль тоже существовал именно для этого, и первые каменные его стены воздвиг, как известно, еще Дмитрий Донской. Иван Третий лишь сделал их прочней и непреступней. Вот только выглядел этот, сотворенный фрягами, замок в тогдашней Москве совсем чужим. Ведь город-то за его стенами и за Москвой-рекой растекался по семи холмам почти сплошь деревянный и необычайно островерхий — теремной. Терема в два, три, четыре этажа, очень затейливые, богато изукрашенные, с крытыми галереями-переходами, резными крыльцами, верхние ярусы опоясаны круговыми балконами-гульбищами, да еще всякие выносные балкончики, светелки, навесы, выпуски, причудливые и причудливо крытые кровли, все карнизы, окна, углы, всходы, причелины в наряднейшей, иногда сплошной резьбе. И все хозяйственные постройки, все ворота и заборы — с затеями и украшениями. А уж про деревянные церкви-то и говорить не приходится — все сплошное загляденье, диво на диве. Радостный был город. Очень радостный. И представляете, с какой скукотищей глядели современники на тот новопостроенный московский Кремль, особенно на его прямоугольные безликие тумбы-башни и стены без зубцов в виде ласточкиных хвостов. Это чувство, видимо, будоражило и грызло тогда всех, потому что уже в 1520-х годах, то есть всего через пятнадцать-двадцать лет после завершения основных строек, Василий Третий уже повелел русскому зодчему Бажену Огурцову переделать Фроловскую (Спасскую) башню. И Огурцов водрузил на гигантскую каменную тумбу с 110 проездными воротами тот каменный чудо-шатер с курантами, который существует и поныне и который делает ее необычайно стройной и величественной. Он же Бажен Огурцов, по желанию того же Василия Третьего вскоре возвел в Кремле и причудливый, необыкновенно нарядный каменный Теремной дворец — весь в ступеньках, разнообразных шатрах, золотых куполах, в одном месте он имел аж шесть этажей, а кровля была медная, золо- ченая, выложенная в шашечку. Следом за Фроловской в ближайшие десятилетия надстроили кирпичными шатрами и другие проездные и угловые башни — все совершенно разными. А со стороны Москвы-реки небольшие башни так совсем низенькими шатрами, чтобы не загораживали панораму Кремля из Замоскворечья. И колокольня Ивана Великого была поднята на целых два яруса. И церковь-звонница Иоанна Лествечника возле нее. И к Архангельскому собору сделали сложнейшую пристройку. Только после всего этого Кремль и стал совершенно неповторимым, каким мы его знаем и каким бесконечно восторгаемся и гордимся. Строить из камня и кирпича так же, как из дерева, конечно невозможно или почти невозможно: тут иные конструкции, иные формы и приемы строительства. И все же деревянное зодчество было для русского человека настолько своим, родным, рожденным самой его землей, его душой и миропониманием, что он в конце концов и в камень и кирпич перенес из деревянного все, что можно было туда перенести, и уже к шестнадцатому веку каменные церкви, вообще все каменное зодчество стало у нас в основном тоже шатрово-теремным. Даже затейливейшее внешнее убранство камнездатели научились наводить из фигурного кирпича, резного камня, цветных изразцов и разных кровельных материалов. Такова церковь Вознесения в подмосковном селе Коломенском, в которой в камне совершенно бесподобно воплощен не только высоченный красивый шатер, выражающий из ступеней кокошников, но и вся конструкция верных деревянных храмов с опоясывающими их внизу сплошными крытыми крыльцами-гульбищами Возведено Вознесение в 1532 году в честь рождения будущего царя Ивана IV Грозного. А двадцатью годами позже в соседнем с Коломенским Селе Дьякове уже заботами самого Ивана Грозного в честь рождения его первого сына Ивана поднялось еще одно диво в том же народном вкусе — причудливейшая, 111 весело разузоренная, по существу пятистолпная церковь Иоанна Предтечи. Еще же через шесть лет — вот как строили! — опять же заботами Ивана Грозного и трудами камнездателей Бармы и Постника, в Москве на Красной площади выр0о собор Покрова «что на рву», названный позже народ0м Василием Блаженным. Он так известен, о нем тоже так много сказанонаписано и он действительно так гениально неповторим и прекрасен, что никаких новых восторженных слов уже не найти. А посему подчеркнем лишь суть: Василий Блаженный вобрал в себя, слил воедино в камне буквально все самое замечательное, что было рождено нашим народным зодчеством, и прежде всего именно деревянным, то есть что рождено жизнерадостной фантазией нашего народа, его неодолимой тягой к сказочности, к мечте о действительно прекрасной жизни. У нас был даже целый город, который пытался запечатлеть эту мечту в строениях. Это — Ярославль. К середине семнадцатого века в Туле, Кашире, около Воронежа, на Урале, в Томске и других местах поднялись десятки заводов и фабрик — железоделательные, медеплавильные, текстильные, поташные, кожевенные, стекольные. За все предыдущие века их было построено меньше, чем за несколько десятилетий семнадцатого. Хозяевами заводов и фабрик становились посадские торговые людишки, ремесленники да черносошные крестьяне, переходившие в связи с этим в купечество и даже в «именитых гостей». Они же заправляли и на великих ярмарках, собиравшихся в Москве, в Ярославле, Великом Устюге, Тихвине, Соли Вычегодской и на Волге у стен Макарьевского Желтоводского монастыря. Везли теперь на каждую ярмарку со всей России определенные товары: в Ярославль, например, в первую очередь кожи, мыло, текстиль, сало и мясо, а отсюда — лучшую чуть ли не во всей Европе юфть, щетину, полотна, замки, зеркала, изделия из серебра и многое, многое другое, но уже не здешнего производства. Город превратился в ту пору в главное перепутье Руси, в ее второй торгово-промышленный центр после Москвы. Через него шли дороги на Москву и из Средней Азии, дороги с Севера, с Урала, из Сибири. В городе существовали конторы английских и голландских негоциантов, лавки бухарцев и индусов. Он богател и рос как на дрожжах. Год 1648-й. Открыт «край и конец Сибирской земли»Обнаружено, что «Азия отделена от Америки водой.” 112 Это записи устюжанина Семена Дежнева — работника торговых людей Усовых из того же города на Сухоне, снарядивших его на исследование далеких земель... К краю Сибирской земли по неведомой дотоле реке Амуру идут один за другим казаки Поярков и Ерофей Хабаров с малыми товарищи». Закладывают там первые русские поселения и одно из них называют Хабаровском... Ярославский рыбопромышленник Гурий Назарьев остывает на реке Яик город Гурьев... До семнадцатого века простые, «последние люди» никогда не играли в жизни Руси такой огромной роли. И первая причина тому — события 1612 года. Идея всенародного ополчения, сбор средств на него, его поход и победа над поляками всколыхнули народное самосознание по существу впервые разбудили его. И чем дальше от 1612 года, тем глубже и яснее осознавали «последние люди», что это именно они, предводительствуемые своим человеком, «говядарем» (мясником) Кузьмой Мининым а вовсе не «лучшими и большими людьми», спасли страну в тяжкую, страшную годину. И народ, разумеется хотел и дальше влиять на ход событий, на развитие общественной мысли, особенно те, кто избирал духовную карьеру — там сословных рогаток-то не было,— да те, кому удавалось разжиться торговлишкой и промышленностью и выбиться в «гостинные сотни». Мало что ярмарки, заводы и фабрики были в их руках, и все землепроходство, и что они ставили новые города и давали им свои имена, ярославский земский староста меховщик Аникей Скрипин — он вел меховую торговлю вместе с братом Нифантием — даже сумел втолковать царю Алексею Михайловичу, что государственная казна полнится не от монастырских доходов, а в первую очередь от посадских, от купечества. Так и писал в одной из челобитных: только, мол, с моих сибирских промыслов «идет в казну пошлина на год на JU00 рублей и больше». И что есть и другие пошлины и подношения государю немалые от Скрипиных и иных ярославских купцов и ремесленников. И государь вместе патриархом Иосифом прислали Скрипиным в подарок так называемой Ризы Господней — высший религиозный знак верховного к ним благоволения. Вот, значит, как глубоко чувствовали, в чьих руках действительное могущество Русского государства и их самих. Но проще всего утверждать свое и «показывать себя»бывшие да и настоящие «последние люди» могли, конечно в делах созидательных, в искусствах и ремеслах, не случайно именно тогда, в семнадцатом веке, мастера 113 каких-нибудь олонецких или, скажем, воронежских деревень и городков делали вещи такого же высочайшего художественного достоинства, как и мастера царской Оружейной палаты. Иконы, писаные в Соли Вычегодской у торговых людей Строгановых, по миниатюрности письма и по своей золотой нарядности не имели себе равных на Руси. Там же процветало производство неповторимо красивых, так называемых «усольских лицевых эмалей» с красочными картинками в обрамлении пышных орнаментов. Дивными эмалями славился и Великий Устюг, где, кроме того, изготавливались лучшие в стране вещи из просечного железа с удивительнейшим «морозным узором». С поморскими мастерами из Холмогор никто не мог сравниться в резьбе по моржовой кости. В былинах и летописях есть упоминания о том, что их костяное кружево бывало порой так мелко и замысловато, что «только мурашу в вырез пройти». В Смоленске жили великолепные переписчики книг и художники-миниатюристы, в Великом Новгороде — златокузнецы, сребро-кузнецы и сканных дел мастера, всю продукцию которых — богатейшие серебрянозолотые оклады для книг и икон — норовили забрать себе царский двор и патриарх. В Городце, как помните, фантастическими деревянными узорами покрывались избы и речные суда. А Ярославль отличился своими церквями. Всего за полвека в нем было возведено тридцать девять храмов. Вы только вдумайтесь: тридцать девять за такой срок, и чуть ли не каждый второй, а уж каждый третий-то точно — подлинные шедевры, составляющие славу русского зодчества. Заказчиками буквально всех были отдельные купцы или слободы — ремесленники-то жили слободами. Скрипины построили Ильинскую церковь, которая столь прекрасна, что уже в восемнадцатом веке стала центральной точкой центральной площади Ярославля, хотя у Скрипиных она была всего лишь их домовой церковью. Сыновья Гурия Назарьева Михайло, Андрей и Иван воздвигли в Ярославле дивную церковь Рождества Христова. Кроме того, они продолжали расширять и основанный их родителем город Гурьев, «наймаша за великие деньги», возили туда своих земляков камнездателей — так именовали тогда строителейкаменщиков. И купец Алексей Зубчанинов, дед и отец которого были еще в неволе у Спасского монастыря, поставил близ стен этого монастыря неповторимую церковь в честь Богоявления. Толчково — это слобода за рекой Которослью, впадающей в Волгу,— когда-то дальняя западная окраина 114 Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове Ярославля. Жили здесь кожевники, вырабатывавшие ту тонкую красную юфть, которая славилась на Руси и за ее пределами. Как для всякой кожи, для юфти нужны были дубильные вещества, и в слободе существовали особые мельницы, в которых толкли дубовое корье. Отсюда вроде и пошло название — Толчково. В первой половине века слободская церковь «святого Иоанна Предтечи была древяная», но в «лето от сотворения мира 7167-е (1659 год)... в день святые Пасхи... возгорися пламянем великим, от коего погоре вся даже до основания». Знаменитей слободы, чем Толчково, в Ярославле не было, и естественно, что кожевникам хотелось, чтобы и их новая церковь была невиданной и стала знаменитой, «как диво преудивленное», или, как говорится в одном, еще более старинном, русском строительном документе Андрея Боголюбского, чтобы была «изьмечтана всею хытростью». Ярославские слободы и отдельные купцы тогда открыто соперничали между собой в возведении храмов. 115 Строили же слободы их, как и села, в складчину. Поп Абросим и дьякон Родион, назначенные возглавлять дело, вели книгу, в которую записывали все взносы. Она сохранилась. Кто жертвует для будущего храма дворовое место, кто слиток серебра, кто «огородную землю с хоромы», кто «поллавки с погребом», одна женщина записала кружев на 32 рубля, другая принесла несколько ниток жемчугаЛюди отлично понимали, что на грандиозную затею нужны большие деньги,— несли самое ценное, что могли. Потом все жители слободы обсуждали на сходе, каким именно хотят видеть свой будущий храм: вспоминали разные уже существующие и решали, подходит ли им похожий?.. И вот поди теперь дознайся, был ли «образец» у толчковского «Предтечи»? Судя по сохравившимся русским церквям, не было такого образца. Однако кожевники «того же дня начаша полагать меру», то есть разметили план постройки, после чего весь народ копал рвы, забивал дубовые сваи, бутил фундаменты. Это все записано в книге. И только после того как фундаменты были готовы, «наяша каменноздателей», которым было продиктовано уже совершенно определенное планово-композиционное решение будущего храма. И есть бумаги, рассказывающие, что в Ярославле большинство слободских храмов строились подобно Толчковскому — всем народом. И заметьте, это нисколько не возмущало зодчих, которые, видимо, находили, что так оно и должно быть, что народ не меньше их, профессионалов, разбирается в зодчестве. И в самом деле: фундаменты возводили сообща, фигурный кирпич изготавливали сами, изразцы заказывали в соседних слободах и посадах, оттуда же звали живописцев и тех, кто умел высекать из железа ажурные подзоры и навершия для крылец, кто умел ковать крылатых драконов на входные двери и вырезать из дерева огромные богатейте разузоренные иконостасы и кружевные царские врата. Пришлых мастеров никаких не использовали. И причудливые купола свои ладили, и медь золотили и чеканили, и по финифти работали... Девяносто восемь ремесленных специальностей насчитывалось в Ярославле к середине семнадцатого века, и среди них сто кузнецов, сорок семь серебряников, двадцать медников, десятки художников, гранильщиков, золототкачей, резчиков, гончаров, зеркальщиков, замочников. А камнездателей к концу века стало около семисот, и почти все потомственные. И это в городе, где ремесленникам и купцам принадлежало всего три тыся116 чи дворов. То есть здесь почти в каждой семье были мастеравиртуозы, так или иначе участвовавшие в возведении церковных и иных строений. А так как вкусы все они имели единые и стремились в этих делах к одному, тут сложилась своя сильнейшая архитектурно-художественная школа, свой стиль, который очень быстро завоевал популярность по всей Руси. Ярославцы, сообщают документы, «на каменных и кирпичных делах в Москве и иных гродах по все годы». Патриарший двор, Иверский монастырь, Вологда, Романов, Новгород, Тула, Астрахань... Ставили и ставили церкви, крепостные башни и стены, мосты, торговые ряды и многое, многое другое в своем народном духе, завоевывая ему все большие и большие пространства и все большее и большее место в сердцах россиян. И артели ярославских иконописцев работали тогда в Москве, в Ростове Великом, Вологде, в Троице-Сергиевой лавре, Туле, Твери.... Когда-то тут, на обрывистом берегу Которосли, толпились дома, кожевенные мастерские, жили и работали люди, а сейчас тянутся только высокие заводские заборы и в разрыве меж ними в полном безлюдье и тишине стоит церковь, которая не похожа ни на какую другую и которая прежде всего поражает своим многоглавием. Невольно спрашиваешь себя: сколько же на ней этих глав-то — десять, двадцать? И как интересно сгрудились, как придвинулись к алтарной стене, и какая эта стена громадная и мощная. Таких громадных стен в русских храмах вроде никогда и не делали... Однако походишь, походишь возле нее, задрав голову и придерживая шапку, поахаешь да вдруг, разглядишь, что алтарь здесь в одно целое еще с двумя симметричными алтарями приделов слит и это, собственно, их общая стена, потому-то она такая широченная и такая мощная. А так она обыкновенная, и если главы чуть-чуть отодвинуть, то ощущения будут совсем иными... Их здесь пятнадцать, глав-то, пять на основном кубе и по пяти на приделах. Стоят они очень кучно, барабаны высоченные, купола затейливые, а центральный так даже двойной — форменный сказочный огромный букет. Этот «Предтеча» вообще весь сказочен, как никакой другой храм в Ярославле, и больше похож на развеселый старинный терем. Потому что, помимо необычной конструкции, он снаружи еще и в сплошном ликующем узорочье, которое обычно-то в Других церквах, в том числе и ярославских, видишь в основном-то внутри. А тут ни одной чистой наружной плоскости нет — все в рельефных цветных узорах И са117 сушить и обжечь многие сотни тысяч замысловатых, сложнейших фигурок. Причем на «заводах», вся «технологическая линия» которых состояла из обыкновенных ящиков для замесов, из дощатых сараев и навесов да каменных колодцев с дырками внизу и вверху, устроенных в склонах оврага. В этих колодцах обжигали кирпичи, укладывая их на березовые поленницы. «Заводы» располагались неподалеку на том же обрывистом берегу Которосли в «казенных» оврагах. Когда понадобилось, толчковцы арендовали у властей овраги, устроили эти заводики и сами в основном и «работали те кирпичи». Впечатление от их дива ошеломляющее и остается в душе навсегда — так все в нем неожиданно, радостно и сказочно. И хочется повторять и повторять: обойдите хоть всю Россию, хоть весь белый свет, а такого тоже нигде больше не встретите ИКОНОПИСЬ Крыльцо церкви Иоанна Предтечи мое удивительное, что «сплетены» эти дивные узоры в основном из кирпича. Из бордового. Зеленоватые и голубые изразцы лишь вкраплены в него. Да огромные плоскости восточной стены раскрашены «под руст», то есть ложная граненность нарисована. А все остальное — кирпич. Карнизы из него, гирлянды, поребрики, балясины, бусы, фестоны, гирьки над входами — всего просто не перечислишь, украшений сотни, и есть такие, которые и из дерева-то нелегко было бы вырезать или выточить. А здесь мастера, оказывается, даже не вытесывали их из кирпича, а изготавляли такой фигурный кирпич (он называется лекальным) прямо на заводах. У нетесаного-то фактура благородней, и он прочнее. А вы представляете себе, что значит отформовать из глины и песка, вы-118 Иконы — это искусство... и одновременно как бы не искусство, а нечто значительно большее; иконам молятся, от них ждут чуда, им поверяют самое сокровенное, что лежит на душе, на них надеются, от них ждут совета и помощи, утешения, успокоения, а нередко и боятся их, когда сильно грешны. То есть они, видимо, действительно обладают некой неведомой силой, данной им самим Богом. Во всяком случае, они — главные связные между людьми и Им даже в Божьих домах-церквях, не говоря уж о жилищах и всех иных местах. Потому и существовали иконы явленные, чудотворные, целительницы и заступницы. Даже у всей нашей страны ведь есть такая легендарная заступница-охранительница — Владимирская Божья Матерь. Иконы занимали в древней жизни место совершенно исключительное. Они были буквально в каждой избе, в каждой горнице и спаленке любого жилища, любых палатах, теремах, покоях и дворцах, на всех городских воротах, во всех присутственных местах, в кружалах, в любой лавке, лабазе, на любой речной барке и барже, на ямских станциях, в походных шатрах; многие постоянно носили маленькие иконки на груди вместе с нательными крестами, почти все брали с собой в дальние дороги складни и целые складные киотики. Иконы висели на каждом дорожном кресте-голубце, в каждой часовенке. И кроме того, почти все каменные церкви внутри покрывали богатейшие, иногда сплошные росписи-фрески на те же священные темы и сюжеты. Жизни без икон 119 для русского человека вообще не существовало, так же как жизни без хлеба и воды. А чтобы удовлетворить такие огромные потребности в иконах, требовалось, естественно, и великое множество иконописцев, или, по-старинному, изографов. Они были во всех мало-мальски значительных городах, работали и в одиночку, и целыми артелями, мастерскими. Были почти в каждом монастыре. В нескольких больших селах: Палехе, Мстёре, Холуе. Некоторые бояре и именитые торговые гости имели собственные иконописные мастерские, а с шестнадцатого века и на царском дворе завелась постоянная мастерская. И самое любопытное, что невозможно сказать, какая из них была лучше или хуже и где вообще писали лучше — в Новгороде или Ярославле, в Кирилло-Белозерском монастыре или при царском дворе. Да, особенности были у разных земель, и даже, к примеру, у Строгановской мастерской, родившей строгановское миниатюрное, почти драгоценное по отделке письмо; но это только особенности, которые позже стали называть разными иконописными школами — московской, новгородской, тверской, ярославской, а блестящие мастера были везде, и великолепные иконы выходили отовсюду. Да и основной поток рядовых икон за века приобрел такие отточенные формы, что тоже был весьма высокого качества. Ведь как готовились иконописцы? У каждого самостоятельного мастера было несколько подмастерьев и ученик. Как правило, один. К желающим попасть в ученики сначала непременно приглядывались, разузнавали, есть ли у мальчонки тяга к рисова нию, рисует ли и как, каков глаз, усидчив, трудолюбив ли? Если все это наличествовало, десяти-двенадцатилетний парнишка брался в ученики. Меньше возрастом брали крайне редко и старше тоже. Требовали, чтобы уже умел читать и писать. Начинали же с того, что мастер выдавал мальчонке грунтованную доску и рисовал на ней в левом верхнем углу контур рукавички. В центре доски нужно было научиться рисовать точно такую же. Делалось это кистью и сажей, разведенной на яичной эмульсии. Она потом свободно стиралась. Когда мастер скажет «хорошо», переходили к рисованию руки с растопыренными пальцами, затем к руке, сжатой в кулак, за тем к руке указующей, благословляющей, к левой и правой стопе ног. И лишь овладевший в совершенствеэтими и другими деталями допускался наконец к копированию, опять же только в рисунке, какого-нибудь святого. Учитель смотрел, что у мальца лучше получается: 120 лица и головы или одежда? Если первое — начинали готовить из него «личника», если второе — «платьечника» или «доличника», если же все — полного мастера, после чего, собственно, и начиналось самое главное: малец или очень долго учился рисовать буквально все, или отдельно только головы и тела разных святых, или только до-личное— разные одежды, палаты, горки, деревья, травы, орнаменты, а потом еще дольше овладевал техникой письма красками — так называемыми плавями, когда краски наносятся тончайшими прозрачными слоями одна на другую в определенной последовательности, чтобы появилась в каждой прозрачная глубина и перламутровая переливчатость, поверх которых кладутся, подчеркивая, обозначая форму, оживки белилами или твореным золотом, а также разные узоры. Постигал эту сложнейшую науку ученик все на той же доске, выданной ему в первый день прихода в мастерскую. Напишет — мастер сделает замечания, и краски соскабливались ножом. Это называлось «работа под нож». Если все шло успешно, то ученику поручали наконец писание дешевых икон «в дело», то есть уже на продажу, а через какое-то время допускали и до дорогих. Последние делались только на липовых и кипарисовых досках, вызолоченных, и потому эта работа называлась «на золотых». Одновременно с главной учебой будущий иконописец овладевал и техникой изготовления досок. Мало, что у этих досок любых размеров должна была быть идеальная поверхность с выступающим бортиком и не единого сучечка, и они и через сотни лет не должны были ни выгибаться, ни трескаться, для чего сзади в них в узкие пазы загонялись поперечные шпоны, а «с лица» наклеивалась паволока — холст. А потом их левкасили, то есть грунтовали: покрывали специально сваренной густой массой из рыбьего клея и мела с добавлениями красок, это делалось несколько раз и всякий раз подолгу сушилось, а в завершение еще и полировалось пемзой и иными средствами так, чтобы поверхность становилась гладкой и твердой, как кость. Краски иконописцы в старину тоже, конечно, изготовляли сами: терли разные сухие красители в фарфоровых или стеклянных чашках или на гладких камнях фарфоровыми или стеклянными пестиками, перемешивали их с яичными желтками или с льняным, ореховым или каким другим, тоже особо приготовленным маслом. И все кисти вязали — изготавливали сами: большущие и большие из свиной щетины, поменьше — из бар121 сучьего волоса, еще меньше — из беличьего, совсем тоненькие — из колонкового. Есть такой редкий зверек с красноватой упругой шерстью. И сусальным и твореным золотом самые дорогие иконы покрывали сами. Потом это золото натирали-полировали, чтобы хорошо сияло, волчьими зубами, закрепленными в специальных держалках из железа или крепкого дерева. Но случалось нередко, что и три, и четыре года сидит иной парнишка над своей доской, а не получается у него ничего путного — не дал Бог таланта! Таким ничего не оставалось, как определяться в подмостерья, если, конечно, тот же иконописец готов был оставить в таковых: готовить доски, краски или что еще, что требовалось в мастерской, а то и вовсе искать какого иного пропитания. И каждый изограф тогда, конечно, твердо знал, что «иконную хитрость изобрете ни Гизес Индийский, ни Полигнот, ни египтяне, коринфяне, хияне или афиняне, но сам Господь, небо украсивший звездами и землю цветами в лепоту». Знал, что первое подлинное изображение Христа сделал Он сам, приложив к лицу своему полотенце, на котором отпечатался Его лик, названный потом «Спасом нерукотворным». Знал, что первыми подлинными иконописцами были, по легендам, евангелист Лука, апостол Ананий, еще несколько святых, подвижников и отцов церкви. Именно Лука изобразил первым Богоматерь, причем писал ее будто бы прямо с натуры. И о многих других иконных образах и сюжетах сохранились такие же предания, и названы были такие изображения подлинниками, от которых все последующие иконописцы не имели права отступать. Так установили и строжайше предписали специальные Вселенские соборы, собиравшиеся по этому поводу в Никее в 787 и в Константинополе в 843 годах. Последний установил и праздник Торжества Православия и утвердил так называемый иконописный канон, в котором самым детальнейшим образом были определены все допускаемые в иконописи сюжеты, композиция каждого из них, зримый лик, образ каждого святого, и прежде всего, конечно, Христа, Троицы, Богоматери, все знаки-символы, которыми так изобилуют Священное писание и священные предания. Даже одежды всех святых в каждой композиции, любой предмет, деталь, цвет — всего этого были строжайше определены и предписаны. Да и как же иначе. Ведь иконы не картины. Они хотя и изображают в основном происходившее на земле, но 122 сверхъестественное, непостижимое, божественное, а зачастую и с участием сил небесных — разве это могло все выглядеть совершенно по-земному, реально? И как Б абсолютно человечно реальных святых или ангелах, архангелах или самом Христе можно почувствовать их подлинную сверхъестественную сущность? Как, наконец, икона-картина, где что-то изображено иллюзорно, может заставить человека молиться ей, чувствовать что-то необыкновенное, чувствовать самого Господа Бога, общаться с Ним и со святыми заступниками, охранителями, целителями, молитвенниками?.. Конечно, это возможно только тогда, когда и язык иконы, изобразительный ее язык, подобен ее предназначению, когда он способен нести именно то, что должен нести. Именно такой язык, выработанный иконописью, и узаконил иконописный канон. Язык абсолютно условный, язык сплошных художественноживописных символов, который никак не похож и вообще не имеет ничего общего, например, с языком современной живописи. Он — именно и сугубо иконописный и, возможно, действительно изобретен ни Гизесом, ни Полигнотом и кемто еще, а самим Господом. Не случайно же самые главные композиции или подлинники просуществовали в иконописи по тысяче с лишним лет. Не случайно и основные ее символы и цвета существуют аж по сей день. Мало того, все считали, что иконы должны делаться только «чистыми руками», об этом записано даже в 43-й главе «Стоглава»: «Подобает живописцу быть сми-ренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце; особенно же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением... А живописцев тех (т. е. хороших) беречь и почитать больше простых людей...» Известно, что многие славные иконописцы перед особо ответственной работой подолгу затворничали, постились — готовили себя к ней, очищали душу, «набирались высоких чувств и мыслей». И все-таки в двенадцатом-тринадцатом веках русские иконы уже заметно отличались от своих прародительниц — икон византийских. «У византийцев все суровое и гневное, у русских — ласковое и доброе» — сказано в одной умной книге. Как же так: строжайший божественный канон — и отличие, да огромное и постоянно растущее? А дело в том, что, не нарушая основ канона, на Руси иконописцы все же постоянно что-то понемногу изменя123 ли в нем сообразно своим понятиям и вкусам: чуть сдвигали фигуры или чуть меняли их позы, все выразительней делали их пластику, особенно пластику силуэтов, превратив силуэтность вообще в одну из важнейших своих особенностей, каких не знали византийцы. И главное, на Руси всегда совершенно независимо и по-особому пользовались цветом, опять же в принципе не нарушая канона, религиозную символику; если требовалось, чтобы хитон на Христе был красный, а гиматий — синий, они и были, в сущности, всегда таковыми, но только у красного и синего, как у всех иных цветов, ведь сотни оттенков и градаций, и этим русские пользовались прежде всего. То есть, попросту говоря, они постоянно совершенствовали иконописный язык, и чем талантливей был мастер, чем острее он чувствовал возможности цвета и силуэта, тем смелее он изменял, совершенствовал канон и даже создавал совешенно новые композиции, по существу новые подлинники. Икона «Покров Пресвятой Богородицы» рождена на Руси. И дивное новгородское «Чудо о Фроле и Лавре» с множеством разноцветных коней, где сами краски поют о том, какие несметные богатства и красоты даровал Господь людям в Поднебесной. И новгородские же знаменитые «Георгии Победоносцы» на белых конях и полыхающих красных фонах рождены у нас. И «Битва суздальцев с новгородцами» с сотнями сражающихся воинов — то есть настоящее батальное творение. И многоярусные, богатейшие церковные иконостасы, которые с полным основанием можно назвать неповторимыми религиознохудожественными ансамблями, тоже придуманы нами. А как, при общем единстве, разнообразны отдельные русские иконописные школы. В новгородском письме все всегда было посвящено созданию величавого, духовно значимого образа. Монументально-торжественные композиции, подчеркнутая простота форм, яркая декоративность, построенная на эмоционально очень глубоких, а графически очень четких отношениях больших цветовых плоскостей. Основные цвета тут: теплые желтые и коричневые, прозрачно-зеленые и полыхающие киноварно-красные самых немыслимых оттенков — все такой интенсивности, такой звучности, что большинство новгородских икон воспринимаются как могучие и торжественные живописные симфонии, глядя на которые, трудно остаться равнодушным, трудно не почувствовать мощь и величие изображенных на них святых. Таков их «Спас нерукотворный» с огромнейшими глазами, который глядит на нас как бы 124 свыше хотя мы прямо перед ним, глядит с такой пронзительной проникновенностью, что даже сердце сжимается и чувствуешь робость — Сам Господь глядит!! Таков их многофигурный, многоярусный «Страшный суд», еще более сложная помянутая «Битва суздальцев с новгородцами», «Пророки Даниил, Давид и Соломон» на горизонтальной иконе для пророческого чина, «Огненное восхождение Ильи Пророка» и «Илья Пророк» поясной на тревожно-багряном фоне. Чарующую технику плавей — многослойного, углубляющего цвет письма — придумали тоже новгородцы. А севернее и северо-восточнее Новгорода иконописцы будто списывали святых со своих коренастых, крепких, бородатых, скуластых, курносых и синеглазых земляков — лесовиков, землепашцев, поморов. Достаточно взглянуть хотя бы на приземистого, белобородого Кирилла Белозерского, писанного его современником Дионисием Глушицким, видимо, действительно или прямо со святого подвижника, или по свежей памяти. Это подлинный портрет, а не икона. И все-таки — икона. Магией обладает той же. Сейчас образа из тех краев называют «северными письмами». В них многое очень наивно и непосредственно, но глубина и очарование в этом тоже бездонные. Наша же всеобщая тяга и любовь к узорочью сказочному ярче всего проявилась все в том же Ярославле. Там даже румянец на щеках Богоматери и младенца и то писали как узоры — яблочками. И все одежды-одеяния разузоривали сверхзатейливо, празднично и радостно, а потом и все строения-палаты, пейзажи — все, все. В четырнадцатом-пятнадцатом веках Русь имела уже совершенно свой, неповторимый иконописный язык. Он же все равно что музыка, этот язык. Музыкальные звуки ведь не звуки жизни, это или звуки небесные, или звуки нашей души, или то и другое вместе. Краски, цвет и пластика в иконах — то же самое. Они не краски и не пластика природы. Они — оттуда и из нас. Они — совершенно самостоятельный особый мир, и по-настоящему этот мир существовал только на Руси, а в творениях Андрея Рублева и Дионисия вообще воспарил гУДа, откуда, кажется, пришел. Оба они представители московской школы. В самом деле, сколько ликов Христа было написано на земле до начала пятнадцатого века, до Рублева? Конечно же миллионы. И среди них, конечно же, были совершенно потрясающие, как тот же новгородский «Спас нерукотворный». А с конца семидесятых годов четырнад125 цатого века на Руси еще работал прославленный мастервиртуоз Феофан Грек, из тех греков, что нахлынули к нам вместе с Софьей Палеолог. Какое-то время совсем еще молодой чернец Андрей по прозванию Рублев даже расписывал практически под началом этого Феофана Грека Благовещенский собор в Кремле. Однако до чего же это были разные художники и до чего же «Спасы» Феофана далеки от рублевского. Рублевский вообще не похож ни на один из миллионов своих предшественников. Он создан для «Диесуса» одного из звенигородских храмов, и называется «Звенигородским». Он погрудный. И все в нем вроде бы ясно обозначено: абрис лица, головы, шея, глаза, нос, рот, бородка, но вместе с тем он совершенно воздушный, невесомый, и как будто наплывает на нас откуда-то, и весь светится невыразимым золотистым свечением. Не только очень близкое к этому по цвету лицо, но и блекло-вишневые волосы, и бледно-синий гиматий, и даже оливковый фон золотисто светится — и наплывает, наплывает невесомый, воздушный, даже как будто и расплывающийся — и потрясающе красивый, обвевающий тебя необъяснимым, но совершенно осязаемым теплом и чем-то еще таким огромным, прекрасным и возвышенным, что тоже невозможно передать никакими словами и что подвластно только Богу. И ты не понимаешь, нет, ты всей своей плотью ощущаешь, что это Он, сам Господь,— невесомый, неземной, необъятный, наплывающий, покоряющий и всемогущий. А Рублевская «Троица»... Сюжет ветхозаветной Троицы тоже из наиглавнейших в иконописи и из самых символичных, и канон ее был разработан детальнейше и повторен тоже, конечно, миллионы раз. Но Рублев взял да и почистил традиционную схему-композицию от всего, что в ней было второстепенного, и только пластикой и красками, цветом, только изобразительными символами, то есть сугубо иконописным языком, передал смысл Троицы и смысл вообще христианства с такой потрясающей силой и полнотой, какой не достигало больше ни одно художественное произведение в мире. Не случайно о ней, о рублевской «Троице», написаны тысячи страниц на разных языках и существует множество отдельных книг, и все-таки никто не сказал о ней и доли того, что говорит она сама. Ее нужно смотреть и смотреть без конца, даже в репродукциях, и это никогда не надоест; наоборот, со временем она тянет к себе все больше и сильней, и в конце концов вы обязательно поймете, постигните, что 126 немыслимая красота рублевской «Троицы», красота каждой линии в ней, каждого цвета, каждого отдельного ангела и всех их вместе, образующих символический круг беспредельности,— это наша общая символическия печатленная мечта о настоящей жизни. Жизни с Богом и в Боге. Современники говорили, что Андреи Рублев «аки дымом пишет». И все созданное им было, конечно, канонизировано, и тысячи последующих иконописцев писали по его подлинникам. Причем началось это еще при его жизни, и он даже сам делал для других со своих работ так называемые прориси — переводы на бумагу абрисов своих композиций. Эти контуры потом прокалывались, прорись накладывалась на приготовленную иконную доску, по дырочкам ударяли марлевым мешочком с угольной пылью, контуры отпечатывались на доске — и схема перенесена, работай дальше красками. И большинство творений Дионисия было канонизировано еще при его жизни. Он родился лет через десять после кончины Рублева и был не монахом, как тот, а мирянином, по натуре же истинным поэтом: безумно любил .жизнь и все, что его окружало, и людей, всем и всеми всегда восторгался, и его тоже все всегда любили. Одержимо и очень быстро работал, но мог так же самозабвенно и загулять, забражничатъ. И какую бы самую печальную или грустную икону ни писал, великое его жизнелюбие и восторженность все равно везде торжествовали. Даже мученики и те у него внешне всегда красивы, а уж немученики-то вообще заглядение: все удлиненно-стройные, полные изящества, в наряднейших одеждах, очень многие в белоснежных разузоренных. Ни у кого не было никогда в иконах столько белоснежного, очень нашего, русского, по сути, цвета. Причем тоже светящегося, какого-то очищающего, высветляющего душу. В огромной житейной иконе «Митрополит Алексий в житии» его очень много. А в другой большой сложнейшей иконе, посвященной Богоматери — «О тебе радуется, благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род», белого хотя и поменьше, но зато как все ликующе многоцветно, нарядно, утонченно и гармонично — взаправду буквально все радуется. Была такая нежно-голубая, необычайно звенящая краска — голубец, близкая бездонной голубизне весеннего неба и молодым василькам. Делалась она из редкого горного синего минерала и стоила очень дорого, но рус127 ские иконописцы так ее любили, что хоть по чуть-чуть но употребляли довольно часто, а великие — так всенепременнейше. У Рублева в «Троице» есть голубец, в других работах. Дионисий в огромных росписях собора Рождества Богородицы в Ферапонтовой монастыре бесподобно соединил его с прозрачно-нежно-розовыми, и от этого соединения толстенные стены храма там совсем не чувствуешь, их как будто вовсе нет и ты уже не в храме, а в самих горних нежно-голубых вершинах. Веком же позже костромской иконописец Гурий Никитин целую грандиозную роспись построил на этом голубце. Помните, ярославские торговые гости меховщики Скрипины поставили в центре города дивную домовую церковь в честь Ильи Пророка. Так вот, когда братья Скрипины уже отошли в мир иной, вдова Нифантия Улита решила церковь расписать и пригласила для этого костромского иконописца Гурия Никитина «со товарищи», к которым добавила четырех ярославских мастеров во главе с Дмитрием Семеновым (им поручила роспись галерей). Выбор этот говорит о том, что вдова или сама хорошо разбиралась в иконописи, или имела таковых советчиков, ибо на Волге не было тогда живописца сильней и славней, чем купеческий сын Гурий Никитин, а в Ярославле не было никого лучше Дмитрия Семенова. С середины семнадцатого века Никитин не раз вызывался в Москву для исполнения государевых и патриарших заказов. Получил звание иконописца первой статьи, а потом, по ходатайству Симона Ушакова, и самое высокое звание — царского жалованого иконописца, то есть получающего постоянное царское жалованье. С шестидесятых годов Гурий стал работать вместе с Силой Савиным, тоже костромичом и царским изографом. Расписывали соборы в московском Кремле, Троицкий собор переяславского Данилова монастыря, церковь Григория Неокесарийского в Москве, церкви в Ростове Великом, куда их позвал один из замечательнейших русских церковных деятелей митрополит Иона Сысоевич — кстати, тоже выходец из народа. Но это в основном летние работы, а зимами в накрытую толстыми снегами Кострому приезжали нарочные подьячие с иконными досками в мешках и с такими вот грамотками к костромскому воеводе: «А как к вам ся наша великого государя грамота придет, а подьячий к вам приедет, и вы бы тот образец и цку (так в семнадцатом веке именовались иконные доски) велели у него принять и того часа сыскать костромских иконописцев 128 Гурия Никитина с товарищи и велели на той цке писать против образа генваря к 30-му или февраля к 10-му нынешнего года самым тщательным добрым письмом». Н У Никитина было много блестящих работ, но Ильинские росписи — одна из вершин всей древнерусской ико-описи. Чуть ли даже не последняя, так как вскоре после их создания на Руси начались так называемые петровские реформы и ничего подобного уже никогда не делалось. Да судите сами. Через сводчатую дверь вы входите из галереи Ильинской церкви в сам храм — всего три, четыре шага,— и вокруг оказывается столько удивительной голубизны и столько розового, золотого и белого, столько прекрасных лиц, нарядных фигур, движения, дворцов, белоснежных коней и цветов, что начинает казаться, что вы попали всетаки не в храм или... в храм-диво. Стены и потолки, вернее, своды и четыре массивных столпа от самого пола покрыты тут сплошной росписью, точнее говоря, бесконечной чередой то меньших, то больших картин, между которыми нет ни разрывов, ни рамок. На стенах, правда, они выстроены в восемь рядов, но каждая новая картина как бы вытекает из предыдущей или продолжает ее, так что можно считать, что один ряд — это одна гигантская картина. Повествует каждый ряд о жизни и деяниях какого-нибудь святого, начиная со дня его рождения и кончая уходом в мир иной. Идешь вдоль стен слева направо, а перед тобой своеобразнейшие живописные повести разворачиваются. Если же всю эту роспись все-таки расчленить мысленно хотя бы посюжетно, то получится, что на стенах, на сводах и на столпах Ильинской церкви написаны сотни картин, совершенно поразительных по художественному совершенству и своей поэтической, духовной силе. И все выдержаны в единой живописной манере, в одном цветовом ключе, кисть везде виртуозна, могуча и одновременно легка — как легок бывает напев, рожденный не умом, а сердцем. Как пластически все напряжено, например, в сцене с больным полководцем Нееманом, ждущим в коляске исцеления у родника... Какие тяжкие, горькие раздумья рождает картина, где озорные мальчишки глумятся над плешивым Елисеем и где тут же, на заднем плане, лютые медведи, по его наущению, терзают за это тех несмышленых маль чишек... 129 Как глубока скорбь матери из Сонама, на коленях которой умирает ее маленький сын... Какой поразительной цветовой гармонии художник добился в сцене «Жатвы»... Это все эпизоды лишь одного повествования: о деяниях пророка Елисея, ученика Ильи Пророка. Если же вскользь упомянуть все интересное и в других повествованиях, то только на это уйдут десятки страниц. Так вот о женщине, потерявшей сына, и об помянутой жатве. В Библии рассказывается, что стараниями Елисея некая бесплодная женщина наконец родила. «И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя, голова моя болит! И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его... И он сидел на коленях у нее до полудня и умер». Происходило это, по рассказу, у подножия горы Гелвуя, что в Палестине среди песков и каменистых гор. А Гурий Никитин «со товарищи» изобразил русское поле и рожь, которую жнут серпами русские мужики и бабы, одетые в очень красивые голубые, розовые и красные рубахи навыпуск. А рожь — золотисто-желтая, спелая. Порты же у мужиков набойные, узорчатые, какие носили на Руси в древности, и тоже голубые да розовые и белые. И все фигуры в разных плавных позах, как волны, эту рожь по диагонали пересекают. Цветовая ритмика и гармония — бесподобные. А главное — нежное все, солнечное, улыбчивое. Во фресках, где краски кладут прямо на сырую штукатурку, они вообще всегда мягкие и прозрачные получаются, а тут еще самые звонкие и приятные из них взяты — в основном голубые да розовые и красные, да на золотисто-желтом фоне. Музыка! Ну а как же ребенок? Ведь в библейском сказании не жнецы главное, а он. Художник его тоже изобразил, но только на самом заднем плане: стоит там какой-то мальчонка с двумя взрослыми и руку поднял. И все. Если не знаешь, ни за что не догадаешься, зачем они в этой картине. Вот вам и толкование священного сюжета: одно лишь слово в тексте мелькнуло «к жнецам», а художник какое-то свое поле вспомнил, и, наверное, теплые запахи поспевшей ржи, и небо высокое, и голоса родные. Он об этом картину написал, о самом дорогом его сердцу — о России. И Ноев ковчег у него строят так, как строят бревенчатую русскую избу. Вокруг сруба лошади толпятся, коровы, свиньи, птица домашняя и всякие лесные звери, но большей частью тоже свои — зайцы, олени, медведи... 130 Все святые и все обычные люди на этих фресках необыкновенно здоровые, сильные, красивые. Тела у них только удлиненные и стройные, и каждое в движении-или в стремительном, или величавом. Застывших персонажей вообще нет: жизнь то неудержимо несется в этих повествованиях, то как будто клокочет, то замирает в ожидании чего-то и полна тогда глубокого внутреннего напряжения. И лица у всех красивые, и одежды. Многие ткани покрыты сплошными разнообразными узорами. И все украшения в узорах. И оружие. Конская сбруя. Колесницы. Полы, потолки и стены в дворцах и чертогах. Домашняя утварь. В пейзажах в дивные узоры сплетаются даже самые обыкновенные травы и цветы. Но главное, что тон всему тут задают голубые — самые обильные в русской стенописи. Ну а какие чувства может разбудить в человеке обильная, прозрачная, звенящая голубизна да в бесподобных сочетаниях с нежными розовыми, белыми, с теплыми золотистыми, вишневыми, оливковыми, коричневыми, сиреневыми... К этим писаным узорам добавьте еще богатейшие золотые орнаменты огромного резного иконостаса, резных птиц, фантастические цветы и гирлянды патриаршего места, тончайшее, будто и не из дерева резаное, кружево сени — специального навершия над престолом в алтаре. Оно здесь из самых роскошных в России и похоже на шатер крошечной сказочной церковки, в которой тоже объем громоздится на объем, узор на узор... И все же была на Руси иконопись, которая по своей нарядности, богатству и художественной изощренности превзошла даже ярославцев, превзошла буквально всех. Речь, разумеется, о строгановских письмах. Вообще-то они родились в Москве в шестнадцатом веке, где ряд царских изографов, выполняя заказы знаменитых солепромышленников Строгановых, учитывали их вкусы и пожелания сделать все «поузористей и понарядней». А потом купцы создали и собственную мастерскую в Соли Вычегодской, куда в шестнадцатом же веке перебрались из Новгорода. Кто-то из первых Строгановых, по преданиям, был и сам иконописцем, причем очень хорошим, и семейное, а по существу-то глубоко народное, пристрастие к узорочью стало главным в их письмах. Иконы здесь начали покрывать сплошными тон-аицщми золотыми орнаментами, больше всего схожими орнаментами русской скани. Особенно славились миниатюрные строгановки, так называемые «Праздники» и Жития, когда на доске максимум в двадцать пять-тридцать сантиметров высотой в центре изображался в 131 полный рост какой-нибудь святой,— это называлось средником,— а вокруг него располагалось двенадцать, а то и в два раза больше клейм — крошечных круглых или квадратных сюжетных картинок с многими фигурками в каждой. Клейма повествовали о разных эпизодах жизни изображенного в центре святого и писались из-за капельных размеров только с помощью мощных луп. Писались виртуозно, с детальнейшими проработками всего и вся, а потом на каждую картинку наносился еще и фантастически тонкий сплошной орнамент настоящим твореным золотом. И рамки и боковинки миниатюрных икон отделывались настоящим золотом, а положенные прозрачными плавями одна на другую краски светились дивными самоцветами, и каждая от этого превращалась в подлинную художественную драгоценность, подобных которым тоже не было больше нигде. РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ И ИЗ ДЕРЕВА О работе с деревом, о резьбе по дереву и из дерева сказано уже немало. И все-таки необходимы добавления. Сейчас в Москве есть станция метро Коломенская, а неподалеку от нее на высоком берегу Москвы-реки расположена музей-усадьба с таким же названием. Когда-то это была одна из подмосковных усадеб русских царей. На Воробьевых горах была, в селе Измайлове, в селе Преображенском и здесь, в Коломенском. Большая усадьба, красивая, с селом, с деревянными и каменными хоромами и с первой каменной церковью Вознесения с высоченным шатром, возведенной при отце Ивана, Василии Третьем, о которой тоже уже говорилось. Когда цари с семьями, челядью и придворными отправлялись в Коломенское, поезда в десятки, а то и сотни экипажей растягивались на несколько верст, и бывало, что головные уже въезжали в усадьбу, а последние еще не покидали Москвы. Особенно любил Коломенское Алексей Михайлович. Лето почти все проводил там, наезжал и зимой. Там, в заливных лугах за Москвой-рекой, в те времена водилось несметное множество уток, гусей, куликов и прочей водоплавающей птицы. А Алексей Михайлович был страстный охотник, держал сотни соколятников с соколами, псарей с борзыми и гончими собаками и всех иных необходимых для охоты умельцев, и охоты в Коломенском устраивались грандиозные, многодневные — воистину царские. 132 Человек образованный, умный, с хорошим вкусом, он конечно же хотел, чтобы его любимая усадьба стала еще красивей, еще удобней и отрадней, и решил построить в ней дворец, каких бы свет еще не видывал — всем на удивление. И непременно деревянный, как было заведено на руси. Во все времена до него и при нем у нас все были убеждены, что в деревянных домах жить разумев здоровее, чем в каменных,— и это действительно так Просто каменные долговечнее. Деревянный дворец был построен когда-то в городе Коломне для Ивана Грозного, в него входило сорок семь различных, в том числе больших и очень красивых, строений и церковь. Огромные деревянные дворцы были в селе Сафарине, в Москве на Воробьевых горах, в селах Преображенском и Покровском. Алексей Михайлович решил превзойти всех. Мастеров позвали московских и подмосковных: плотничьего старосту Семена Петрова, стрельца-плотника Ивана Михайлова и крепостного крестьянина-плотника Савву Дементьева. У каждого была своя артель. Имена этих строителей известны потому, что дворец строили царю. А при царском дворе всегда вели особые книги, куда записывали буквально все царские дела и расходы: с кем какие были переговоры важные и заключены договора, какие приняты новые указы и распоряженияповеления, что произошло особо интересное, что куплено, что кому заказано, откуда привезено, за что кому и сколько заплачено... Итак, плотничий староста Семен Петров, стрелец Иван Михайлов и крестьянин Савва Дементьев. Обратите внимание, для Ивана Михайлова и Саввы Дементьева, как для большинства русских строителей, строительство было второй профессией, а вообще-то первый служил в стрелецком полку и, наверное, не раз воевал, а второй растил хлеб, овощи, держал скотину. Однако взяли, как видите, именно их — значит, знали, какие это блестящие мастера; на царевы дела приглашали только лучших из лучших. Начинали они тоже со срубов. Только их было очень много, и самых разных, в основном огромных размеров, Да. так причудливо составленных, что, с какой сторона ни взглянешь, отовсюду дворец казался новым и будто еще красивей, еще нарядней. Это потому, что каждая часть !го имела не только свою форму и высоту (в одном месте Шесть этажей!) не только свое неповторимое покрытие -где шатром, где полубочкой или бочкой, где котиком, но и свой неповторимый резной наряд: на од133 ном тереме рельефный узор из трав и дивных цветов — это резьба глухая, объемная, не сквозная; на другом наоборот — все сквозное, будто ленты причудливо переплетены; на третьем — все из ромбов, звезд, квадратов и других фигур, друг на друга наложенных; на четвертом — опять все объемное, но только в цветах и травах птицы всякие прячутся, звери и фантастические чудища. Ни одного нигде повторения — все разное и сюжетами, и самой резьбой: глухой, пропильной, накладной, рельефной. Сделал двадцать шагов — дворец новый! Еще двадцать — опять! Полная сказка! В нем было семь хором: для царя, для царевича, царицы и четверо для царевен. Всего же покоев — комнат, палат и залов — двести семьдесят. Все соединялось между собой коридорами, сенями, переходами, некоторые терема имели наружные обходные галереи, отдельные затейливейшие крыльца. Внутри везде, конечно, тоже была резьба, причем более тонкая и еще замысловатей. Кое-где дерево оставлено чистым, полированным — драгоценные его сорта, кое-где раскрашено, кое-где раскрашено и покрыто позолотой и серебром. И во всех двухстах семидесяти покоях опять все разное в узорах и в технике. Над всеми окнами парили двуглавые золоченые орлы, в царских палатах под каждой колонной лежали резные вызолоченные львы. Два года длились эти работы, в которых участвовали резчики и живописцы старец Арсений (то есть монах), Климка Михайлов, Давыдка Павлов, Андрюшка Иванов, Параська Окулов, Андрюшка Федоров, Фока Федоров и их ученики Евтюшка Семенов, Митька Сидоров и Ивашка Федотов. Не удивляйтесь, что их имена записаны уменьшительно, как детские. Так было принято. Полностью да с отчеством тогда писались только имена людей знатных: бояр, князей да столбовых дворян, а всех остальных только так: Климка, Гераська... «Весь он кажется только что вынутым из ларца благодаря удивительным образом исполненным резным украшениям, блистающим позолотой!» — восторженно писал о дворце приехавший в Россию иноземец Яков Рейтенфельс. 134 Коломенский дворец стали называть восьмым чудом света.И все посещавшие Москву старались побывать в усадьбе и полюбоваться им. Кстати, в самой нарядной, приемной палате перед оном царя там лежали два небольших, но очень похожих на настоящих льва: в желтых шкурах, с лохматыми ивами, со свирепыми мордами и полуприкрытыми глазами— как будто дремали. Но стоило кому-нибудь приблизиться к трону, к царю, как львы поднимались на дыбы и грозно рычали, обнажив страшные клыки,— предупреждали, чтобы не смел двигаться дальше. Царь протягивал руку, приказывая им успокоиться и пропустить человека,— и они затихали и ложились. Это умельцы механики устроили Алексею Михайловичу еще и такое чудо заводное ко всем иным чудесам Коломенского. Теперь о пряничных досках. Без пряников в давние времена не обходилось ни одно торжество: ни свадебные сговоры, ни сами свадьбы, ни именины, ни двунадесятые и иные праздники, и даже тризныпоминовения. Причем на каждый случай полагались пряники определенных форм, размеров, с определенными изображениями и надписями. Подарочные, поздравительные пряники доходили аж до полутора аршин в длину, то есть более метра, и чуть меньше в ширину. Их подносили на специальных досках как царям, патриархам, митрополитам, знатным гостям, так и людям всех иных званий и положений и в городах и в деревнях. Пряники были прямоугольные, квадратные, круглые, овальные, в виде рыб, птиц, разных животных, особенно маленькие, для детей. Медовые, сахарные, глазированные, с корицей, с тмином, фруктовые с разными фруктовыми начинками. В Архангельске, в Москве, Туле, Нижнем Новгороде и Городце их пекли так искусно, такими красивыми и вкусными, что они пользовались огромным спросом по всей России, и их везли и везли во все концы целыми обозами. Но никакой пряник невозможно испечь без особой Железной довольно глубокой формы и деревянной доски,которая накладывалась на тесто с начинкой или без оной сверху — печатала пряник, почему они нередко и назывались печатными. Изготовление этих досок искусство довольно сложное: они ведь представляли из себя или какие-то фигуры, или какие-то картины, узоры, или надписи ,но углубленные и зеркально перевернутые, которые отпечатываясь на тесте, обретали необходимый вид. Таких досок требовались великие тысячи, и их были 135 великие тысячи. Причем их резьба в корне отличалась от всякой другой: углубленная, в основном линейная, без мелкой детализации, она сама по себе, не пряники, которых давным-давно нет, а сама эта резьба в лучших старинных досках с изображениями городов, церквей, нарядных дам и пар, жар-птиц, зверей и многого другого да с теплыми текстами-пожеланиями — это несколько необычные, углубленно-резные, но самые настоящие картины, столь они художественно совершенны и красивы. И во многих музеях теперь они так и висят на стенах — как картины. Известно, что и в старину, когда они не были в деле, их тоже вешали на стены для украшения, как прялки. А в ларцах, шкатулках и сундучках на Руси хранили, как известно, деньги, драгоценности, богатые украшения, и резчики придумывали им такие затейливые формы, покрывали такой дивной, причудливой резьбой, что многие их изделия тоже превращались в подлинные драгоценности, особенно с включенными в узоры фигурками людей, животных и целых жанровых сцен. По существу, мастера, изготовлявшие ларцы и шкатулки, были резчикамиювелирами — искусство требовалось такое же. Украшались ларцы, шкатулки и иные подобные вещи и прорезной берестой. На соответствующих листах бересты острейшими ножиками вырезались различные сквозные орнаменты, зачастую тоже с включенными в них фигурками или целыми сценками, например охот или поездок верхом, на санях, или панорама какого-нибудь города, или что-то еще — все, разумеется, очень маленькое, миниатюрное, соответствующее предмету, для которого оно предназначалось. Вырезалась эта сквозная картинка так, что верхней ее стороной была внутренняя сторона бересты — она всегда розовато-бархатистая, теплая по цвету. А под нее подкладывался нетронутый лист бересты обычной лицевой стороной — она всегда блестящая, холодная. И от того, что под теплой сквозной картинкой поблескивало серебристохолодное, необычайно оживляло каждую из них, превращало обыкновеннейшую бересту в нечто волшебное, завораживающее, тоже драгоценное. Ларцы, шкатулки и все иное обклеивались этими берестяными орнаментами и изображениями сплошь. Самые дивные такие вещи делали в Шемогодской волости близ Великого Устюга, и их стали называть шемогодскими, шемогодской резьбой. Популярностью они пользовались колоссальной. Да многие из вас наверняка не раз их встречали в домах близких и знакомых или имеют сами. 136 А церковная резьба, тем более иконостасов, требовала не просто красоты, но величественного великолепия, непременно одухотворенного, возвышенного, которое бы не только достойно обрамляло иконы, но действовало бы на души молящихся как единое с ними целое. А в больших храмах иконостасы ведь огромные, семиярусные, со сложными дроблениями-гнездами для икон разных размеров, с торжественно-величавыми царскими вратами, северной и южной дверьми, венчающими навершиями под сводами — то есть это всегда целый архитектурно-декоративный ансамбль, создание которого под силу лишь истинному художнику-архитектору-декоратору, истинному таланту, каковыми и были большинство знаменщиков, создававших вместе с артелями резчиков русские иконостасы. Где-то они — как устремленные в горние выси стройные побеги невиданных растений, где-то — точно буйно цветущие сады, где-то — будто струящиеся ленты плетений, где-то — ветки в тяжелых виноградных гроздьях, гирляндах яблок, груш, вишен, других плодов. Все это всегда золотое, мерцающее, переливающееся, жарко вспыхивающее и горящее, а сквозь золотую же причудливейшую вязь величественных царских врат всегда трепетно, прозрачно, неземно светятся алтари. Они будто могучие, потрясающе прекрасные декоративные симфонии, кантаты и оратории, звучание которых всякий слышащий Бога конечно же слышит,— эти русские иконостасы. Повторим: они придуманы в России и окончательно сформировались в шестнадцатом веке, до этого иконы располагались в церквях на обыкновенных полках — тяблах. И уже в шестнадцатом же веке в новгородской церкви Петра и Павла был создан иконостас и царские врата, поразительные по красоте и тонкости резьбы. В Смоленском соборе московского Новодевичьего монастыря иконостас потрясающе богат и величественен, с неповторимыми витыми колоннами, и, к счастью, известно, что это творение знаменщиков Осипа Андреева и Евтихия Семенова «с товарыщи». Самыми же знаменитыми знаменщиками были КлимкаМихайлов и Ивашка Федотов из Оружейной палаты, участвовавшие и в украшении Коломенского дворца, а также Алешка Ермолаев, Мартынко Савельев, Петрушка Осипов, Савка Васильев. Но и в маленьких церквях маленьких городков и даже в селах можно было встретить иконостасы, беспо137 Богородская тройка добные по красоте и виртуозно исполненные. Например, в Воскресенской церкви, что на Торгу в городе Торопце Псковской губернии, в церкви Иоанна Богослова на Ишне, близ Ростова Великого,— там даже фигурки святых включены в замысловатые колонки.... Корабельные же резчики украшали ладьи, лодьи, струги, расшивы, беляны и прочие морские и речные суда так же, как это делали все корабелы мира; только вместо раскрашенных или позолоченных фигур Нептуна, наяд и сирен, которые помещали на носу и на корме судов европейцы, наши укрепляли там же своих фигуристых большеглазых русалок берегинь, которые, говорят, лучше всех берегли-спасали суда во время штормов и других напастей, включая разбойников-ушкуйников. Ушкуи — это такие остроносые, узкие, самые быстрые хоть на веслах, хоть под парусом ладьи, специально строившиеся для разбойников, орудовавших на Волге, и тоже, конечно, несшие на носах грудастых берегинь. И львов с мужицкими лицами наши резчики очень любили помещать на судах. Эти львы вообще, пожалуй, самые популярные у нас персонажи: в домовой резьбе и на избах и в царских палатах они, в белокаменной резьбе владимирских и московских соборов, даже на ткацких станах, на рубелях, в игрушках. Видимо потому, что они — лучшее олицетворение силы, мощи, а то, что ча138 улыбаются,— это чтобы не пугались зря, знали, что добрые и с добром. Видите, до чего разнообразна русская резьба и до чего ее было много. Получается, что это чуть ли не главнейшее из всех народных искусств, во всяком случае самое массовое, самое распространенное, затейливое сказочное и, что особенно важно, тоже только светлое, доброе, улыбчивое, всегда радующее. Только радующее. А первыми деревянными скульптурами на Руси были языческие идолы: Перун, Сварог, Макоша, Стрибог, Лада. Как все символы, наверное, очень выразительные, а на главных капищах и огромных размеров, да раскрашенные, отделанные золотом, серебром, костью и цветными каменьями. С принятием христианства их, как известно, рушили, главного Перуна, возвышавшегося на горе близ Киева, свалили, скатили к Днепру и утопили. И церковь потом долго и очень пристально следила, чтобы «поганые идолища», не приведи Господи, не появлялись бы нигде вновь. А они, судя по отрывочным сведениям, все же появлялись, но в конце концов церковь все же победила окончательно, и какими именно были те древние идолища, мы можем судить лишь приблизительно по мелкой пластике из археологических раскопок одиннадцатого — двенадцатого веков: все лики-образы необычайно выразительны и столь же символически сильные, как ритуальные деревянные маски Африки, полинезийцев. И только века через три, четыре после крещения Руси у нас появились новые деревянные изваяния, теперь уже христианских святых, причем всего нескольких: Георгия Победоносца, Николы Можайского и Параскевы Пятницы. Их сохранилось довольно много, особенно Николы и Параскевы, а вот из других есть только Михаил Архангел в доспехах. Почему же лишь эти святые и нет никаких других? Объяснение напрашивается одно: все трое были самыми популярными в русском народе, да еще Богородица, однако ее изваяний почему-то нет. Почему? Когда видишь любого из Никол и Параскев, кое-что, кажется, начинаешь понимать: они производят ошеломляющее впечатление, эти русские скульптуры из четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого веков из Москвы, Новгорода, Пскова, Перми, Перемышля, Калуги, Галича, Волоколамска и других городов и весей. Крупных ли они Размеров или небольшие — неважно, фигуры и позы у всех совершенно одинаковые: фронтально развернутые, 139 плосковатые, строго, величаво прямые, с разведенными фронтально же в стороны руками. На ладони одной Никола держит макетик храма — он же покровитель строителей, а другой благославляет, а у Параскевы в благословении приподняты обе руки. То есть сами их фигуры и позы предельно символичны. И все они тщательно и очень выразительно раскрашены, с румянцем на щеках, одежды богато разузорены. Лица же просто завораживают: лица всех Никол, обрамленные окладистыми белоснежными бородами, все так мудры, спокойны и добры, так обнадеживают, что, кажется, еще миг, и услышишь даже его теплый негромкий голос. А у всех Параскев необычайно большие, необычайно напряженные, пронзительные, все видящие и всем сострадающие глаза, особенно у Параскевы из пятнадцатого века из Рыбной слободы города Галича; ведь Параскева за все в ответе: за устроение свадеб, за рыбаков, за торговлю, за ярмарки, за ткачих — потому так и напряжена. Увидишь ее такую и таких Никол хотя бы раз, и, пораженный, уже не в силах их забыть, и невольно начинаешь думать: а не было ли какой-то связи между ними и древними русскими идолами, не уподобили ли, скажем, Параскеву Мокоше, покровительнице того же самого в седой древности, а Николу кому-то еще, и не ваяли ли их скульпторы-резчики похожими на тех — величайшая ведь символика, которая позднейшей скульптуре даже и не снилась, в том числе и профессиональной. А Богородицу некому было уподобить — потому ее и не ваяли. Явно никому не уподобляли и Георгия Победоносца, он же был на коне и входил во многие гербы, включая московский — как же без него. На Фроловской (Спасской) башне Кремля была его деревянная скульптура, созданная выдающимся русским зодчим Василием Ермолиным. Скульптором-резчиком, кстати говоря, был и великий Сергий Радонежский. Что именно и как он резал, сказать невозможно — ничего не сохранилось. Известно лишь, что он вырезал деревянные игрушки и раздавал их детворе. Думается, что и резчиков он начал собирать при своем монастыре, откуда позже образовался знаменитый «токаренный двор Троице-Сергиевой обители», токарные и резные чаши, ковши, братины, ларцы, ложки, кресты, ковчежцы и игрушки которого считались лучшими в стране. В пятнадцатом веке там жил монах Амвросий, прославившийся тончайшей миниатюрной резьбой из твердых пород дерева: кипариса, пальмы, самшита, дуба. Уцелели доныне его дивный 140 складень, многофигурный ковчежец для мощей, кресты. Он и его ученики ухитрялись вырезать целые сценки на ручках обычных ложек, кои предназначались, конечно, для подарков знатным гостям монастыря. А к семнадцатому веку скульптурной резьбой занимались уже не только в самом монастыре, но и в Москве на его подворье и в его же селе Богородском, расположенном в двадцати верстах от лавры. Посуды там не делали никакой, только небольшие скульптурки, в основном детские игрушки и так называемых «кукол» для взрослых — фигурки до полуметра высотой весьма потешного, сатирического характера. Но расцвет этого искусства наступил позже, и потому подробней мы к нему еще вернемся. КЕРАМИКА, ШИТЬЕ, РОСПИСИ, ИГРУШКИ... Рассказывая о народном творчестве до семнадцатого века, мы должны бы еще подробно остановиться на керамике, ибо это тоже искусство, тоже культура, и глина у нас — второй основной материал после дерева, из которого тоже чего только не делали: посуду, кирпичи, украшения, скульптуру, игрушки. И чисто художественных керамических изделий было полно, да и сугубо утилитарные, обиходные вещи отличались всегда оригинальностью и красотой: что самые древние — черновощенные горшки, крынки, миски, корчаги, что более поздние — поливные глазурями, расписные. Были, разумеется, и центры, где многое делали вовсе бесподобно: та же знаменитая гжель — несколько деревень, объединенных вокруг села Гжель, где с глиной, да не простой, а фарфорово-фаянсовой, тысячи людей работают уже много веков подряд и делают то, чего не делают больше нигде на земле. И в рязанском Скопине существовал и существует редчайший по характеру промысел. Вокруг тульской Крапивны. Под Вяткой... Должны были бы мы рассказать как следует и о народной вышивке, без которой тоже не обходился никакой обиход: ни одежда, ни постельное и нательное белье ни покрывала, подзоры, скатерти, полотенца... И о чисто художественной, так называемом золотном шитье, в котором помимо шелковых, шерстяных и бумажных ниток употреблялись и настоящие золотые и серебряные нити, жемчуг, бисер и драгоценные каменья, ДОлжны были бы рассказать, ибо такие большие пелены покровы и воздуха с изображениями в полный рост святых, такие платы с ликами Христа, Богоматери, ар141 хангелов, ангелов и херувимов, такие драгоценные, праздничные облачения для церковных иерархов и такие сказочные девичьи и женские головные уборы, ко-ротены и душегреи, какие шили, вернее — вышивали русские вышивальщицы, не вышивали больше нигде. Это искусство одно из самых поразительных, требующее не только настоящего художественного дара, чутья цвета и пластики, но и феноменального трудолюбия и терпения, ибо крупное изображение или наряд, или убор вышивались годами, мастерица делала миллионы и миллионы аккуратнейших стежков, перетекающих по цвету один в другой, и нигде, ни единожды не должна была ошибиться, чтобы слить все в единую завораживающе переливающуюся гладь. А у нас были целые знаменитые мастерские таких золотошвей, у тех же Строгановых в Соли Вычегодской, при царском дворе, в Торжке. Большинство же девиц, готовивших себе приданое, делали это сами... И расписные эмали делались у нас неповторимые. И филигрань. И так называемый «узорный мороз по жести», секрет которого неведом больше никому. И о кузнечном и ювелирном искусствах надо бы подробно, так как лесковский Левша по сути никакая не выдумка — были не менее виртуозные Левши хоть по стали, хоть по золоту, по серебру. И об игрушечниках и росписях по дереву, рассеянных по всей Руси надо бы... О танцах русских. О музыке инструментальной и колокольной. О московских, ростовских и иных колокольных звонах — им ведь тоже нет подобных. Но если обо всем этом и кое о чем еще тоже маломальски подробней, то книга растянется до бесконечности и не всякий захочет ее одолеть. Наша же задача — сама история, сама судьба народной культуры, которая, как вы уже увидели, по семнадцатый век была единой как для низов, так и для самых верхов, в едином духовном мире жили все русские: одними преданиями, обычаями, обрядами, привязанностями, художествами, имели схожие вкусы, даже одежды носили хоть и разные по качеству, но похожие. А ведь только единый духовный мир, только культура и искусства и делают народы монолитными и одухотворенными. Да не посетует на нас читатель за сии вынужденные сокращения, тем более что кое-чего из здесь перечисленного мы впереди еще коснемся. 142 ВЕК СЕМНАДЦАТЫЙ Век семнадцатый, несомненно, поворотный, судьбоносный в нашей истории. В нем много что произошло: Семибоярщина, польское нашествие, жуткое разорение спасение Отечества всенародным ополчением Минина и Пожарского, избрание нового царя, положившее начало новой правящей династии Романовых, и, наконец, великий церковный раскол — событие необозримое и роковое, не завершившееся по сей день. Не будем касаться его сугубо религиозной стороны: об этом за три с половиной столетия слишком много написано, и основное большинству известно. Хочется заострить внимание лишь на том, что начало всему было положено первыми лицами тогдашнего государства: патриархом и царем. Да, повод был разумный: искаженные недобросовестными или не шибко грамотными переписчиками священные и священнослужебные книги надо было исправлять, и, как известно, это делалось очень серьезно и до никоновского патриаршества. И роль, которую он сыграл во всех последующих страстях и страшных бурях, и значение в этом его тяжелейшего, неукротимого характера, и то, как он благоговел и преклонялся перед всем греческим и опять наводнил Россию высокомерными греками, немало способствовали расширению раскола — все это тоже описано сотни раз доскональнейше. Везде — Никон, Никон и Никон! Царь же государь Алексей Михайлович Романов даже заслужил в нашей истории прозвание Тишайшего. За что — непонятно. Не за то же, что был тяжел телом, медлителен и, хотя и вспыльчив, но быстро отходчив, а с теми, кого любил, бывал и необычайно ласков, заботлив, не стеснялся вслух говорить и писать им в письмах самые восторженные, добрые, теплые, влюбленные слова. Увлекался людьми безумно, а словом владел потрясающе, как истый поэт — от писем невозможно оторваться. Может, именно за эту ласковость «тишайший»-то? На народе-то, наверное, вообще держался только так, не случайно перед большими праздниками непременно целыми ночами ездил и ходил по московским застенкам и приютам для убогих и самолично раздавал несчастным, в кандалах и без оных кому алтын, кому Ривенник, а кому и целую полтину и даже рубль. Мешки денег каждый праздник раздавал, сотни, тысячи рублей. И все его семейство делало то же самое. Но это ведь он же и Никона вырастил, и на какое-то время даже дал ему власть в стране больше собствен143 ной, царской. Было, и унижался перед ним, настоящими слезьми плакал, уговаривая, а потом, остыв к нему, отринул, как отрезал, лишив всего, ладно еще не самой жизни — бывало не раз и такое. И главного Никонова противника — неистового протопопа Аввакума поначалу ведь тоже пригрел и ласкал безмерно и восторженно, а сана духовного, между прочим, и патриарха и протопопа на одном соборе лишил. Именно он лишил — собор лишь выполнил его волю. И хотя обоих запер в далеких ссылках, раскол-то не только не затухал, а ширился и ширился, приобретая все более дикие и страшные формы. Потому что, стоявший дотоле в тени за спиной Никона, Алексей Михайлович теперь уже открыто, целиком и полностью один возглавлял его. Воз-глав-лял! Повторим: наш великий религиозно-духовный раскол зародился не внизу, не в толще народной, как зарождались в нем разные мелкие ереси, но на самом-самом верху. Народ в массе своей не больно-то вникал и разбирался в таинствах веры, он верил в Бога и святых и молился им дома и в церквах так, как его этому научили родители и священники и как это делали допреж все православные русские уже много поколений подряд. И вдруг всем велят креститься не двумя перстами, как крестились до этого, а тремя, и иначе творить сугубую аллилуйю, иначе читать некоторые важнейшие молитвы, вместо прежнего восьмиконечного креста употреблять четырехконечный, вместо прежних семи просфор в проскомидии употреблять только пять, ходить в церкви не посолонь, как ходили, а против солнца, иначе класть некоторые поклоны, иначе петь. В церквах, прежде всего в московских, появились новые греческие амвоны, у архиереев греческие посохи, греческие клобуки и мантии, греческие напевы. Почему? Зачем?! Народу объясняли: потому-де, что прежде все было неправильно. Хотя знающие хорошо знали, что все прежнее было освящено и узаконено церковными соборами. Мало того, еще до этой церковной ломки царь Алексей Михайлович издал такой вот указ: «Ведомо нам учинилося, что на Москве, наперед всего в Кремле, и в Китае, и в Белом и Земляном городах, и за городом, и по переулкам, и в черных и в ямских слободах по улицам и переулкам в навечерии Рождества Христова кликали многие люди Коляду и Усень...» Указ длинный, в нем говорится, что и в других городах творят то же самое и 144 ной, царской. Было, и унижался перед ним, настоящими слезьми плакал, уговаривая, а потом, остыв к нему, отринул, как отрезал, лишив всего, ладно еще не самой жизни — бывало не раз и такое. И главного Никонова противника — неистового протопопа Аввакума поначалу ведь тоже пригрел и ласкал безмерно и восторженно, а сана духовного, между прочим, и патриарха и протопопа на одном соборе лишил. Именно он лишил — собор лишь выполнил его волю. И хотя обоих запер в далеких ссылках, раскол-то не только не затухал, а ширился и ширился, приобретая все более дикие и страшные формы. Потому что, стоявший дотоле в тени за спиной Никона, Алексей Михайлович теперь уже открыто, целиком и полностью один возглавлял его. Воз-глав-лял! Повторим: наш великий религиозно-духовный раскол зародился не внизу, не в толще народной, как зарождались в нем разные мелкие ереси, но на самом-самом верху. Народ в массе своей не больно-то вникал и разбирался в таинствах веры, он верил в Бога и святых и молился им дома и в церквах так, как его этому научили родители и священники и как это делали допреж все православные русские уже много поколений подряд. И вдруг всем велят креститься не двумя перстами, как крестились до этого, а тремя, и иначе творить сугубую аллилуйю, иначе читать некоторые важнейшие молитвы, вместо прежнего восьмиконечного креста употреблять четырехконечный, вместо прежних семи просфор в проскомидии употреблять только пять, ходить в церкви не посолонь, как ходили, а против солнца, иначе класть некоторые поклоны, иначе петь. В церквах, прежде всего в московских, появились новые греческие амвоны, у архиереев греческие посохи, греческие клобуки и мантии, греческие напевы. Почему? Зачем?! Народу объясняли: потому-де, что прежде все было неправильно. Хотя знающие хорошо знали, что все прежнее было освящено и узаконено церковными соборами. Мало того, еще до этой церковной ломки царь Алексей Михайлович издал такой вот указ: «Ведомо нам учи-нилося, что на Москве, наперед всего в Кремле, и в Китае, и в Белом и Земляном городах, и за городом, и по переулкам, и в черных и в ямских слободах по улицам и переулкам в навечерии Рождества Христова кликали многие люди Коляду и Усень...» Указ длинный, в нем говорится, что и в других городах творят то же самое и 144 К. Васильев. Дар Святогора К. Васильев. Бой Добрыни со Змеем Древние музыкальные инструменты Бронзовый амулет: шумящая подвеска. Новгород. XIII век А. Васнецов. Московский Кремль Церковь Ильи Пророка. Ярославль. ХVПвек А. Рублев. Архангел Михаил из Звенигородского гимна. Начало XV века Чудо Георгия о змие. Новгород. ХIVвек А. Рублев. Троица. Начало XVвека Дионисий. Богоматерь Одигитрия. Конец XVвека Дионисий. Алексий Митрополит с Житием. Конец XVвека многое иное, и все это перечисляется, а в заключение строжайшее повеление, чтобы жители всех чинов и сословий «скоморохов с домрами и с гуслями, и с волынками и со всякими играми... в дом к себе не призывали... и медведей не водили, и с сучками не плясали, и никаких бесовских див не творили, богомерзких и скверных песней на свадьбах и по ночам на улицах и полях не пели, и сами не плясали и в ладоши не били, и всяких игр не тгушали, и кулашных боев меж себя не делали, и на качелях ни на каких не качались... и личин на себя не накладывали, и кобылок бесовских не наряжали... А где объявятся домры и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные бесовские сосуды и ты б те бесовские это приказ воеводам по городам! — велел выимать и, изломав, те бесовские игры велел жечь. А которые люди от того ото всего богомерзского дела не отстанут и учнут впредь... по нашему указу... вы б тех велели бить батоги... и ссылать в украйные города за опалу». Почему? Тысячи лет жило все это в народе. Кто это мог понять? В Москве и по всей стране отнятые музыкальные инструменты вывозили возами, жгли, топили в реках. Скоморохов ловили, били батогами, ссылали. Мало того, в церквах, и прежде всего опять же в московских, стали появляться невиданные дотоле «живоподобные» иконы Христа и святых, то есть писанные поиноземному, объемно, будто это не лики святых, а людей. Тут уж возмущался и негодовал не только народ, но и сам, тогда еще всесильный, патриарх Никон громыхал проклятьями, и однажды, разбушевавшись, прямо в храме даже порубил несколько подобных новоделов тесаком. Но они все равно появлялись и появлялись, и в первую очередь в главных русских святынях — Успенском соборе Кремля, в Архангельском и Благовещенском соборах. По повелению царя-государя Алексея Михайловича появлялись, потому что он очень возлюбил такую «иконопись», а точнее — подобие западной живописи. И его собственные, жалованные изографы Оружейной палаты, возглавляемые известным, а потом и сильно прославляемым Симоном Ушаковым, занимались уже только этим — живоподобием (слово-то какое точное!). Мастерам же Мстёры и Холуя, например, писавшим старинке и очень просто, царь своим указом 1668 года вообще запретил писать иконы, не сказав, правда, чем им еще кормиться, этим крестьянамизографам, ера и Холуй — села огромнейшие, с многовековыми иконописными традициями. Чудо о Флоре и Лавре. Новгород. XV век 145 Мало того, это ведь именно он — тишайший, душевный, умный Алексей Михайлович, окончательно закабалил крестьян, лишив их последних человеческих прав. Это при нем на тягловые податные сословия обрушивались все новые и новые дикие поборы. Это при нем был Соляной бунт из-за страшно повышенных цен на соль, и при нем вместо серебряных денег стали чеканить медные, на чем жулье, в том числе ближайшие родственники царя, наживали несметные богатства, вконец разоряя народ, и тот поднял Медный бунт, и бунтовщики, нагрянувшие в Коломенское, даже в буквальном смысле слова потрясли царя за грудки, требуя от него ответов за все эти деяния. Это при нем по Руси прокатилась жуткая моровая язва. Он вел тяжелейшую трехлетнюю войну с Польшей. При нем объявился Степан Разин и кликнул казакам и беглой голытьбе, заполонившей Дон, среди которой было уже полно раскольников, что он «пришел дать им волю!», и повел их на войну с царем, на Москву, и пролились невиданные реки крови, унесшие тысячи и тысячи жизней. Никогда еще на Руси не было такого повального брожения умов, никогда за всю ее историю не было таких великих духовных, да и не только духовных борений, в которых участвовали буквально все от мала до велика, ибо набожные родители втягивали в них и своих детей. И продолжалось это не годы, а десятилетия, да все нарастая и нарастая. И если сначала в этой борьбе участвовали лишь виднейшие многознающие священники — протестовали, спорили, обличали, доказывали, писали царю гневные челобитья на патриарха, а в народ — разъясняющие гневные послания и письма, и говорили жаркие противные вещи прямо в храмах: настоятель кремлевского Успенского собора высокоумный Неронов это делал, дьяк Благовещенского Федор, духовник царя Вонифатьев, протопоп Аввакум и другие — если поначалу только они, то потом целые епархии отказывались подчиняться Никону. И знаменитый Соловецкий монастырь отказался, отписал об этом царю, предупредив, что будет отстаивать свою правоту и оружием; там было девяносто пушек, девятьсот пудов пороха, большие запасы хлеба. И царь послал на Соловки регулярное стрелецкое войско, приказав покорить взбунтовавшийся монастырь, но святые отцы держались крепко, и началась страшная осада, продолжавшаяся целых восемь лет. И простые прихожане по всей стране сплошь и рядом отказывались ходить в храмы, служившие по-ново146 Нередко даже захватывали такие храмы, прогоняли поповникониан, выбрасывали новопечатные книги, а все остальное внутри тщательно омывали-отмывали и устраивали службы по-старому. Подстрекателей и заводил таких прихожан царевыми указами всё чаще и чаще тоже ломали силою, били батогами, заковывали в железа и колоды, гнали в дальние ссылки. А многие и сами целыми семьями, родами и деревнями стали сниматься с насиженных родных мест и уходить, спасаясь куда подальше и затаиваясь в глухих немереных заволжских, уральских и даже сибирских лесах. Вскоре начались и первые массовые самосожжения самых ярых радетелей за старую веру. Потом будут самосожигаться даже по двести и триста человек разом, да с грудными младенцами и прочими детьми, да прямо в своих родных, еще дедовских и прадедовских деревянных церквях. А Неронов, Федор, Вонифатьев, Аввакум и многие, многие другие были лишены сана, кто расстрижен, кого заточили в монастырские темницы, кого в тюремные, а кого и в земляные ямы. Всех истязали, потом стали вырывать языки и рубить руки, чтобы не могли говорить-проповедовать и не могли писать. Аввакуму Тишайший не решился вырвать язык и отрубить руки, но четырнадцать лет держал в одиночестве, закованным в тяжелые железа в глубочайшей земляной яме в Пустозерске — рубленом городке-остроге в голой тундре на берегу Печоры, в сорока верстах от ледяного моря. Там было еще четыре таких же страшных ямы, в которых поодиночке сидели соратники Аввакума, бывшие монахи и священники Никифор, Лазарь, Федор и Епифаний. И все эти годы Аввакум постоянно писал. Писал непрерывными беспросветными тундровыми ночами при свете жалких сальников, писал при незаходящем летнем солнце, которое чуточку высветляло и дно ледяной ямы. И его сподвижники пытались писать своими раздвоенными культями. И за четырнадцать лет из Пустозерска по Руси развелись сотни и сотни новых обжигающе-неистовых листков воззваний, листков-писем, программ, разъяснении, толкований и даже целые книги. Их разносили ранявшие и сочувствующие узникам стрельцы. Высверливали в ручках своих бердышей внутренность, засовывали туда свернутые в трубочки листы, затыкали -заметными пробками — и разносили. Так же попала в 147 народ и главная книга-исповедь о самом себе и своей вере Аввакума — «Житие», которая, как и все остальное у него, и поныне сжимает горло и захватывает дух своей потрясающей страстью, искренностью, правотой и высотой духа. Но если для него, выражаясь по-нынешнему, все это было в общем-то публицистикой,религиозным, духовным проповедничеством, то Россия получила в его лице воистину великого писателя и великие творения, потому что, помимо всех иных достоинств, его книга написана тем бесподобно живым языком, на котором тогда разговаривали. Он первым это сделал у нас. «...вы, Господа ради, чтущие и слышащие, не поза-зрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природный язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет». Кстати, любопытные совпадения: Аввакум Петров и Никон — близкие земляки, оба из нижегородских пределов, Аввакум — сын полунищего попа-пьяницы из села Григорово, а Никон, в миру Никита Минин,— сын крестьянина из села Вельдеманова и в юности тоже крестьянствовал. В 1682 году Тишайшего уже не было в живых, но дело доделал его сын — царь Федор: повелел сжечь Аввакума, Лазаря, Епифания и Федора в Пустозерске в срубах — как еретиков. «За великие на царский дом хулы!» — было сказано в указе. Сгорели они апреля в четырнадцатый день. Со знаменитой же боярыней Федосьей Морозовой, гениально воспетой в картине Василия Ивановича Сурикова, Тишайший царь расправился еще сам. Она была второй юной женой престарелого боярина Бориса Ивановича Морозова, одного из самых богатых людей России, некогда воспитателя подрастающего Тишайшего и до конца своих дней очень и очень близкого к нему. Федосья Морозова состояла в родстве с самымиразсамыми именитыми на Руси. Дружила с царицей. Овдовев, стала чуть ли не богатейшей из всех богатых, ездила в карете, отделанной серебром, в сопровождении сотен слуг. Но восстала против никоновских реформ. Аввакума боготворила, считала своим духовным отцом и все средства пустила на его поддержку. Арестовали Морозову вместе с родной сестрой княгиней Евдокией Урусовой. Ломали дыбой, кнутом и огнем, держали в железах, морили голодом, таскали из монастыря в монастырь, из темницы в темницу вместе и по148 рознь,но они не поколебались ни на миг. И тогда у государя в Думе была речь о том, чтобы сжечь Морозову в срубе, «да бояре не понятнули»-бояре не потянули» — не проголосовали. Сестер увезли в Боровск и кинули в такую же, как в Пустозерске глубокую земляную яму-тюрьму с решеткой наверху. Почти не кормили, не поили, и они умирали там,кованные в железо, одетые в тряпье, медленно и жутко -от голода, холода, грязи, крыс, насекомых. Некогда обе очень красивые, они превратились в высохшие, еле шевелившиеся скелеты, и даже охранявшие их стрельцы не выдерживали — плакали, глядя на них... А Соловецким монастырем стрельцы овладели на девятом году осады лишь потому, что один из монахов не выдержал мучений и предал — открыл им ворота. И тогда для всех остальных начались другие мучения — кровавые. А из участников Медного бунта, из тех, кто нагрянул в Коломенское и потряс там Тишайшего за грудки, смертью были казнены семь тысяч (!) человек, еще пятнадцать тысяч наказаны кто отсечением рук, кто ног, кто сослан, у многих отобрано все имущество. А как расправлялись с разинцами, и говорить нечего — всем все слишком хорошо известно... К тому времени русские цари были окончательно обожествлены, считались прямыми наместниками Бога на земле и якобы лишь внешним обликом походили на обычных людей, а сущностью нисколько. И Тишайший, конечно, и сам был в этом абсолютно уверен. И все до единого его подданные, все россияне, включая родственников царя, родовитых князей и бояр, которые даже и называть себя пред его священными очами могли только рабами да кликаться, как сами кликали всех, кто ниже их, Ивашками да Микишками. Огромная страна с почти десятью миллионами рабов всего одного человека, большинство из которых вообще не имели никаких прав и приравнивались почти что к скотам, только говорящим. И как мог такой богоподобный властелин относиться : тем, кто вдруг хоть в чем-то не подчинялся ему, не падал пред ним ниц, а тем более если еще и что-то возражал, чему-то противился. Наверное, психологически подобное уже просто не укладывалось у него в голове. А противники церковных реформ ведь не только возражали, спорили в первую очередь с ним, но и пытались доказать, как глубоко он неправ, разрушая отеческую веру и традиции. Аввакум даже надеялся и твердил, что помаленьку царь сам исправится». Рабы, последние, 149 жалкие рабы — и против него! Непогрешимого!! Полагаем, что подспудно, психологически именно эта пружина всем и двигала. И когда зарвавшийся в своей дикой гордыне и безмерно обожаемый им Никон попытался вознестись как духовный владыка и над ним, сработала именно эта пружина — и того не стало. Патриарха! А уж стадо-то!.. Потому-то чем больше упорствовал народ, тем ожесточенней становился Тишайший. Остальные верха как всегда, лишь вторили ему, верно служили. Народ же все сильней и сильней раздражал его, раздражал своей косностью, непониманием, что он, царь, не может быть неправым, что он хочет, как лучше, а они по своей тупости... Царю все больше и больше не нравились его рабы, его народ, оказавшийся таким упрямым. Он становился ему чужим. И Тишайший, конечно же, все чаще и чаще посматривал, как с народом и со всем иным в других странах. При нем московская Немецкая слобода за Яузой росла как на дрожжах. В ней жило уже более тысячи иноземцев. Да в одной из Мещанских слобод селилось около шестисот поляков из пленных и поступивших на русскую службу. Были иноземные колонии поменьше и в других городах. А греков, болгар и сербов, духовных и недуховных, и за иноземцев-то не считали — православные же. Их было больше всего. Переводчики, справщики книг, учителя, иконописцы, проповедники, врачи, механики, военные, купцы, ювелиры, владельцы промышленных заведений, аптекари, оружейники, живописцы, часовщики, граверы, строители — кого только не было. Слов нет, на Западе многое было хорошо и достойно заимствования, и очень разумно поступал Алексей Михайлович, когда начал, например, реорганизацию на западный манер русских войск, замену стрельцов на полки иноземного строя с иноземными же профессиональными офицерами во главе их, менял на более современное вооружение. И то, что по его инициативе переводились и печатались многие книги по самым разным отраслям знаний — философские, технические, медицинские, тоже, разумеется, очень хорошо: чувствовал веление времени. И то, что сам изучал чужие языки и все его дети изучали, в том числе и девочки, и будущая правительница Софья. А начальник Дворцового приказа боярин Федор Ртищев, с его благословения, создал в Москве несколько учебных заведений, куда пригласил преподавателей с Украины, из Польши, из Венеции. 150 И все-таки и его самого, и его ближайшее окруже-больше всего привлекал сам быт иноземцев, совершенно непохожий на русский, и очень, очень многие его обства и прелести, и совсем иная красота и нарядность обстановке, в одежде. Стоило только дяде Тишайшего Никите Ивановичу Романову переоблачиться в немецкое платье и ходить в нем по Москве и дома почти постоянно как все вокруг почувствовали, какая гигантская пропасть лежит между ним, дядей царя, и всеми остальными их подданными. И глава Посольского приказа боярин Артомон Матвеев любил пощеголять в иноземном. Да и царские дети частенько ходили дома во всем немецком. И он его не раз нашивал. Правда, на воле, на народе так появляться еще стеснялись, да и он не велел. И в домах у самых знатных многое было уже по-западному. У боярина Бориса Морозова еще до его второго брака на Феодосье. Артомон Матвеев привез из-за границы орган, и Тишайший частенько ездил к нему слушать эту новую музыку. А у самого у него в палатах стояли клавикорды, на которых обучали играть царевен, и их музыку он тоже очень любил. И театр завел на западный манер, как известно, первым на Руси, с приглашенным датским пастором Грегори во главе. А существовавших неведомо сколько столетий или тысячелетия русских скоморохов запретил, народные музыкальные инструменты зверски уничтожал. Иконы любил уже только живоподобные. И парсуны, первые портреты на Руси, велел с себя писать. И Никон велел. А раболепный Симон Ушаков даже придумал икону, обожествлявшую царскую власть, и изобразил на ней здравствующего Тишайшего! Однако Коломенский дворец Алексей Михайлович все же построил по-старому, по-дедовски — значит, еще чувствовал, что сокрыто в родном деревянном зодчестве. Социально-сословное расслоение и прежде было колоссальным, но вера, духовный мир и культура многие века были, как вы видели, все же едиными для всех русских сверху донизу. Потому и великой и неповторимой. А теперь этого не стало, теперь царь и ближайшее его окружение не хотели больше иметь ничего общего 0 своими рабами, с этим тупым, упрямым, черным народом (так ведь и называли — черным),— даже внешне хотели иметь с ним ничего общего, самим образом жизни, и все иноземное годилось для этого, конечно, как нельзя лучше. 151 РОССИЮ НА ДЫБЫ Ну а как Петр I продолжил начатое отцом, вы прекрасно знаете. Всего за тридцать без малого лет огромнейшая страна стала во многом совершенно неузнаваемой, почти что западной. Вернее, дворянство стало иным, правящая верхушка, и поначалу-то тоже не поголовно. Хотя, по сути, все петровские преобразования шли на пользу только одному ему — дворянству. Образ жизни он в корне сменил только ему. Сам характер его переменил. Само его место и значение в организме России. Полагаю, что это и была основная цель и сердцевина всех петровских деяний, хотя сам-то он без конца повторял, что бьется и надрывается и всех заставляет надрываться за ради Русского государства, его усиления, расширения и процветания. Он так и понимал: государство — это он и дворянство, и более никто и ничто. А между тем дворяне тогда составляли чуть более одного процента всего населения. Около двух процентов — бывшие приказные, а по-новому чиновники, то есть собственно государственный аппарат, который всегда и во всем тянулся за дворянами, за своими начальниками. И военные — армия и флот. И еще было черное и белое духовенство — тоже около двух процентов. И хотя реформы затронули и их, и даже катастрофически, сугубое западничество Русскую Церковь все-таки обошло. Стало быть, преобразовывал Петр всего лишь четырепять процентов россиян. А остальные (исключая духовенство) девяносто два — девяносто три процента, то есть практически весь народ, все тягловые, работные сословия тащили эти преобразования на себе, на своих горбах, и жизнь их тоже менялась день ото дня и год от года все стремительней и неудержимей — только в худшую сторону. В невообразимо и невыносимо худшую, ибо указами Петра, которые издавались буквально каждый день, иногда и по нескольку разом, в том числе и совершенно нелепые, дикие, которые невозможно было осуществить,— так вот этими указами все дотоле еще полусвободные слои населения были превращены в крепостных, коими хозяева могли распоряжаться как угодно. Были введены обязательные рекрутские наборы на военную службу, которая ничем не отличалась от холопства и каторжных галер и продолжалась двадцать пять лет. И на строительство Санкт-Петербурга работный люд сгонялся со всей страны, как известно, насильно, кнутами, и любая каторга казалась ему раем по сравнению с этой великой стройкой, коей мы так гордимся, хотя 152 иногда правда, и вспоминаем, что она вся на людских костях.А вы прикиньте, сколько их там, костей наших предков-то ! Точно так же строились и порты, и крепости и каналы, и корабли. Население России уменьшилось за время его правления почти на треть. Теми же указами была унижена и перекорежена Русская Церковь, уничтожено патриаршество и во главе вновь созданного Священного синода поставлено гражданское лицо — обер-прокурор, то есть по существу церковь уподоблена обыкновенному государственному чиновничьему ведомству, вроде Коммерц-коллегии или Берг-коллегии. Однажды таким же указом всем крестьянам-землепашцам и мастеровымремесленникам было велено носить даже в полях и на всех работах только одежду немецкую или голландскую — точно не поймешь,— это, значит, короткие панталоны, чулки и камзолы. Не говорилось, правда, где миллионам полунищих мужиков и баб их брать. Бабам тоже предписывалось вместо сарафанов, понёв и кик носить только немецкое. И уж совсем не объяснялось, зачем и почему это вдруг? Может, Петр сам вид русских порток, рубах и прочего уже не мог переносить? Теми же указами простой человек чуть ли не каждый день облагался все новыми и новыми налогами, не виданными ранее ни у нас, ни в других странах. «Сборы были поземельные, померные и весчий,— пишет великий историк Василий Осипович Ключевский,— хомутный, шапочный и сапожный — от клеймения хомутов, шапок и сапог, поддужный с извозчиков — десятая доля найма, посаженный, покосовищный, кожный — с конных и яловочных кож, пчельный, банный, мельничный, с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный с печей, привальный и отвальный — с плавных судов, с дров, с продажи съестного, с арбузов, огурцов, орехов и другие мелочные всякие сборы». С домашних бань, к примеру, состоятельные помещики и богатые купцы обязаны были платить по три рубля в год, люди с достатком пониже — по рублю, а крестьяне — по пятнадцать копеек. Деньги по тем временам весьма приличные. И ношение бород и усов, как вы наверняка помните, облагалось посословно и огромными суммами. Цена раскольничьих бород доходила аж до ста Рублей, а не хочешь или не можешь платить — обрежут и изволь бриться. А какой же раскольник без бороды. - них, с раскольников, все сборы были двойными. И все они обязаны были регистрироваться в особых раскольничьих конторах, заведенных Петром. А не зарегистриро153 вался, не платишь, но дознаются, что раскольник,—плаха, виселица, застенок, кошки, батоги, ссылки. От полной безысходности при нем однажды самосожглись сразу почти три тысячи человек. Самосожигались без конца. В народе за все за это Петра, конечно, все больше и больше ненавидели, называли антихристом, рассказывали легенды, будто он никакой не русский царь, того, мол схватили и извели, когда он приехал в Голландию, а обратно вернулся подменный басурман — вот и лютует, изводит православных христиан. Разве ж настоящий, кровный русский царь мог так поступать со своим собственным народом! Люди тысячами бежали с его каторжных строек, от рекрутства и из армии, от надругательств и полной нищеты. Города были запружены нищими и ворьем, а на дорогах, особенно на лесных, даже возле самой новой столицы знатные персоны без крепкой охраны и ездить-то не отваживались. И сам ее генерал-губернатор всесильный светлейший князь Меншиков говаривал, что ему ничего не стоит прорыть Ладожский канал, а вот справиться с разбойниками в Санкт-Петербургской губернии он не в состоянии. Но государство-то от всех этих немыслимых поборов и подневольного труда только богатело: за время петровского правления его доход увеличился в три с половиной раза, и он мог строить новые корабли, создавать и вооружать новые полки, одерживать новые победы, расширять границы России, наводнять ее целыми толпами нужных и ненужных иноземцев, которым платил в три и в пять раз больше, чем своим, открывать новые училища и разные ученые и развлекательные заведения — на манер западных, разумеется,— строить новые заводы и поражающие воображение новые дворцы, как тот же Петергоф с его бесчисленными хитроумными фонтанами, устраивать бесконечные, грандиозные, разнообразные, затейливейшие праздники, парады, представления, шествия, маскарады, ассамблеи, фейерверки с непрерывной пушечной пальбой. Пороху на нее изводил больше, чем на все подлинные баталии. Вино лилось не реками, а морями. И дворянство при всем этом тоже, конечно, богатело, все больше роскошествовало и надувалось спесью, полагая, что теперь они, дворяне, уже воистину европейцы самых высоких проб, и как только могли восторгались своим великим небывалым царем, который поднял их до всего этого, даровал им эту настоящую, достойнейшую роскошнейшую жизнь, полную удовольствий. 154 нарекли его Отцом отечества, Императором, величайшим из величайших.русское самодержавие превратилось тогда в нечто такое что случалось на земле не больно часто: в тиранию без каких-либо ограничений. Буквально ни единого не было.Ни единого! Обращение с Церковью, а по сути-то с самим Господом Богом — ярчайшее тому свидетельство. И вся история с собственным сыном оттуда же. Плоть плоти своей — вы вдумайтесь! — совсем еще молодого человека, неглупого, образованного, незлого, законнейшего наследника престола, предал смерти лишь за то, что тот не все понимал в его преобразованиях и не со всем соглашался, но нисколько не мешал им — даже готов был отречься от прав на престол и принять схиму! — но вдруг бы да собрался помешать, если бы жил дальше... Личность Петра действительно во многом феноменальна. Но сильнее всего поражает в нем то, что поражало народ при нем: русский царь, а никакой России для него до него как будто вообще не существовало, ничего не было в ней родного, дорогого, любимого, да просто стоящего. Огромного государства с почти тысячелетней историей и великими деяниями как будто совсем не было. Населяющий же эту землю народ лишь раздражал да возмущал его своей неповоротливостью, ленью, неаккуратностью, бесшабашностью, упрямством, непокорностью. Да всем, буквально всем! Ни единого ценного качества не видел в своих рабах, и без конца твердил об этом, и все старался научить его работать, как иноземцы— точно и беспрекословно, быть такими же расчетливыми, изворотливыми, накопительными. Доходило до того, что даже печников завозил из Голландии учить русских класть самые, по его мнению, настоящие печи, словно миллионы русских, особенно северных уникальных печей были не настоящими и не справлялись уже тысячи лет с нашими, вовсе не голландскими зимами и морозами. Подобное можно перечислять и перечислять. Ну и конечный результат вы прекрасно знаете: в России его великими трудами образовались два совершенно самостоятельных мира, которые все больше и больше обособлялись друг от друга. Мир дворянский, правящий, господский, в котором вместе с армией было всего четыре половиной процента россиян, которые жили уже Целиком чужой, заемной, западной жизнью, но которые, однако, только себя и считали подлинной Россией, ее смыслом И мир остальных девяноста пяти процентов россиян, самого народа, который хотя и продолжал жить и кормить своих хозяев, но, по их мнению, Они 155 для настоящей России уже почти ничего не значил, жил какой-то там своей, рабской, примитивной жизнью Каждому, как говорится, свое. Все, мол, от Бога! Собственно-то дворян вместе с чиновничеством ___ всего три процента, а народа с духовенством — девяносто пять!! ПРОДОЛЖАТЕЛИ Елизавета Петровна вступила на престол в 1741 году и правила двадцать лет, а Екатерина Вторая, тоже нареченная Великой, правила тридцать четыре года, с шестьдесят второго по девяносто шестой. И обе продолжали петровские преобразования столь активно, что через сто лет господская Россия переменилась окончательно и совершенно. Санкт-Петербург уже твердо встал в ряд самых величавых и прекрасных столиц Европы. В его окрестностях, помимо фантастического Петергофа, родились еще несравненные дворцовые ансамбли Царского Села, Гатчины, Павловска. Сильно изменилась Москва, даже в Кремле начался снос древних строений, на месте которых проектировалось возвести гигантский дворец в классическом стиле. Весь Кремль должен был обрести этот стиль. Но, слава Богу, не обрел — вовремя опамятовали и остановились. А вот Коломенский чудо-дворец Екатерина Вторая все же приказала разобрать на дрова. Объяснялось это тем, что содержать в должном порядке такое огромное деревянное здание слишком сложно и дорого: дерево ведь ветшало, требовало постоянного ухода и подновлений, его неустанно нужно было беречь от огня — больно, мол, много хлопот. Но это всего лишь предлог, дело вовсе не в хлопотах, а в том, что обличьем и характером этот дворец был Екатерине Второй совершенно чужим, нисколько ей не нравился. Зодчество всегда и везде считалось искусством королей и императоров, у нас тоже: и Петр, и Елизавета, и Екатерина, и Павел им занимались; Павел Первый даже самолично составлял проекты, самолично все рисовал. А по высочайше утвержденным генеральным планам Екатерины тогда перестраивались, перепланировались не только обе столицы, но и почти все губернские города, в которых появилось очень много нового и великолепного, но не имевшего уже ничего общего с прежней русской архитектурой. И помещичьи усадьбы обретали тогда дивные особняки и целые богатейшие усадебные комплексы сначала в стиле пышного барокко, а затем в стиле классицизма 156 или ампира, которые, кстати, сразу же стали именовать у нас с русским барокко и русским ампиром, потому что, несмотря на свою пришлость, несмотря на свое иноземное происхождение, они тоже приобрели у нас черты совершенно неповторимые, продиктованные нашей природой и необходимостью связать эти новые строения с уже сушествующими рядом сугубо русскими. Изящнострогие особнячки с классическими портиками с четырьмя или шестью белыми колоннами, которые стали символами русских помещичьих усадеб,— это и есть русский ампир. у господ теперь был театр, опера и балет. Итальянский и французский, с приезжими труппами, которые, разумеется, пели, а в драмах и трагедиях и говорили только по-своему. Позже, правда, появился и русский театр, созданный ярославским купцом Федором Волковым и приглашенный к императорскому двору, но репертуар у него поначалу был в основном тоже западный или на западный манер, и многие спектакли тоже шли на французском или итальянском. У господ была теперь своя музыка — естественно, тоже итальянская, французская или немецкая. И оркестры, поначалу состоящие большей частью из иноземных музыкантов. У господ была своя литература — тоже почти сплошь переводная. Классику-то, начиная с Гомера, Эзопа и Аристофана, переводили с шестнадцатого века, а теперь и самые наимоднейшие романы пошли немецкие и французские, и немецкие баллады, и стихи, и драмы, комедии и водевили, и тамошние песни и пасторали. Книг издавалось все больше и больше, и газеты, и журналы, и не только литературные и развлекательные для досуга, но и научной, философской и учебной литературы было значительно больше, но тоже, конечно, сплошь переводной, и тоже, понятное дело, лишь для господ. Самые просвещенные из них уже имели библиотеки во много тысяч томов. Была у них теперь и живопись, и гравюры. Уже Петр очень любил гравюры, и немец Шхонебек резал для него виды строящегося Петербурга, кораблей, морских и иных баталий. А в живописи преобладали портреты, во многих дворцах и домах они занимали подчас целые стены сверху донизу. Любили также большие картины разных сражений, картины на сюжеты античной истории, натюрморты, цветы и виды Италии, Швейцарии, французских, английских и немецких замков,дворцов,парков,фламандских и шведских городов, гаваней, улочек. Своих, русских пейзажей в господской живописи не было аж до середины девятнадцатого века. 157 И подлинно русской великой иконописи больше не было. Уничтожили навсегда. Одни лишь истые старообрядцы сохраняли как могли древние доски, да редкие редкие мастера тайно писали для них некие подобия прежнего или копии с прежнего. Официальная церковь была целиком за новую живоподобную иконопись, и массово изготавливалась только она. А дворянство и вовсе предпочитало иконам религиозные картины — как у них, там. К началу девятнадцатого века в господской культуре и господском быту вообще не осталось ничего национального, русского. И в самом воспитании, в самой психологии. Потому что если господское дитя росло и образовывалось дома, то его воспитателями, учителями даже в семьях среднего достатка, как вы знаете, непременно были французы или немцы, или еще какие, сплошь и рядом не очень-то просвещенные, но зато манерные и знающие себе цену европейцы. И дальше, в любом учебном заведении, в том числе и в открытых в Москве и Санкт-Петербурге университетах, если у взрослеющего человека уже и не было педагогов иностранцев, то изучал он там все равно историю, скажем, в основном античную да западных стран, и их мифологию, их литературы, культуры, языки, этикет, манеры, танцы. Ну и точные и естественные науки, конечно, или военные. Да, да, постепенно иноземных учителей, иноземных инженеров, генералов и адмиралов, ученых и механиков, зодчих и артистов, музыкантов и живописцев становилось все меньше,— хотя в общем-то было всегда невероятно много! — а своих, отечественных тех же профессий все больше и больше, и подлинные шедевры в господских искусствах создавали уже не только действительно великие Трезини, построивший Петропавловскую крепость, или Растрелли, подаривший России Зимний дворец, Смольный монастырь, Большой Царскосельский дворец и многое другое, чем мы по праву гордимся перед всем миром, но и наши Чевакинский, Мичурин и Ухтомский с его Адмиралтейством, Баженов и Казаков с их гениальными Домом Пашкова и Благородным собранием в Москве и всем остальным. И еще многие и многие другие. А в науке уже был наш гениальный Михаила Васильевич Ломоносов — кажется, вообще последний энциклопедист такого гигантского масштаба на земле, предопределивший сразу несколько направлений в науке, сделавший столько великих открытий в разных областях, создавший более ста научных приборов, несколько лабораторий, построивший действующую модель первого в мире вертолета, а вместе с тем и блестящий историк, филолог, педагог, художникмозаичист и 158 стихотворец оды которого мы читаем и цитируем по сей день. И были еще Тредиаковский, Державин, Фонвизин.А в театре Волков и Сумароков. В музыке Бортнянский и Фомин, их оперы, кантаты и балеты. В скульптуре Шубин и Козловский, и приглашенный специально для создания памятника Петру Первому Фальконе,который выше этого памятника больше так ничего и не создал. В живописи были Аргунов, Рокотов, Вишняков, Лосенко, Левицкий, Боровиковский. И вот что любопытно: среди творцов этой господской культуры было очень много крепостных этих самых господ Целые театры из крепостных, и оркестры, и зодчие и живописцы, и скульпторы. В конце восемнадцатого и почти до половины девятнадцатого века их имели чуть ли не все родовитые и знатные вельможи: Потемкин Юсуповы, Голицыны, Долгоруковы, Бутурлины, Панины. Даже Александр Васильевич Суворов держал в своем маленьком новгородском именьице театральную труппу из своих крепостных. ГНЕЗДО Лучшим же из барских театров по праву считался театр графа Николая Петровича Шереметева. Кое в чем он даже превосходил Императорский и Московский городской театр Меддокса, из которого позже вырос Большой. Шереметев построил несколько театральных зданий: в Москве на нынешней Никольской улице, в своих родовых подмосковных усадьбах Кусково и Останкино — этот дворец-театр близ телецентра ныне знают буквально все,— и в Санкт-Петербурге, во дворце на Фонтанке. В его труппе были певицы и певцы, балерины и балеруны, которые выступали и как драматические актеры, ибо ставил он и оперы, и балеты, и дивертисменты, и водевили, и драмы. Ставил сам и сам играл в оркестре — был прекрасным виолончелистом. И декораторы у него были все свои, и бутафоры, и механики сцены — чудеса превращения и эффектов устраивали такие, что именитая Москва и сановный Петербург, в том числе и государи приезжали подивиться и насладиться завораживающим сопрано и страстной игрой большеглазой, легонькой как перышко Параши Жемчуговой — шереметевской примадонны, первой воистину великой русской певицы и актрисы. Наслаждались и танцами несравненной Татьяны Гранатовой — тоже первой знаменитейшей русской балерины. 159 Н. Шереметев ...— Онемела, что ль?! Онемела!? Голос звучал Танин. И смех Танин. А стояла перед ней никакая не Таня, а девочка-бабочка с большущими полупрозрачными крыльями за спиной, с тонюсенькой талией, перехваченной белым атласом, и гигантскими, прямо гигантскими глазищами, нарисованными на пол-лица. У Параши перехватило дыхание, потому что ей действительно показалось, что это никакая не Таня, которая привела ее сюда, а сама убежала, как она сказала, «гримироваться и одеваться в детскую». Только голос был Танин, и он еще спросил, нравится ли она ей в роли бабочки. Матерь божья, да разве это можно выразить словами, когда свершилось такое чудо — девочка превратилась в бабочку! Где-то длинно засвистел заливистый свисток, в коридоре затопотали, но бабочка-Таня сказала, что надо 160 подождать сейчас от сцены погонят, однако сама же не утерпела и, крепко уцепив Парашу за руку, вынырнула с ней в коридор, и, воровато озираясь в полутьму, по стеночке, по стеночке повела туда, откуда тянуло холодком а потом послышался и нараставший с каждым шагом 'нестройный шум, какое-то глуховатое гудение, звуки вразнобой настраиваемых музыкальных инструментов Мимо них проплывали и сновали люди, некоторые одетые в неведомые причудливые одежды. Му жики в неподпоясанных рубахах что-то тащили туда и ттуда Оттуда же повеяло настоящей прохладой и креп кими запахами красок, свежих досок, клея и, наконец, пыли; пылью сильно пахли высоченные холщовые зана веси меж которыми они остановились и которые Таня назвала кулисами. Сказала, чтоб она стояла тут, здесь ее никто не заметит и не прогонит, и чтоб смотрела вон тудатам сцена, а сама убежала. А Параша уже и так смотрела туда, где кончались эти пыльные кулисы и было какое-то высоченное пространство, залитое ярким светом. Там возвышалась стена какого-то странного строения — всего лишь одна стена, поддерживаемая сзади голыми досками. Два мужика в неподпоясанных серых рубахах как раз приколачивали крайнюю доску к полу. А еще один мужик вытягивал за веревку откуда-то сверху что-то большое, мягко колыхавшееся, и, когда вытянул целиком, это оказалось плоским матерчатым деревом. Низ его ствола прижали к полу чем-то тяжелым, и дерево перестало колыхаться. Кто-то за кулисой хрипловато сказал: «Попробуем еще!», там что-то зашуршало, негромко натужно заскрипело, и Параша увидела, что в полу сцены есть желобки и в них сейчас задвигались натянутые, как струны, веревки — и из-за противоположных кулис выплыла богато разукрашенная, раззолоченная ладья, похожая на лебедя. А парус на ней был алый. На полу сцены впереди что-то заколыхалось, кажется, голубоватое, но что именно, Параша не разобрала, она стояла где-то в середине кулис. «Хорошо!.. Назад!» Ладья попятилась обратно. Свет на сцене стал меркнуть и синеть, будто туда опускалась ночь. Мужики-рабочие засновали по ней торопливей и совершенно бесшумно, точно приведения. Музыкального разнобоя вдали уже не было, только какоето глуховатое гудение. «Это, наверное, публика»,— подумала Параша. На синей сцене откуда-то появилась яркая дорожка лунного света, легла на странное строение, на сводчатую дверь в нем, и показалось, что за ней, за этой дверью, уже кто-то стоит с другой стороны в длинном плаще и шляпе. 161 Рабочих уже ни одного не было. Полилась негромкая задумчивая музыка. Рядом с Парашей бесшумно встал воин в блестящих латах и с огромным копьем. Свободной рукой погладил ее по голове. Что-то тяжело зашуршало, музыка сделалась слышней пахнуло теплом и дорогими духами, и Параша поняла ,что это раздвинулся занавес. Человек в длинном плаще прятавшийся за странным строением, открыл в плоской стене дверь, шагнул через нее в лунный свет и задумчиво, красиво запел, так красиво, что она даже не вслушивалась в слова, а только в завораживающе густые звуки этого голоса. Он был поразительно красив, этот человек, и плащ на нем оказался золотым, переливчато сверкающим даже в зеленоватом лунном свете и синеве. Он выжидательно поглядывал туда, откуда раньше выплывала ладья, и пел об ожидании, томительном, мучительном ожидании. И ладья снова выплыла, а на ней, держась за раззолоченную лебединую шею, вся в розовом, стояла девушка совсем уже несказанной красоты. Он бросился к ней. Она тоже запела. Запела нежнонежно. Но тут вдруг громыхнул гром, завыл жуткий ветер, стал срывать с девушки ее прозрачные розовые одежды и гнуть ее, и гнуть его, и на сцену, дико грохоча, со всех сторон побежали воины в блестящих латах. Музыка гремела, разрывая уши. Потрясенная, перепуганная Параша метнулась было тоже на сцену спасать эту девушку, но как-то все же удержалась, уткнувшись лицом в пыльную кулису, и сколько-то дышала этой пылью, не двигаясь, дрожа от страха, а потом услышала, что музыка успокаивается, и осторожно глянула опять на сцену и увидела, вконец пораженная, что там уже ясное утро и эта девушка, цела и невредима, сидит на каком-то зеленом пригорке, усеянном цветами, срывает их и плетет венок. Только что был дворец, ночь, буря — и уже солнце, пригорок. Душу захлестнуло восторгом, и ей безумно захотелось шагнуть сейчас же туда, к этому пригорку, к этой девушке, в этот неожиданный и невероятный мир... ...Ей чудилось, что, если идти по этой дороге долго-долго, она тоже приведет к чему-то прекрасному, как театр. Но дорога кончалась неизвестно где, и она ни разу туда не дошла: одна немножко робела, а кого из ребят позвать с собой, еще не придумала. В том запрудном бору водились рыжики, и слободские шастали туда целыми ватагами. И тогда тоже пошли ватагой, но одна ребятня. Было утро — взрослые все в работах. 162 И вот — дорога. Она пошла по ней, ступая босыми ногами по жаркому твердому песку меж высоченных прямых сосен в золотых Лепящих Пятнах и дымчато-голубовато-золотистых лучах. Помахивала легким, неполным еще лукошком и придумывала, что бы ей сказать, если догонит кто из ребят, т которых она нарочно оторвалась, чтобы отстали, и идти бы и дальше одной, и все-таки дойти сегодня до конца. Непременно дойти. И в первый момент даже не придала значения тому, что увиделось вдруг далеко впереди. А увиделись совсем маленькие, как будто невесомые, как будто плывущие над землей кони. Они приближались. Они росли. Они были светло-серые и тоже ослепительно вспыхивали в солнечных лучах, точно загорались. И топот их был так легок и ладен, что казался не топотом, а какой-то таинственной музыкой. Их было четыре, все высоченные, без единого пятнышка, ноги выбрасывали по-гусиному. И вспыхивали. Слышно уже было их ровное дыхание. Они катили высоченную бело-золотую коляску, которая тоже сияла и вспыхивала. И покачивалась. А в ней сидел барин. Тоже весь сияющий, поблескивающий, светло-зеленоватый, чуть скуластый, бледнолицый — и как-то странно ей улыбнулся. Увидел, приближаясь, и улыбнулся. Как осветил. И она догадалась, что это их молодой хозяин; издалека-то раза три его уже видела, а так близко — впервые. Стало так хорошо, что она засмеялась. — Девочка! К ней подскакал один из гайдуков, сопровождавших коляску. Тоже на светло-сером высоченном коне, которому Параша оказалась по брюхо. — Граф зовет тебя! Быстрей! Коляска остановилась не очень далеко. Параша побежала. И, приблизившись, так, смеясь, и поклонилась ему... -Минуты три назад его что-то как кольнуло изнутри: «Погляди! Погляди вперед!» Поглядел: вдалеке навстречу им шла девочка, освещенная солнцем. Тоненькая. В синеватом сарафанчике. Размахивала лукошком. Шла очень легко. «Будто не касается земли»,— подумал он. Потом увидел длинную стройную шейку и невероятной величины глаза необычного, лиловатого цвета. И такие счастливые, что невольно улыбнулся. Но больше ничего не разглядел, даже лица не разглядел — уже пРоехал. 163 Портрет П. Жемчуговой Однако скучные раздумья, не отпускавшие его в это утро, вдруг исчезли, и он велел остановиться и позвать девочку. И был вконец удивлен, когда она оказалась и очень хороша лицом — вовсе не крестьянским, а утонченным, с нежнейшей загорелой кожей. Стояла у самой подножки вся просвеченная солнцем, задрав головенку в белом платочке, вся улыбающаяся, счастливая, и в ее невероятных лиловатых глазах не было ни робости, ни тени смущения — только восхищение, внимание, доверие. А ведь обычно дворовые и крестьянские дети робели перед ним. «Как хороша-то! Как хороша!.. Почему я не видел ее раньше? Такое украшение можно вырастить для театра!..» — Ты чья? — спросил ее, удивленно вскинув брови. — Ваша. — Чья дочь? 164 _ Кузнеца Ивана. Параша. — Горбуна? — Да__ Сколько же тебе лет? __ Восемь. __ Песни поешь? _ Конечно. _ А сейчас можешь спеть? — Какую? _ Какую хочешь. — Счас... Она задумалась, прикидывая, какую бы лучше спеть, и опять, без тени смущения, опалила его счастливовосторженным лиловым взглядом, и он тоже вдруг почувствовал себя очень хорошо, тихо засмеялся и сказал: — Ладно, в другой раз. Отцу скажи, чтоб завтра по утру был у меня... ...Ее забрали в господский дворец, к княгине Марфе Михайловне — маленькой седенькой старушке в розовом чепце, которая все время дергала головой, как будто что клевала, как птица. Тырк... Тырк... Объяснили, что эта старенькая княгиня хоть и старше их старого барина, но доводится ему племянницей, а молодому барину двоюродной сестрой, что по фамилии она Долгорукая и всю жизнь после смерти мужа по бедности живет у Шереметевых. Княгиня захотела, чтобы Параша была при ней, сказала, что станет ее воспитывать. — Вот счастье-то! — прошептала матушка и заплакала, а Параша за ней следом, потому что матушка по чти никогда не плакала, и она чего-то испугалась. Но страшного ничего не было. Только все стало совсем по-другому. Ее одели в очень красивое господское платье, даже холщовую рубашку велели снять и надеть из тонкого белого полотна, с кружевами по подолу и у ворота. Она была мягенькая-мягенькая, эта рубашка, и тоже очень красивая. И туфельки дали красивые, мягенькие и легкие, словно перышки. И есть теперь надо было не из общего блюда и не только ложкой, а из разных тарелок и тарелочек и разными вилками с разными ножами. И сидеть за столом разрешалось не как хочешь, а только прямо, и локти на него не класть, и жевать медленно, не торопясь, не болтая. Учила ее княгиня и пристойно ходить, держаться прямо, красиво кланяться, что, кому и как говорить. И как улыбаться. Чем интересоваться. Как на кого смотреть. 165 Это все было легко. И учиться грамоте и письму было легко и интересно. И арифметике. И говорить по-французски и итальянски. И другим разным наукам. Занимались они вместе с Яшей Реметевым — сыном старого графа Петра Борисовича и дворовой крепостной Евдокии Степановой. У них еще и девочка была — Маргарита, пятый год шел, а Яше исполнилось семь. Учитель был университетский — Михаил Евлампиевич, он и жил при Яше. А француз месье Дюко и итальянец Карел-ли дважды в неделю наезжали из Москвы. Спала она в комнате рядом со спальней княгини и каждое утро приходила к ней здороваться и целовать отмытую добела сухонькую ручку, и Марфа Михайловна, тыркнув поптичьи головкой и обнажив в улыбке розовые десны, ибо зубов у нее почти не было, стала тоже целовать ее в лоб и, шамкая, говорила, что она весьма и весьма довольна, как быстро Параша всему учится, уже сама может читать и знает уже маленько по-французски и по-итальянски. И приказывала посидеть у ее ног на скамеечке, легонько гладила черные Парашины кудряшки или шею. Это было очень приятно, думалось сразу о матушке, о том, что она сейчас делает и как ей, наверное, тяжело одной таскать все тяжелое, а она вот тут сидит на бархатной скамеечке, окруженная золотом и шелками, ее тут лелеют, и она не знает, как и чем сможет теперь пособить матушке, и от этого жалела ее еще сильней. Но и старенькую княгиню тоже жалела, потому что видела, что, несмотря на всю роскошь и на стольких слуг, она очень слабенькая и болезная, и чувствуется, что ей очень, очень приятно вот так гладить Парашу, и она и вправду очень радуется ее успехам в учебе и во всем остальном, и Параше хотелось сделать что-нибудь еще, чтобы этой доброй старенькой княгине было еще приятней. Но что сделать, она никак не могла придумать. И другие стали нахваливать Парашу, особенно Бабарини, учитель пения, появившийся в Кускове после того, как у Яши, Маргариты и у нее проверяли слух и голоса, и оказалось, что слух у Параши абсолютный, а голос редчайшей окраски и силы. У Маргариты слух тоже был, а у Яши — никакого, и девочек решили учить играть на клавесине. А она взяла и спросила: нельзя ли ей учиться еще и на арфе, что ей очень хочется, потому что это самый красивый и самый нежный инструмент — звуки льются как ручейки. — А не тяжело будет? — удивился граф. 166 Что вы! Теперь занятия шли по шесть и по восемь часов в деньязыки-то остались, и письмо, и история, и прочее. выучивание имен, какие ноты принимают, следуя пючам соль, ут, фа... Ударение всех мер наиточнейше на клавесине: четвертых, третьих, восьмых, девяти шестыхх трех двенадцатых... Разборы синкопов, диезов, бемолей, бекаров... Игра в престиссимо... В состенуто... Аллегретто... Один день — клавесин, другой — арфа. Несколько г,аз специально для нее приглашали даже придворного арфиста Кордона, оказавшегося в Москве. А пение — ежедневно. Сначала училась правильно дышать — диафрагмою, хотя Бабарини сказал, что она так и дышит, будто нарочно родилась для пения, так как искусство пения есть искусство правильного дыхания, а еще точнее — выдыхания. Сажал ее на стул как можно прямее, руки скрещивал сзади как можно выше, грудь вперед, и, как бы в улыбке, показывая низ верхних зубов, надо было втягивать воздух к твердому нёбу рта и только оттуда в гортань и далее, пока диафрагма и нижние ребра не распирались до предела, а верхняя часть груди при этом не изменялась. Тут — секундная задержка и медленное-медленное выдыхание, опять только диафрагмой. На счет. Считала про себя. А учитель вслух: — Во-семь... Де-вять... Десять... А иногда сажал на стул у стола, ставил на него зажженную свечу, пламенем прямо перед ртом, и надо было, чтобы при выдыхании она оставалась неподвижной. — Три-дца-а-ать!.. Пя-а-ть-де-ся-ат!.. Пламя не колебалось. Бабарини восторженно аплодировал и говорил, что у него еще не было учеников, которые бы выдыхали до счета пятьдесят шесть, что голос у нее поставлен от природы, труда с ним совсем немного, нужна лишь некоторая отделка — и «будет феноменально!». — Ты феномен! Пойми это! Потом выпевала бесконечные аааааааааааааааааааа и Другие гласные. Потом пела гаммы снизу вверх и сверху вниз, с выра>откой металличности тона, его чистоты, силы и равномерности. Потом филировка — поднимание и опускание тона от иано до форте, от пианиссимо до фортиссимо, только самого выдыхания с обязательной сфуматурой — чезновением звука в конце... 167 -—Л1ПТ.111Ч1Г1» — Драматическое сопрано, способное на колоратуру и трель! Феноменально! — твердил Бабарини.— Феноменально!.. ...У Шереметева были певческие, балетные и музыкальные школы в Кускове и на Украине в Борисовке, усадьбе, построенной еще дедом Николая Петровича, знаменитым фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым, куда отбирались одаренные дети со всех его многочисленных владений. И свой композитор у него был — Степан Дехтярев. И свой драматург, либреттист и переводчик — Василий Вороблевский. И свои архитекторы: Федор, а потом племянник Федора, Павел, Аргуновы, строивший Останкинский дворец. И свои блестящие, прославленные портретисты Иван и Николай Аргунов — отец и сын. Павел тоже сын Ивана Петровича, а Федор— родной брат Ивана Петровича. И был у него еще третий сын — Яков Аргунов, прекраснейший график-портретист. И знаменитейший русский скрипичный и гитарный мастер Иван Батов — тоже шереметевский. Все перечисленные знаменитости пожизненные крепостные Николая Петровича, и не один из них не просился на волю; даже великая Параша Ковалева — Жем168 чугова она по сцене,— была крепостной аж до 1801 года, и стала вольной лишь накануне их венчания с Николаем Петровичем, после которого сделалась графиней Прасковьей Ивановной Шереметевой. Их многолетняя удивительнейшая любовь — одна из самых прекрасных и светлых страниц нашей истории. Шереметевское художественное гнездо вообще уникальнейшее явление, наверное, не только у нас в стране. И обусловлено оно прежде всего тем, что этот богатейший в стране вельможа,— к концу жизни Николай Петрович владел двустами десятью тысячами крепостных, больше было только у царей и членов царской фамилии,— сам человек художественно очень одаренный, единственный из своего круга, кто знал, что на самом Деле представляет из себя народ, которым они владеют, как он безмерно, бесконечно и разнообразно талантлив, и понимал, что это надо только поощрять и всячески пестовать, и мало что создал школы для одаренных детей и постоянно учил, совершенствовал уже и взрослых актеров, музыкантов, художников, он и содержал их так, как в России этого больше не делал никто и никогда. Особо выученным, владеющим иногда несколькими 169 языками крепостным вообще-то тогда платили жалованье многие их господа. И артистам и музыкантам платили. У Юсуповых или Голицыных, например, ведущцад платили от шести до двенадцати рублей в год. Это помимо харчевых или натуральных харчей, одежды, дров свечей и прочего. У других — меньше, у большинства же — ничего. А Николай Петрович по сто двадцать, по двести пятьдесят, потом и по пятьсот рублей в год плюс харчевые и прочее. А Ивану Петровичу Аргунову даже по девятьсот восемьдесят. Деньги по тем временам колоссальные. При царском дворе высшим чиновникам-сановникам платили лишь чуть больше. Да у каждого был еще свой выезд, свои слуги. Вот вам и крепостные! Ни у кого из них даже и мысли не возникало избавиться от такой неволи. Жену же свою, вчерашнюю крепостную, великую Парашу Жемчугову-Шереметеву, подарившую ему сына и умершую этими родами, совсем еще молодой, Николай Петрович положил в родовой фамильной Лазоревской усыпальнице Александро-Невской лавры в ногах своего деда, прославленного фельдмаршала Петра Первого Бориса Петровича Шереметева. Исторический парадокс: народ, который подавляющее большинство господ и за настоящих людей-то не считало, творил их мир, их культуру. Позже появилось даже жуткое по своей сути словосочетание, обозначавшее таких творцов,— крепостная интеллигенция. Вдумайтесь! Кре-пост-ная ин-тел-ли-ген-ция!! А теперь представьте себе, какими в этом абсолютно прозападном мире и прозападной культуре вырастали третье, четвертое, пятое поколения господ. Ведь не то что мозг и кровь, у них даже и костный мозг и тот уже состоял из инородных клеток, и они только звались русскими, но были русскому народу совершенно чужими, как и он им, как и русская земля,— чужие земли они любили куда больше, перед некоторыми благоговели, в основном там и жили. А на родине жили вынужденно, по неприятной необходимости — корм, доходы-то шли отсюда. И вы знаете, многие благородные уже и говорить-то толком по-русски не умели, между собой говорили лишь по-иноземному. И знать о России почти ничего не знали, кроме разве своих русских слуг, которых тоже выучивали говорить по-французски или немецки, дабы не слышать их грубой, противной речи. Все им было здесь противно. Тредиаковский и Сумароков даже все народные песни считали «подлыми и гнусными» — это 170 зачнатели-то НОВОЙ русской литературы! А Гаврила Романович Державин — сам Державин, благословивший Пушкина! — со спокойной совестью писал: Прочь, дерзка чернь непросвещенна И презираемая мной! Что это, как не полное национальное невежество! КАК МЫШИ КОТА ПОГРЕБАЛИ Когда стены московского Кремля опоясывал глубокий ров с водой, ко всем башням с воротами были перекинуты каменные мосты. Был такой мост и у Фроловской (Спасской) башни. А рядом с ним с конца семнадцатого века долгие годы стоял деревянный двухэтажный домбиблиотека посадского человека Василия Васильевича Киприянова. Слово «библиотека» обозначало тогда не собрание книг, а торговое заведение, где продавались книги и всякая другая печатная продукция. Киприянов владел таким заведением и, кроме того, имел еще и хорошую собственную библиотеку — уже в нашем понимании этого слова. На верхних же открытых галереях его дома желающие, и не покупая книг, могли посидеть и почитать их или посмотреть картинки. А на подходах к Спасскому мосту и на нем самом по обеим сторонам жались друг к другу многочисленные дощатые и бревенчатые палатки, все от крыш до земли увешанные яркими лубочными картинками, державшимися на пеньковых веревках при помощи больших бельевых прищепок. В шесть утра открывались ворота в Кремль, и на мосту у палаток сразу появлялся народ. — Поход славного рыцаря Колеандра Людвика! — заспанным голосом выкрикивал один из торговцев. — Медведь с козою прохлаждаются и на музыке своей забавляются! — подхватывал другой. — Сюда, почтенные, сюда! На свободных местах располагались бабы-лоточницы, предлагали обжигающий пахучий сбитень, остренький клюквенный квас или квас с хреном, мягкие бублики, гороховый застывший кисель, маковки. И каждая, конечно, тоже такие рулады голосом выводила, что этот хор от самого лобного места было слышно. Народ тут собирался только определенных сословий: Ремесленники, крестьяне подмосковные и из дальних 171 краев, купчишки из мелких, служилый люд, попы-расстриги, голь всякая. Знать, сановники да иноземцы — те лишь проезжали иногда в каретах в Кремль, таращили глаза на этот вечно галдящий муравейник и брезгливо морщились, не понимая, как чернь может интересоваться и покупать столь яркие и совершено, по их мнению, грубые, топорно исполненные картинки. И как веселятся-то: толпами что-то разглядывают, хохочут. А то за какой-нибудь палаткой слепцы объявятся. Когда два, когда больше. Сядут на специально для таких случаев припасенную плашку, один на рожке наигрывать начнет, а другие негромко и потешливо запоют: Боярин-дурак в решете пиво цедил, А дворецкий-дурак в сарафан пиво сливал. Возьми, дурак, бочку — больше насливаешь. А поп-от, дурак, косарем сено косил... Плотно загородит народ слепцов. С моста их и не увидишь и не услышишь. И все же душным летним днем 1748 или 49-го года одна из богатых карет остановилась у Спасского моста. Ее покрывал толстый слой пыли. Из распахнутой дверцы, тяжело отдуваясь, вылез высокий рыхлый круглолицый господин в съехавшем набок белом парике, в зеленом шелковом шейном платке. Концами этого платка он вытирал обильный пот, выступавший на его длинном тонком носу и на небритом двойном подбородке. Начал господин с крайней палатки. Смотрел все листы подряд, иные подолгу. Заглядывал и внутрь палаток, вроде что-то искал, хотя отобрал уже много картинок и за все расплатился. И вдруг самый старый из торговцев — сухонький, белый как лунь старикашка присвистнул и что-то пошептал своему подручному мальчонке. Тот в считанные минуты обежал все палатки, к которым приезжий еще не подходил, и их хозяева сноровисто кое-что поубирали с веревок и прилавков. А торговавшие с рук вообще сделали вид, что они покупатели. Между тем круглолицый господин уже спрашивал у каждого: — Мне нушен старинный картин «Как миши кота погребаль». У него был сильный немецкий акцент. Но торговцы, все как один, лишь руками разводили да прятали в усы хитрые ухмылки. 172 Не нашел приезжий на Спасском мосту то, что искал,и, крайне раздосадованный этим, полез обратно в карету, громко приказав кучеру: ____ На пешатни дфор, на Никольски! Старичок покачал головой. _ Видать, думал, у нас память короткая. А я помню, помню это он у покойного Ильи портреты Елизаветы Петровны купил, а года через полторы молодцы из «Управы благочиния» нагрянули. Лавки наши громили, те портреты искали. У Федора Елизарова взяли, у других. Сколь досок порубили! Батогами били... Немец он, Штелин фамилия, профессор, говорят, в Сан-Перербурхе... Торговец был прав: господина звали Яков Штелин и он действительно числился в Санкт-Петербурге профессором «элоквенции и поэзии», надзирал за граверами, приписанными в Академии наук. А в 1747 году возглавил только что учрежденную Российскую академию изящных художеств, то есть существующую и поныне Академию художеств. И он действительно бывал и раньше на Спасском мосту и покупал лубочные картинки, о чем собственной рукой и написал на одной из них, как раз на портрете императрицы Елизаветы Петровны, где она была изображена весьма кривобокой и смешной: «Эту омерзительную великолепную гравюру купил я в одной картинной лавке под кремлевскими воротами и представил ее через одного придворного ея императорскому величеству осенью 1742 года. Вслед за тем 6 апреля 1744 года вышло в Сенате высочайшее повеление: все экземпляры этого портрета у продавцов отобрать и дальнейшую продажу их под большим наказанием воспретить, с тем чтобы никто на будущее время не осмеливался портретов его императорского величества без апробации Санкт-Петербургской академии гравировать и продавать... и по тому ея императорского величества изустному указу показанных листов в Москве в разных местах собрано, а именно в Спасских воротах печатного Двора у батырщика Федора Елизарова 22... Барашевской слободы купца Никифоровской жены у вдовы Прасковьи Васильевны 29, Архангельского собора у дьячка 22 же...» И еще перечисление, еще. Красноречивый документ! Но какую же картину на сей раз искал Яков Штелин? Она называлась «Как мыши кота погребали». Однако, прежде чем рассказать о ней подробно, коснемся несколько более давних времен — опять середины семнадцатого века, когда собственно и появились в Мос кве первые печатные картинки, называемые сначала 173 «фряжскими», затем «потешными листами», затем очень долго просто «простовиками» или «простонародными картинками». Лубками их наименовали лишь в девятнадцатом веке, во второй его половине. Одни считают, что это название пошло от лубяных коробов заплечных, в которых их по Руси разносили офени, а другие — что от улицы Лубянки, на которую тогда переместился их главный торг. Способ же изготовления таких картин придумали в восьмом веке в Китае. Делали какой-нибудь рисунок на бумаге, переводили его на гладкую твердых пород доску и специальными резцами углубляли те места, которые должны были остаться белыми. Углубляли до тех пор, пока все намеченные линии и штрихи не становились такими же тонкими, как на рисунке. Они напоминали на доске миниатюрные стеночки. Все изображение состояло из этих стеночек. Работа адская; одно неверное движение — острый резец полоснул готовую стеночку-линию, и доска, над которой мастер корпел, может быть, месяц или два, никуда уже не годилась. Приходилось все начинать сызнова. Потом готовую доску зажимали в печатном станке, похожем на нынешний пресс, специальным валиком наносили, накатывали на тоненькие стеночки черную краску, осторожно клали поверх чистый лист бумаги и прижимали его — оттиск, то бишь штриховой отпечаток рисунка, был готов. Оставалось просушить его и уже от руки раскрасить разными красками. Лубки делались и маленькие, сантиметров по тридцатьсорок, и метровые, и больше; последние составлялись обычно из отдельных оттисков, которые склеивали,— из двух, трех, четырех. Из Китая технология лубка на дереве (позже появились и другие лубки — гравированные на разных металлах) перешла в пятнадцатом веке в Западную Европу, а оттуда через Италию-Фрязию, через Балканские славянские страны, Украину и Белоруссию в середине семнадцатого века — в Москву. Причем первыми преимущества печатной картинки раскусили в Москве все те же завсегдатаи Спасского моста, или Спасского крестца — перекрестка — как тогда чаще называли это место. Книжная-то торговля там процветала задолго до этого — главный российский торг по этой части тут был. Но только книжки продавали больше рукописные, и очень часто самого ядовитого сатирического свойства, типа «Поп Савва — болыпя слава» и «Служба кабаку». Сами сочинители и их приятели-ху174 дожники из такого же простонародья рисовали к этим забо- ристым книжкам картинки-иллюстрации, или вшивали их в страницы, или продавали отдельно. Но много ли от руки нарисуешь?! Да и себе накладней — ведь дорого со своего брата не возьмешь. Эти-то сочинители и художники и обратили внима-на лубки, которые иноземцы привозили сначала в подарок царю и боярам, а потом и на продажу. Оказать что изготавливать не так уж и сложно, а печатать с одной доски можно тысячи картин да еще вместе с небольшими текстами, вырезаемыми точно так же рядом с рисунками. Кто-то из иноземцев или белорусов, видимо, и первый станок в Москве соорудил, и готовые доски для печати на показ привез. С тех пор и пошло. Лубки полюбились в России всем без исключения. Их можно было встретить в царских палатах, в холопьей избе, на постоялом дворе, в монастырях. Есть документы свидетельствующие, что у патриарха Никона их было двести семьдесят штук, большей частью, правда, еще фряжских. А царевичу Петру покупали уже немало и отечественных, в его комнатах их насчитывалось около ста, и его дядька Никита Моисеев, сын Зотов (по-нынешнему— воспитатель), учил по ним будущего великого императора грамоте и началам разных тогдашних наук. Причин столь стремительной и широкой популярности этих картинок две. Во-первых, в них печатались литературные произведения, азбуки, арифметики, календари, пересказывалась история, излагались основы географии, медицины, ботаники, астрономии, именовавшейся козьмографией, лубки заменяли газеты, сообщая важнейшие новости, толковали Священное писание, рассказывали о разных городах, знаменитых монастырях, русских святых, развлекали сказками, песнями, баснями, изображениями веселых плясок, шутов, разными сатирами. И все это Делалось — заметьте! — в основном картинками, иногда Длинной чередой последовательно-повествовательных картинок, расположенных точно так же, как фрески в храмах— ярусами, один под другим. То есть покадрово, как мы сейчас говорим. Подписи вводились лишь тогда, когда что-то просто невозможно уже было изобразить. У, например, титул персонажа или прямую речь, или слова песни. И во-вторых ,лубки служили великолепным украшением для любого тогдашнего помещения, любого жили175 ща, особенно бедного, ибо русские художники с первых же шагов придали им тот неповторимо яркий и радостный характер, который был свойственен всему русскому народному искусству. Есть, например, такой огромный лубок — «Трапеза благочестивых и нечестивых». Склеен он из четырех частей и изображает двухэтажный причудливый терем в разрезе, в котором вкушают две компании. Одна наверху, в светелке, и лица там у людей постные, позы скучные А это благочестивые. До того благочестивые, что хитрый ангел удрал от них вниз — к нечестивым, восседающим за длинным резным столом. У этих — настоящий пир, настоящее веселье. В сенях скрипач и волынщик играют. Возле бражничающих озорные сиреневые по цвету черти крутятся (кстати, как две капли воды похожие на чертей в галереях ярославского Ильинского храма), зелено вино пододвигают, смущают мужчин и женщин возможными усладами, и кое у кого уже и глаза заблестели... Настроение «Трапеза» рождает солнечное, веселое, задорное, и, наверное, поэтому не сразу даже замечаешь, что вся композиция лубка и его причудливый терем — почти целиком повторяют многие иконы новгород-скострогановского письма, где почти всегда изображены такие же сказочные, богато украшенные палаты в разрезе. И персонажи в нем трактованы по-иконописному, и основные детали те же, и даже обличье чертей. Вот только задача у лубка совсем иная, чем у любой иконы; симпатии автора явно на стороне нечестивых, он откровенно насмехается над постной жизнью праведников, и помогают ему в этом художественные средства, заимствованные уже у других искусств; его орнаменты больше похожи на орнаменты резьбы по дереву, а яркая желто-розовая цветовая гамма напоминает некоторые северные вышивки и северные же росписи по дереву, и ощущение необыкновенной солнечности лубка идет именно от нее. Но пришли петровские времена. Господа отвернулись от «примитивной, грубой, дешевой» картинки, и она стала достоянием только простого люда, и характер ее сильно изменился. Появился, скажем, такой рисунок. Весьма уродливая носатая баба, за поясом которой пест и длинный гребешок — атрибуты бабы-яги,— едет верхом на свинье драться с сильно обросшим плешивым стариком. И назван старик крокодилом: «Яга-баба с пестом едет с коркодилом драться». Так и написано — «коркодилом». 176 Краски очень яркие, персонажи смешные и вроде действительно в порыве, в злобном движении. Внизу на желтой земле цветочки произрастают. Ничего вроде особенного — забава как забава. Только дело в том, что крокодилом в народе тогда вали Петра Первого. А жену его — Екатерину считали и злой колдуньей, приворожившей царя, поэтому-то она и на свинье, поэтому и держит в руках атрибуты бабы-яги— пест и гребешок. А чтобы зритель сразу понимал, что крокодил — это Петр, под ним изображен маленький кораблик — любимое детище царя. Петру была посвящена и знаменитая картинка, которую вы наверняка встречали или в учебниках, или в книгах по истории: «Кот казанский». Но почему еще и кот-то? А как изобразить крутого царя, как назвать его — не впрямую же? Вот кто-то и придумал два ассоциативных образа: страшного крокодила и хитрого свирепого кота. И как умно художник нарисовал его. Внешне он вальяжный и жирный и просто сидит и смотрит на нас, заполнив собою весь большой лист. Но чем дольше на него смотришь, тем сильнее чувствуешь, что он очень пружинистый и ловкий, и в выпученных глазах его горит страшная свирепость. Первое достигнуто тем, что он весь покрыт закручивающимися полосками коротких штришков, которые делают его одновременно и очень пушистым, и очень напряженным. Свирепость же ему придают выпученные глаза — единственные полыхающие красные — налитые кровью! — пятна на большом желто-сиреневом листе. И поставлены они так, что, куда бы ты ни отошел, они все равно следят за тобой, не отпускают, пучатся, горят. А чтобы уж никто не сомневался, чьи именно эти глаза, чуть позже было создано несколько лубочных портретов Петра в форме конного и пешего гренадера с точно такими же выпученными глазами, только не красными. Хоть бери и меняй их местами. Да и надпись, помещенная в затейливой рамочке воз-е головы кота, как бы пародирует официальный длинный титул царя: «Кот казанский, а ум астраханской, разум сибирской, славно жил, слатко ел, слапко бздел» Петр Первый, разумеется, видел эти злые рисование сатиры на себя и знал, какое широкое хождение и имеют в народе, и потому не раз пытался пресечь их роизводство и распространение. «За составление сатиры сочинитель ея будет подвергнут злейшим истязаниям грозил один из его указов. А через несколько лет 177 появился второй (20 марта 1721 года), по которому московским городским властям надлежало «описать и взять в приказ церковных дел продававшиеся на Спасском мосту и в других местах листы разных изображений». Но дело в том, что и до Петра были подобные указы Патриарха Исакима, изданный еще в 1674 году: «Многие торговые люди, резав на досках, печатают на бумаге листы икон святых изображения, инии же вельми неискус-ние и неумеющие иконного мастерства делают резц странно... (в это время как раз усиленно насаждалось живоподобное иконописание!), и те печатные листы покупают люди и теми храмины, избы, клетки и сени пренебрежно, не для почитания образов, но для пригожества». Обратите внимание: «но для пригожества»! А после Петра был указ 1744 года — результат доноса Якова Штелина. И в 1745 году лубок запрещали. И в 1783-м. И в... Но народ, попросту говоря, плевал на все эти запрещения, подчас очень лютые. Он превратил лубочную картинку в свое оружие, с помощью которого боролся с власть имущими, отстаивая свое понимание жизни, свои традиции, мечты и вкусы. Поэтому не успели еще смолкнуть в церквах панихиды по усопшему великому императору, а на Спасском крестце уже продавали новый огромный и очень развеселый лист «Как мыши кота погребали». Эту-то картину через десятилетия и искал «профессор элоквенции и поэзии» Штелин. Все тот же кот казанский, но только мертвый, лежит на ней в санях, которые везут, взявшись за веревки, многочисленные мыши. В некоторых вариантах картины их насчитывается до шестидесяти штук и большинство чтонибудь еще тащат или делают. Одна обязательно едет за санями в двуколке — очень любимом Петром экипаже, и держит в руках бутылку. Надпись рядом объясняет: «Мышь едет на колесах, а заступ в торопах да скляница вина в руках» — намек на пристрастие царя к выпивке. Есть мышь с трубкой во рту: «Мышка тянет табачишка» — опять пристрастие Петра. Есть мыши-немки и чухонки, то есть родственницы Екатерины Первой. Есть мышь-пирожница, «пищит, пироги тащит» — пирогами в юности торовал, как известно, любимец царя «светлейший князь Меншиков», он изображен ближе всех к коту. И повсюду тексты: «Мыши кота погребают, недруга своего провожают... знатные подпольные мыши, криночные блудницы, напоследок коту послужили, на чухон178 ские дровни,связав лапы, положили... песни воспевают,после кота добрую жизнь возвещают... жил славно, плел лапти, носил сапоги, слатко ел, слапко бздел умер в серый месяц в шестопятое число в жидовский шабаш». А в некоторых вариантах добавляется, что кот был свиреп,по-целому мышонку глотал и все вокруг покалеченны им идут: у кого рыло отшиблено, кто на костылях, кто на руках раненого мышонка несет. Но все равно от души «делятся — умер ведь! В общем, многое высмеяно в этой картине так оригинально зло и озорно, что, раз увидев ее, никогда не забудешь. Лучшей аллегории для изображения отношений между любой злой и сильной властью и подчиненнымиподданными вряд ли можно придумать. Не случайно «Погребение кота» стало потом, по существу, самым популярным русским лубком, имевшим множество повторений и перепевов, вплоть до политических, распространяемых даже партией большевиков накануне Великой Октябрьской революции. Думается, что в общей сложности картина «Как мыши кота погребали» разошлась в стране в десятках миллионов экземпляров. И совсем не важно, что похожий сюжет разрабатывался и у других народов, западных и азиатских. Наше «Погребение», по свидетельству крупнейшего знатока русского лубка Дмитрия Александровича Ровинского, в корне отличается ото всех. Отличается своим совершенно оригинальным условно-декоративным решением, всем своим образно-пластическим языком. Существует предположение, что автором всей антипетровской серии (в нее, помимо уже названных работ, входят еще «Яга-баба с мужиком, плешивым стариком скачут, пляшут, в волынку играют, а ладу не знают» и «Немка верхом на плешивом старике») был знаменщик Оружейной палаты Василий Корень. Никаких конкретных сведений о нем, к сожалению, не сохранилось. Известно лишь, что в восьмидесятые — девяностые годы он весьма вольно и талантливо перерисовал для печатных картинок иллюстрации из так называемой «Библии Пискатора» — альбома гравюр голландского художника Ниля Яна Фишера. Сей альбом был очень популярен в семнадцатом веке, им нередко пользовались для вольных копий русские иконописцы. Василий Корень перерисовки свои подписал, а антипетровские листы появились, разумеется, без подписей, но манера и там и — одна. Свободная, чуточку грубоватая и очень выразительная и точная. Помните, уже говорилось, как он сидящем коте простыми штришками добился обманчи179 вой мягкости. А в «Яге-бабе», которая едет с крокодилом драться, вы видите и чувствуете, что свинья вот-вот прыгнет, а Яга сейчас бросит пест, и крокодил, тоже предчувствуя это, привскочил и руками загораживается от него. Но здесь ведь все плоско, необъемно, предельно условно — откуда же такая живость и ощущение порыва? Корень опять вроде бы шутя добился этого: во-первых, конечно, позы нашел динамичные, а во-вторых взял да оторвал свинью и зад крокодила от земли. Свинья словно ногами в воздухе быстро перебирает, то есть уже прыгнула, а крокодил сейчас на цыпочки перевалится, то есть привскочил. Если закрыть этот отрыв от земли полоской бумаги — движение мгновенно исчезнет. Гениальная находка! И плюс к тому этот лубок еще и расписан великолепно: юбка Яги и чепец — красные, кофта — бордовая, длинная бородища и волосы крокодила тоже красные, и высунутые языки красные, и уздечка, и цветы, и полоски на земле. Цвет самый напряженный, и здесь он так обильно и беспокойно разбросан по листу между монолитными желтыми и темносерыми и редкими зелеными пятнами, что тоже создает впечатление динамики и движения. А как смело и откровенно Корень преувеличивал любую часть тела и любую деталь, добиваясь необходимого заострения образа, заострения идеи картины. Некоторым этот прием казался и кажется просто грубостью, примитивизмом, свидетельствующим лишь о неумении народного художника нарисовать все таким, каким оно существует на самом деле. Но ответьте на такой вопрос: может ли лист обыкновенной бумаги наполниться реальной всамделишной жизнью? Нелепый вопрос. Конечно нет! Так, значит, что бы ни нем не нарисовали и как бы ни нарисовали, пусть даже сверхнатуралистически, сверхиллюзорно,— все это будет всего лишь условное изображение кого-то или чего-то. А если все равно условное, то, может быть, стоит показать в рисунке и нечто большее, чем просто какого-то человека или предмет. Можно, скажем, выпятить чей-то характер или иные особенности. То есть преувеличить отдельные характернейшие черты и детали так, чтобы образы и идея произведения стали намного ярче, доходчивей. А все второстепенное, мешающее восприятию главного, разумнее в таком случае отбросить, как будто его и в природе нет. 180 Одним словом, у лубочного рисунка, как у всякой художественной условности (у живописи, музыки,танца), существует свой, совершенно особый язык,своя особая природа. И народ, который в массе своей, конечно НИКОгда специально не задумывался над этой природой, все-таки только так всегда ее и понимал.Прикупил, например, мужик картинку «Мысли ветреныя, или Притча мнения человеческого». Не должен же он отгадывать, у кого и какие именно мысли появились и что из этого в конце концов вышло,— лубок обязан это сразу ему показать. И где все происходит, должен показать. Мало того, он и занятным должен быть настолько, чтобы человек подходил к нему снова и снова, и Оглядывал, и читал, и чтобы издали радовался ярким краскам, которые сделали его избу такой нарядной и веселой. И посмотрите, как просто и убедительно решает все эти задачи безвестный художник в этих «Мыслях ветреных». Героя сделал несоразмеренно большим, больше деревьев и высоких домов. Он идет по пригорочкам, на которых растут сии маленькие деревья и цветы,— понимай, идет по лесу. За одним из пригорочков видна деревня, а прямо над нею за высоким холмом — город, всего три-четыре каменных трехэтажных дома. Значит, идет наш герой из деревни в город. И несет большое лукошко с яйцами. А от его головы вверх ступеньками поднимаются маленькие картиночки: первая — курица с цыплятами, потом свинья, потом корова с теленком, потом конь с всадником и, наконец, кирпичный дом. Это его мысли-мечты, как, продав яйца, он купит курицу, она выведет цыплят, он их тоже продаст, купит поросенка, вырастит, тоже продаст... Он так замечтался, что «плетенка порвалась и рассыпал яйца даром». Это тоже изображено. Даже неграмотному человеку смысл такой картинки был предельно ясен, хотя под ней существует и текст. А если бы художник нарисовал все реалистично, раз-- бы он смог показать одновременно и событие, и лес, и мысли, и деревню, и город. Часть лубков мастера не раскрашивали, оставляли чернобелыми. Но от этого они теряли половину своего чарования, если даже не больше. Они переставали быть украшениями, переставали в полную силу радовать человек, только просвещали да развлекали. А основная сила Русского лубка как раз в цвете, в том, что оригинальное Условно-приувеличенное графическое решение дополняется в большинстве из них еще более оригиналь181 ными цветовыми решениями. Многие из наших лубков по их декоративно-колористическим качествам вообще разумнее было бы отнести к живописи, чем к графике. И вот ведь что важно: основных красок, которые употреблялись в лубке, а стало быть, и создавали весь этот необыкновенно яркий и веселый мир, было всего четыре — малиновая, зеленая, желтая и красная. Ну и черный цвет самой печати. Голубые, коричневые и прочие цвета стали применяться в раскраске лишь в девятнадцатом веке, и то нечасто. Но ведь малиновые, красные, желтые и зеленые—это, как вы знаете, основные цвета и древнерусской иконописи, и всего нашего народного искусства. Да плюс голубец и золото. И замечательно, что лубочные мастера унаследовали эту великую традицию, создав в народном искусстве еще один огромный неповторимый художественный мир. Была, опять же к примеру, большая серия однотипных картин, которую именовали портретами, хотя большей частью это изображения не конкретных лиц, а былинных и литературных персонажей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Еруслана Лазаревича, Бовы Королевича, храбрых витязей Францила Винциана и Петра 182 Златые ключи, королевен Магилевны и Дружневны. Первая королева связана с Петром Златые ключи, а Дружневна — жена и верная сподвижница Бовы Королевича, участница всех его необыкновенных приключений и дел. Такие «портреты» были чрезвычайно популярны в народе и выпускались в несметных количествах, причем всего в двух вариантах: богатыри, полководцы и цари верхом на вздыбленных конях с копьями и мечами в руках неслись на врага или уже громили его, а витязи и королевны чаще всего просто стояли лицом к зрителю и в руках у них и возле ног были цветы да сзади иногда виднелись дворцы. То есть самые что ни на есть бесхитростные, а композиционно так даже сверхпростые картинки. Откуда же тогда такая популярность? Основная причина как раз в их художественных, совершенно уникальных декоративно-колористических достоинствах. Алеша Попович, Бова Королевич, Дружневна и все остальные подобные персонажи необыкновенно красивы праздничны. Лица у всех приятные, фигуры стройные и статные, и кони под ними красивые. А как разукрашен-то каждый как разузорен! Плащ и шапка на Алеше Поповиче в горностаях, щит отделан золотом, сбруя рас183 шита орнаментами, под ногами коня огромные дивные цветы. Такие же цветы и в руках у Дружневны и вокруг нее. И платье ее все в вышитых цветах, только меньших размеров, и еще отделано тонкими кружевами, вышивкамив_ кой, лентами и бусами. Красочное богатство и узорочье колдовские, и все так тонко сгармонировано, что на голубовато-сером листе бумаги эта пава и сама выглядит, как неповторимо прекрасный фантастический цветок который как будто прозрачно-тепло светится и тихонько позванивает, особенно в ранние сумерки, когда в доме еще не зажгли огонь, а за окнами уже непроглядная зимняя хмарь и жалобно скулит ветер. То есть в лубках-портретах воплощено глубоко народное понимание достоинства и красоты человека и красоты изобразительного искусства. «Большей частью граверы резали доски просто без оригиналов и без заказа,— вспоминает один из лубочников,— так называлось на волю,— вольная работа, что вздумалось какому граверу: пришло в голову глупого или смешного, тотчас покупает доску, вырежет и несет к заводчику, который и приобретает ее, потом преспокойно оттискивает картинки». Из печати готовые оттиски шли на раскраску. Если это было в Москве, их везли в село Измайлово. В то самое, где находился один из подмосковных царских дворцов. Большинство мужчин Измайлова или тоже были художниками-лубочниками, резавшими гравюры на дереве и на меди, или не менее искусными стекольных дел мастерами, ибо тут еще в 1669 году «про обиход великого государя» был построен один из первых русских стекольных заводов, выпускавший высокохудожественные «рюмки в сажень, кубки долгие потешные, тройные рюмки, паникадила фигурного дела, яблоки с фигурами». А женщины этого села и девчонки-подростки почти поголовно занимались раскраской лубков, или, как тогда говорили, «иллюминовали» их. Такое разделение труда наладилось, правда, не сразу, и наиболее сложные и задиристые картинки художники, судя по всему, раскрашивали сами, но основная масса листов попадала всетаки от печатников со всей Москвы к Измайловским женщинам и девчонкам, а значит, именно их мы должны благодарить в первую очередь за удивительные декоративноколористические качества лубка. Краски изготавливали сами. Покупали на торгу У Москворецкого моста сандал, варили его в воде с малой добавкой квасцов — получали глубочайшую малиновую184 В воде с медом растворяли ярь медянки, употреблявшейся для окраски крыш,— это была яркая зеленая. На желтую шла крукомоя, вареная с молоком, на красную — сурик, разведенный на яичном желтке с квасом. Работали, конечно, не в одиночку, а у кого сколько женского полу было, и каждая, само собой разумеется, что-нибудь перенимала, заимствовала у матери, у сестер, у соседок. Представляете, какое обостренное чувство цвета и цветовой гармонии развивалось в такой обстановке у наиболее одаренных женщин, они ведь буквально с колыбелей росли среди красок, среди их бесконечных чарующих сочетаний, их игры. И каждая ведь непременно еще и что-то свое вносила в роспись, сообразное своему характеру, вкусам. Поэтому-то, при общем единстве, каждый лубок все же всегда с особинкой. А с какой глубиной и широтой освещалась в лубках любая тема. На четырех полных листах, составлявшихся затем вместе, повествовалось, скажем, «О государствах и землях и знатных островах, и в которой части живут какие люди, и веры их, и нравы, и что в которой земле родится„.» Одного чтива в этом творении хватало на десяток вечеров, а ведь еще и многочисленные картинки надо было рассмотреть: какие они из себя — Азия, Африка, ёЕвропа или четвертая часть, коя «нарицается Новая Америка, не в дальних летах изыскана от Шпанских и 185 Французских немец с людьми неграмотными, и со златою и серебряною рудою, и от сих островов те немцы зело обогатились и грады поставиша и назваша четвертую часть Новую землю и положиша ее к тем трем частям...» В другом большущем листе показывался въезд в Москву «присланного к здешнему императорскому дворцу от Порты Оттоманской чрезвычайного и полномочного посла Абдул Керима Бергилербея Румелийского» В пять ярусов расположил художник грандиозную процессию: голова ее уже скрылась в воротах Кремля, изображенного в правом верхнем углу, а хвост теряется в левом нижнем за нагромождением городских домов. Людей в процессии сотни, коней не меньше, карет и повозок десятки — и все нарисованы именно такими и так, как было в действительности: впереди — русские гвардейцы, за ними конная свита посла, затем пешие янычары с копьями, запасные посольские кони под цветными попонами, повозки, запряженные цугом, в которых везли султанские подарки, шталмейстер с офицерами, снова запасные лошади, секретарь посольства с султанской грамотой, восседающий в пышной карете... В общем, всех и все перечислить просто невозможно, и вам остается только представить себе, сколько нового узнавал простой человек из этой картины, тем более тот, который жил в далекой дали где-нибудь у Белого моря или в голой степи за Саратовом и никогда не видел ни Москвы, ни подобных процессий, ни богатых карет, ни послов, ни турецких янычар. Не меньше узнавал простой человек и из «Поймания кита в Белом море». В пятницу 21 июля 1760 года близ города Архангельска «моржовые промышленники» заметили кита и действительно сумели с малых своих карбузов опутать его «белужьми неводами и убить. А кит, между прочим, оказался двадцати саженей в длину (более двадцати пяти метров), и одного сала с него достали 700 пудов и до 60 пудов усов». Лубок показал и рассказал все это так, как не способны сделать даже сегодняшние богато иллюстрированные журналы и газеты. На рисунке видны сразу и Архангельск со строениями, с гаванью, морем, крепостью и пушками, и море, кит, и сети, и карбузы, и масса людей на берегу с баграми, которые носятся, прыгают, стараясь достать кита. И про выбор невест были лубки. Про то, как на человека действуют разные цвета и что каждый из них сим186 волизирует. Про знаменитые сражения прошлых веков веков, Отечественной войны 1812 года. Про всяких зверей и птиц. Про пользу парилок. Про русские праздники и обряды. Про то,как пошла «железка». Одним словом, русский лубок был не только великолепным самобытным искусством, не только украшал жилище ище простолюдина и радовал, развлекал его, заменял ему книги и газеты, но служил ему и подлинной об- ширнейшей энциклопедией, откуда тот черпал нередко все свои основные и, заметим кстати, весьма немалые для своего времени знания. Дорожили лубками чрезвычайно. В «Кому на Руси жить хорошо» об этом очень ярко рассказано. Помните там крестьянина Якима Нагого: С ним случай был, картиночек Он сыну накупил, Развешал их по стеночкам И сам не меньше мальчика Любил на них глядеть. Пришла немилость божия, Деревня загорелася — А было у Якимушки За целый век накоплено Целковых тридцать пять. Скорей бы взять целковые, А он сперва картиночки Стал со стены срывать... А тут изба и рухнула... ...— Ой, брат Яким! Не дешево Картинки обошлись! Зато и в избу новую Повесил их, небось? — Повесил — есть и новые,— Сказал Яким — и смолк... Да и разве можно было поступить иначе, если, помимо всего уже сказанного о лубках, в них весьма часто встречалось еще и вот такое: «Слева — изволите деть -Турки, валятся как чурки, а справа Русских миловал Бог — целы стоят, только без голов». Это, как понимаете, под рисунком одного из эпизодов русско-турецкой войны. Под «Аптекой целительной» же (так в народе называли кабаки) идет следующее: «Хоть церковь близко, да идти склизко, а кабак далеконько, да дойду тихохонько». 187 Горя, жалоб и плача в русском лубке никогда не было. Он только просвещал, веселил и обличал. Обличал всегда озорно и саркастически, с чувством большого морального превосходства над теми, кто считал себя хозяевами жизни. НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ КЛЮЧИ Река Узола впадает в Волгу у Городца, а течет она с северо-востока по красным и черным раменям — так здесь именуются хвойные и лиственные леса. И в сорока километрах от Городца на этой реке стоит большое село Сёмино. Леса вокруг еще мощные, и если податься от Сёмина точно на восток, можно попасть к Теплой воде — не замерзающему и зимой ключу, в котором в самый лютый мороз средь высоких снегов в прозрачнейшей воде шевелится мягкая длинная ярко-зеленая трава. Снег, мороз и живая трава — представляете! Вообще-то таких ключей здесь много, даже в самой Узоле у берегов встречаются, но Теплая вода прячется в далекой глубокой лесной пади, на том месте, где когда-то якобы под землю вдруг ушла часовня... Можно добраться отсюда и до Манефиного скита, так блестяще описанного Мельниковым-Печерским в романе «В лесах». Он действительно существовал, этот скит, и странное нагромождение разномастных строений сохранялось еще сравнительно недавно, только сильно подгнившее, почерневшее и позеленевшее от близкой болотистой низинызыбуна и окруженное густыми зарослями высоченной полыни и таволги с белыми, сладко пахучими шапками цветов. От Сёмина до него километров восемнадцать. И Красная рамень, упомянутая Мельниковым-Печерским, не очень далеко от этих мест. А в семи километрах от Сёмина стоит село Хохлома, от которого пошло название знаменитой заволжской росписи по золоченому дереву. Но только в самой Хохломе никакой деревянной посуды и мебели никогда не точили, не расписывали и не золотили. Там была самая большая в этом заволжском краю сельская торговая площадь с длинными кирпичными лабазами, с многочисленными деревянными лавками и вместительными кабаками, и на ней-то, на этой площади,— по определенным дням крупнейшая в России оптовая ярмарка щепного товара (опять местное выражение), иными словами — самых разных изделий из дерева: саней, 188 бочек, топорищ, мелкой мебели, точеной расписной посуды, мочалок. Купля-продажа велась в Хохломе в таких объемах, что уже в восемнадцатом веке необычайно красивые здешние золотые блюда, миски, ковши и ложки стали самыми любимыми в простом народе по всей России, и онто и назвал их по месту продажи — хохломскими. А придумали эту роспись по золотому или в Сёмине, растянувшемся по высокому узольскому берегу, или в маленькой, прижавшейся к лесу деревушке Ефимово, или в трех километрах отсюда — в больших селах Большие и Малые Бездели. Потому, сказывают, Бездели, что мужики в них совсем мало пахали да сеяли, а только точили да красили посуду, вырезали и красили деревянные ложки. По крестьянским меркам, вроде бы бездельничали. Но земли-то пахотной было крайне мало, без промыслов здешнему народу никак бы не прожить. Более десяти сел и деревень жили и по сей день живут тут этим делом — поди теперь дознайся, с которого все началось. Сюда, в эти немеряные леса с семнадцатого века от преследования властей бежало больше всего раскольников из центра России, из Москвы. Забирались в глухие чащобы, валили деревья, выжигали пни, устраивали крошечные кулижные поля, обустраивались. Таились. В Городце у них будто бы своя тайная столица была старообрядческая с лавными духовными наставниками. А по чащобам и свои скиты, церковки, часовенки. И одним из жесточайших их преследователей в середине девятнадцатого века считался на Нижегородчине чиновник особых поручений при тамошнем губернаторе, а затем и очень крупный чиновник Министерства внутренних дел Павел Иванович Мельников, ставший впоследствии известным писателем Мельниковым-Печерским и из гонителей раскольников превратившийся в конце концов в их страстного приверженца и утверждавшего, что процветание будущей России возможно только, если государство в первую очередь обопрется именно на раскольников. Так вот узольские старообрядцы и стали делать в восемнадцатом веке необыкновенную деревянную посуду. Изготовлением такой посуды на Руси, как уже говорилось, славились многие места. Эта посуда ведь веками была основной, существовал даже обычай подносить ее Царям и царицам и заезжим православным патриархам вместе с изделиями из золота и серебра, с дорогими тканями и иконами в драгоценных окладах. «5 братин троиц189 ких с венцы хороших, ставики троицкие, ковш троицкий, судки деревянные столовые подписанные, стопа блюд подписанных — то есть расписанных,— братина великая с крышкой подписанная...» — читаем в одной такой дарственной. А вот заволжские старообрядцы удумали посуду не только расписывать красками, но еще и золотить. Технологию золочения дерева изобрели иконописцы. Помните, самые ценные иконы писали на золотых фонах-то? Сначала доски для них действительно покрывали настоящим сусальным золотом — наклеивали, но потом на левкас, на специальный грунт, стали наносить оловянный порошок, который покрывался несколькими слоями олифы, после чего доску ставили в сильно протопленную печь калить, и олифы спекались в ней до такой янтарной густоты, что серебристое олово казалось под ней золотым. Иконописцев среди беглых раскольников было полно, и ту же самую операцию они стали проделывать с посудой: с мисками, чашками, поставцами, ложками. Вапили белье (так называется у них чистая деревянная посуда) специальной вапой, глиной, смешанной с олифой. Сушили. Скоблили ножиками свинцовые палочки и добытым таким образом свинцовым порошком покрывали провапленное — вся посуда становилась серебряной. Красили (так называли художников) садились на низенькие табуреточки или чурбаки, чтобы колени оказывались высоко, ставили изделие на одно из них — так удобнее всего — и беспрестанно крутили, выводя по серебряному тонкими кисточками быстрые ловкие линии — контуры листьев, травы, цветов, ягод, птиц. Фон потом заливался красной или черной краской, а оконтуренный орнамент после каления в печи становился золотым. Этот вид росписи назывался и называется «под фон». Была и есть еще «Кудрина», когда поверхность вся покрывается сплошными причудливыми завитками, отдаленно напоминающими золотые кудри добрамолодца; под ними всегда только черный фон. И третий вид росписи — «травка» — самый, вроде бы, простой здешний узор: по серебряному фону чередуясь идут закручивающиеся тонкие красные и черные листья травы. Каждый листок, даже самый длинный кладется одним непрерывным и очень быстрым движением кисти, вернее, лихими росчерками ее, потому что красиль держит в это время кисть торчком и крутит ее в пальцах. А между листьями ставятся точкиягодки. Мало того, что эти орнаменты необычайно легки и изящны, они еще и удивительно 190 упруги и всегда так по форме обвивают предмет, что кажется, что травка вот-вот заколышется и предмет оживет, задвигается. Употребляли всего четыре краски: черную, зеленую, киноварь и желтую — все остальные от больших температур меняют цвет. Опять сушили, сверху не единожды олифили и, наконец, задвигали на широких досках в обыкновенную, хорошо протопленную, прокаленную и вычищенную русскую печь — и через несколько часов вместо сплошного расписного серебра вынимали оттуда сплошное жаркое золото. Превращение настолько завораживающее, что глаз оторвать невозможно, как в сказку попадаешь. Уточним: в хохломской росписи встречается и зеленое, и желтое, но это только по капельке, а главное в ней всегда сочетание все-таки золотого, черного и красного. Трудно представить себе что-либо благородней, праздничней и проще, чем этот цветовой строй. Даже самая заурядная миска или стакан обретают благодаря ему торжественную нарядность, и из них уже не хочется есть или пить, а хочется поставить на стол или на полку и любоваться и радоваться заключенному в них совершенно особому поэтическому образу России. И надо хотя бы однажды увидеть сразу очень много хохломских изделий, чтобы стала очевидной сила их многовекового непреходящего волшебства: тут не найдешь и двух вещей-близнецов. В первый раз это великое многообразие ошеломляет не меньше, чем звездное небо, открываемое нами в детстве. Ошеломляет беспредельностью человеческой фантазии, талантливостью простых деревенских красилей и красильщиц. Невольно задумываешься об удивительных качествах всего нашего народного искусства. Ведь оно потому и не увядает, переходя из поколения в поколение, потому так властно и берет души в плен, что его художественные средства при всей их внешней канонизации в сущности своей настолько универсальны и глубоки, что позволяют одаренному мастеру даже в условном орнаменте выражать какие угодно чувства, раздумья, настроения. Хохлома, как и любой другой вид народного искусства, словно старинная песня: слова и мотив ее неизменны, однако каждый человек и каждое новое поколение поют ее по-своему. То есть она, как и здешние ключи, никогда не иссякает, не замерзает даже и в самые лютейшие морозы, и вода в них такой живительной вкусноты, что сколько ни пей, все равно хочется и хочется еще. 191 И думается, что совсем не случайно она рождена именно раскольниками, тут и политический вызов проглядывает: вы нас, мол, гоните, истязаете, обираете, а все равно не сломите, не согнете, и мы не ниже, а выше вас, всей жизнью выше, уставами строгими, духовностью и даже, видите, из золотой посуды едим. Весь раскольничий обиход и быт ведь сильно отличался в лучшую сторону: в избах они непременно мыли с дресвой не только полы, но и стены, многие хозяева имели по две бани — летнюю у реки и зимнюю близ дома, у каждого члена семьи, даже у детей имелись свои миски, плошки, стаканы, ложки. И гостевую посуду все держали. Расходилась хохлома по России в невероятных количествах, одних ложек в некоторые годы вывозили до тринадцати — пятнадцати миллионов штук, причем от самых крошечных чайных до большущих суповых черпаков и ковшей: баские, межеумки, рыбацкие. А белье для узольских красилей вскорости точили и резали аж за десятки верст от Сёмина и Безделей, вплоть до города Семенова, до которого отсюда семьдесят верст. Много позже и там тоже наладилась роспись, но подробнее об этом рассказ впереди. ДВА МИРА Итак, два мира и две культуры, и национальная из них лишь та, которую родила сама наша земля и характер нашего народа и которая в свою очередь много веков формировала народный дух, его миропонимание и вкусы. Живут же постоянно такие большие национальные культуры потому, что никогда не коснеют, не мертвеют, а непрерывно развиваются, обогащаются, в том числе и заимствуя что-то и у других культур, но только такое, что действительно обогащает, что ложится людям на душу, отвечает их понятиям и вкусам, то есть превращается или перевоплощается в свое. Эти взаимообогащения — процесс всемирный. Ну а как восприимчив русский человек ко всему в самом деле полезному, и говорить нет смысла — тот же лубок ярчайший сему пример. Взял народ в восемнадцатом веке кое-что и у господской архитектуры, но только из внешнего убранства, из декора. Конструктивно-то избы, церкви и все иные срубовые строения оставались прежними — лучшего придумать невозможно. А вот в наряде изб в восемнадцатом веке появились и ампирные волюты, и полуколонки, ка192 пители, арки, картуши, в резных узорах волнистые ветви аканфа. Но только все это всегда чуть измененное и увязанное с традиционными украшениями так, словно они тоже существовали в народном зодчестве века и века. На Волге и на Севере плотники-домовики очень полюбили полукруглые, как в барских мезонинах окна, делали такие же на высоких фронтонах изб да еще обрамляли их по бокам резными фигурами львов и волютами. И профилированные карнизы делали. И арочные ворота на полукруглых колоннах. Деревянные же сельские храмы строились только постарому. Знаменитый кижский Покровский собор возведен ведь, когда Трезини, Шлютер и Браунштейн уже строили Петру Первому Санкт-Петербург и Монплизир в Петергофе. Позже такие же многоглавые церкви выросли в ярославском селе Березовец — Никольская, Троицкая в архангельской Неноксе, были и о двадцати пяти главах, и о восемнадцати. По городам и весям по-прежнему ходили люди, которых раньше называли скоморохами, а теперь сказителями, старинщиками, песенниками, затейниками, баешниками. Ходили и офени — были на Руси такие любопытнейшие бродячие торговцы, продавали только печатный товар — лубки. Очень многие, как утверждают исследователи, родом из Владимирской губернии, из Вязниковского уезда, где расположена иконописная Мстёра и где тоже была лубочная печатня. У некоторых офеней имелись лошади, но большинство мерило бесконечные русские просторы пешком. До Тихого океана доходили, до Гурьева, до Кавказа и устья Печоры. И все с одним лубяным коробом за плечами да крепкой палкой в руках. От старинщиков, песенников и баешников многие офени мало чем отличались, талантами обладали теми же. Просто с печатными картинами намного сподручней было ходить — никакие старосты и сотские не цеплялись. А в избу офеня войдет, одежку скинет, товар по лавкам разложит, новые картинки с прибаутками расхвалит, самое интересное, забористое из них громко почитает, а потом и другое что порасскажет или напоет. И если у хозяев медяков для расплаты не было, не брезговали брать за лубки и парой яичек, и куском домотканого холста, и просто кормежкой. Были, как вы знаете, в каждом селе да и в деревнях и свои сказители, сказочники, балагуры, песенники. Зимы-то у нас долгие, а зимние вечера и того дольше. Уже с ноября как заснежит, запуржит, завоют ветры, в пять часов пополудни на воле уж полная темь, да с 193 кусачим морозцем, а то и просто лютым, и до следую_ щего света часов ведь пятнадцать. А бесы-то крутят, завивают снежные сувеи, завывают, скребутся в окошки в печных трубах ухают. Молодые-то девки, понятно сойдутся у когоникого на посиделки со своими прялками да мочесниками, запалят лучины, засучат свои кудели, запоют. К ним туда и парни подгребут, да с музыкой какой ни то, веселые песни играть учнут, забавы всякие устраивать. Туда и молодежь позеленее понабьется. До вторых и третьих петухов будут хороводиться, веселиться, любиться, женихаться. И напрядут девки ой-ей-ей сколько. У мужиков и баб, и молодых и старых, тоже работы, конечно, хватало в такие вечера: шить, вязать, штопать, плести хоть из лозы, хоть что из лыка, починять или ладить хомуты, сбрую, резать что из деревяшек, из баклуш, щипать лучину. А сверху, с печи или с полатей, на родителей, на дедов и бабок, разумеется, детвора глядела — у многих ведь по многу бывало детворы-то белоголовой, голозадой и голопузой. Песни в таких домах, ясное дело, тоже заводили, тем более когда из баб или мужиков кто был особо голосистый, когда были ладно спевшиеся. Но больше всего в эти бесконечные зимние вечера любили у нас все-таки сказителей, сказочников да баешников, хоть своих, хоть хожалых, главное — чтоб новое, неведомое и действительно интересное сказывали. Хожалые-то непременно новое приносили. Вьюга на воле все бесится, все лютует, воет и скребется в окна и стены, ухает по кровле, а от печи в избе теплынь, лучины потрескивают, фукают, роняя угольки в корытце с водой, красноватый их свет дрожит, он чуткий к любому дуновению воздуха, но никто в избе не движется, даже тени не двигаются на стенах и потолке и ни одна ребячья головенка на краю печи — все слушают, затаив дыхание. Потому что хожалые или нехожалые сказывали старины, былины, сказки, притчи, всякие истории занятные, завиральные, скабрезные и потешные, нараспев и складненько да с присказками и прибаутками, с притопом и прихлопом, или шепотком, с замиранием, чтоб холодели от ужаса. Всяко сказывали, напевали про серьезное и тяжелое, и пустяшное, развеселое. Вот перечень только прозаических сказов только восемнадцатого века, когда господа уже питались своей литературой: исторические предания и легенды о Киевской Руси, о татаро-монгольском иге и свержении его Дмитрием Донским, об Иване Грозном, Ермаке, Борисе 194 Годунове, Лжедмитриях, польском нашествии, первых Романовых, Степане Разине, о праведниках и святых, бопьше всего о Егории Храбром и Николе Чудотворце, о грехе и искуплении, богатстве и бедности, о Божьем суде очень много сказов о Петре Перовом, о том, как ил пушки из колоколов, как ценил умельцев, как преследовал раскольников, и о Меншикове сказы, о Брюсе-архиметчике, о Демидовых, фельдмаршале Румянцеве, много о Пугачеве и Салавате Юлаеве, о народных заступниках, силачах из народа, о разбойниках, о кладах и кладоискателях, о проклятых людях и побывавших на том свете, об оборотнях и заговоренных колдунах и ведьмах мертвецах, леших, водяных и русалках, домовых и чертях, о сотворении мира, о животных и растениях — откуда, к примеру, пошли медведи и раки, о реках и озерах, истории церквей, отдельных колоколов, селений... Появилось и множество новых народных песен, в том числе о Петре Первом и его деяниях, о Потемкине, о екатерининских временах, много солдатских песен, но больше всего о Степане Разине, потом о Пугачеве. И авторов некоторых тогдашних песен мы, к великому счастью, даже знаем. В Москве в сороковые годы был сыщик Сыскного приказа Ванька Каин, которого знали буквально все, начиная с государыни Елизаветы Петровны и кончая любым нищим на церковных папертях. Воры боялись его как огня, ибо до сыщика он сам был знаменитым вором и разбойником, гулял по всей России, в ватагах даже с регулярными войсками бился — и сам же все это прекратил и добровольно подался в сыщики. Знал этот мир как никто, изводил их нещадно, считая, что очищает жизнь хоть от этой скверны, и воры будто бы именно за это и прозвали его Каином. А вообще-то он Иван Осипович Осипов — родился крепостным. Но знаменит он был не только своими необыкновенными делами, невиданной лихостью и смелостью и тем, что множество девок и баб буквально сходили по нему с Ума, но и тем, что удивительно здорово пел неведомые ДО него песни, которые еще при его жизни прозвали каиновыми, жизни, конечно же, трагической, обернувшейся приговором о казни четвертованием, которую заменили каторгой и вечной ссылкой, но вместе с тем и на Редкость одухотворенной, полнокровной, настоящей жизни. Всего Каиновых песен набралось более сорока, и некоторых можно точно сказать, что он их и сложил, и мелодии придумал, и одну из них вы наверняка слыша195 ли, ее поют до сих пор — «Не шуми ты, мати, зеленая дубровушка». А века полтора назад пели и другие. И еще он рассказал, уже сидя в застенке, одному дворянину историю своей жизни, тот записал все слово в слово, а потом выпустил книгу, которая издавалась несколько раз, называлась поначалу по моде того времени очень длинно. Но затем просто «Жизнь Ваньки Каина, им самим рассказанная». В народе она пользовалась популярностью необычайной аж до двадцатого века. А песню «Вечор поздно из лесочка», где говорится о девушке крестьянке, гнавшей домой коров и повстречавшей своего барина, который перевернул ее судьбу—. взял в жены,— сложила Параша Жемчугова и сама же первой ее и пела, а потом запела и вся Россия. А вот творения черносошного крестьянина Ивана Тихоновича Посошкова вообще стоят особняком как в те времена, так, несомненно, и во всей исторои России. Это он по происхождению был так записан — черносошным тягловым крестьянином, но уже его отец — серебрянник московской Преображенской царской слободы, где, кроме всего прочего, чеканили еще и монеты. И Иван начинал серебрянником, потом был механиком, сконструировал несколько машин, в том числе многоствольную мортиру, был печатником, завел ткацкое производство, занимался винокурением, растил отменную пшеницу, вышел в купцы второй гильдии, но, главное, всю жизнь пытался осмыслить и записать на бумаге то, что происходило вокруг него в бурные петровские времена. Он был не только его современником, но и горячим поклонником многих начинаний неуемного царя, встречался с ним еще молодым, показывал свои изобретения, но видел и что худо в его деяниях, и как бы надо было все устроить, чтобы Россия ни лица, ни выгод своих не теряла, а наоборот, приумножала и приумножала, не забывая вместе с тем и о всемерном развитии и нравственности родного народа, который уж больно унижают и истязают власти предержащие. Из этих раздумий Посошкова родилось несколько книг, и в конце концов его главный большой труд «О скудости и богатстве», в котором он практически на целый век опередил знаменитых английских экономистовмеркантилистов. Он предлагал детальнейшее и действительно более разумное во всех отношениях переустройство всей государственной машины, экономики страны и даже армии. Писал он эту книгу-проект лично для Петра Первого, хотя, как блестящий и очень страстный публицист, многое в ней крепко и справедливо обличал, тут же прилагая, как, по его разумению, можно и надо бы исправить. То есть, по существу, предлагал Великому Петру, Отцу Отечества, самому себя выправлять. И сумел передать ему эту книгу, да вот читал ее император или не читал — неведомо: он скорости умер. И Ивана Тихоновича Посошкова сразу после похорон царя схватили и заключили в одиночный каземат Петропавловской крепости. Кто приказал его кинуть туда? И кто повелел, чтобы его «дело» вел сам всесильный хитрейший начальник страшной петровской Тайной канцелярии граф Петр Андреевич Толстой? Только сам допрашивал, и все лишь о ней, о книге «О скудости и богатстве»: не давал ли кому еще ее читать? и были ли еще списки рукописные, кроме двух ими арестованных? Про поднесенный же императору экземпляр со специальным посвящением-доношением — ни разу ни слова ни полслова. Все выяснил досконально, никакой вины за Посошковым не сыскалось, но из узилища его так и не выпустили, ничего не объясняя, сгноили там, через год помер могучий физически человечище и великий мудрец и публицист, душой и сердцем болевший за Отечество. Кто приказал сгноить, по сей день не ясно. Не сам же Толстой удумал. ПРОБУЖДЕНИЕ Но ведь зияющая пропасть между народом и господами противоестественна. Неужели никто этого не видел? Самые умные к началу девятнадцатого века если и не видели ясно, то чувствовать все-таки уже чувствовали. И естественно, что прежде всего потянулись к отечественной истории, к отечественным преданиям, летописям, литературным памятникам. Обер-прокурор Священного синода, академик-археолог граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин разыскивал по всей России и приобретал огромное количество старинных рукописей, и среди них «Русскую правду», «Завещание Владимира Мономаха», «Книгу Большому чертежу» и, наконец, «Слово о полку Игореве» — список, хранившийся в ярославском Спасском монастыре у архимандрита Иоиля Быковского. В 1800 году, после полуторавекового забытья, гениальная поэма была издана, и снова начали читать. А в 1804 году увидел свет и так называемый сборник Кирши Данилова — первые записи двадцати шести рус197 ских былин. Кирша Данилов, по неподтвержденным данным,, якобы один из последних сибирских скоморохов, который в старости записал все былины, которые знал. А чуть позже рукопись этих записей купил второй крупнейший собиратель российских древностей и книг канцлер Российской империи граф Николай Петрович Румянцев — сын фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Один из лучших сотрудников канцлера археограф и историк Константин Федорович Калайдович подготовил новое научное и почти полное издание записей Кирши Данилова, включающее уже шестьдесят одну былину и даже ноты к ним. Эта книга вышла в 1818, и в ней читающая публика впервые познакомилась с новгородским богатым гостем гусляром Садко, ворогом Щелканом Дудентьевичем, с историями о взятии Казани, с некоторыми другими. Издавались уже и народные песни. Народные предания и поверья стал использовать в своих произведениях Василий Андреевич Жуковский, прежде всего в своей пленительной балладе «Светлана»: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали; снег пололи; под окном слушали; кормили счетным курицу зерном; ярый воск топили...» По поручению государя за написание русской истории принялся Николай Михайлович Карамзин, и собрания Мусина-Пушкина и Румянцева были огромным ему в том подспорьем. Но подавляющее большинство благородных и просвещенных даже эти минимальные обращения к отечественной истории и культуре встречали презрительно, а бывало, и возмущались: «Я не прочь от собирания и изыскания русских сказок и песен, но когда узнал я, что наши словесники приняли старинные песни совсем с другой стороны, громко закричали о величии, напевности, силе, красотах, богатстве наших старинных песен, начали переводить их на немецкий язык и, наконец, так влюбились в сказки и песни, что в стихотворениях XIX века заблистали Ерусланы и Бовы на новый лад, то я вам слуга покорный!.. Возможно ли просвещенному человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писанную в подражание Еруслану Лазаревичу! Извольте взглянуть в пятнадцатый и шестнадцатый номер «Сына отечества». Там неизвестный пиит на образчик выставляет нам отрывок из поэмы своей Людмила и Руслан (не Еруслан ли?). Не знаю, что будет содержать целая поэма, но образчик хоть кого выведет из терпения... Но увольте меня от подробностей и позвольте спросить: если в Московское Благородное и собрание как-нибудь вторгся (предполагая невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! неужели бы стали таким проказником любоваться?.. Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а немало не смешна и не забавна». Это год 1820-й, журнал «Вестник Европы». И автор заметки не какой-то уж очень высокородный барин, не умевший толком и говорить-то по-русски, а один из заметнейших представителей уже народившейся тогда отечественной интеллигенции, и из очень даже просвещенных, редактор этого самого журнала «Вестник Европы», профессор Московского университета, известный журналист М. Т. Каченовский. И речь он ведет, как вы уже поняли, о поэме совсем еще молодого Пушкина «Руслан и Людмила». Александр Сергеевич действительно использовал в ней мотивы из лубочного романа о «Еруслане Лазаревиче». А из «Бовы Королевича» взял позже своего Додона и множество сюжетных ситуаций для своих, а вернее, для наших самых великолепных и самых народных по характеру сказок. Как истинный гений, Пушкин первым из господ почуял, а потом и понял, какие несметные богатства таятся в русском народном творчестве. Но кто знает, не будь в его детстве да и во всей жизни крепостной крестьянки Арины Родионовны, не будь ее народных сказок и песен еще у его младенческой кроватки, был бы вообще тот Пушкин, какой был? Мы ведь все из детства, и даже из очень раннего. Потом-то у него — Царскосельский лицей и все, все совершенно иное, и первые стихи, как известно, написаны им по-французски. Однако, как возмужал, как вошел в полный разум — так с тетрадкой опять за народными сказками, сказами, песнями, поверьями, ословицами пошел по ярмаркам, по трактирам и постоялым дворам. Сколько всего позаписал и скольких людей подвигнул на то же самое. Что за золото пословицы русские, а не даются в руки, нет!» А как о песнях наших потрясающе сказал: «полусмешных полупечальных, простонародных — идеальных. 198 И про лубки написал, что они заслуживают самого Серьезного внимания и их надо изучать как в отношении нравственном, так и художественном. Твердил и твер199 дил, что «Россия мало известна русским» и ее необходимо изучать и изучать. И конечно же безумно радовался, когда стали выходить тома карамзинской «Истории государства Российского». «Все, даже светские женщины бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом». А военного врача Владимира Ивановича Даля уговорил заняться составлением «Толкового словаря живого великорусского языка». И сам в конце концов занялся тоже отечественной историей: Борисом Годуновым, Полтавой, Петром Первым, Мазепой, Ганнибалом, Пугачевым. Вон какие тугие узлы-то брал. Кстати, Степана Разина считал самым поэтическим лицом нашей истории. А в «Капитанской дочке» говорит, что любимой песней Пугачева была Каинова «Не шуми ты, мати, зеленая дубровушка», и пугачевцы однажды поют ее там целиком. Когда же французский литератор Леви Веймер попросил его перевести на французский лучшие русские народные песни, причем им самим особо любимые, он отобрал одиннадцать исторических и разбойничьих, в том числе и «Не шуми ты, мати, зеленая дубровушка, не мешай мне добру молодцу думу ду-мати! Что заутра мне, добру молодцу, во допрос идти перед грозного судью — самого царя...» Вообще слова народ и народное звучали при Пушкине все чаще и чаще. Декабристы, как помните, думали о его освобождении от крепостной зависимости, стыдились такого состояния, но что народ сам думал об этом, чем он вообще жил, вряд ли знали и вряд ли собирались узнавать, даже собственных холопов, кажется, не расспрашивали. Порыв-то был благороднейший, святой — чего же еще! Государь, правительство тоже без конца играли этими словами, министр народного просвещения граф Уваров даже придумал знаменитую докторину-триаду, на которой якобы зиждилась Российская держава: «Православие, Самодержавие, Народность». Ее громогласно провозглашали, везде писали, поднимали как вдохновляющее знамя, но в чем именно заключалась народность — понять невозможно. Господа-хозяева как жили своей жизнью — так и жили, народ — тоже. И несмотря на все старания Пушкина и ему подобных, коих, к сожалению, было еще очень и очень мало, прозревающих тоже были пока что считанные единицы, а основная масса господ как не знала и не хотела знать свой народ, как не хотела иметь с ним ничего общего —так и не хотела. 200 Мало того, в 1829 году в одном из сотен полученных Пушкиным писем были, между прочим, такие вот слова: Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание... Говоришь себе: зачем тот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня?.. Думаю я о вас столь часто, что совсем измучился. Не мешайте же мне идти, прошу вас!.. Если у вас не хватает терпения, чтобы научиться тому, что происходит на белом свете... Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, друг мой!» Кто же это, называющий Пушкина гением и одновременно так высокомерно его поучающий и порицающий? Это Чаадаев. Да, да, тот самый Петр Яковлевич Чаадаев, которого именно адресованные ему пушкинские стихи сделали известным, и в первую очередь, конечно же, знаменитое: Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Есть люди, которым Господь еще в детстве дает цепкий, острый ум, сильный и смелый характер, приятную внешность и манеры, легкую речь. Все вокруг всегда восхищаются такими подростками, пророчат им блестящее будущее, а если они еще и усидчивы и трудолюбивы, и набираются и набираются знаний, и наделены еще, скажем, талантами писать или рисовать, или сильны в математике или еще в чем-то, все уж непременно видят в них чуть ли не гениев, и они, взрослея, и сами начинают зидеть в себе то же самое, и вести себя начинают соответственно, что опять же только поднимает их в глазах окружающих. Чаадаев был из таковых. Еще юношей блистал в великосветских салонах Санкт-Петербурга и Москвы,- род Чаадаевых один из стариннейших,— очаровывая всех философическим складом ума, обширнейшими знаниями, яркой речью и изящной обходительностью, Среди молодежи у него, конечно же,было полно друзей,в том числе и совсем юный Пушкин — Чаадаев на лет старше его. И никто в свете уже не сомневал201 ся, что этот красивый и обожаемый друзьями молодой человек — будущее светило. В чем именно, никто, видимо, не задумывался, но в том, что непременно светило,— были убеждены. Он же тем временем служил в лейб-гвардии и очень успешно, стал флигель-адъютантом важнейшей персоны, восемнадцатилетним участвовал в войне с Наполеоном, был приближен ко двору много и подолгу ездил по Европе по разным странам. Сближался с декабристами, но так и не сблизился, и в конце концов, в силу целого ряда неблагоприятностей, вынужден был оставить службу, практически не сделав никакой карьеры и даже не получив достойного отставного чина, и к тридцати шести годам от роду не опубликовал еще ни единой строчки, ни единого перла своего богатейшего философического ума. А ведь честолюбием такие люди обладают испепеляющим. Он страшно переменился даже внешне, сделался полным затворником, но работал, очень упорно писал так называемые философические письма. И лишь на тридцать седьмом году жизни, в 1832-м, в журнале «Телескоп» печатаются его философские афоризмы и размышления о египетской и готической архитектуре. Обратите внимание: Пушкин к этим годам уже весь в своем, русском, в родной истории, и не он один, а Чаадаев — о египетской и готической архитектуре. И почему эти афоризмы и размышления названы философскими — непонятно. Никакого отношения к подлинной философии они не имеют. А в 1836 году в том же «Телескопе» появляется его первое философическое письмо к некой неназванной даме, наделавшее тогда очень много шуму, волны от которого докатываются даже до нас. В том письме обещалось, что будут еще и следующие письма, и второе и третье он действительно написал, а к ним вроде добавления так называемую «Апологию сумасшедшего», но свет тогда это все, к счастью, не увидело. Чаадаев знал Запад превосходно. И не просто знал, но благоговел, молился на него, считая, что, несмотря на всю «неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что царство Божие до известной степени осуществлено в нем (!!!) и что все его успехи в организованности, порядке, просвещении и непрерывном прогрессе — это прежде всего заслуга католической церкви, католицизма, который железной рукой, не считаясь ни с какими национальными особенностями, на202 саждает везде то, что необходимо по христианско-католическим идеалам. Нации для Чаадаева просто не существовали, Европу он понимал как единый организм с уже единым, по существу, народом. А Россию, эту «заблудившуюся на земле» между востоком и западом Россию,- __ только вечно кого-нибудь догоняющей: сначала Пленившуюся, обессилившую Византию, потом нако-0 к великой его радости, энергичную процветающую Европу. Собственно анализу поспешания России за Европой и посвящено «Первое философическое письмо» Чаадаева. Он постоянно их сравнивает между собой. «Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы нам о прошлом, который воссоздавал бы его перед нами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя... в тупой неподвижности... и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль... Но мы, можно сказать, некоторым образом народ исключительный, мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества и существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок... В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально (а недавно говорил, что нет ничего индивидуального!) и все шатко и неполно... Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствуют в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, не свободны от тех пороков, которые в других странах войственны лишь самым низшим слоям общества; они I видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие 203 добродетели молодых и малоразвитых народов, мы не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные... В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу... И... если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы» (!!!). Когда иностранцы в своих писаниях поносят и уничижают Россию — это одно, особо серьезно к этому нельзя относиться, потому что наезжие действительно многого не видят, а еще больше не понимают и не могут понять в чужой им стране. Причем большинство из них еще и очень предвзяты, тенденциозны в своих мнениях. Но Чаадаев-то в своих поношениях и отвращении к России превзошел их всех; не было еще никогда о ней разом сказано столько несправедливого и плохого, только плохого, даже страшного, без единого просвета. Вы видели, у великой отваги русских и то обнаружил гнусную изнанку. И многое звучит ведь вроде бы вполне справедливо. Знаете почему? Потому что Чаадаев во-первых, владел словом, а во-вторых — необычайно глубокомыслен, в начале письма даже просто заумен, кажется, что человек действительно сделал невероятно серьезный анализ России и пришел к таким страшным выводам. Но нет там никакого анализа, и знания России нет абсолютно никакого, и желания узнать ее нет и в помине, а есть лишь слепое, уже врожденное полнейшее национальное невежество и железное убеждение, что ничего хуже ее на земле и быть-то не может, и страшная горечь от того, что он имеет к ней отношение и даже вынужден жить в ней. Собственно эту горечь он так надрывно и впечатляюще и изливает. Это, по его понятиям, и есть философичность. И еще есть несомненная мания величия, есть убеждение, что только ему открылась вся глубина этой страшной истины, и он, как подлинный пророк, взывал и вразумлял, как вы видели, даже Пушкина. Думается, что это письмо вообще появилось от неосознанного испуга перед тем, что совершалось на его глазах, когда просвещенные русские господа из почитаемых им высших классов вдруг стали оглядываться на свой народ, пытаясь его узнать и понять. Он хотел этим письмом одернуть, остановить их, вразумить и, по существу, предлагал развернутую основу той идеологии, 204 на которой и выросло у нас оголтелое западничество так называемой либеральной интеллигенции. Он даже и веру сменил, перешел из православия в католичество. То есть то, что начал лепить из дворянства Петр Великий в Чаадаеве как бы достигло своего полного завершения. Он был в своей стране еще более чужим, чем любой иностранец. Теми хоть двигало любопытство познания, а он не утруждал себя и этим. И единственно, что ему было дорого в России и кого он буквально боготворил,— это, конечно же, царь Петр Первый. И наконец, самое потрясающее свидетельство национального невежества: Чаадаев написал свой беспощадный приговор России по-французски. По-русски он писал много хуже, просто плохо. Все писал либо по-французски, либо на других языках — знал несколько. И лишь просясь в те же тридцатые годы снова на службу, обещал Бенкендорфу в скором времени выучиться прилично писать и по-русски... НЕ ШЕЙ ТЫ МНЕ, МАТУШКА Музыка, как и поэзия, чутче, острее других искусств чувствует обычно зовы времени, его пульс. К счастью, русская профессиональная музыка почувствовала его тогда же, когда и Пушкин. В восемнадцатом веке она ведь тоже была сплошь заемной, чужой. И иноземных композиторов и музыкантов у нас было полным-полно, а нарождавшиеся свои сочиняли все только по итальянским да французским образцам, что песни, что оратории, оперы, балеты, симфонии. То же досталось в наследство и веку девятнадцатому. Но вот в 1825—26 годах — точно не установлено,— композитор Александр Александрович Алябьев написал романс «Соловей», в котором впервые зазвучало нечто совершенно свое, русское, и романс стал невероятно популярным. А потом Алябьев написал «Вечений звон», который популярен и любим всеми поныне. Потом «Старый муж , грозный муж». Он сочинял и духовные хоровые роизведения, всенощные бдения, литургические циклы, первый в истории русской музыки хоровой концертный цикл а капелла на светские темы, сочинял камернострументальную музыку — сонаты, трио, квартеты и квинтеты, , что было большим шагом вперед в этой области,но главным в его творчестве все-таки всю жизнь оставалисьромансы и русские песни. Часть русских пе205 А. Алябьев сен писалась на слова профессиональных поэтов, а часть была музыкальной обработкой подлинных народных текстов и мелодий для концертных исполнений под фортепьяно или другие инструменты. Главное же, что Алябьев был не один. Вскоре по его пути пошла уже целая плеяда композиторов: Алексей Николаевич Верстовский, Даниил Никитич Кашин, Иван Алексеевич Рупин, Александр Егорович Варламов, Александр Львович Гурилев, Михаил Иванович Глинка, Александр Сергеевич Даргомыжский. Да, Глинка с полным основанием считается родоначальником подлинно национальной, воистину большой оперно-симфонической русской музыки. И имя его вполне справедливо ставится всегда вровень с именем Пушкина, совершившего то же самое в русской литературе. Не случайно, конечно, и то, что Провидение сделало их современниками, что они были очень близки, и Михаил Иванович писал много музыки к сочинениям Пушкина, включая такое огромное, как «Руслан и Людмила». И знаменитые провидческие слова, что «музыку создает народ, а мы, художники, только ее аранжируем», сказанные Глинкой, тоже ведь в духе Пушкина. И все же не будь в это же время Алябьева, Верстовского, Варламова и Гурилева и их творений, предверивших основные глинковские, еще неизвестно, как бы у него все сложи206 лось. Так называемых итальянизмов у него предостаточно даже в зрелых и поздних вещах, включая оперы. Да и поиски истинно национального в оперном искусстве Верстовский начал раньше: его «Аскольдова могила» была и поставлена на год раньше «Жизни за царя». Русский крестьянин Иван Сусанин запел впервые на сцене Императорского театра в 1836 году. То есть в тот же год, когда Чаадаев напечатал свое «Первое философическое письмо». В тот же год на сцене драматического театра впервые появился и гоголевский «Ревизор». А годом раньше опубликована стихотворная сказка Петра Павловича Ершова «Конек-Горбунок». Еще годом раньше — «Пиковая дама» Пушкина и сборник Даниила Кашина «Русские народные песни» в его обработке и его сочинения. Еще раньше — первые романсы Варламова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и «Народные песни» Ивана Рупина. Сопоставьте все это с «приговорами» Чаадаева. А русские песни и романсы, как вы уже наверняка поняли, были тогда в музыке главнее всего. Вовсе не опера и не симфонические сочинения. Их писала вся плеяда, и обрабатывали народные песни тоже все, однако тон тут, вслед за Алябьевым, стали задавать прежде всего Варламов и Гурилев. Кашин и Рупин были талантами поменьше, а Верстовский реже остальных обращался к этим жанрам, хотя тоже оставил потомкам бесподобную «Вот мчится тройка удалая». Варламов и Гурилев оба из самых низов: Варламов сын ефрейткапрала, а после службы — мелкого бедного чиновника, а Гурилев — сын крепостного музыканта и композитора, руководителя крепостного оркестра графа Владимира Григорьевича Орлова в подмосковном имении «Отрада» и сам до двадцати восьми лет был крепостным. Оба сумели выйти на волю лишь после смерти хозяина. И Кашин и Рупин из крепостных. То есть четверо из плеяды — из той самой крепостной интеллигенции, так много вложившей в господские искусства, и именно это их кровное родство с народом и определило направление их творчества — сделать достижения народа всеобщими. Романсы и песни ведь самый доходчивый и близкий буквально всем музыкальный жанр. Варламов уже в раннем детстве имел прекрасный голос, сам выучился играть на скрипке и больше всего любил петь народные песни на людях, в пять-шесть лет Уже с удовольствием и большим успехом выступал перед любой аудиторией. В девять был отправлен из Москвы в Петербург в Придворную певческую капеллу, где необычно талантливым, чувствующим музыку всем своим 207 Рано мою косыньку На две расплетать! Прикажи мне русую В ленту убирать!.. А.Гурилев А. Варламов существом мальчонкой занялся сам директор капеллы Дмитрий Степанович Бортнянский. Он пел там и маленьким и взрослым, а через двенадцать лет тоже стал преподавать там пение хористам и малолетним. Двадцати пяти лет от роду дает первый большой концерт в зале Филармонического общества — дирижирует и поет соло. Голос у него и у взрослого был хоть и небольшой, но очень красивый, мягкий тенор, и пел он на редкость выразительно и задушевно, в основном тоже народные песни. Вскоре знакомится с Глинкой, участвует вместе с ним в музыкальных вечерах. Потом возвращение в родную Москву на должность помощника капельмейстера московских Императорских театров, затем должность композитора этих же театров, писание музыки для разных драматических спектаклей и создание первых романсов «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», «Что отуманилась, зоренька ясная», «Смолкни, пташка канарейка», «Не шумите, ветры буйные». Автором слов «Красного сарафана» был тоже бывший крепостной, выбившийся в актеры Малого театра, певец, стихотворец и гитарист Николай Григорьевич Цыганов. Не шей ты мне, матушка, Красный сарафан, Не входи, родимушка, Попусту в изъян! Еще До появления из печати альбома со словами и нотами этих романсов их уже знала и распевала вся Москва, а за ней и страна. А когда появились «Что мне жить и тужить одинокой» «На заре ты ее не буди», «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий», «Ах ты ноченька» «Горные вершины», «Давно ль под волшебные звуки» и многое другое, Александр Егорович стал самым популярным, любимейшим композитором буквально всех слоев российского общества, начиная со знати и кончая крестьянами. Потому что в его романсах и песнях с потрясающей музыкальной глубиной отражалось все, чем жила тогда Россия: острые социально-политические темы, природа, любовь, быт, романтика, «досада тайная обманутых надежд». И главное, это были такие же, как в народных песнях, проникновеннейшие, всем родные и понятные мелодии. То есть буквально все всем ложилось прямо в души. Даже и знаменитейшие «Очи черные» ведь тоже его. Цыганские песни были тогда очень популярны: помните, с каким самозабвением Пушкин да и многие, многие другие слушали цыганку Стешу в легендарном хоре Ильи Соколова. «Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит...» Для этого хора Варламов и написал «Очи черные». Гурилев моложе Варламова всего на два года. Музыке его учил отец, и уже в юности он играл в его оркестре на скрипке и альте, но больше всего любил фортепьяно и достиг в игре на нем виртуозного совершенства. Много концертировал, давал уроки, а выйдя на волю, орался буквально за любую работу, держал даже нот-нУю корректуру, но жил все равно крайне бедно, потому что профессиональное композиторство тогда почти не кормило. По возвращении Варламова в Москву они крепко сдружились, и расцветало их творчество в одни и те же тридцатые-сороковые годы, в которые и Глинка создал немало великолепных романсов и песен. И все же, Гурилев, как и Варламов, совершенно самостоятелен и непоторим. В его творениях редкое сочетание простоты и изящества бпри глубочайшей эмоциональности. У него больше,чем у соратников, драматизма и грусти, и русские песни несут в себе черты романсовасти, а романсы 208 209 пропитаны чисто русским песенным мелодизмом. То есть это всегда органический сплав народной песенности с утонченной камерностью, в том числе и в обработках народных песен, которых он сделал очень много. «Уж как пал туман» — слова народные. Ее тоже исполняла Стеща в хоре Соколова. «Ни одна во поле дороженька» — где высочайше пронзительные ноты вдруг упадают на низкие и нижайшие. «Лучина, лучинушка», «Колокольчик» «Матушка, голубушка», «Не шуми ты, рожь», «Вам не понять моей печали» — одна из лучших русских элегий где даже паузы «звучат» будто сквозь слезы. А сколько всего родного, необъятного просторного и грустного в знаменитой ямщицкой «Однозвучно гремит колокольчик». Слова и музыка тут словно слились, словно рождены одновременно самым родным, близким всем нам сердцем и душой. Любимым поэтом Александра Львовича был Кольцов. А Варламов чаще всего брал стихи Цыганова, Мерзлякова и Дельвига, специально писавшего песни, называвшиеся русскими. Всего же Варламов и Гурилев использовали произведения более сорока поэтов да обработали десятки безымянных народных текстов, создав вместе свыше трехсот пятидесяти романсов и песен. И как когда-то в основу знаменного распева были положены принципы русской протяжной народной песни, так именно они да еще Алябьев заложили их же теперь в основу русской профессиональной вокально-инструментальной музыки, предопределив тем самым дальнейшее развитие всей отечественной музыки. Глинка, а потом и Даргомыжский в основном уже только закрепляли и развивали найденное ими. Кончили же жизнь эти два великих, необычайно популярных у современников композитора совершенно трагически: Александр Егорович Варламов, сильно нуждавшийся в последние годы, сгорел сорокасемилетним от чахотки, а Александр Львович Гурилев, тоже не вылезавший из нужды, тяжело заболел психически, и в таком состоянии и ушел 30 августа 1858 года. И в том же году, между прочим, бывший крестьянин Иван Евстратович Молчанов, собиравший и исполнявший народные песни, создал первый в России профессиональный хор из певцов-крестьян. Владимир Иванович Даль продолжал составление «Толкового словаря живого великорусского языка», собирал пословицы и поговорки, писал под псевдонимом Казака Луганского повести и рассказы из народной жизни. 210 А. Афанасьев Профессор Московского университета Иван Михайлович Снегирев тоже собирал русские пословицы, сведения о простонародных обрядах, праздниках, поверьях и обычаях и первым начал их серьезное изучение. Изучал и древнерусское зодчество, прикладные художества, лубочные картинки. Все — первым. И обо всем этом опубликовал в тридцатые-сороковые годы множество очень ценных, интересных книг: «Русские в своих пословицах», «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», «Лубочные картинки», выходившие не единожды. Тысячи народных песен собрал Петр Васильевич Киреевский. Они вышли аж в десяти томах, и там были песни, записанные и Пушкиным. Тот подарил свои записи Киреевскому. В те же сороковые годы в различных журналах печатались великолепные статьи и исследования народной поэзии Александра Николаевича Афанасьева: «Дедушка домовой», «Ведун и ведьма», «Языческие предания об острове Буяне.Иx было множество, и позже Афанасьев обобщил эти свои исследования в блестящем и по сей день единственном в своем роде трехтомном труде «Поэтические воззрения славян на природу». И большинство русских сказок мы знаем по записям и в пересказах 211 именно Александра Николаевича. Они по сей день издаются под его фамилией. Огромнейшую работу сразу в нескольких направлениях вел Михаил Петрович Погодин. Сын крепостного, истинный самородок, он блестяще окончил Московский университет, стал его профессором, потом академиком и даже тайным советником — и крупнейшим специалистом по древнерусской истории, культуре и быту Руси, опубликовал об этом десятки книг, писал историческую прозу и драмы. Известная «Марфа Посадница» — его. Издавал журнал «Москвитянин», ставший рупором истинных народников, издавал письменные памятники, в числе которых впервые сочинение Ивана Посошкова «О скудости и богатстве». Всю жизнь собирал предметы старины, старинные документы, летописи, книги. Он назвал эту коллекцию «Древлехранилище», и в конце концов она стала знаменитой, ибо насчитывала многие тысячи поистине бесценных и уникальных предметов и бумаг русской истории. На исходе своих дней Михаил Петрович уступил часть «Древлехранилища» императору Николаю Первому, и она попала в Императорскую публичную библиотеку, а остальное легло в основу собрания Императорского исторического музея, когда тот был создан в Москве. Одним словом, как некогда Карамзин, подобно Коломбу, открыл просвещенной России ее историю, так ныне просвещенные сами открывали для себя свой народ. Событие при всей своей отрадности по сути-то ведь диковатое, и даже трагическое и, наверное, беспрецедентное — верхушка страны, господа открывают свой народ. Но слава Богу, что было! Слава Богу, что господа, вернее, малая их частица, очень еще малая, все-таки почувствовали наконец, какое духовное иноземное иго устроил им великий царь,— и стали сбрасывать его. В самом народе, к счастью, тоже появились отличные им в этом помощники — прежде всего Иван Александрович Голышев, конечно. Много, много лет, с ранней юности ходил этот человек по деревням и селам Владимирской и ближних к ней губерний и выискивал всякие народные художества. Где часовенку увидит, на другие не похожую, где охлупень резной замысловатый найдет, где книгу рукописную или набойку редкую для ткани, где еще что-нибудь художественно интересное, и непременно перерисует это или с собой возьмет, если отдадут, а дома все перемеряет, опишит, сопоставит с такими же вещами из иных мест. Потом стал издавать альбомы с этими рисунками и описаниями и книги об отдельных видах народного творче212 ства.О пряниках и пряничных досках, например, написал по сути, настоящую поэму в прозе, которая вместе с тем была и первым, очень серьезным исследованием этого старинного русского промысла. И о церковных фресках он написал. Об иконах. О народной архитектуре.О лубках. Он их даже печатал в маленькой собственной литографии, находившейся в деревушке Голышевке близ знаменитой Мстёры. Собирал старинные лубки и печатал вновь. Дело в том, что в 1850 году московский губернатор граф Закревский решил раз и навсегда покончить с досаждавшими властям крамольными народными картинками и в одну из августовских ночей во все московские печатни нагрянули полицейские: изымали и рубили тесаками все крамольные доски, в первую очередь старинные. Прежние гонения на лубок не идут с этим ни в какое сравнение — десятки тысяч досок и готовых картинок было уничтожено. И все-таки кое-кто кое-что, разумеется, припрятал, сберег и потихоньку делал потом с досок новые оттиски или продавал доски владельцам провинциальных печатных заведений. Иван Александрович приобрел довольно много таких досок и почти все пустил в дело: «Ягу-бабу и крокодила», «Притчу о Иосифе Прекрасном», «Погребение кота» и десятки других сатирических листов. Он и сам рисовал интересные лубки, и очень много, а раскрашивали продукцию его литографии более двухсот баб и девчонок слободы Мстёра и окрестных деревень. Причем здешняя раскраска была тогда самой тщательной и нарядной в России, каждый лист — как красочный праздник. Иван Александрович родился и прожил всю жизнь в этой слободе, прославившейся своими иконописцами, коробейниками и офенями. Он тоже по рождению был крестьянином, крепостным графа Панина. Подростком сумел вырваться в Москву, где поступил в одно из лубочных заведений, и вечерами учился рисованию в школе при трогановском училище. А вернувшись в Мстёру занялся историей, краеведением, археологией, этнографией, ольклористикой, устроил в своем доме метеорологическую и астрономическую лаборатории, вел научные наблюдения. Помимо лубков, печатал книги для народа, н спространял их через офеней, общался по этим делам с Некрасовым. То есть стал настоящим исследователем, подвижникомпросветителем, членом восьми научных обществ России. В печати его называли «Владимирским Ломоносовым», в день шестидесятилетия широко че213 ствовали. Однако труды свои, которые и сейчас имеют серьезное значение, он зачастую подписывал не научными титулами, а горькими словами, бьющими по сердцу: «Бывший крепостной крестьянин Иван Голышев». Кстати, во всех дореволюционных русских энциклопедиях о Голышеве рассказывается довольно подробно. Есть он и в первой советской, а из последующих почему-то исчез. Почему?! И еще об одном удивительном человеке необходимо тут рассказать — о Дмитрии Александровиче Ровинском. Крупный сановник — сенатор и прокурор Московской губернии, один из авторов важнейшей судебной реформы шестидесятых годов, он тоже всю свою неслужебную жизнь отдал собиранию и изучению русской иконописи, гравюры и лубка. И тоже писал обо всем этом книги. По существу, в них-то и состоялось одно из первых открытий самобытных художественных достоинств нашей иконописи, о которой до этого как об искусстве и речи нигде не шло. Ибо для господ по характеру своему она была все из того же подлого или очень древнего, а стало быть, и очень примитивного мира, когда на Руси еще и «лики святых-то не умели писать объемными». Не уничтожали же старые иконы лишь потому, что это запрещалось церковными установлениями, совсем потемневшие только подновляли или записывали новыми изображениями. Ровинский и маленькая горстка ему подобных подоспели как раз вовремя: начали спасать древние доски хотя бы от этих записей. Снимать слои записей и подновлений тогда еще не умели. «История русских школ иконописания», «Русские граверы и их произведения», «Материалы для русской иконографии», «Русский гравер Чемесов», «И. И. Уткин, его жизнь и произведения», «Подробный словарь русских гравированных портретов».— Это названия лишь малой части основных работ Дмитрия Александровича Ровинского. И каких работ! «Подробный словарь...», к примеру, состоит из четырех больших томов, включающих в себя две тысячи портретов и обстоятельных справок-описаний всех русских людей, «в каком-нибудь отношении привлекших к себе внимание современников и потомства». То есть, по существу, в нем в портретах главных деятелей и описаниях их деяний представлена вся история России. Труд бесценный и единственный в своем роде, потребовавший от автора совершенно невероятных усилий и уйму времени. Собрал Ровинский и уникальнейшую и по сей день непревзойденную ни по количеству, ни по качеству кол214 лекцию русского лубка и стал главным и тоже по сей день непревзойденным его исследователем, историком, певцом. А началом этого редкого собрания послужили, между прочим, два сундука, принадлежавшие некогда знакомому нам профессору элоквенции и поэзии Якову Штелину. Да, да, тому рыхлому круглолицему немцу, которому на Спасском мосту не продали когда-то «Погребение кота». Он хоть и был, по определению В. В. Стасова, «типичный париковый немец», хоть и лакействовал перед двором — тогда это считалось в общем-то обычной нормой поведения для высшего и чиновничьего общества,— хоть открыто и презирал все русское, но в душе был все-таки художником и истинным собирателем и хорошо почувствовал своеобразную силу и красоту русской простонародной картинки. Он по-настоящему увлекся ею, наезжал в Москву на Спасский мост еще несколько раз и накупил в конце концов и аккуратно сохранил сотни старинных лубков, ценность которых сегодня трудно даже измерить — так они великолепны и редки. И картину «Как мыши кота погребали» он, конечно, тоже достал, причем не одну, а разные варианты, все отлично раскрашенные. Всего Ровинский собрал около восьми тысяч лубков, наверное, почти все напечатанное в России к тому времени. И издал четырехтомный, метрового размера атлас, где лучшие из них представлены в натуральную величину и раскрашены, как и полагается, от руки. А к атласу выпустил еще пять толстых томов комментариев, в коих помимо чисто искусствоведческих интересных изысканий и выводов изложена практически и вся история русского быта, обычаев, нравов, культуры. Изложена необычайно широко, с массой таких любопытных подробностей, каких больше нигде не встретишь. Владимир Васильевич Стасов справедливо писал в рецензии на это бесподобное издание, что это «истинная художественная русская энциклопедия в рисунках, где находится «все русское, что может заинтересовать Русского», говоря собственными, по всей справедливости горделивыми словами самого Ровинского». Чего ему стоил этот колоссальный труд, стало известно лишь после смерти Дмитрия Александровича. Оказалось, что у маститого, знаменитого сенатора, прокурора и академика двух российских академий — наук и художеств — нет в доме буквально ни рубля и что он всю Жизнь экономил на одежде, на еде, никогда не имел собственного выезда и потому ходил всегда только пешком, 215 даже по пыльным российским проселкам. Он перемерил по ним тысячи верст, каждое лето отыскивая по деревням в крестьянских избах старые, редкие печатные картинки. Ездил не единожды за границу, изучал там лубки других народов и кое-что тоже приобретал. Оказалось что он буквально все тратил только на них, на старинные иконы и гравюры, платя подчас за редчайшие единственные в стране экземпляры по тысяче и более рублей. И завещал свою уникальную и поныне самую полную коллекцию русского лубка и русских гравюр московским музеям и Румянцевской библиотеке... К середине девятнадцатого века вся духовная, вся общественная жизнь господ свелась практически к двум проблемам: отношение к народу и к Западу. Все остальное вытекало из этого, было лишь следствием — все социальнополитические движения и события, все нравственные, идеологические. Отмена крепостничества 19 февраля 1861 года тоже ведь прямое следствие изменения отношения к народу. А появление демократов и революционных демократов, позвавших Русь к топору,— отношение к народу и к Западу. Лучшие умы и души России жили тогда только этим, исключения были крайне редки. Но зато как поразному понимали народ даже эти лучшие, даже посвятившие служению ему, правде и справедливости свои жизни. Неистовый Виссарион Григорьевич Белинский, сделавший невероятно много для утверждения самого понятия народность, считавший, что «народность есть альфа и омега эстетики нашего времени» и что «всякая поэзия только тогда истинна, когда она народна, т. е. когда она отражает в себе личность своего народа», вместе с тем с такой же яростной убежденностью утверждал, что «одно небольшое стихотворение истинного художника-поэта неизмеримо выше всех произведений народной поэзии вместе взятых». И совершенно не понимал и не принимал русский эпос, вообще фольклор, изругал, ядовито иронизируя, все былины из сборника Кирши Данилова, не найдя в них ничего самобытного и глубокого, нападал на Пушкина за использование им народных мотивов в своих сказках, жестоко охаял Петра Павловича Ершова за дивного «КонькаГорбунка». Так в чем же, спрашивается, заключалось для него понятие народность, если само творчество этого народа не только ничего для него не значило, но и столь пренебрежительно и беспощадно уничтожалось? Ведь он, Белинский, был не просто литературным крити216 ком- он был подлинным общественным трибуном и иде- ологом, который вел за собой многих таких же ярких и таких же беззаветно вроде бы служивших народному благу людей: Грановского, Тургенева, Григоровича, Гончарова Некрасова. Какой-то период с ним был во многом заедино и Герцен. А дело в том, что, ратуя за народ и народность, за освобождение и улучшение его жизни, Белинский в Явственные силы народа, в собственные его духовные художественные возможности и богатства, судя по всему; не очень-то, да, пожалуй что, совсем не верил и -хотел лишь подтянуть его жизнь к своей и к своей — то есть к господской — культуре. Не сближаться с народом, не постигать его — а подтягивать, поднимать. Он проповедовал вечный прогресс и прогресс народа видел только в том, чем жил сам, то есть все в той же западной культуре и западном образе жизни. Потому-то он и встал во главе так называемых западников, сгруппировавшихся в конце концов вокруг петербургского журнала «Отечественные записки». Короче говоря, по существу, эти господа ничего своего не изобрели: они молились тому же, чему их учили по воле великого преобразователя и что составляло их плоть и кровь так же, как и всех бар-господ. Только по чистоте души и из самых высоких побуждений старались подключить к сему и огромный русский народ и, в общем-то, занимались социальной политикой, а не подлинным единением с ним. Хотели, чтобы он, освобожденный и просвещенный, не только в культуре, но и в социальном устройстве следовал за благословенным Западом. Герцен до отбытия за границу был тоже одной из главных фигур этого движения. А вот те, кто сплотился вокруг погодинского «Москвитянина» и кого стали называть славянофилами, смотрели на народ и на Запад совершенно иначе. Братья Иван и Петр Васильевичи Киреевские, Алексей Степанович Хомяков, Юрий Федорович Самарин, Федор Иванович ютчев; Константин Сергеевич Аксаков, а позже и Иван ергеевич Аксаков — сыновья знаменитого автора «Детства Багрова внука» и «Записок об ужении рыбы». Герцен много позже вспоминал, как поначалу их, будущих западников и славянофилов, объединяло «чувство безграничной,охватывающей все существование любви к русскому народу», и они входили в одни кружки, вели ожесточенные споры и в конце концов «со слезами на глазах, обнимаясь, разошлись в разные стороны». 217 СЛАВЯНОФИЛЫ Славянофилы первыми из господ уже действительно знали свой народ и его историю, знали, какими великими и неповторимыми духовными богатствами наполнена его жизнь и что ему не нужны никакие заимствования, надо лишь развивать и совершенствовать свое, ибо оно куда выше, нравственней, человечней, справедливей, чем то, что течет к нам с меркантильного ханжеского Запада. Видели они и то, что культура России вместе с культурой других славян — это такой же самостоятельный гигантский континент, как, скажем, китайский или индийский, которые ведь никому не приходит в голову подстраивать под чью-то чужую жизнь. Видели и без устали повторяли, что, радея о народном благе, надо не учить русский народ, а учиться у него пониманию жизни и всего сущего на земле и ничего ему не навязывать, а лишь сближаться с ним, чтобы, в конечном счете, жить единой жизнью. Единой в первую очередь, разумеется, духовно — с единой культурой, выросшей из православия и народных традиций. И о самостоятельном общественно-государственном устройстве славянофилы вели речь, выводя его из вековечной русской общины и православно-патриотичной национальной ориентации. Основоположники этого движения люди все интереснейшие и яркие, но рассказывать обо всех невозможно, и потому поподробней пока лишь о главном идеологе славянофильства — Алексее Степановиче Хомякове. Кто-то в его стариннейшем роду, видимо, в самом деле походил на вечно сонного хомяка, коль ему дали такую фамилию. И было это определенно очень и очень давно, ибо в Алексее Степановиче уже ни капельки не осталось от предка. Высокий, сухопарый, с крепко вылепленным сильным лицом, тяжеловатым напряженным взглядом, со всегда разлетающимися волосами, всегда полный энергии, всегда в движении, всегда в какой-нибудь работе — или несущийся с борзыми на коне за волком, или спорящий до хрипоты с друзьями, или объезжающий нового чистокровного орловца, или пирующий с друзьями, или устраивающий для домашних и гостей какие-то невиданные состязания-забавы, до которых был страстный охотник и выдумщик. Любил в жизни все и всем упивался, и всему безумно радовался, и тогда взгляд его становился помальчишески блескучим, завороженно счастливым. Но больше всего все-таки любил работать и, кажется, хотел перепробовать, поделать в 218 А. Хомяков жизни все, что только можно. Богатый помещик, владевший землями в Тульской и Рязанской губерниях, он завел у себя самое совершенное по тем временам хозяйство с сахароварением, сам усовершенствовал необходимые для этого машины. Всерьез занимался экономикой сельского хозяйства, разрабатывал планы освобождения крестьян с землей, выкупленной государством, и с иным рекрутством. Изобрел оригинальнейшую паровую машину. Был прекрасным практикующим врачом-гомеопатом и в совершенстве знал народную медицину, лечил, разумеется бесплатно, своих крестьян и всех соседей. Был художником, писал талантливые портреты и иконы. Был лингвистомполиглотом. Серьезнейшим философом, историком, критиком. Дважды путешествовал по Европе.Записал многотомные записки о всемирной истории. 219 Служил офицером в Астраханском кирасирском и Петербургском лейб-гвардейском конном полку, вышел в отставку, но в 1828—29 годах вернулся в армию, участвовал в русско-турецкой войне, получил орден святой Анны с бантом за храбрость. И наконец, был известнейшим публицистом, поэтом и драматургом, и его драмы «Вадим», «Ермак» и «Дмитрий Самозванец» шли на сценах. Когда только все успевал — уму непостижимо. Мать его — урожденная Киреевская, а Иван Васильевич Киреевский — дражайший пожизненный друг. Тридцати двух лет от роду, в 1836-м Хомяков женился на Екатерине Михайловне Языковой — родной сестре поэта, и брак этот тоже был на диво счастливым: они имели девятерых детей, она была полной его единомышленницей и лучшей помощницей буквально во всем. Главное же, что при всей своей родовитости и богатстве, при всех своих феноменальных способностях он был начисто лишен какого-либо высокомерия и всю жизнь тянулся к простым людям, презирая свое сословие за аристократические условности и вельможность, постоянно иронизируя и издеваясь над этим. Был близок с декабристами, но 14 декабря 1825 года оказался слишком далеко от Сенатской площади — в Париже. Правда, еще задолго до этого не раз горячо спорил с Рылеевым, доказывая, что, по существу, они всего лишь хотят единовластие заменить на власть, на тиранство военного меньшинства. И вот этот-то мудрейший, неуемный, на людях всегда такой заводной, веселый и остроумный человек, очень и очень часто просыпался ночами и скрытно ото всех — это узналось совершенно случайно, помимо его воли, разумеется,— подолгу горько плакал и молился от страданий, что жизнь оказывается постоянно сложнее, хуже, нелепей, тяжелей, чем хотелось и понималось им. И несомненно, что все его деяния и все слова, каждая строка писаний именно от этих безмерных страданий. «Как бы каждый из нас ни любил Россию, мы все, как общество, постоянно враги ее, разумеется бессознательно. Мы враги ее потому, что мы иностранцы, потому что мы господа крепостных соотечественников, потому что одуряем народ». И еще об этой же, господской России в 1853—58 годах, когда она вела восточные захватнические войны: А на тебе, увы! как много Грехов ужасных налегло! В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена, 220 Безбожной лести, лжи тлетворной, И лени мертвой и позороной, И всякой мерзости полна! Стихотворение так и называлось — «России». И, Господи, как кинулась на него тогда вся господская Россия, начиная с царского двора и аристократии и кончая всей либеральной интеллигенцией, западниками! Как негодовали и клеймили за поношение и очернение Отечества! Но ведь про их Россию все чистейшая и честнейшая правда. Про народную, про народ он говорил совсем иное: что его «жизнь, полная силы предания и веры, создала громаду России прежде, чем иностранная наука пришла позолотить ее верхушки. Эта жизнь хранит много сокровищ, не для нас одних, но, может быть, и для многих, если не для всех народов». И самым подробнейшим образом говорил об этих сокровищах, глубоко их анализируя и показывая истинную ценность, в том числе и сокровищ чисто художественных. «Мы понимаем, что формы, принятые извне, не могут служить выражением нашего духа и что всякая духовная личность народа может выразиться только в формах, созданных ею самой... Как, например, русская икона, которая не есть религиозная картина, точно так же как церковная музыка не есть музыка религиозная, икона и церковный напев стоят несравненно выше. Произведения одного лица, они не служат его выражением: они выражают всех людей, живущих одним духовным началом: это художество в высшем его значении. В них отражены общенародные духовные идеалы. Как и в песне русского племени, самого богатого изо всех европейских племен разнообразною, самобытною и глубоко сердечною песнею». И, наконец, о главной задаче России: «Для России возможна одна только задача: сделаться самым христианским из человеческих обществ». Погиб Алексей Степанович Хомяков в 1860 году, пятидесяти шести лет от роду, в эпидемию холеры. Спасал крестьян, спас сотни, а сам не уберегся. Большие философские, исторические, социологические и эстетические труды, статьи на те же темы, речи и лекции, критические заметки, художественная проза, стихи и драмы, публицистические манифесты и обращения, различные послания и письма — славянофилы все писали много и разное, но главная тема была всегда одна — народ, Россия, Запад. Крылатые слова «Глас народа — глас Божий!» — это Константин Аксаков. 221 К. Аксаков И. Аксаков «Источник вещественного благосостояния и источник внешнего могущества, источник внутренней силы и жизни и, наконец, мысль всей страны пребывает в простом народе. Отдельные личности, возникая над ним.., только тогда могут что-нибудь сделать, когда коренятся в простом народе, когда между личностями и простым народом есть непрерывная живая связь и взаимное понимание». А «могущество, сила народа — в труде, в непрерывном труде, ибо не наслаждение, а только труд является истинным смыслом жизни. Жизнь есть подвиг, заданный каждому человеку, жизнь есть труд». Это тоже Константин Сергеевич Аксаков. Он был из основных теоретиков славянофильства прежде всего в его историческом и политическом обосновании. И, так же как Хомяков, автор не только теоретических и критических трудов, но и нескольких пьес, тоже шедших на сцене. А его младший брат Иван Сергеевич был блестящим публицистом, еще более блестящим оратором и, несомненно, самым ярким общественным деятелем в семидесятые годы, в период славянских освободительных восстаний в ЮгоВосточной Европе и русско-турецкой войны за освобождение Болгарии. Он возглавил тогда Московский Славянский комитет, и только благодаря его энергии и страстным речам-призывам Россия сыграла такую выдающуюся роль в помощи своим кровным братьям. Безмерно признательный болгарский народ 222 даже официально обратился тогда к Ивану Сергеевичу с просьбой стать их новым царем. Он, разумеется, отказался. Да и не мог не отказаться, потому что это именно он, Иван Аксаков, открыто называл виновника всего происходившего с Россией и тоже называвшегося царем: «Факт таков (и этого не отринет ни один историк), что русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. Рукою палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались, спешно, без критики, на веру выписанные из-за границы семена цивилизации. Все, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, гонению: одежда, обычаи, нравы, самый язык — все было искажено, изуродовано, изувечено... Умственное рабство перед европеизмом и собственная народная безличность провозглашены руководящим началом развития». Ну как, спрашивается, должны были реагировать на подобное западники да и власть предержащие? Разумеется, только гневно негодуя. Вот ведь штука-то какая поразительная и показательная: царизм, власть, всячески преследовавшая западников-либералов, справедливо считавшая их своими главными врагами, в отношении славянофилов совершенно с ними солидаризировалась,— тоже сочла опаснейшими своими врагами и повела против них общую с западниками-либералами борьбу. Западники — с журнальных и газетных страниц, в диспутах и частных спорах, а власть — жандармскими преследованиями, запретами, арестами, конфискацией изданного. Ивана Аксакова за критику действий русских дипломатов после русско-турецкой войны сослали в деревню и запретили печататься. Позиция-то у западников и властей была по существу единая: без Запада мы никуда, и потом, как можно такими словами — палач! — о великом преобразователе! Престиж Петра Первого беспокоил власть больше всего, за мифическую народность-то они и сами выступали. Западники либералы-демократы хотя бы на это свое союзничество обратили внимание. Нет, не обращали. Бились так же жестоко, как с самодержавием. На десятки лет война растянулась, практически превратилась в перманентную, вспыхивавшую вновь и вновь. И понять западников можно: не могли же они согласиться со славянофилами, которые верили в народ и в какие-то его 223 неисчерпаемые силы и самобытность,— само их естество не понимало и не принимало этого. И неистовей, яростней всех в сей борьбе был поначалу, конечно, все тот же неукротимый Белинский. И вместе с тем два главных, великих для России дела бывшие давние заединщики все-таки всегда делали вместе. Первое: возглавляли общественные движения за отмену крепостного права, что и свершилось в 1861 году 19 февраля. Сейчас-то, почти через полтора столетия, после всех гигантских социально-политических катаклизмов и войн, прокатившихся по земле в двадцатом веке, это событие почти никого уже и не трогает. Отменили крепостное право — ну и слава Богу! Но ведь тогда-то это было самым грандиозным, что могло быть и о чем веками мечтали миллионы и миллионы. Тогда-то это коснулось, потрясло или перевернуло жизнь буквально каждого из шестидесяти восьми миллионов человек, населявших Россию, ибо пятьдесят два миллиона из них были наконец признаны за людей. Просто за людей. Пятьдесят два из шестидесяти восьми. Самое страшное из всех возможных злодеяний всетаки уничтожили. Второе великое дело — поворот господской культуры к своему народу. Тургенев, Гончаров, Некрасов, Григорович, Герцен, Тютчев, Островский, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Алексей Толстой, Достоевский, Добролюбов, МельниковПечерский, Лев Толстой, Лесков, Фет, Никитин, Глеб Успенский, Писемский, Максимов, Суриков, МаминСибиряк, Чехов... Эти писатели все из того пред- и пореформенного времени, и их творения в основном уже о России и ее народе, о русском национальном характере и русской жизни, о русской истории и быте во всех их мельчайших подробностях и проявлениях, со всеми их плюсами и минусами. Только об этом. И только потому они и стали теми, кем стали, что окунулись именно в свое, стараясь понять и осмыслить его, и именно оно, это свое, и сделало их не просто интересными, но совершенно необходимыми, жизненно необходимыми всем грамотным, думающим русским, а следом и всем иным народам, то есть сделало поистине великими, ибо суть литературы ведь не только в мастерстве, каким бы блестящим оно ни было, а о чем она, что она открывает воистину нового и полезного. А они все открывали Россию. И если к уже названным именам добавить еще лишь троих — Пушкина, 224 Никола Можайский. Складень. Село Волосово Приозерского района Архангельской области. XVI век Никола Можайский. Складень. Деталь. XVI века Параскова Пятница. Новгород. XVI век Московский митрополит Феогност. XVII век Полотенце. Вышивка цветной шерстью по льняному полотну. Деталь. Костромская губерния. XIX век Золотое шитье. Платок головной Крест. Литье. Бронза. XII век Как мышки кота погребали. Лубок. Начало XVIII века Хохлома Лермонтова и Гоголя,— это ведь и будет та русская литература, которую и во всем мире с полным основанием называют великой. Пожалуй, даже величайшей, ибо такой вселенской философской масштабности, психологических глубин и пронзительной поэтичности, как у Гоголя, Тургенева, Достоевского, Льва Толстого и Чехова, нет больше ни у кого, кроме разве Шекспира. И такого национального своеобразия, как у Некрасова, Островского и Лескова, нет больше ни у кого. А ведь улеглось-то все в основном в неполные полвека. И все — из одного корня. И живопись совершила тогда такой же полный поворот. На смену академизму Брюллова и Александра Иванова, фельетонному бытовизму Федотова и итальянским пейзажам Сильверста Щедрина пришел Перов с его социально раскаленными «Похоронами крестьянина», «Тройкой» и «Крестным ходом на Пасху», пришли Саврасов с символически русскими «Грачи прилетели» и «Проселком» и Федор Васильев с такими же символическими «Оттепелью» и «Мокрым лугом». В 1870 году стараниями того же Перова, Мясоедова и Ге родилось знаменитое «Товарищество передвижных выставок произведений русских художников», членами которого стали Крамской, Саврасов, Маковский, Репин, Поленов, Суриков, Васнецов, позже Врубель, Ярошенко, Левитан, Нестеров и многие, многие другие. Это товарищество, прозванное попросту «передвижниками», впервые начало возить по городам России большие художественные выставки, на которых огромные массы людей всех сословий и чинов впервые воочию видели великие живописные творения: репинских «Бурлаков на Волге», его же «Проводы новобранца» и «Не ждали», саврасовское «Грачи прилетели», мясоедовское «Земство обедает», полотно Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея», поленов-ский «Московский дворик», васнецовских «Алёнушку» и «Богатырей»... Выставок передвижников было много, и даже показанные на них подлинные шедевры, подобные уже названным и суриковскому «Утру стрелецкой казни» и «Боярыни Морозовой», и те бы пришлось перечислять и перечислять, но главное в другом — в том, что для познания и осмысления Руси и ее народа русские художники сделали тогда не меньше, чем литераторы, ученые историки и публицисты. И композиторы и музыканты тоже. Ибо из тех же времен и гениальные Мусоргский с его «Борисом Годуновым» и «Хованщиной», и Чайков225 ский, и Римский-Корсаков с неповторимо национальной музыкой, и Бородин, и Рубинштейн, и Балакирев. И открытие в Петербурге и Москве отечественных консерваторий. И создание композиторского товарищества «Могучая кучка», которое действительно оказалось феноменально могучим и определившим все дальнейшее развитие русской музыкальной и певческой культуры. Смотрите, как работали в годы с 1871 по 1873-й: Мусоргский завершает своего «Бориса Годунова» и «Картинки с выставки», Римский-Корсаков — «Псковитянку», Рубинштейн—«Демона», Чайковский начинает Первый концерт. А Некрасов тогда же пишет «Русских женщин». Островский — «Лес» и «Снегурочку». Лесков печатает романы «На ножах» и «Соборяне» и «Запечатленного ангела» и «Очарованного странника». Мельников-Печерский — роман «В лесах», Максимов — «Лесную глушь». У Ивана Сурикова выходит собрание сочинений-стихотворений. Ге пишет своего «Петра I, допрашивающего царевича Алексея», а Мясоедов — «Земство обедает». А Антокольский отливает в бронзе могучего «Ивана Грозного». Это все всего за три-то года, перед которыми, между прочим, в шестьдесят девятом Лев Толстой завершил— завершил!! — «Войну и мир», Достоевский — «Идиота», Герцен — «Былое и думы», Чайковский — увертюру «Ромео и Джульетта», Гончаров — «Обрыв», Островский — «На всякого мудреца довольно простоты», а Дмитрий Иванович Менделеев создал свою Периодическую таблицу элементов... Подлинно великое национальное возрождение! Но посмотрите, как оно давалось. Даже самые светлые и самостоятельные умы и те зачастую никак не могли вырваться из железных пут прозападного воспитания и образования. Помянутый ранее профессор Московского университета Снегирев, так влюбленно исследовавший народные обычаи, поверья и обряды, пословицы и лубки, блуждал по русскому зодчеству прямо как по темному лесу и писал о храме Василия Блаженного, например, что «разнообразные ее (называл собор церковью) орнаменты и детали представляют нам причудливое смешение стилей мавританского, готического, ломбардского, индийского и византийского». Где он их там обнаружил — непонятно. И во сколько стилей знал, кроме русского! Неужели никогда деревянных церквей-то не видел и никакого сходства между ними и этим храмом не заметил? Вряд ли не видел. Значит, видел — да не видел: не обучен был этому стилю. 226 А знаменитейший наш критик-трибун, сын прекрасного зодчего Стасова, Владимир Васильевич Стасов, человек огромного художественного чутья и эрудиции, который в буквальном смысле слова вырастил, выпестовал целую плеяду самых больших наших музыкантов, художников, литераторов, актеров и певцов, даже написал серию статей «О происхождении русских былин», в коих на основании похожести сюжетов в фольклоре разных народов утверждал, что былины наши основываются якобы на «восточных оригиналах», в частности на иранских. А так как к мнению Стасова прислушивалась тогда вся культурная Россия, вреда эти статьи наделали много, хотя никакого подлинного научного литературоведческого анализа в них практически не было. Однако дремучие западники размахивали ими как неопровержимыми доказательствами и долго орали о неспособности русского народа к созданию культурных и художественных ценностей. И русскому орнаменту Владимир Васильевич почему-то отказывал в самостоятельности. Правда, откуда тот взялсяпроизошел, найти так и не смог. А крупный этнограф и лингвист Всеволод Федорович Миллер считал, что и «Слово о полку Игореве» создано на основе будто бы пока (и до сих пор!!) не обнаруженной древнегреческой повести, подобной известной повести «О Дионисе Акрите». Сравнительный метод был тогда у некоторых исследователей в большой чести. То есть метод сугубо поверхностный и по большему счету несерьезный, позволявший, особенно людям непорядочным, буквально все выводить из чужого: напоминает — значит уже оттуда... НА КИЖАХ И ВОКРУГ Приехавшие из Петербурга жена и два товарища в первые мгновения не узнали его, оцепенели, не в силах приблизиться к кровати. От красивого прежде лица и узких рук, лежавших поверх одеяла, остались лишь заостренные кости, покрытые сморщившейся сероватой кожей. Он был без сознания, не шевелился, дышал очень редко и тихо — казалось, выдыхал из себя последние остатки жизни. Так продолжалось еще три дня, в течение которых приехавшие по очереди дежурили возле него, надеясь на чудо и на то, что он все-таки очнется и хоть что-нибудь скажет. Но это произошло только на 227 четвертые сутки, 20 июня, солнечным безветренным утром: серые веки его медленно, медленно приоткрылись глаза были в дымной пелене, но постепенно яснели, яснели, он, кажется, даже узнал склонившихся к нему потом в глазах вроде даже мелькнула искра радости и растрескавшиеся, совершенно бескровные губы еле слышно прошелестели: — Есть. — Что? — Жена склонилась к нему, чтобы лучше слышать. — Есть еще... Еще есть...— почти внятно прошелестело откуда-то из самого его нутра. — Он хочет есть! — вскинулся один из друзей, но присутствующий тут же доктор сказал, что нет, речь идет не о еде, что он твердил эти слова, и когда метался в бреду. И он, кажется, тоже слушал доктора и потому опять елееле слышно, медленно-медленно подтвердил: — Есть е-ще-ооо... И перестал дышать. И жена и товарищи наконец догадались, о чем он... Так умер в Каргополе 20 июня 1872 года неизвестно где заразившийся брюшным тифом Александр Федорович Гильфердинг. Его отец был выходцем из Саксонии. Служил в России по дипломатическому ведомству. И Александр после окончания Московского университета некоторое время служил по тому же ведомству на Балканах, в Боснии. Еще в студенчестве примкнул к славянофилам, своим главным учителем считал Хомякова, и вообще почитал его за самого светлого и яркого человека России. Двадцати двух лет от роду опубликовал первую научную работу по истории славян, и все его дальнейшие изыскания, все статьи и книги посвящены им же, больше всего сербам и болгарам. Исследователь был прирожденный, одержимый, количество собранных, обработанных и осмысленных им исторических и этнографических материалов поражает — непостижимо, как вообще мог один человек столько перечитать и систематизировать. Славяноведение как наука собственно с него у нас и началось. И скольким миллионам славян его книги открыли их самих, и представить трудно. А для сербов и болгар Гильфердинг вообще был первым их историком, его истории этих народов переиздаются там и поныне. В шестидесятые годы Александр Федорович — профессор славистики Санкт-Петербургского университета, и, разумеется, одним из первых обратил внимание 228 А. Гильфердинг П. Рыбников на привезенную из Петрозаводска книгу «Песни, записанные П. Н. Рыбниковым», том первый. Песнями Рыбников называл былины, и несколько из них были совершенно незнакомые, что очень удивило Гильфердинга. Да и всех, кто интересовался русскими былинами. А через два года вышел второй том рыбниковских «песен», затем третий, а в шестьдесят седьмом — четвертый, и с каждым томом всеобщее удивление росло как снежный ком, стало великой сенсацией, не дававшей покоя не одному Гильфердингу. Потому что всего в четырех томах было опубликовано более двухсот былин, а по сборникам Кирши Данилова дотоле считалось, что их на Руси вообще где-то между шестьюдесятью и семьюдесятью, а в реальной жизни их давно не существует — никто не исполняет. Да и этот легендарный Данилов, видимо, уже старцем или сам записал их, или напел кому-то неведомо когда, может быть даже в семнадцатом веке, и Рукопись эта просто дождалась публикации в восемьсот четвертом-то. Это было общее устоявшееся мнение. И вдруг— почти полтораста совершенно новых былин, Да и знакомые у Рыбникова по текстам значительно отличались от даниловских. Мало того, в третьем и четвертом томах Рыбников сообщал, где, от кого и что именно он записывал, и рассказывал о нескольких здравствующих сказителях, а по-тамошнему старинщиках, которые якобы и поныне поют в Олонецком крае былины в народе. 229 В это никто не мог поверить. Даже самые влюбленные в Россию господа не верили. Ведь сами-то в народ понастоящему дотоле не окунались. Выходит, что вообще из радетелей народных до той поры почти никто не окунался, точнее, вплотную не общался, коль поголовно все были убеждены, что в реальной жизни былин давным-давно уже нет. Появились подозрения: уж не мистификатор ли сей Павел Николаевич Рыбников. Гильфердинг узнал о нем немного. Узнал, что тоже окончил Московский университет, но, кажется, позже него, хотя по годам они вроде бы ровесники. Интересовался фольклором, состоял в каком-то кружке. После университета сразу уехал на Украину, на Черниговщину собирать фольклор, но там сошелся с какими-то преследуемыми раскольниками, был вместе с ними арестован, осужден и выслан в пятьдесят девятом году в Петрозаводск Олонецкой губернии, где и начал свои собирательства-записи. Однако вскоре получил в Петрозаводске какое-то приличное казенное место и фольклором больше не занимался, только вот издал эти четыре тома. Но, может быть, что-то и сам насочинял в них? Подозрения были столь сильные, что Гильфердинг решил самолично все перепроверить, и если Рыбников ни в чем не погрешил — ликовать и воздать ему должное за великое открытие. В 1871 году приехал в указанную Рыбниковым Кижскую волость. Да, да, на тот самый остров Кижи, где стоит знаменитая двадцатидвухглавая деревянная Преображенская церковь и где каждая вторая или третья изба тоже истинный шедевр народного зодчества. Поименованные Рыбниковым здравствующие сказители почти все жили в этой волости. Первым в деревне Середка увидел Трофима Григорьевича Рябинина — крепкого, ладного, чуть скуластого старика с густыми не по возрасту, седоватыми волосами, совершенно седой легкой раздвоенной бородой и очень внимательными ясными светло-серыми глазами. Поразился, как ровно, спокойно и достойно тот все время держится, а потом оказалось, что тот вообще живет очень достойно, разумно и рачительно. И все в его семье и в его большом, ладном, необыкновенно чистом доме, и в его хозяйстве точно так же разумно и рачительно. Оказалось, что он и необыкновенно умен, проницателен и многознающ. Кормился, как и большинство на Кижах, в основном рыболовством. 230 Т. Рябинин >Ж* Былинам, по его рассказам, выучился еще мальчишкой у старика Ильи Елустафьева, который плел и починял рыбацкие сети и другие снасти и взял двенадцатилетнего Трофима к себе в ученики и помощники. Несколько лет с ним прожил, так как отца не было, погиб на войне. У Елустафьева и другие ребята учились петь былины, он знал их великое множество. А потом Рябинина позвал в работники в деревню Гарницы родной дядя, Игнат Иванович Андреев, тоже большой знаток и прекрасный исполнитель былин, и у него Трофим тоже перенял немало. Рябинин понимал былины как нечто совершенно необыкновенное, почти святое, никогда ничего ни в одной не менял, не пропускал, но в то же время любая из них именно у него была всегда очень стройна и строга по построению, очень складна, очень напевна. Потом Гильфердинг убедился, что складнее никто не пел. И то, что ему дано исполнять их, Рябинин тоже считал даром Божьим, и голос свой глубокий и теплый считал таким же Даром, и, запев, сам сразу весь целиком погружался в свой напев и в те века и события, о которых пел,— воистину жил ими, переживал их, вещал из веков как их оживший голос, и, завороженный сам, завораживал и 231 всех слушавших его даже самыми ритмами то ли былин, то ли тех давних-давних времен. Гильфердинг впервые, а после Рыбникова, стало быть, всего вторым из всех господ России слушал воочую подлинного живого сказителя и никак не ожидал, что это пение окажется таким ошеломляюще колдовским и прекрасным, лучше, глубже и неповторимей которого он ничего никогда прежде не слыхивал. Будто саму Русь, всю её за все века вдруг услышал и увидел в этой большой, светлой, чистой и пахнущей чистотой, старым деревом и поднимающейся опарой избе. Сначала просто просил и просил Трофима Григорьевича петь ему еще и еще, пытаясь понять ошеломляющую магию этого пения, и, конечно же, все сильнее и все восторженней влюблялся в этого седоватого светлоглазого, полного достоинства старика, в его действительно редкий дар и голос. И готов был и просто говорить с ним часами, слушая его интереснейшие рассказы о здешнем житье-бытье, о себе, о других сказителях, вообще о жизни, поражаясь тому, как глубоко и мудро он ее понимает. Записывать былины стал потом и записал все двадцать девять, которые знал Рябинин. Многие тысячи бесподобных стихотворных строк, самых, как в конце концов оказалось, совершенных в русском эпосе. А дальше был тоже во всех отношениях удивительный и многозначительный, высокий и хмуроватый на вид человек с длиннющей белой бородой и дивной фамилией — Щеголенок. Василий Петрович. «Очень мыслительный» — говорили про него. И верно: о чем ни спросишь, обо всем имел свое мнение, обо всем раньше явно думал. Когда молчал, брови всегда насупленные, взгляд отсутствующий, а запоет или заговорит — просветлеет, как ребенок, и зальется действительно, как восторженный щегол-щеголенок. Птичка-то эта очень щеголеватая. Помимо былин Василий Петрович знал великое множество преданий, притч, легенд, и своих собственных интереснейших рассказов у него было полно, но Гильфердинг их не стал записывать, хотя слушал с огромным удовольствием, снова и снова удивляясь, до чего же мудры, многознающи и талантливы эти мужики. Щеголё-нок ведь даже и читать не умел. И отец его не умел, а, по рассказам, тоже был великолепный сказитель. И дядя тоже. Обезноживший калека, он сорок лет просидел в углу их избы у крайнего окна, сапожничал и пел —односельчане любили его слушать, часто приходили. 232 Сказительницы М. и П. Крюковы А за Щеголёнком был совсем уже старый-престарый, но все еще певший былины дядя Рябинина — Игнатий Иванович Андреев, по-прежнему живший в деревне Гарницы. У него Гильфердинг, помимо былин, записал и рассказы о бывших тут, на острове Кижи, и в ближней округе прежних сказителях: слепом калике перехожем из Андомы Мине Ефимове, калике же перехожем Ме233 щанинове, знавшем целых семьдесят былин, о необыкновенно голосистом Кононе с Зяблых Нив. Как о подлинных беззаветных подвижниках о них сказывал, почти что тоже пел складно-складно. Потом записывал совсем нестарого Кузьму Ивановича Романова. Потом Терентия Иевлева... И все лето, три месяца пролетели как один день. Всегда работал не покладая рук, но так, как здесь, никогда еще не работал. Даже спать не мог, не хотел, и более четырех-пяти часов ни разу и не спал. И все три месяца был безумно счастлив. Потому что еще с юности чувствовал, что должна где-то в России быть какая-то совершенно светлая, высокая, радостная, настоящая жизнь, не может ее не быть там, где слагаются такие глубокие, такие душевные песни и старины и творится такая сказочная рукотворная красота в избах, в церквах, во всем остальном. Но годы уходили и уходили, а он ее все не встречал и не встречал — и вот наконец-то встретил, встретил именно таких людей, живших именно так и на такой несказанно красивой земле,— и каждый день стал для него радостным праздником, каждый день был как подарок, каждый день с великими откровениями и открытиями. Сам как будто совершенно новую, счастливую жизнь начал. Шел и шел ликуя из деревни в деревню, стучался и стучался, замирая от радостных предвкушений, в новые и новые двери, любовался каждым новым лицом, влюблялся во всех, кого узнавал поближе. Если бы не дожди, зарядившие в конце августа и расквасившие дороги, еще бы походил и поездил. Пришлось свернуться. Триста восемнадцать былин записал самым скрупулезнейшим образом, в том числе все рыбниковские от тех самых сказителей. Павел Николаевич ни в чем не погрешил. И десятки их биографий записал намного подробней, чем это сделал Рыбников. По существу, составил первый в нашей истории обзор подобных певцов и тем самым увековечил их. От них же узнал, что и в других северных краях есть такие же сказители, зовущиеся там чаще всего старинщиками. Но где да где именно, в точности никто сказать не мог. — Да небось везде — как иначе-то! Потому-то, как только отошла следующая весна, Александр Федорович Гильфердинг и оказался в Каргополе. Это был май с буйно цветущими черемухами, вы234 белившими все вокруг и с их дурманными запахами. Были входившие в силу завораживающие белые ночи. За полторы недели он объездил каргопольские окрестности, верст за пятьдесят забирался, нашел, кого искал, и уже решал, с кого начинать, в какую деревню перебраться на постой. И заболел тифом, хотя никаких тифозных в округе вроде бы не было. Болел тяжко. Почти две недели в непрестанном огне и бреду. И все же, приходя ненадолго в сознание, все равно всякий раз радовался, что нашел еще, что есть еще... есть... есть... КОКЛЮШКИ С КОПЕЕЧКАМИ Есть на свете так называемая филейная вышивка. Это когда узор вышивается на ткани с частично выдернутыми нитками, то есть как бы на сетчатом поле. Родилось это рукоделие много-много веков назад, популярно по сей день и кое-где в старину даже называлось кружевом. Но настоящие кружева появились все же позже, на исходе пятнадцатого века, в Венеции, и поначалу несколько смахивали на филейные вышивки. Только и сетчатое поле и рисунок хитроумно шились прямо иглой безо всякой тканой основы. А по контуру в узоры вшивали конский волос, отчего они получались рельефными, а все кружево очень упругим. Они были столь красивы, эти первые венецианские кружева, что ими в считанные годы заболела вся Италия. Рисунки для них делали лучшие художники, а это ведь были времена великого Возрождения, и вы знаете, как владели тогда своим искусством итальянские художники. А в шестнадцатом веке началось нечто такое, чем не может похвастаться больше ни одно из прикладных искусств. Из Италии по Европе,— а некоторые утверждают, что одновременно и из Нидерландов,— словно великая кружевная чума покатилась. Их носили в виде высоченных и широченных воротников и манжетов, из них шили богатейшие женские платья и накидки, ими густо Украшали мужские камзолы и облачения священников, обрамляли шляпы, ботфорты, перчатки и всякое белье, ими обивали мебель, кареты, даже стены гостиных и спален. Два, нет, почти три века любой европеец, а позже и русские господа даже и не представляли себе, как это можно прожить без кружев, они считались такой же первейшей, почти естественной необходимостью, как 235 еда, как обувь или воздух. Тогда никому и на ум не приходило, что это всего лишь мода. По кружевам сходили с ума, на них разорялись, кружевные вопросы обсуждали государственные советы, короли, кардиналы и министры. За кружева заточали в тюрьмы, били плетьми и отрубали головы. Кружева, как утверждают, даже спасли от нищеты целый народ, целое государство — Фландрию, современную Бельгию. И хотя в конце шестнадцатого и в семнадцатом веках их производилось уже огромное количество, лучшие из них по-прежнему стоили так дорого — иные плелись ведь по году, по два и более,— что король испанский Филипп III запрещает своим подданным вообще носить кружева, дабы люди больше не разорялись вконец на пристрастии к этому украшению. Карл V повелевает учить в Нидерландах кружевоплете-нию поголовно все население, включая мужчин. В Англии усаживают за подушки всех мальчиков. Русь столь дикие страсти, слава Богу, обошли стороной, но появление настоящих кружев происходило в общем-то похоже. Впервые же о русских кружевах упоминается в Ипатьевской летописи под 1252 годом, и названы они там златыми — ими был обшит кожух князя Даниила Галицкого. Потом их описания попадаются в исторических документах довольно часто и почти всегда с такими вот эпитетами: кованое, плетеное, шитое, пряденое, волоченое, низаное, саженое жемчугом. «Нигде мы не находим такого разнообразия и богатства материалов для кружев, как в России. Употреблялись волоченое золото и серебро, сканое и пряденое с шелком, золотая и серебряная нить, или канитель, и разного рода так называемые блестки, звездки и проч. Были кружева саженые и низаные жемчугом и перьями, и пухом, и горностаем. Кружевоплетение же называлось у нас в старину «женским замышлением», а сами кружевницы — «плетеями». И еще одна особенность русского кружева: оно вплоть до двадцатого века разделялось на заимствованное — для господ и свое — народное, не менее распространенное. Причем «кружева, бывшие в употреблении у самого народа, оказываются в большинстве ниоткуда и ни от кого не заимствованными, такими кружевами, которых происхождение не может быть выведено ни из каких чужеземных образцов». Это свидетельство самого крупного специалиста по русским кружевам Софьи Александровны Давыдовой. 236 Да вот вам хотя бы названия некоторых наших кружевных узоров. Вслушайтесь в них! Вдумайтесь! Павлинки. Дубовый лист. Корабли. Протекай ручей. Барабаны. Денежки филейные. Лапти. Брошки-пышкигорода. Вертячий край. Розы. Колуны. Бараньи рожки. Блины. Вороньи глаза. Города старинные. Красные мыса. Куриные лапки. Огурчики. Пава за павой. Пальцы. Пышечки. Рак-замок. Рябушка. Сосновый бор. Суровые колеса. Узенька-перевенька. Черепочки. Яблочки. Четырнадцать рыбок. Узкие узятки... Чем же людей так сильно привлекали, притягивали эти украшения? А вы посмотрите на любое женское платье, отделанное кружевами. Даже если их совсем немного, какая-нибудь узкая оторочка — и то это платье выглядит нарядным. А если кружев побольше — воротник, жабо или манжеты, например,— уже не важен и фасон платья, оно в любом случае очень торжественно, красиво и празднично. И чем их больше, тем больше ощущение праздника. Да вспомните мушкетеров и их наряды в обильных кружевах. Ведь, право же, они воспринимаются как участники какого-то грандиозного и бесконечного бала-маскарада, хотя были всего лишь солдатами. А персонажи знаменитых полотен Рубенса, Веласкеса, Франса Гальса, Ван-Дейка, наших Боровиковского и Левицкого: короли, царицы, полководцы, фрейлины, торговцы, служанки, шуты, пьянчужки... Разные сословия, разные лица и обстановка, но впечатление такое, словно жизнь каждого из них тоже была похожа на сплошной красивый праздник. Но ведь это не так. Жизнь в те времена отличалась средневековой грубостью, была полна нищеты, насилия и жестокости, и не только для неимущих классов. Но люди не хотели замечать этого. Не просто красота и нарядность, а именно праздничная красота и нарядность — вот главные свойства любого кружева, его существо. И пока люди ищут радостей, они будут увлекаться кружевами. Но, чтобы сплести кружево, нужны нитки, в основном льняные, тонкие. Ни одна сельскохозяйственная культура не требует столько труда, сколько лён. Мало что его надо посеять во влажноватую, но уже теплую землю,— попробуй, захвати такой момент, когда еще и других весенних полевых работ невпроворот. Мало того, что его надо пропалывать от лютых сорняков,— когда поспеет, его ведь еЩе и не жнут, не косят, а теребят, а попросту говоря, выдергивают из земли вместе с корнями, и до недавнего 237 времени это делали только вручную и только ребятишки и женщины, потому что мужчины об эту пору всегда заняты на уборке картошки. Посушат лён немного в конусах и в маленькие снопики свяжут. Потом под навесы свезут, развешают там для дальнейшей сушки. Потом обмолотят, кто вальками, которыми белье при стирке бьют, а кто цепами или каменными катками — получат льносемя. А тресту — так называется льносоломка — обратно в поля свезут, на скошенные луговины, где уже пробилась зелененькая отава. Расстилают на ней ровными тоненькими рядами-полосами — чтобы вылежалась и вымокла под осенними сырыми температурными перепадами и дождями, внутреннее волокно от этого отопревает от наружного ненужного слоя стебля — костры. Как стебель становился хрупким, тресту снова ставили в конуса для просушки, снова везли под навесы, снова досушивали. На стлищах и первые разборы волокна делали — по длине и прочности. Потом — это уже в холода — тресту мяли: чаще всего вечерами да ночами, когда со скотиной развяжутся, чтобы не отрываясь, быстро все справить, не дать просушенному волокну «остыть», снова отсыреть. Мялки у большинства были допотопные: деревянный желоб на ножках, к которому прикреплено ножевидное деревянное же било с ручкой,— сунут в желоб пучочек и бьют по нему, мнут его, чтобы кострика, твердая оболочка, отделилась. Потом все те же женщины и девушки (мужчины льном не занимались) мечевидными дощечками — трепалами освобождали уже подвешенные волокна от остатков кострики и грубых частиц (отрепьев), идущих на пряжу для мешковины. Потом железными «щетьми» — деревянными дощечками с набитыми в них железными зубьями — чесали лён в первый раз. Потом, уже щетинными щетками или деревянными малыми гребнями — во второй, и получали наконец совершенно чистое волокно — кудель. Из кудели, одеваемой на гребень прялки, женщины и девушки и выпрядали зимними вечерами тонкие льняные нитки. Левой рукой вытягивали волокно из кудели, скручивали его, а большим и указательным пальцами правой руки накручивали уже готовую нитку на веретено. Прясть приходилось невероятно много, все зимние вечера напролет, да и днем, кто мог, пряли — нитки ведь шли и на ткание главного материала русской деревни— холста, и на многое другое. И если бы девушки и женщины не собирались на супрядки, не пели и не судачили и к ним бы не приходили парни с музыкой и всякими развлечениями этот долгий, монотонный труд 238 утомлял бы страшно. А так ничего — часы летели за часами, до вторых и третьих петухов нередко сиживали. А в рационалистской Европе-то знаете что придумали?Во Фландрии вообще считали и поныне считают, что кружевоплетение родилось не в Венеции, а у них. Во всяком случае, самое ныне распространенное плетете — на коклюшках — появилось действительно впервые там. Главная же особенность фламандских кружев — их необыкновенная, почти воздушная тонкость и всегда очень изящный рисунок на так называемых снежных, мерцающих звездочками фонах. На полях Фландрии и Брабанта произрастал лучший в Западной Европе лён; видимо, сказывалась их открытость близким влажным морским ветрам. Однако сами фламандские и брабантские крестьяне из своей тончайшей кудели никогда ничего не пряли, ни ниток, ни кружев. Чтобы не смялась, укладывали ее аккуратными кольцами в овальные плетеные корзины и везли в Брюссель или в маленькие городки Малин и Бенш. Тесные, сплошь кирпичные улицы. Кирпичные мостовые. Дома узкие, в два-три этажа, с островерхими черепичными крышами. Окна зарешеченные, высокие, широкие, света давали много, но тепла внутри домов из-за обилия камня было все-таки мало. Под такими домами устраивались глубокие подвалы. Очень глубокие, чтобы в них непременно постоянно держалась сырость, чтобы стены и низкие сводчатые потолки были липкими, а сальные свечи задыхались от влаги и вокруг них плавали бы мутные желтоватые ореолы, не способные даже поколебать густую темноту, набившуюся в углы. Чем сильнее из этих углов несло холодом, чем быстрее человека пробирал здесь озноб, тем подвал считался лучше. Это были знаменитые фламандские прядильни, в которых работали только очень молодые девушки и девочки, иногда восьми, десяти лет, а чаще всего двенадцатичетырнадцати. В сырости льняная кудель пропитывалась влагой, волокна становились очень эластичными, и нитки можно было сучить наитончайшие. Они не обрывались даже тогда, когда их почти не было видно — совсем как паутина. Осязать, скручивать волокна в такие нитки могли лишь нежные, еще не огрубевшие детские и девичьи руки, которых с каждым годом требовалось все больше и больше, потому что слава фламандских кружев начиналась именно с этого паутинного сырья. Из Других ниток тут просто не плели. 239 Но вы представляете, что значило продержать еще не окрепшего физически ребенка в таком подвале несколько лет. Ведь там после двух часов работы и дышать-то становилось трудно, и не то что ниток, а и лиц сидевших в отдалении нельзя было различить за плавающими желтоватыми ореолами. Монотонно скрипели педали, монотонно мелькали спицы в колесах самопрялок, монотонно звучали негромкие голоса, монотонно сновали от катушек к кудели и обратно маленькие бледные бескровные руки, которым бы еще в игрушки играть. От силы пять-семь лет выдерживал юный организм такую каторгу — большинство умирали... Все снаряжения русской плетеи-кружевницы — деревянные козелки, на которых лежит похожая на бочонок туго набитая опилками или мякиной жесткая подушка из плотной ткани. На нее крепится рисунок узора, в который втыкаются булавки, а к ним привязываются концы ниток, намотанных на коклюшки. Коклюшки — это гладкие, чаще всего кленовые палочки с углублениями на концах, что-то вроде длинненьких катушек. Держат коклюшки парами и все время ловко, прямо в ладонях перекручивают их, перевивают две нитки между собой, и одновременно перекидывают, перевивают пары, зацепляя плетенку все за новые и новые булавки, определяющие основные точки узора. Чем кружево сложнее, тем больше требуется коклюшек, иногда до восьмидесяти пар, до ста. Но в основном — тридцать, сорок. Скорость, или, как говорят кружевницы — спорина, важнейшее условие в их работе, у большинства коклюшки летают так, что за ними не уследишь. Летают и при этом часто мелодично постукивают, клен ведь дерево легкое, певучее, поэтому его и используют. А у некоторых к торцу каждой коклюшки еще прибиты крошечными гвоздиками свободно болтающиеся копеечки, которые нежно, прозрачно позванивают, и это похоже на веселое чиликанье целой стаи воробьев. Представляете, за окнами ночь, трескучий мороз, снег по колено, а в избе — весеннее воробьиное чиликанье. В России существовало четыре основных типа кружев: русское сколочное, немецкие вилюшки, сцепной манер и численные. Сколочное — от сколка, рисунка, закрепленного на подушке, по которому многими парами коклюшек одновременно выплетали и узор, и мелкую сетку фона. Сцепное и немецкое — тоже по сколкам, но раздельно: сначала плели узор, затем сетку, все немногими парами, а затем сцепляли все при помощи тамбурного шва. 240 Численное же плелось без всякого рисунка, кружевницы просто отсчитывала одинаковое число разных переплетов, и у нее бесконечно повторялся один и тот же узор. Эти кружева называли еще мерными, и они у нас самые старинные. Центрами русского кружевоплетения были Вологда, Елец, Мценск, Михайлов на Рязанщине и слобода Кукарка Вятской губернии. Это все с округами, конечно. Плели их и в других местах: в Балахне, в Тульской губернии, Московской, Петербургской, Тверской, но уже не в таких масштабах. Причем у Михайловских была своя особенность: нитки на них шли не тонкие, как в других местах и в Европе, а толстые, пухлые, в основном шерсть домашнего крестьянского кручения, отчего кружево получалось плотным и ворсистым, как дорогая тяжелая ткань. И чаще всего оно было цветным: обильное красное сочеталось с яркими синими вкраплениями, с зелеными, желтыми, белыми. Специалисты считают, что михайловское кружево самое древнее у нас, что по характеру и рисунку оно точно такое же, какое в древности на Руси плели из металических нитей, а затем унизывали жемчугом, перьями, блестками и нашивали на душегреи, шубы, шапки. Удержалось на Михайловской земле это цветное кружево лишь в силу удивительного пристрастия здешних крестьян к нарядным одеждам. Один старик из села Стубло еще в середине девятнадцатого века хорошо объяснял: «У нас мода вот так: из последнего бьются, а не уступят друг дружке». Крестьянки, все как одна, обшивали тут подол верхней сорочки пестрыми узорными полосами, вытканными из разноцветных шерстей и обрамленными по низу кружевами с цветными разводами. Фартуки, по-старинному «занавески», делались тут только кружевные, с рельефным красным рисунком, с вставками из кумача и цветных ситцев. И каждая девушка и женщина, конечно, старалась чемнибудь да от другой отличиться, так что разнообразие в узорах было сплошное. Крепостных-то здесь не было, числились государственными, жили получше. А в Вологде в начале девятнадцатого века никому и в голову не могло прийти, что их город вскоре невероятно прославится по этой части и кружевом здесь будут заниматься многие десятки тысяч человек. Плели себе До той поры женщины да девчата в крестьянских избах и мещанских домишках немудреные мерные узятки да 241 городки в основном для собственных нужд да некоторые совсем немножко на продажу. Богатые, тонкие немецкие сцепные кружева изготавливались только в барских поместьях, где крепостные мастерицы и дивный валансьен умели выплетать, и бланш, и малин. Кружева везде носят названия породивших их городов. Некоторые господа держали десятки мастериц, целые мастерские, на продажу работали, нитки из Фландрии и Франции выписывали. Простой же люд довольствовался своим, привычным. И еще вологжане очень любили расшивку по перевити атласником: узор из нитяной тесьмы, нашитый на ткань, «поле» которой затем частично продергивалось, превращалось в сетку. Это старинное рукоделие, похожее на филейную вышивку, бытовало и в других местах, но на Вологодчине узор делали особенно плавным, как песня. То есть действительно и в орнаменте шли от своих, северных песен и от традиционного, тоже ведь в основном напевного русского узорочья. И вдруг вологодская мещанка Анфия Федоровна Брянцева взяла да и выплела такую же белую тесьму на коклюшках, а фон сделала звездочками-снежинками — получилось необычайно красиво. И главное, ни на какое другое кружево не похоже. Стала таким ленточным узором выделывать косынки, тальмы, покрывала для подушек и даже целые платья. С чьей-то легкой руки эту манеру назвали вологодской, а саму ленту вилюшкой. Вскоре к делу подключилась и дочь Анфии Федоровны — Соня. Коклюшки взяла в руки пятилетней, а в де-сятьдвенадцать уже мало чем уступала матери. Слово опять Софье Александровне Давыдовой: «Только русское кружево (мерное) и сцепное могут служить образцами местного типичного плетения. Все же остальные кружева вырабатывались постепенно трудами Брянцевых, которые пользовались настолько же каждым новым, занесенным в Вологду образцом, настолько и своей личной, весьма богатой фантазией, чтобы вносить как можно больше разнообразия в свое рукоделие... В начале шестидесятых годов Брянцева надумала выплетать женские воротники с длинными концами, и мода эта так привилась, воротники так понравились, что выдумщица Брянцева, исполняя многочисленные заказы, стала зарабатывать в день до 60 копеек (а обычно хорошая мастерица получает не более 20—23 копеек)». 242 К ней стали приходить знакомые и незнакомые, просили обучить новой «вологодской манере плетения». Приводили дочерей, и они вместе с Соней никому не отказывали, сначала обучали только городских по вторникам и четвергам; пять-шесть уроков — и перерыв, пока девочки дома усваивали пройденное, потом снова уроки. С детей состоятельных родителей Анфия Федоровна брала по пятачку в день. Бедные же расплачивались стаканчиком ягод или каким-нибудь лакомством — мать и дочь любили сладкое. Потом нахлынули желающие из ближних и дальних деревень. С крестьянских детей Брянцевы уже ничего не брали. Жили девчушки у родственников или по углам. К десяти утра сходились с узелками, в которых кусок хлеба, соленый огурец или вареная картошка. В час дня подкреплялись и до 4—5 опять плели. Взрослых ходило тоже много: с двенадцатилетних девчушек до сорокалетних женщин — все вместе. «В течение многолетней деятельности Брянцевой у нее перебывало не менее 800 учениц, получивших возможность зарабатывать себе насущный хлеб. Пример этот единственный в летописях кружевного дела, заслуживающий самого большого внимания, тем более что преподавание плетения кружев предлагалось так бескорыстно лицом, сильно и постоянно нуждавшимся в средствах к существованию». Давыдова подчеркивает очень важное обстоятельство: Анфия Федоровна и Софья Петровна Брянцева не просто обучали кружевоплетению,— это вологжанки умели и до них,— они обучали именно своей, новой вологодской манере, которая вскоре и превратила Вологодчину в один из самых знаменитых и самобытнейших центров не только российского, но и мирового круже-воплетения, ибо вилюшечный, плавный, мягконапевный узор Брянцевых действительно ведь всегда подобен дивной северной песне: Ты послушай, млада-милая, Ты в остатнее, во последнее: Ты не езди за забыть-реку, Ты не пей-ко забытной воды. Ты забудешь, млада-милая, Ты свою родную сторону. Ты забудешь, млада-милая, Ты меня да горюшиночку Со своим да малым детушкам. Ох, охти мине тошнешенько, Моему да ретиву сердцу... 243 Тут я, сирота, догадалася, Горюша, я сдомекалася, Что сыру бору не выгаревать, Синю морю не высыхивать, Не плыть камню по поверх воды, Не бывать моей милой-младе По поверх земли... Видите, какой богатый и ритмичный словесный узор, какая пронзительная поэзия! А ведь это очень печальная песня-причет молодой вдовы... «Несмотря на крайне усидчивую работу в течение всей жизни, почтенная Анфия Федоровна и на 73-м году плела тонкое кружево, вышивала атласники, выделывала всевозможные ажуры на довольно тонком полотне, сама рисовала и даже колола сколки. Все-то она делала с помощью очков, которые, между прочим, чаще всего носила на лбу». И вот любопытные цифры: к 1880 году на Вологодчи-не насчитывалось 1100 кружевниц, работавших на продажу, и общий их заработок равнялся 25 тысячам рублей. А в начале двадцатого века там уже было 39 тысяч мастериц, и зарабатывали они в общей сложности один миллион 348 тысяч рублей. За тридцать неполных лет промысел вырос в тридцать с лишним раз. И Брянцевы были одной из важнейших причин этого. Ведь мода на их кружева росла в России как снежный ком с горы. А на все обзаведение для выработки кружев девушке или женщине требовалось всего один рубль тридцать копеек: заказать козелки и коклюшки, сшить подушку да купить материал — нитки. Самое доступное обзаведение было для приработка-заработка. «В настоящее время,— писал публицист Н. Шелгунов,— кружево плетет почти вся Вологда, или, точнее, все население вологодских чердаков и подвалов или первых этажей. С 8 и до 12 ночи работают, а то и по 20 часов. Заработок же 20 копеек, 25—30 — уже большой. Цены на отечественные кружева в России почему-то до дикости низкие, в десятки раз ниже, чем на заграничные. Бывают случаи, когда кружевничество служит единственным средством существования... Такое кружевное несчастье — это гордое нищенство, не просящее милостыни». Но людям кружевницы несли только радость, делали их празднично-красивыми. Очень много труда для развития русского кружевоплетения положила и сама Софья Александровна Давыдова. 244 Типичная женщина-подвижница семидесятых годов, она не просто первой в России занялась его изучением и описанием. Главным для нее была работа в разных комитетах и комиссиях по поддержке и развитию кустарной промышленности. Поездив по провинциальным городкам России, по бесчисленным, прикрытым соломой деревням и селам, перезнакомившись с тысячами кружевниц крестьянок и мещанок, эта петербургская госпожа в модных шелках не только умом, но и сердцем своим постигла всю тяжесть жизни народной. И потому рядом с историческими, художественными и экономическими изысканиями, рядом с восхищением беспредельной талантливостью русского простого человека на страницах ее книг то и дело встречаются строки, похожие на крик: «Люди! Помогите же русским плетеям! Помогите этим гордым нищим, не просящим милостыни!» Софья Александровна составляла очень обстоятельные руководства для занятий разными рукоделиями, участвовала в создании специальных складов по сбыту кружев, избавлявших мастериц от алчных перекупщиков. Больше же всего труда она положила на учреждение первой у нас школы кружевниц, которая, по ее проектам, должна была готовить руководительниц кружевоплетения в разных далеких уголках России. Когда такая школа, поименованная Мариинской практической школой кружевниц, была наконец открыта в Санкт-Петербурге и ее выпускницы сделали свои первые шаги на местах, кружевная промышленность России всколыхнулась и пошла набирать силу так, как никогда не набирала. О Вологодчине уже говорилось. Почти в три раза увеличилось число кружевниц в Орловской губернии, в Мценске, Ельце, их там стало 34 тысячи. С 7 тысяч до 14 вырос отряд мастериц Михайловских на Рязанщине. А всего по стране их насчитывалось более ста тысяч. Существенно выросли и заработки. И главное, все более яркий и самобытный характер поиобретали сами русские кружева: вологодские — напевно-поэтический, елецкие — утонченнопрозрачный, вятские-кукарские — заостренно-энергичный, Михайловские — простодушно-веселый. А отличие их всех от западных состояло в том, что там все делали как можно сложней, пышней и орнаментально натуралистичней, чтобы непременно поразить человека, а у нас старались высветлить и согреть его Душу сказочнодивным узорочьем. 245 ЧАСТУШКИ А где-то в те же времена, в каких-то деревнях — были же, несомненно были такие деревни,— где парни и девки первыми начали петь коротушки или матани, то есть коротенькие припевки, гуляя вечерами и ночами по деревням или гужуясь и танцуя на молодежных пятачках понад реками или на сельских площадях. До этого-то их пели только когда плясали или приплясывали, подзадоривая, вызывая друг друга на посиделках, на вечеринках и в праздники. Но теперь пореформенная жизнь деревни менялась, как говорится, не по дням, а по часам. Шел великий отток молодежи, и не только молодежи, в города и в рабочие поселки на постоянное жительство. Гигантский размах приобрело отходничество, в некоторых селах и деревнях в зиму из мужиков оставались одни старики — кто уходил в другие края рубить-ставить избы и церкви, кто класть дома и церкви из кирпича, кто шить-починять, кто в возчики-извозчики, кто в трактирные половые. А по весне, к полевым работам весь этот народ валом валил обратно, чтобы вспахать, посеять, вырастить, убрать хлеб и все прочее, заготовить сена и дров и к зиме — снова уйти в города. Ехали громыхающими чугунками, раскисшими трактами на ямских или случившимися попутками, но больше-то, как всегда, топали на своих двоих. И вместе со старательно запрятанными в подкладки заработанными ассигнациями, вместе с обязательными нехитрыми гостинцами всем домашним отходники, конечно же, приносили с собой по весне массу всяких впечатлений и новостей. Да и зимами от них теперь нет-нет да и приходили разные новости в письмах и с оказиями. Они и сами-то, мужики и особенно парни, становились совсем иными. Сам ритм жизни, в том числе и деревенской, стал иным. А вместе с ним и многие развлечения-увеселения. Не будешь же заводить на сборище на пятачке какую-нибудь долгуюпротяжную да с медленными ручейками-хороводами, когда у парней, а стало быть, и у девок душа совсем иного просит, горит и клокочет, разлету хочет. Отвыкли они уже от медленности, неторопливости-то. Потому, думается, и перешли на короткие припевки, которые в разных местах называли по-разному и в которые, как оказалось, легче всего было вкладывать, делать певучими складушками-ладушками все что угодно, любое событие, любое чувство и желание, даже то, что 246 случилось только что, и то можно было сочинить и пропеть тут же. То ли ты ли из бутылки, То ли я ли из ведра, То ли ты меня не понял, То ли я не поняла. Частушками эти коротенькие стреляющие песенки назвал в 1889 году Глеб Иванович Успенский в статье, в которой первым попытался определить, что же это за новое диво родилось в нашем народе. Название, как видите, точнейшее, хотя до того так называлась ставная мелкоячеистая сеть для мелкой рыбы. Они взаправду ведь частые, под стать убыстрявшейся жизни. Я частушку на частушку, Как на ниточку вяжу. Причем Успенский констатировал уже очень широкое их распространение. А двадцатью годами раньше их не было. Развитие почти фантастическое. Повсеместно, во всех деревнях, селах, рабочих поселках, предместьях и слободах их запели, и в основном ведь везде собственного сочинения, на собственные темы. Да, были определенные образцы, принципы построений, были общие излюбленные темы, но ведь их тоже родили, сочинили в каких-то деревнях или слободах совсем не Богом избранные особые таланты, а самые что ни на есть обыкновенные девки и парни, бабы и мужики на гуляньях и гужеваньях. Местные же, злободневные частушки рождались ежедневно, и невозможно даже вообразить, сколько же их было всего-то, какие великие миллионы — конечно же миллионы!! — и сколько среди них попадалось вот таких: Слезы падали на камни, Камни рассыпалися. Или: Отрубите руки-ноги И отрежьте мне язык, Не скажу, в какой деревне Есть беременный мужик. 247 Или: Синие глазёночки Стояли у сосёночки. Ведь записаны-то из великих миллионов редчайшие, случайные единицы, ибо никому долгое время даже в голову не приходило их записывать, однако и среди них, конечно же, было полным-полно таких же потрясающих, а то и просто гениальных. А это значит, что и поэтическим даром Господь одарил в России не только отдельных избранных, но весь народ, ибо наши частушки воистину такое же общенародное творчество, как деревянное зодчество, как иконопись, как шитье и резьба, и подлинных талантов ив этом бессчетное множество. Меня бедную оставил Как полынь на полосе. Понапало много горя, Словно инея в лесу. Сотворил меня Господь, Сам расхохотался: «Я таких-то дураков Творить не собирался!» ПЕСНИ Все больше становилось школ. Быстро развивалась печать, книги становились дешевле и доступнее, выпускалось множество газет и журналов. Появилась литография, позволявшая выпускать цветные картинки лучшего качества и любыми тиражами. Издавались специальные дешевые книги для народа, начало которым положил еще Некрасов, выпускавший так называемые «красные», копеечные книжки. По-прежнему гигантскими тиражами печатались лубочные картинки и лубочные книжки с множеством картинок. И в них, как и в нелубочных изданиях, были теперь в основном уже произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Никитина и других крупнейших писателей, и прежде всего, разумеется, произведения о самом народе и для народа. И репродукции с картин виднейших художников издавались большей частью такие же. 248 То есть господская культура, господские искусства к концу девятнадцатого века делали уже все что могли для сближения с народом. Ну а он? Любопытнейшее свидетельство оставил крупнейший русский книгоиздатель, в том числе и издатель лубочной продукции, Иван Дмитриевич Сытин: «Знаменитый художник Виктор Михайлович Васнецов дал для Никольского рынка картину «Страшный суд» (с Лубянки основной оптовый рынок лубочной продукции переместился в то время на Никольскую улицу Москвы, по соседству с бывшим Печатным двором), но не только не затмил прежнюю, старую картину, написанную на ту же тему неведомым художником, но даже не повлиял на ее сбыт. Старая картина нравилась больше новой... Хотя... рядом с неведомым наивным рисовальщиком прошлых столетий, изобразившим «Страшный суд», Васнецов кажется настоящим исполином. Но вот деревня прошла мимо исполина и почему-то тянулась к старому, привычному. Наша фирма делала эти опыты неоднократно и привлекала к лубочной работе самых прославленных, самых талантливых художников. Но результаты почти всегда были одни и те же. Очевидно, есть в народном вкусе своя устойчивость, которая слагалась веками и от которой народ отказывается нелегко». И с произведениями Пушкина, Гоголя и других великих, особенно с прозой и особенно с сочинениями менее талантливых, нарочито подставившихся под народные, происходило нечто весьма любопытное. Читать-то их читали. Тиражи Пушкина и Гоголя у того же Сытина были стотысячные, тоже, естественно, дешевые, но отличного качества, и расходились прекрасно. Однако в устную литературу — разносимую устно — ни одно их прозаическое произведение так и не попало. А эта литература, как вы видели, была по-прежнему главной, основной у народа, и все, что всерьез ложилось ему на ДУшу, что он действительно принимал и признавал,— все это непременно всегда попадало в устную литературу- Пусть переиначенное, переделанное — но непременно. А тут — ничего! То есть картина практически та же самая, что с васнецовским «Страшным судом». А вот песни попали, причем очень многие. «Среди долины ровныя», «Не шей ты мне, матушка», «Из-за острова на стрежень», «Не брани меня, родная», «То не ве249 тер ветку клонит», «Однозвучно звенит колокольчик», «Ой, полна, полна коробушка», «Степь да степь кругом», «Что стоишь качаясь»... Они ведь все тоже авторские, все с печатных страниц и с лубочных листов. И можно назвать еще десятки столь же популярных и любимых и по сей день песен того же происхождения. Почему же их-то народ брал? А если быть совсем точным, то только их ведь и брал. А давайте вглядимся, вникнем в эти песни. «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» написана, как уже говорилось, Николаем Григорьевичем Цыгановым — сыном крепостного крестьянина, талантливейшим самородком, который стал бродячим актером,— в старину наверняка бы был скоморохом,— собирал народные песни, особенно волжские разбойничьи, был за талант взят в Малый театр, прекрасно пел и играл на гитаре и зачастую сочинял свои песни прямо с гитарой в руках— импровизировал. И если кто-нибудь из друзей не записывал их тут же, они нередко бесследно исчезали — сам Николай Григорьевич записывал лишь немногие. «Не брани меня, родная» — автор Алексей Ермилович Разоренов. Крестьянский сын села Малое Коломенского уезда Московской губернии. Поэт-самоучка. Бродяжничал, служил в театре статистом, был лакеем, разносчиком мелких товаров, приказчиком, в конечном счете обзавелся в Москве овощной лавкой, которую превратил в своеобразный клуб, где собирались московские поэты-самоучки. Перед кончиной, недовольный своими творениями, которые между тем вовсю распевались, сжег все рукописи. «Что стоишь качаясь», «Степь да степь кругом», переделанная из народной «Степи моздокской» — это Иван Захарович Суриков. Он из деревни Новоселово Углицкого уезда Ярославской губернии, и первые годы, как известно, подписывал свои стихотворения почти так же, как Голышев,— «крестьянин И. 3. Суриков», он же не был крепостным. Работал в типографии, торговал, жил перепиской бумаг. Создал знаменитый Суриковский литературно-музыкальный кружок, объединявший, как и разореновский, поэтов из народа. А всего прожил тридцать девять лет. Самый любимый песенник своего времени. Двадцать три его стихотворения положены на музыку только крупнейшими профессиональными композиторами, а безвестных народных музыкальных сочинителей песен на его слова было в несколько раз больше. 250 И Кольцов и Никитин, песни которых пользовались огромной популярностью, были, как вы знаете, из народа. И «Живет моя зазноба в высоком терему» написал крестьянин села Писцово Костромской губернии Сергей Федорович Рыскин. А «Однозвучно звенит колокольчик» — крестьянин Иван Иванович Макаров. Самое же показательное, что и поэты не из народа, песни которых стали народными, как выясняется, все до единого увлекались, собирали, любили, да просто жили русскими народными песнями. Автор «Среди долины ровныя» — профессор Московского университета Алексей Федорович Мерзляков — собирал их. Съедаемый чахоткой, недоучившийся студент, пробавлявшийся в Симбирске домашними уроками и стихотворными переводами, Дмитрий Николаевич Садовников собрал чуть ли не все волжские разбойничьи песни и сам написал целый разинский цикл, в том числе и «Из-за острова на стрежень». Нет нужды говорить о том, как изучал и знал народное творчество Николай Алексеевич Некрасов, двадцать стихотворений которого ушли в народ песнями: «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Меж высоких хлебов затерялося», «Ну пошел же, ради бога», «Ой, полна, полна коробушка»... Причем некоторые из них ведь всего лишь части каких-то больших его стихотворений и поэм, народ сам вынимал их оттуда, иногда и переиначивал, сочинял мелодию и пел как совсем свое. А своей для народа у всех перечисленных поэтов была образность, сугубо народный многовековой поэтический образный строй, который одни — Разоренов, Суриков, Кольцов, Рыскин — впитали с молоком матери, а другие — Мерзляков, Садовников, Некрасов — обрели чутьем и знаниями, но и те и другие соединили с профессиональной поэзией. То есть фактически они создавали все те же народные песни, только в более отточенных формах. И это получалось уже не сближение господского и народного — это стало первым истинным слиянием того и другого. Именно в песне. Ибо интеллигенция, господа любили и пели их так же, как народ. Это уже были песни всех. Кстати, тогда же из самого народа пришли и стали общенациональными такие песни, как «Глухой неведомой тайгою», «Вот мчится тройка почтовая», «Далеко в стране иркутской», «Липа вековая». Тоже ведь потрясающие, но, как всегда, без авторов... 251 «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» От Ясной Поляны до старого Киевского шоссе всего полверсты. Пятьдесят лет прожил рядом Лев Николаевич Толстой. Уже был автором «Войны и мира» и «Анны Карениной» и вдруг повадился ходить на это шоссе. С апреля 1879 года чуть ли не каждое утро, после завтрака объявлял домашним, что отправляется на «Невский проспект»—так прозвал это шоссе,— или в «гранд монде», то есть в великосветское общество — и туда. К обеду чаще всего не возвращался, бывало, что и не ужинал, и появлялся совсем запоздно, весь в пыли и, страшно всегда довольный, сообщал, что встретил удивительного или удивительную и дошел с ними до Тулы. По этому шоссе испокон века шли богомольцы, странники, калики перехожие, бродяги, нищие. В одну сторону — на Киев, в Оптину Пустынь, к Тихону Задонскому, в Палестину, в старый Иерусалим, в другую — в Москву, к Троице-Сергиевой лавре, на Соловки. Тропы обочь дороги были убиты до полной каменности. Шли постоянно, от света до света. У русских ведь этот бродячий странничий дух в самой крови, всех нас всегда куда-то неудержимо влечет и тянет, всем нам иногда вдруг безумно хочется все бросить и уйти незнамо куда и идти и идти по нашим бесконечным дорогам, упиваясь нашими просторами и ожидая чего-то. Чего? Истых богомольцев-паломников среди идущих было меньше всего, в основном именно чего-то ожидающие и ищущие. Толстой сразу их различал. Стоял у дороги или тоже шел и вглядывался. Кто заинтересовывал, с теми и заговаривал, расспрашивал. Люди и судьбы попадались захватывающие, редчайшие — с такими и доходил до Тулы. И все время вслушивался в речь каждого, в язык всего этого люда. И, приходя домой, именно по языку больше всего тогда и записывал: слова, обороты, целые диалоги. Болел тогда языком, тяжко мучился, считая, что русский литературный язык вовсе не русский, а какой-то испанский (так и писал — испанский!), ибо народ-то говорит совсем на другом. И на «Невский проспект» ходил учиться ему. Долго ходил. Это уже после «Войны и мира»-то. После «Анны Карениной»! Тогда же вовсю штудировал творения протопопа Аввакума, делая из них многочисленные выписки. 252 «К другому языку и приемам (он же и случился народный) влекут мечты невольные...» А когда прознал, что в столицах должен появиться Василий Петрович Щеголёнок, которого ему уже довелось однажды услышать в Москве, попросил знакомых непременно прислать его в Ясную Поляну. Но оказалось, что того где-то перехватил Савва Иванович Мамонтов и увез к себе в Амбрамцево. Рыбников и Гильфердинг, записи которого вышли после его кончины в 1873 году, сделали Рябинина и Щеголёнка известными всей действительно просвещенной России. Их пригласили в Петербург и Москву, и оба приезжали по отдельности, без конца выступали в частных домах, в художественных и научных обществах, и потрясенная совершенно неведомым ей дотоле искусством публика буквально рвала их друг у друга из рук, хотела слушать и слушать. Если бы сами не умотали в свои Середку и Боярщину, неизвестно, до чего бы и дошло,— так всех ошеломили-околдовали. А Василий Петрович восвояси даже и пешочком утопал, от всякого транспорта отказался, заявив, что «своим ходом потеплее будет». И вот снова объявился. В Абрамцеве тоже, конечно, пел ежедневно. А еще художник Илья Ефимович Репин писал там с него красками портрет. Ему понравилось — как живой представлен. И другие разные художники, гости Мамонтова, списывали, но карандашами, не в красках. У всех был похож. А потом из Абрамцева прямиком в Ясную Поляну. Два месяца гостил у Льва Николаевича. И поначалу тоже, ясное дело, пел, но всякий день, по его просьбе, разное, и больше для домашних и всяких гостей, которые были там постоянно. Сам-то Лев Николаевич все былины отлично знал по Гильфердингу, да и в прошлый раз в Москве каждую у него по два-три раза слушал. А раз и говорит: — Ты, Петрович,— у Толстых Щеголёнка все по отчеству звали,— я знаю, и рассказчик отличный, порассказывал бы мне, что хочешь. А легенд и историй всяких Щеголёнок, как уже говорилось, действительно знал тьму-тьмущую и с тех пор уже только их и рассказывал Толстому одну за другой, и тот многое записывал. Один он записывал действительно собственные щеголенковские рассказы, а не выученные от других, и пусть даже немного по-своему переделанные, но все равно все же готовые былины. Не толь253 ко сюжеты — саму его речь, обороты, отдельные слова записывал, а потом на основании этих щеголёнковских рассказов написал знаменитые «Чем люди живы», «Два старика», «Три старца». Все толстовские народные рассказы с тех времен. И во «Власти тьмы» многое из тогдашних записей. Один из сыновей Льва Николаевича, которому в 1879 году было одиннадцать лет, тоже писатель Илья Львович, вспоминая о пребывании Щеголёнка в Ясной Поляне, очень хорошо заключает свои воспоминания: «Когда он рассказывал, я любил рассматривать его длинную, жгутами свисавшую седую бороду, и его бесконечные повести мне нравились. Он был настоящим». ЧЕРНАЯ РОЗА Курцево, Косково, Репино, Савино, Охлебаиха — деревни эти тянутся вдоль той же извилистой, родниковой Узолы, на которой родилась Хохлома, но только всего в пятнадцати-двадцати километрах выше Городца. Места очень красивые. Правый берег высокий, овражистый, и все деревни на нем. От любого дома глянешь — далеко-далеко за реку видно: всё холмистые темные леса в редких проплешинах, в которых колосятся овсы и голубыми лужицами цветет лен. У самой Узолы — сплошные тальники. Стволы у тала голые, тонкие, ветерком потянет, они и давай друг об дружку негромко постукивать — вечерами далеко их слышно. Комарья там вечерами видимо-невидимо. Кажется, остановись у розовой от заката воды минуты на три — всего тебя сожрут. А наверху ничего. Наверху суше, места открытые, сосняки и березы возле деревень, а за огородами и ладными банями, которых здесь у их хозяев тоже по две,— за ними поля уже побольше — хлебные. Избы в деревнях тоже все ладные, высокие, с большими окнами, с богатой резьбой, весело раскрашенные. В Курцеве, на березовом мыске, подступившем к Узоле, белокаменная церковь сохранилась — Ильинская. Здесь-то до середины девятнадцатого века и делали дивные инкрустированно-резные прялочные донца. Именно в Курцеве, Коскове, Репине, Савине и Охлебаихе. Охлебаиха из этих деревень была тогда самой большой, в девятнадцать дворов, и в ней числилось сорок восемь мужчин и двадцать семь женщин. А в соседнем 254 Мокрове, например, было только пять дворов. Стояла Охлебаиха не у самой Узолы, а на взгорье, на краю глубоченного оврага, в котором обычно праздновали проводы Масленицы в Прощеное воскресенье. Со всей округи народ сюда собирался, и стар и млад. И, как везде, катались в разукрашенных санях на лошадях и с ледяных гор на салазках. И тоже обязательно молодожены, а парни задерживали салазки и требовали поцелуйного выкупа. С полдня появлялись в Охлебаихе и розвальни с высоким соломенным чучелом Масленицы, наряженной в женские одежды. Ее возили под свист, под улюлюканье. А когда начинало темнеть, зажигали в овраге костры, водружали Масленицу на самом видном месте и тоже поджигали, все время добавляя соломы. Бывало, ставили и смоляные бочки — они полыхали жуть как ярко. Считалось, что чем костер больше, тем деревню ждет большее богатство. Тут уж веселье гудело совсем разливанное: с песнями, плясками, бесконечными забавами, проказами. Зиму ведь изгоняли и хоронили — богиню мрака и смерти. Узолу возле Охлебаихи перегораживала плотина с мельницей. Через эту плотину, или, по-местному, «маленький мосток» из заузолья в Городец шли обычно возы с лаптями, которые плели во многих лесных заузоль-ских деревнях. От мельницы в Охлебаихе, наверное, и пошла фамилия Мельниковых. И два из них — братья Лазарь и Антон Васильевичи — известны как мастера, с которых тут началось совершенно новое искусство. Инкрустированные донца иногда подкрашивали растительными красками. Делали это и братья Мельниковы. Но Лазарь Васильевич стал подкрашивать не отдельные детали, а все донца, по существу расписывал их. Более того, он вырезал на них уже не условно-символические картинки, как это делали раньше, а довольно жизненные жанровые сценки: укрощение коней, охотники с собаками, посещение невест. Фигурки обозначал резным контуром и каждую расписывал в несколько цветов, да еще с мелким орнаментом. Фон сделает ярко-желтым, а на нем немного киноварно-красного, коричневого и звонко-голубые пятнышки птиц, цветов, дамских зонтиков, работал всего четырьмя красками, а кажется, что его Донца лучатся солнечным светом, полны движения, все в них живет и что это вообще какой-то особый, маленький, очень привлекательный и очень отрадный мир. А вот младший брат его — Антон в конце шестидесятых годов совсем оставил резьбу и только расписывал 255 донца. И как расписывал! Его картинки, несмотря на свою наивную условность, это уже полный, настоящий жанр, причем весьма психологичный, так как каждый персонаж наделен у него характером и определенным состоянием, а во многих сценках есть и внутреннее действие, сюжет. Он первым написал сцены торжественных застолий, свиданий, прогулок, обстановку тех времен с часами-ходиками, тогдашние наряды, совершенно новых по обличию коней, пестрых ярких жар-птиц. Первым ввел богатое обрамление картинок орнаментами с остролистыми ветками и большими цветами, похожими на розы, среди которых попадались и совсем необычные — черного цвета. Производственно роспись, конечно, намного выгодней, чем резьба. Мастера поняли это быстро и вскоре на Узоле уже ничего не резали, не инкрустировали, а только «красили», и каждый делал уже в два, в три раза больше донец — они же были товаром, шли на продажу. Но вот что любопытно: росписи эти совершенно не похожи на резьбу, только конь и птица на головках сохранились. На самой же доске в двух окаймленных окошках, вверху и внизу изображались тематические сценки, в основном веселые, праздничные. А между окошками с картинками на каждом донце тогда же появились так называемые «решетки» — широкие полосы с мельниковскими цветами невиданной формы. Их стали звать розами-купавками (обратите внимание: купавка — производное от купавы, от Купалы — это по Далю). Но на розы они не похожи и выглядят так: на широкой чашечке с овальными лепестками сидит круглый бутон, а на нем шарик в виде коробочки, и все это в белых упругих полоскахоживках; напружиненный получался цветок, вот-вот лопнет, раскроется. А вокруг него обязательно зеленые веерообразные листья — папоротник. А сам цветок то алый, то желтый, то синий, но чаще всего черный. Помните, как праздновался Иван Купала, как в эту ночь никто не спал, жгли костры, прыгали через них, пели и водили хороводы, собирали травы, а самые смелые отправлялись в леса искать цветок папоротника — цветок счастья. Тут, под Городцом, этот праздник был из самых любимых, во все времена праздновался, курцев-скокосковские парни и мужики все соседние овраги облазили в поисках этого цветка — Скобенинский овраг, по-здешнему враг, Вилюху, Воронихинский, Орехи. Вдоль Узолы их много. А некоторые даже будто бы и на Керженец и к Светлояру хаживали. 256 Бывал ли там и Антон Васильевич Мельников, неизвестно, но в оврагах-то по молодости был наверняка.наверное, рассуждал потом так: «Сколько народу сказывало, что даже золото в руках держали, однако и им в конечном счете не повезло — перекрестились от страху и все исчезло. Выходит, еще какой-то секрет есть у того цветка. Но какой? Может, пока он рядом — и сундуки рядом, а отошел от тебя — и нет ничего. Истинное дело, он ведь насовсем-то в руки никогда никому не давался. На минуты только, на час, а потом — фью-ить! — и нет. А если бы удержать его при себе, может, все и свершилось бы? Но как удержать?» Вот и придумал: удержать хотя бы в мечте — изобразить его. «Но он же чудо-цветок — какой же формы? какого цвета? Может, синенький, как васильки? Или желтый? Или тлеющий, как уголек? Но чудо же! Чудо! Значит, вероятней всего — черный. Черного цветка-то на земле еще не видывали, а по всему выходит — должен быть. Должен!..» Ученые могут улыбаться, они подобные явления объясняют иначе. Но ведь и поэтический мотив или толчок играет не менее важную роль в искусстве, в том числе и народном, чем, скажем, традиция или законы построения орнамента. Ведь в Охлебаихе, в Курцеве, в Коскове и в других ближних деревнях люди росли с этой и с другими красивыми легендами, они сопровождали их от колыбели до самой смерти. И они были по натуре художниками, этот Антон Мельников и остальные узольские люди. Потому и были художниками, что такие легенды жили с ними и в них. Черная роза. У этого цветка своя красота — необыкновенная и таинственная. Скользнешь по нему невнимательным, равнодушным взглядом — ничего не заметишь. А вглядишься в его черную черноту, и она тебя словно к себе потянет, и в ней какие-то смутные тени увидятся, отливающие то бордовым, то пламенно-синим, то еще каким-то цветом, они двигаются, но что это за тени — разобрать невозможно, и тайна цветка становится от этого с каждой минутой еще сокровенней, и от него уже не хочется отрываться, хочется вглядываться, вглядываться. Выходит, чудом оказался сам этот цветок — единственный черный цветок во всем русским народном искусстве. Всего росписью в середине девятнадцатого века в гоРодецкой округе, по земской справке, занимались трид257 цать четыре семьи, в которых насчитывалось около семидесяти мастеров. Рассказы односельчан рисуют нам их как людей с достаточно широким кругозором, у которых в доме можно было найти книжку и газету... Они не только владели в совершенстве своим мастерством, но могли переписать старинную рукопись, подновить икону и фреску в церкви. Осенью и зимой, когда не работали по хозяйству, каждый мастер успевал за неделю изготовить (в этом участвовали и другие члены семьи) и расписать пятнадцать-двадцать донец. Кто-нибудь из семей их потом и на базары возил в Городец или в Нижний Новгород, или еще дальше. И охотней всего там разбирали, конечно, самые затейливые, интересные и красочные, которые писались Лазарем и Антоном Мельниковыми, Гаврилой Лаврентьевичем Поляковым, Василием Клементьевичем Лебедевым, Александром Федоровичем Сундуковым, Егором Тихоновичем Крюковым. Их было еще пять братьев-художников Крюковых-то. Гаврила Лаврентьевич Поляков писал многофигурные военные баталии, отражавшие конкретные события русскотурецкой войны: «Сражение под Ординопольем» (Адрианополем), «Взятие Карса», «Генерал Скобелев». И хотя похожие баталии и Скобелев есть в лубочных картинках, поляковские вполне самостоятельны и интересней. Потому что у него над шеренгами солдат, над крепостями, палящими пушками и скачущими на конях офицерами размещены еще картинки, в одной из которых, например, грустные девицы и парни молодые застыли под часами как бы перед фотоаппаратом — понимай, провожают новобранцев на войну и на память фотографируются. Получается целое повествование, точно передающее характернейшие детали того времени, тогдашние моды, форму солдат, виды оружия. Скомпановано у Полякова все всегда очень плотно и динамично. Проработка четкая, фигурки изящные и обязательно в движении, в разных позах. И почти везде — удивительные пурпурные или вишневые тона. Сильныесильные, каких на Узоле ни у кого больше не было. Ими он делал фон, а фигурки — черным и белым. Глянешь на такое донце, а оно напряженно полыхает, жжет, тревожит, как бывает при всяком зрелище войны, сражений, где гибнет множество людей. А Василий Клементьевич Лебедев очень любил сказку про Ивана-царевича и Елену Прекрасную. Изображал их скачущими на сером волке и добром коне, только наряжал обоих непременно в костюмы своего времени, то есть осовременивал великолепную сказку — продолжа258 ется, мол, верьте! Смелый был мастер, можно даже сказать, лихой: три-пять мазков — и волк готов, ноги — просто завитушки. Но ведь несется. И коня таким же лихим манером — и тоже скачет, летит... И как по цвету красиво: все дымчато-зеленоватое, на золотистом фоне. Лучшие розы писал Александр Федорович Сундуков. Какой бы сюжет ни разрабатывал — гулянья, чаепития, парочки,— везде вплетал розы, и так много, что они у него становились главным: большие, причудливые, с бутоном в бутоне — алые, оранжевые, желтые, голубые, черные, а меж ними ветки папоротника вьются. Тут надо оговориться. Городецкая живопись во многом условна, как условно всякое народное искусство. Композиции в большинстве случаев решены фронтально. Перспектива или отсутствует вовсе, или намечена минимальным количеством условных линий. Похожими линиями — оживками переданы и все объемы. В общем, как везде в нашем народном искусстве, здесь тоже все держится прежде всего на цвете, на его декоративных отношениях. Никаких предварительных набросков карандашом мастер не делал. Просто брал кисть, зацеплял ею из чебалашки (это чашечки маленькие) краску и в один мазок обозначал, скажем, шею коня, или в худшем случае в два. Черные пятна так все разбросает по доске, потом красные, потом еще какие-нибудь большие. Пока никаких сцепок между ними нет, каждое пятно лежит отдельно, общая картина только в голове мастера. Представляете, какое чутье, какой опыт и какую руку надо было иметь, чтобы потом не сбиться, не загрязнить краски новыми наслоениями. И лишь когда большие пятна и плоскости высыхали, наносились соединительные детали и всякая мелочь. Оживки клали поверх основного тона в самую последнюю очередь. В строгановских иконах оживки золотые, в росписях Северной Двины — черные, а здесь только белые. И орнаменты на одеждах, и всякие другие украшения, и все маленькие предметы здесь тоже всегда белые и выполнены техникой оживок. В подобных приемах многое, конечно, наивно. Но ведь искусство все условно, и какая именно степень наивности в ней допустима, никто еще не определил и никогда не определит. Поэтому не будем сейчас говорить 0 том, минус это для него или плюс. Вопрос сей настолько важен и сложен, что всякое касание его вскользь и походя приносит только вред. Хочется лишь, чтобы читатель знал об этих особенностях в городецкой живописи и впредь не ждал беспрерывных оговорок на их счет... 259 Кто были отец и мать Мазина, выяснить до сих пор не удалось. В одной книге говорится, что он родился в Городце, а в Курцево был отдан мальчиком на выучку к дяде. В другой — что был приемышем, был «взят в дети», как здесь говорят, в семью Коноваловых, из которой тоже вышло много хороших художников. А сам Игнатий Андреевич уже взрослым почему-то называл своего приемного деда «дедушкой Мазиным», а не Коноваловым. Но как бы там ни было, а рос он в Курцеве с раннего детства. И еще в детстве всех удивлял: лет шести-семи повадился вдруг на пасеки. С утра до ночи возле ульев крутился, пчел разглядывал, в руки брал, а они его не жалили. За всю жизнь ни разу не тронули, и взрослым, даже еще парнем, он многих лечил пчелами и медом и их молочком. Тогда же, лет семи пришел однажды к «дедушке Мазину» в работню и попросил: — Научи донца красить! — Ты еще больно маленький,— говорит дед. — Все равно научи!.. Научи, Христа ради! И пошло. Если что не получалось, от зари до зари над дощечкой просидит, а потом и на печь с ней полезет. Коптилку там зажжет и до утра, несмотря ни на какую ругань, будет согнувшись в три погибели выводить кисточкой или одну лошадиную голову, или кошек, или чтонибудь еще. «Скоблил, плакал и снова начинал»,— вспоминал он. Главной же учительницей своей считал Варвару Сидоровну Коновалову, жившую в том же доме. Она была калекой, с неживыми ногами, все дни проводила у окна, выходившего на Узолу, на постукивающие под ветром тальники. Тут, у окна у нее стояла лавка с красками и донцами, которые она украшала тончайшими нежными по цвету орнаментами. А надо сказать, что, как во всяком художественном промысле, каждый мастер здесь тоже стремился изготовить как можно больше «товару»: цены-то на донца держались копеечные, количество определяло заработок. Вот мастера и осваивали всего лишь по два-три-четыре сюжета, доводили приемы письма до наивозможнейшей быстроты и ничего другого писать не умели, да и не пытались — зачем? Не все, конечно, но большинство. Мазин же уже в ранней молодости за любой сюжет брался, без конца их придумывал, все что угодно мог изобразить. 260 Влюбленные парочки на бревнышках у него появились, огромные застолья, рыболовы и ярмарки, пастухи м косари, сельские лирические сценки, поводыри с медведями, которые показывали на деревенских площадях, как «теща про зятя блины пекла, куды помазок дела», катание ребят на санках, игра в городки, множество сценок со всякой домашней живностью, например «Три кошки в ожидании кормежки» — сидят у пустого блюдца. Или такая: мать принесла в фартуке только что народившихся котят, показывает своим ребятишкам. Те очень забавно к ней склонились. И тут же, у ног кошка тянет шею — беспокоится за своих детенышей. Это передано великолепно. И состояние ребят передано великолепно; кажется, что слышишь даже, как они затаили дыхание, чувствуешь, какой нежностью наполнились их сердца к этим живым нежным пушистым комочкам. А ведь средствами-то все это достигнуто самыми минимальными, и цветовая гамма здесь для Мазина редкая: глуховатые охра да зеленые, да еще на черном фоне. Но сразу понимаешь, дело происходит в полутемных сенях или в закутке за печкой — какая же тут еще может быть гамма. Животные, особенно собаки и кошки, есть почти во всех работах Игнатия Андреевича, иногда даже изображены там, где им вроде бы и делать нечего. А уж работ, где они единственные «герои», просто и не счесть. И у каждого такого «персонажа» свое «лицо», свой «характер», до того хорошо Мазин их знал и изображал. А значит, и очень любил, и потому все его животные всегда необычайно симпатичны, трогательны и отрадны в своем поведении, будто никакого другого поведения их и не бывает. И каждая новая картина у Мазина была и решена поновому, прежде всего композиционно, несла какие-то новые настроения. Причем добивался он их эмоционального звучания, как истинный живописец, прежде всего и в основном цветом: то задумчивым, то кричащим, то смеющимся, то тихо-тихо задушевно поющим. Он был так устроен: мыслил чисто живописными образами и каждое чувство у него имело свой цвет. Вот, скажем, картина «Смотрины». Парень с матушкой приехали в дом невесты. За столом сидят расфранченные отец и мать невесты, а сама она в нарядном белом платье и с высокой прической стоит. Мать парня держит в руках сверток — подарок невесте. По обе стороны традиционной розы в «решетке» расположились вальяжно-мягкие кошки, над которыми написано: «Вася и 261 Мулька», по раме идет вторая надпись: «И подарок невестке от свекрови». В нижнем же кадре тот же парень с матушкой катят в санях обратно домой. Интересно, что чем дольше смотришь на эту работу, тем все меньше и меньше замечаешь ее условность, фронтальность ее композиции, плоскостное решение фигур, отсутствие светотени. Через какие-то считанные минуты вообще забываешь о них, ибо с удивлением обнаруживаешь, что ты сидишь не перед прялочным донцем, а там, где этот жених и все остальные — в маленькой простенькой комнатке с двумя окнами в зеленых занавесках. Какие-то далекие смутные воспоминания приносят вдруг трогательные ощущения: тихий скрип и запах свежести от недавно вымытых, скобленных ножом полов, обвевающая теплом печь, жестковатая, прохладная скатерть под рукой, урчание кота и потом вдруг распахнутая дверь и оттуда как удар — острый, горячий, дурманящий запах пирогов с капустой. То ли это было когда-то у бабушки, то ли позже, но точно было. Был ушедший теперь пахучий уют небольших комнат с плавящимся густо-красным огоньком лампады в углу у поблескивающих окладами икон. Было шаркающее стариковское тиканье деревянных настенных часов с бронзовыми маятниками и эмалевыми циферблатами. Были венские гнутые стулья. Были высокие четырехгранные вазочки в ракушках, в которых стояли розы из крашеной стружки. Были за зимними окнами дощечки на веревочках, на них сыпали пшено и воробьев слеталось столько, что их толкотня и радостное верещание напоминали вдруг весну. И конечно, были у всей этой жизни свои цвета. Они есть у любой жизни, у любого времени, даже у любого настроения, у какой угодно мысли. И весь секрет этих цветов в том, что почти все способны их чувствовать, а вот воспроизводить — лишь редкие единицы, даже среди художников. Игнатий Андреевич Мазин был одарен этим умением в высшей степени. Охры золотистые и красноватые, глухие коричневые, немножко черного, зеленого, белого — это все, чем он пользовался. Больше на доске нет ни одной краски, но зато уж эти он так точно, закономерно положил друг подле друга, немногими холодными так неназойливо и хорошо оттенил обильные теплые, что картина хочешь не хочешь, а кажется вся пропитанной этим теплом — точно таким, каким был пропитан весь тот уютный, пахучий, неяркий мир. То есть это — его цветовой синтез. 262 Даже красоту человека и ту Игнатий Андреевич умудрялся передать цветом. Посадил пастушка, например, с девицей на бревнышко под цветущей бело-зеленой яблоней. Фон же сделал малиновым, а платье девицу — темноголубым, рубаху же на парне нежно-сиреневого, как будто бархатистого. И темно-голубое как будто бархатистое. Красоты эти цвета необычайной, особенно нежно-сиреневый — глаз не оторвать. И пастушок от этого начинает казаться тоже необычайно красивым. Писал Мазин страшно быстро. За день уйму всякой всячины «накрасит», а после хоть половину с удовольствием раздарит. Очень любил дарить. Специально для этого кукол вырезал ребятишкам из фанеры и дерева и расписывал, и разную мебель маленькую им же делал. — Бери, бери! Интересно живешь-то?.. Это хорошо, когда интересно,— правда? Живи!.. К концу жизни он писал уже и большие картины на досках, на фанере, есть даже трехметровая «Жизнь Мазина», где он действительно покадрово изобразил всю свою жизнь с младенчества до преклонных лет, да еще со всем семейством. Картина эта удивительна по всему: по теме, по композиции и, конечно же, по цвету — красивому и счастливому. Да, да, это чувствуется очень остро, и это означает, что он свою жизнь так и понимал. И были еще великолепные «Посиделки», «Охота», «Праздничный выезд», «Изготовление донец», «Начало жизни человека»... Многое было. Но по субботам Игнатий Андреевич «красил» лишь до полудня. Потом все банились, и он по два, по три раза выскакивал, голый и красный как рак, наружу и, окутанный клубами пара, валялся в глубоком снегу, зычно рыкал, кричал «Хорошо!», влетал обратно в баню и сразу лез на верхний полок, а там бухался навзничь и ноги вверх, в потолок, а сыновья уже знали — не мешкая, несколько раз кидали ковшичком по чуть-чуть кипятку на иссиняпепельные камни каменки, все заволакивал густейший сухой пар, прожигавший тела насквозь, ребята пластались ничком на полу, даже припадали ртами к щелям, из которых тянуло спасительной сырой свежестью, и уже не видели отца, только слышали сначала легкое верещание сухих березовых листьев, потом соч-НЬ1е удары веника и резкое зычное хыканье... Когда жара малость отпускала, отец спрашивал, не трещали ли у них волосы, и предлагал лезть к нему — тоже попробовать веничка... 263 — Воздух-то какой! Чуете, ржаной кислинкой пах нет? Это от веников... Вы дышите глубже, этот дух са мый здоровый!.. Ужинали по субботам щами с мясом и пирогами, и обязательно был пирог с яблоками или черникой, обязательно был мед, который мазали на хлеб. Отец пил чай долго, потел, на шее у него висело полотенце для утирания. Ребята терпеливо ждали, на улицу в этот день не рвались. Знали — как перевернет он пустую чашку вверх дном, как оглядит всех острыми глазами, так тут же спросит: — А говаривал я вам, как... И каждую субботу новые истории. Причем иногда вроде ничего особенного и не расскажет, но у него все равно получалось жуть как интересно: будто, скажем, дядя Сундуков вовсе не просто так губами шевелит и что-то бормочет, когда налимов зимой в проруби ловит. Ведь он сначала вершу-то опустит и только потом бормотать начинает. Не иначе дружбу с водяным завел — ворожит. От того и ловит больше всех. — Вы бы последили за ним, ребятки! Только тайком, не дай бог заметит!.. А ржавый ствол старинной пушки, который он привез откуда-то однажды на санях. Две субботы они всем гамузом чистили его, делали деревянный лафет и колеса. Участвовали в этом и соседские мужики, другие мальчишки. Установили пушку за церковью на березовом мыске и в Пасху после службы первый раз жахнули. И еще дважды. Вот было веселье-то! Всех ворон среди ночи побудили, и из соседних деревень народ прибегал, перепугались — думали, война... А как они сообща расписывали печку: даже маленьким разрешалось выводить кистью все, что захочется. Ни у кого не было такой цветастой и веселой печки... А как перед Рождеством мастерили из реек и крашеной бумаги цветные фонарики и ходили с ними ряженые по деревне... В субботние вечера к ним и соседская ребятня набивалась, мужики и бабы захаживали послушать его веселые рассказы. А на буднях, вспоминал сын, придет он иногда за полночь с гулянки, а отец с матерью не спят. У отца на полке возле киота стояли книги, все толстые, старинные, в коже, с застежками медными. Так вот мать грунтует донца, а он читает какую-нибудь из этих книг, иногда вслух для нее, иногда про себя. Без дела никогда не сидели. Не помнит он, чтобы мать и отец и когда между собой руга264 лись. Отец голос вообще никогда ни на кого не повышал, спокойный был. Громко только песни пел. А если и рассердится за что на мать, то пальцем по столу постучит и скажет: — Заскребла, скребуха! Скребухой звал лишь когда сердился, а обычно ласково Мазеной или Анной Лексевной. Она была из Ржано-ва — это в восьми верстах за Узолой. Отец ее валял валенки, считался зажиточным. Маленькая, курносая, бойкая, она как будто для Мазина и была рождена. Никогда, как и он, не унывала, не уставала, во всем поддерживала, помогала в работе с донцами, управлялась вместе с ним в поле и с двумя коровами, со всей прочей скотиной, с домом и, главное, народила Игнатию Андреевичу шесть мальчишек и шесть девчонок. Причем всех ровно через раз: сын — дочь, сын — дочь. И парни пошли в отца — выросли высокие, прямые, на лица красивые. И девки тоже были хороши, только помельче. Он-то на лицо был строгий, как пророк в черной прямой бороде, но по душе — веселый да добрый. Только одетьобуть такую ораву — знай успевай, поворачивайся: Анна Алексеевна и ткала, конечно, сама, все в новинах ходили. «Истинная Мазена»! — нахваливал Игнатий Андреевич. Подтрунивал лишь над ее сюсюканьем; Нянидушка, звала она, например, Леонида. А ребят их кликали в деревне «мазятами». Дружно жило семейство. Старший Василий тоже помогал отцу, мальчишкой уже наводил орнаменты, а потом и товар возил в Городец и Нижний. И все младшие были при деле, когда не ходили в школу. — Ой, каки они задорны на работу, Мазины-то! — говорили в Курцеве.— Не знаем, обедать-то обедают ли? Прям бросаются на работу... Совсем иного характера были донца-картины и картины на фанере у Игнатия Клементьевича Лебедева. Суховатые, тщательно выделанные, сложные по композициям, но живописно тоже всегда очень тонкие, чаще всего нежнейших, прозрачных кисельных, сиреневых, голубоватых тонов. Изящный был художник. А Федор Семенович Краснояров сочинял наивные поэтические фантазии про изобильные крестьянские хозяйства, про деревенский домашний уют. Никаких композиций не признавал: нагородит, нагородит одно на Другое, но все так трогательно, так поэтично, тепло, ласково. Сказочными сюжетами увлекался лихой по манере Николай Тихонович Крюков. Крюковы все были по пись265 му размашисто лихими, и все любили сказки, хотя и бытовых сюжетов у них немало с очень статными нарядными красавицами. В общем, к концу девятнадцатого века под Городцом сформировалась целая художественная школа, со своей, вполне самостоятельной образно-живописной системой, которой, как вы видели, было под силу отображать самые разнообразные жизненные явления, самые серьезные мысли и чувства. ОСОБАЯ РОЛЬ Во второй половине девятнадцатого века фактическим хозяином России стало купечество. А из каких они были — новые русские богатеи-то? В основном, как и прежде, из вчерашних крепостных, из черносошных да посадских людишек. Помните, Иван Тихонович Посошков вышел в купцы второй гильдии. У Николая Петровича Шереметева было несколько «капиталистых» крепостных, то есть имевших изрядный капитал, а один — Шелунин — даже числился миллионером, владел торговыми судами, приписанными к Рижскому порту, лавками в Москве и Санкт-Петербурге, не единожды ссужал хозяина большими суммами взаймы. Но по законам Российской империи вел все свои дела Шелунин под именем, вернее — именем его сиятельства графа, действительного тайного советника, обер-камергера, сенатора и кавалера Николая Петровича Шереметева. Он же юридически значился и владельцем всех шелунинских богатств вместе с ним самим и со всеми его ближними. Крепостной человек не имел никаких прав на самостоятельные владения и дела. Ну а с 19 февраля 1861 года у всех были все права. И смотрите, как они в основном делались — тогдашние капиталы-то. Крестьянин деревни Зуево, что на Клязьме за Гавриловым посадом, Савва Василия сын Морозов, устроил на своем подворье первоначально простейший ручной ткацкий стан, на котором изготавливал шелковые цветные ленты и шелковую ажурную ткань. Работал только семейством: сам, жена, подраставшие сыновья и дочери. Сыновей в конечном счете было пятеро. Всю неделю все, значит, у этого стана, а в ночь на субботу или на воскресенье Морозов складывал все наработанное в заплечный берестяной короб и пешком в Москву. Всю дорогу рысцой, чтоб побыстрей. Утром придет в Первопрестольную, 266 С. Морозов иногда на базаре свои ленты и ажур продаст, а то и прямо по домам разнесет — постоянных клиентов завел,— похарчится, и к вечеру обратно, да тоже рысцой, чтоб побыстрей. И в понедельник спозаранку снова со всеми домашними у стана. А от его Зуева до Москвы, между прочим, шестьдесят верст, а он их все рысцой. За сутки, значит, помимо пребывания в Москве, пробегал сто двадцать верст, а понынешнему — три полных марафонских дистанции. Да так каждую неделю, да много лет подряд, и работая остальное время на стане, расширяя и расширяя производство, устанавливая новые машины уже с механическими приводами, нанимая рабочих. Ведь подлинный же богатырь был, даже исполин, равных которому и во всем мире не больно-то много сыщется. А от него и сыновья, и вся морозовская династия пошла такая же могучая, давшая России невероятно много, начиная с основания целого нового текстильного города ОреховаЗуева, со строительства десятков самых современных по тем временам фабрик и разных иных производств и кончая изданием крупнейших российских газет, созданием Философского общества при Москов267 ском университете, строительством Московского Художественного театра, Музея французской живописи, возведением целого клинического городка на Девичьем поле, ныне Пироговской улице, учреждением и строительством Кустарного музея на нынешней улице Станиславского, огромным собранием русского фарфора... И костромской подросток из крепостных Ванюшка Сытин, пришедший в Москву на заработки и нанявшийся мальчиком на побегушках в книжную лавку, не год и не два потом ходил офеней с коробом за спиной по всей Руси, торговал лубками и дешевыми книгами для народа, пока сам не стал их печатать и не завел в конце концов огромную и самую совершенную по тем временам типографию, в которой печатались миллионы отличных недорогих книг, календарей, учебников и миллиард, как он сам считал, все тех же лубочных картинок, в основном, конечно, осовремененных, литографских, но немало и старых. Иван Дмитриевич Сытин практически все издавал прежде всего для народа, как по характеру, так и по доступности, по ценам. То есть занимался великим просветительством. И его «Товарищество» было тогда крупнейшей книгоиздательской и книготорговой монополией мира. И торговец и финансист Кузьма Терентьевич Солдатенков основал большое книгоиздательство, выпускавшее в основном научную литературу, в том числе и очень редкую, ценнейшую, и самую что ни на есть популярную. А кроме того, Солдатенков строил училища, больницы, собирал редкие книги и картины, которые завещал Румянцевскому музею. «Мое желание,— писал он великому художнику Александру Иванову, с которым дружил,— собрать галерею только русских художников». И Иванов вовсю помогал ему в этом деле, в коллекции были великолепные полотна, в том числе и самого Александра Андреевича, и даже эскиз его знаменитого «Явления Христа народу». Кстати, Солдатенков был старообрядцем, «по Рогожскому кладбищу», как тогда писали; Рогожское кладбище в Москве было официально старообрядческим, с главным старообрядческим храмом (поповцев) при нем. Имел в доме и свою молельню. И Савва Васильевич Морозов похоронен на этом кладбище. Из крупнейших наших предпринимателей-меценатов большинство старообрядцы. 268 П. Третьяков Ну а какую уникальную и, кажется, тоже единственную в своем роде на весь белый свет картинную галерею собрали текстильные фабриканты Павел и Сергей Михайловичи Третьяковы, слишком хорошо известно. Хочется лишь обратить внимание и особо подчеркнуть, что тоже ведь «только русских художников». А кожевенный фабрикант, предок которого пришел в Москву с семейством и с двумя подводами скарба из Зарайска, Алексей Александрович Бахрушин так увлекался театром, что собрал единственную в мире — это тоже абсолютно точно — коллекцию буквально всего, что имело хоть какое-то отношение к театру, разумеется, к своему, к русскому. Построил для нее специальное здание у Зацепы (недалеко От Павелецкого вокзала), в котором и поныне размещается широко известный Театральный музей имени А. Бахрушина. Многие годы Алексей Александрович председательствовал и в Русском театральном обществе, сделав для него невероятно много полезного. И вообще был для тогдашних московских, да и не только московских, театров и артистов почти что за отца родного и любимого. 269 А его брат Сергей Александрович опекал балет и не пропускал ни одного балетного спектакля ни в Москве, ни в Петербурге. И еще опекал Михаила Александровича Врубеля, покупая у него все, что мог. Бахрушиных — и этих, и старшее поколение — даже прозвали в Москве «профессиональными благотворителями», так много они делали для русской культуры и простого народа. И Щукины тоже. И Прохоровы. И Алексеевы. И Боткины. И Хлудовы. И Зимины. И Остроуховы. И Рябушинские. И Мамонтовы... Почему же русские торговцы, промышленники и банкиры так массированно и напористо вошли в русскую культуру? Так целенаправленно? Да потому, что, став хозяевами жизни, они сами попрежнему жили в духовном мире своего народа, были воистину одной с ним плоти и крови, тем более старообрядцы, и заемная господская культура, конечно, была им слишком чужда, и они, сильные и сплоченные, просто восстанавливали справедливость — делали и господскую культуру русской, старались, чтобы народ везде, во всех сферах занял наконец соответствующее ему место. 270 Один к одному повторилось то, что это сословие уже начинало делать в семнадцатом веке, но было вскоре остановлено великим преобразователем. Активно участвовало купечество и в общественных движениях, больше всего поддерживая, разумеется, славянофилов. Кстати, Александр Иванович Герцен, заединщик западников и поначалу ярчайший пропагандист этого течения, в своей долгой эмиграции постепенно настолько разочаровался и разуверился в Западе, что целиком перешел на позиции славянофилов, только, как истый социалист, к вере в русский народ вообще веровал еще конкретно и в народившийся рабочий класс. И Федор Михайлович Достоевский, бывший сначала с западниками, пришел в конце концов к почвенности, к славянофилам, провидчески уверовав, как и они, в особый путь исторического развития России, если произойдет подлинное сближение, слияние дворянства, интеллигенции с народом. В это же свято верил и железнодорожный магнат Савва Иванович Мамонтов. Его отец, сибирский винный откупщик, перебрался в Москву в сороковые годы девятнадцатого столетия. Торговал, в начале шестидесятых строил железную дорогу от Москвы до-Сергиева Посада, а сын учился, а потом тоже стал строить железные дороги. А вскоре купил неподалеку от Сергиева Посада красивейшую усадьбу Абрамцево, принадлежавшую ранее Сергею Тимофеевичу Аксакову, в которой у него бывали Гоголь, Тургенев, Щепкин, Тютчев, другие великие творцы, в которой росли его знаменитые сыновья Константин и Иван Аксаковы. Мамонтов и его жена Елизавета Григорьевна — (тоже из именитого купеческого рода Сапожниковых) боготворили этих людей, старались во всем на них походить, следовать их святым светлым заветам — потому и покупали усадьбу у дочери Сергея Тимофеевича, и даже специально оговорили, чтобы в барском доме оставили и всю обстановку. И ничего в нем долго-долго не трогали, сохраняя атмосферу своих кумиров. Но главное: они превратили Абрамцево в совершенно особый художественный центр, равный по значимости лишь художественному гнезду Николай Петровича Шереметева, его Кускову и Останкину. Савва Иванович Мамонтов сам обладал редчайшими талантами: большой музыкальностью, прекрасным голосом, учился профессиональному пению, был талантливейшим режиссером, талантливым профессиональным 271 Абрамцево. Студия-мастерская С. Мамонтов скульптором, имел могучее телосложение, неукротимую энергию и блестящий деловой ум и хватку. И еще поразительно чувствовал истинную талантливость в других, самозабвенно в таких людей влюблялся и умел очень заботливо и тепло опекать их, всячески поддерживать, материально, разумеется, тоже, и потому вокруг него собрался кружок из самых тогда больших и интересных художников, музыкантов, писателей, певцов, драматических актеров, который получил название «Мамонтов-ского кружка». Поленов, Васнецов, Репин, Врубель, Серов, Коровин, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шаляпин, Леонид Андреев и многие другие знаменитости регулярно собирались у Мамонтовых в московском доме и в Абрамцеве, где подолгу жили и работали, разумеется — на полном хозяйском довольствии. Савва Иванович построил там скульптурную и гончарную мастерские, в первую очередь для увлекавшего272 ся тем и другим Михаила Александровича Врубеля. Построил маленькую церковку «в русском духе», проект которой сделали Виктор Михайлович Васнецов и Василий Дмитриевич Поленов, а расписывали ее внутри, писали иконы и украшали многие члены кружка. Репин писал в соседней деревушке Быково «Проводы новобранца» и начал «Крестный ход в Курской губернии». Васнецов на темнющем усадебном пруду с большим камнем изобразил «Аленушку», работал в ближнем селе, где нашлось необходимое большое помещение, над «Богатырями». Молодой Серов, живший в Абрамцеве по нескольку месяцев, написал «Девушку с персиками» — дочь Мамонтовых Веру. И многое, созданное там, Савва Иванович, конечно же, сразу покупал у авторов. Врубеля практически содержал постоянно, делая ему все новые и новые заказы, в том числе по керамической скульптуре. А в Москве Мамонтов открыл Частный оперный театр, где дотоле высокопарное, ходульное оперное искусство превратил в реалистическое. Любил оперу необычайно и занимался ею больше всего, сам ставил все спектакли и, кстати, давал там по режиссуре уроки двоюродному брату Елизаветы Григорьевны, молодому хозяину волочильной (изготовлявшей тонкие золоченые 273 нити из золота и серебра) фабрики Косте Алексееву, впоследствии Константину Сергеевичу Станиславскому. Для мамонтовской оперы писали музыку Римский-Корсаков и другие великие композиторы, в ней начинал свой сценический путь и стал знаменитым Федор Иванович Шаляпин, декорации для нее создавали Константин Коровин и Головин. А для окрестных крестьян в Абрамцеве на следующий же год после его приобретения создали лечебницу, потом в полуверсте от старинного особняка построили первую в этой округе школу для крестьянских детей. Потом рядом с ней библиотеку. Потом еще одну для всеобщего пользования в трех верстах, в селении Хотьково. Потом рядом со школой и библиотекой построили большую столярную мастерскую, в которой начали обучать крестьянских ребят этому ремеслу и, главное, художественной резьбе по дереву. Принимали туда только после обучения в школе, подростки при мастерской и жили в специально для этого возведенном доме, а завершив четырехлетнее овладение мастерством, получали от хозяев в подарок набор необходимых инструментов и верстак и становились надомниками, работавшими на эту же мастерскую. Задача ставилась прекрасная: создать совершенно новый художественный промысел, чтобы нищавшее крестьянство получило дополнительный приработок, и вместе с тем сближать через эти резные изделия город с деревней, господ с народом. Существовала мастерская много лет. Руководила ею первые годы дивный человек, истая подвижница-народница, хорошая художница Елена Дмитриевна Поленова, сестра Василия Дмитриевича Поленова. Все в мастерской делалось по ее эскизам: разные, украшенные резьбой «шкапики», ларцы, шкатулки, полочки, кухонная утварь, некрупная мебель, рамки. Елена Дмитриевна изучала для этого народные изделия и народную резьбу, ездила по ближним и дальним краям, собирала резные домовые наличники, лобовые доски, резные предметы домашнего обихода, росписи, тканые вещи, расшитую крестьянскую одежду, набивные ткани, платки, плетения из лозы и лыка, шитье шелками, жемчугом и бисером, кружева. Мамонтовский кружок весь безумно увлекся, буквально заболел народным прикладным творчеством. Собрали даже свой, по существу первый в стране, музей народного творчества, отведя ему в усадебном доме особые помещения. И церковку-то абрамцевскую непо274 вторимую соорудили потому, что все занялись изучением древнерусского, особенно новгородско-псковского каменного зодчества. Опять же одними из первых в стране. И даже совсем сказочную избушку на курьих ножках на одной из парковых аллей поставили деревянную для отдыха. На основании народных изделий Елена Дмитриевна Поленова и составляла свои эскизы — много напридумывала. В Москве на Поварской улице открыли магазин с вывеской: «Продажа резных по дереву вещей работы учеников столярной мастерской сельца Абрамцева Московской губернии Дмитровского уезда». Изделия шли хорошо, даже очень хорошо, и число столяров-резчиков вокруг Абрамцева росло и росло, лет через семь-десять они уже были почти в каждой тамошней деревне. Трудно сказать, сколько точно — всех никто никогда не учитывал, ибо многие бывшие ученики и сами выучивали родственников и детей, многие стали работать совершенно самостоятельно, помимо мастерской. Одним словом, новый промысел родился. Да со своими оригинальнейшими изделиями, со своими особыми узорами и техникой резьбы, которые, однако, довольно скоро совсем уже не были похожи на то, что делала Елена Дмитриевна Поленова. И хотя эту резьбу стали называть абрамцевскокудринской, и так и называют ее по сей день, ибо промысел процветает, и ныне есть, даже широко известное, художественное училище в Хотьково с таким же именем — от начальной, поленовской, абрамцевской, резьбы в ней не осталось буквально ничего, и правильней было бы называть ее лишь кудринской и даже ворносковской, так как она целиком и полностью рождена в деревне Кудрино крестьянином Василием Петровичем Ворносковым. ПТИЦЫ НА ВЕТКАХ От Абрамцева до Кудрина семь верст. Деревня Кудрино небольшая, менее тридцати дворов. Петр Степанович Ворносков считался плотником, ставил в округе гумна и сараи. Прослышав про открывшуюся в барской усадьбе школу для крестьянских детей, отдал туда двух сыновей — старшего Михаила и Васю, хотя второго не хотели принимать — больно мал был росточком. Но учился хорошо, и после школы при275 няли и в столярную мастерскую, работавшую всего второй год. Так что и Михаил и Василий тоже воспитанники Елены Дмитриевны. Но, окончив учебу, работали по образцам Поленовой совсем немного. Не нравились они Василию, а резал он лучше брата и был в работе с первых же дней за старшего. И не раз говорил Михаилу, что, по его мнению, не чувствует эта замечательная художница дерева, характера, души его не чувствует и механически переносит с крестьянских образцов и соединяет зачастую совсем тому или иному изделию чужие формы и узоры, слишком высушивает их, делает жесткими, геометричными, да еще и пестро раскрашивает красками. А дерево ведь всегда живое, считал Василий: сколько бы лет или десятилетий назад его ни срубили, оно все равно живет, и буквально у каждого кусочка своя красота, свой цвет, свой узор, у всех, у всех, и они, эти узоры ведь всегда мягкие, плавные, а стало быть, и формы у деревянных вещей должны быть такими же плавными, живыми, и любое добавочное украшение тоже, чтобы подчеркивать, показывать эту вечную внутреннюю жизнь дерева. — Прежние, давние мастера-то на Руси вон как всегда это чувствовали и показывали — на любую старинную вещь погляди. И однажды Василий взял да и вырезал узор из вьющихся упругих вроде бы веток и листьев, но на самом деле это были не ветки и не листья, а чистый орнамент из очень их напоминающих выпуклых, переплетающихся, будто совершенно живых завитушек, которые казались вовсе не вырезанными, а рожденными самим деревом. Фон между узором не выбирал, оставлял где можно горбыльками, подушечками. Получалось, будто бы шкатулка целиком из нетронутой толстенной вековой коры вырублена. И борозды на ней, переходя с крышки на стенки, сами в сказочные деревца складываются, и меж ними даже травка есть. Форменные лесные хитросплетения, чащоба. Назвал Василий этот невиданный дотоле вид резьбы пальчиковым; на крошечные пальчики переплетающиеся он тоже походил. И в этот узор еще и наивные цветы и капельных птичек стал вставлять. Он очень любил птиц и их пение и вставлял их везде: то в центре, на главной ветке, то в уголках, а бывало, и с тыльной стороны шкатулки, безо всякого обрамления. И всегда разных, но чаще всего поющих, с разинутыми клювиками. 276 Он был истинным, одержимым художником. Спал не более четырех часов в сутки. И хотя в помощниках у него был тоже вовсе не ленивый брат Михаил, Василий и всех остальных домашних заставил помогать: жена и две невестки качали ногами в зыбках грудных детей и одновременно шкурили или морили сделанные мужьями вещи. И мать помогала. А отца-то уже не было. А когда дети засыпали, жена и невестки брались за резаки и стамески и резали под присмотром Василия мелкий простейший орнамент. Это у них называлось «работа матерей». И он еще всех постоянно подгонял, потому что всегда был полон новых идей и делал все новые и новые вещи. Придумал и цветные вощения, и разные полировки изделий, отчего они выглядели еще красивей, а нередко и просто сказочно. Разнообразие и количество сделанного Ворносковым ошеломляет: всевозможные шкатулки, ларцы наподобие старинных, хлебницы с прорезными ручками, поставцы, ковшики и большие ковши, солонки-утицы, коробки в виде куриц на четырех лапах, мелкие декоративные фигурки зверей и птиц, огромные ковши, какие резали в старину для тризн и братчин, с птичьими и конскими головами. Один такой ковш в виде ладьи, сделанный для Всероссийской промышленно-кустарной выставки, был почти четырех метров в длину с мощно изогнутыми стилизованными конскими головами на обоих концах; длинные их гривы в летящие красивые кольца завивались. Откуда ни посмотришь — двигался, несся ковш-ладья, играл всеми тоже будто летящими красивыми узорами по напряженному округлому телу. Был у него и ковш-лебедь. Как настоящего лебедя и вырезал, в натуральную величину. Будто он спокойно плывет. Величавая, царственная птица получилась действительно живая, легкая и всем прекрасная: изгибом длинной шеи, распущенным хвостом, посадкой маленькой гордой головки, нарядом. Наряд именно такой, какой только и должен быть на царственной птице — условные перья, напоминающие сказочный павлиний глаз. Она вся в этих перьях, а на голове еще и хохолок взметнулся, как дивная корона. Покупал у Ворноскова всегда все оптом Кустарный музей, открывший в Сергиевом Посаде свой филиалмастерскую. Да еще и просил всегда, чтобы привозили побольше, потому что спросом ворносковские изделия пользовались невероятным, в том числе и за границей. 277 А глава музея Сергей Тимофеевич Морозов и персональные заказы не раз делал, и наконец предложил даже устроить персональную выставку Василия Петровича. Первую в истории России персональную выставку изделий крестьянина-кустаря-художника; он ведь так и продолжал летом крестьянствовать, как все в Кудрино,— пахал, сеял, жал, держал скотину. Резьбой занимался в основном зимой, летом лишь урывками. Родной брат знаменитого строителя Московского Художественного театра Саввы Тимофеевича Морозова, совладелец всех гигантских морозовских мануфактур и несметных миллионов, Сергей Тимофеевич, однако, мало занимался в молодости своими мануфактурами и больше всего времени и немалые деньги тратил на художниковкустарей, на поддержку и развитие традиционных народных промыслов, которые, не выдерживая конкуренции с быстро растущей российской промышленностью, начали хиреть и гибнуть в ту пору один за другим. По инициативе Морозова Московское земство организовывало кооперативные артели кустарей, специальные мастерские, как в Сергиевом Посаде, специальные школы. Сергей Тимофеевич выстроил для Всероссийского кустарного музея в Леонтьевском переулке великолепное здание, вернее — целый ансамбль зданий, похожих на древнерусские терема. Он был постоянным почетным попечителем этого придуманного им музея, ежегодно выделял ему солидные суммы на приобретение новых вещей и в так называемый «морозовский фонд» — на премии за лучшие произведения русского народного искусства и за лучшую их популяризацию. Одно время и директорствовал в этом музее, собрав туда таких, как сам, страстных и деятельных почитателей и знатоков народного творчества, и их общими стараниями Кустарный музей был превращен в подлинный исследовательский и экономический центр российских художественно-прикладных промыслов. Мастера получали здесь и в нескольких филиалах на местах заказы, эскизы изделий, материалы, им помогали в работе художники-профессионалы, в музее можно было познакомиться с лучшими образцами и с большой коллекцией старинных вещей. Здесь существовал свой магазин-выставка. Были собственные магазины и в других городах, и даже в Париже, называвшийся «Русские кустари». Сергей Тимофеевич и дома имел богатейшую коллекцию изделий народных художников — как давних, так и современных. Говорили, что он и сам любит рисовать со 278 старинных вещей —с резных, расписных. Сам будто бы нередко и новые эскизы составляет для музея... Привезенные Ворносковым вещи распаковывали прямо в музейном магазине. И сразу расставляли их на полках, на прилавке, на столиках. Больше половины зала заняли, а он огромный. И хотя вокруг были и разные другие изделия — резные полочки, рамки, шкатулки, табуретки, много всяких плетений из лозы и стружки, разноцветное шитье, кружева, гончарная посуда, новые ворносковские работы все равно выглядели интересней, нарядней, красивей всех. И ни одна не повторяла другую — все разные, все причудливые, все немыслимо узорчатые. Огромный сводчатый зал со сводчатыми окнами прямо на глазах превратился в древнерусскую сказочную палату. Лица у присутствующих восторженно светились. Появился Сергей Тимофеевич. Да не один — с какимито представительными дамами и господином. Как всегда неторопливый, осанистый, холеный, в русой бородкелопаточке волосок к волоску, темно-серый костюм как влитой на нем. Внимательно все оглядел, тоже просиял, подошел к Василию, обнял и трижды поцеловал. Тот от неожиданности смутился, но быстро оправился, разулыбался. — Это за талант! — сказал Морозов.— Знаешь хоть сам-то, что нет в России резчика лучше тебя? — Теперь буду знать. — Истинная Русь: ее дух, ее красота, ее сказочность. А мы-то, господа, думали, что все навсегда ушло, умерло. А он ведь не только все воскресил, он и своего, ворносковского, совершенно нового сколько внес... Господа! Прошу почествовать великий талант, дорогого нашего Василия Петровича Ворноскова! Морозов захлопал. И все остальные горячо и долго, долго хлопали... Ворносков участвовал во всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, Праге, в нескольких Всероссийских, получил на них восемь золотых и серебряных медалей и премии. Его после Петербургской промышленно-кустарной выставки приглашал к себе царь Николай Второй и пожаловал званием Почетного гражданина города Дмитрова (Кудрино входило в Дмитровский уезд). И собственную, узаконенную школу Ворносков имел, более тридцати кудринских подростков резьбе выучил, а потом долго возглавлял самостоятельную Кудринскую артель резчиков. 279 И все семь его сыновей стали замечательными резчиками, причем двое — Василий и Петр — профессиональными резчиками-скульпторами. И все-таки это был, пожалуй, единственный более-менее удачный пример всамделишнего, ощутимого сближения культур — народной и господской... Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева затеяла в своем имении под Смоленском Талашкине повторить и даже превзойти то, что делали Мамонтовы в Абрамцеве. Тоже собирала там крупнейших художников. Выстроила затейливейший дом, названный «Теремом». Выстроила великолепный храм-усыпальницу «в русском стиле», который расписал Николай Константинович Рерих. Создала несколько школ-мастерских для крестьянских детей: гончарную, резьбы по дереву, шитья, кружевную. Главным художником и руководителем этих мастерских и вообще всей усадьбы сделала художника Сергея Васильевича Малютина. Народные искусства он знал, как большинство тогдашних его почитателей, еще очень приблизительно, но почему-то считал, да и все вокруг считали, что он знает его по-настоящему и чуть ли не лучше всех в России, хотя на самом деле он был страстным поклонником процветавшего тогда у нас модерна. И еще он считал, что должен «поднимать» народное искусство до высот профессионального, должен учить этому народных мастеров, но практически учил их псевдорусской модерновой стилизации «а ля рус». Всего-навсего. И талашкинский распестренный «Терем» Малютин выстроил таким же модерновым и, по существу, не имеющим к истинно русскому деревянному зодчеству почти никакого отношения. А настоящего, сильного природного таланта, подобного Ворноскову, способного противостоять этому, там не оказалось, и все кончилось практически ничем — нового промысла, как из Абрамцева, там не выросло. К сожалению, никто из этих благороднейших образованных людей, так искренне стремившихся к своему народу, стремившихся по-настоящему послужить ему и России, еще не понимали, что в художественной-то культуре они не учить должны были народ, а сами всерьез и долго у него учиться. СКУЛЬПТУРА Учиться хотя бы у богородских игрушечников (до которых от Абрамцева всего сорок пять верст) и которые к тому времени уже превратили свои деревянные фигурки 280 Богородское. Пахарь в самые настоящие скульптуры, или, вернее, скульп-турки, хотя вырезались они, конечно, по-прежнему для детворы и для игры в первую очередь, и многие из них были подвижными. На круглой дощечке с ручкой рассевшиеся кругом семь, девять курочек, если эту дощечку покрутить, начинали клевать воображаемое зерно — шеи с головками были у них на шарнирчиках. Два мужичка на движущихся палочках, при их подергивании, колотили молоточками по наковальне. Или мужичок с медведем в том же соревновались. Или мужик колуном полено колол, когда дергали из подставки за круглую палочку. Или медведь колол. Или целый взвод солдат занимался шагистикой на большой подвижной платформе. Целое стадо коров, овец и коз шагало с пастбища на похожей платформе. Чего только не было подвижного. Неподвижного же еще больше. Мужик пахал на лошадке. Мужик вез в санях бревна или дрова. Плел лапти. Баба пряла пряжу. Стирала в корыте белье. Мальчонка удил рыбу. Барин ехал в пролетке. Или мчался на бешеной гривастой тройке в санях. И некрасовский генерал Топтыгин мчался, разинув в рыке зубастую пасть. Медведей было больше всего: медведи ломали деревья, воровали мед, объедались медом, дрыхли, помогали людям в разных работах; полно было сказочных медведей: трех хлебающих щи из разнокалиберных мисок, делящих с мужиками вершки и корешки, несущих в корзинах за спиной девочек... Медведь — любимейший персонаж Богородского, ставший по сути его негласной эмблемой. Была даже вырезана целая «Медвежья свадьба», повторившая объемно такую же некогда очень популярную 281 Богородское. Резчики лубочную картинку: девятнадцать подвыпивших медведей, медведиц и медвежат, одетых во фраки, длинные платья и просто в жилетки с выпущенными рубахами, препотешно пляшут. Они довольно крупные, сантиметров до пятидесяти в высоту, и все очень правдашние, совсем живые, мягонькие, но явно сильные и очень разные, у каждого свой характер. Персонажи Богородского все очень реальны, все живые и с яркими характерами — любой человек, любой зверь, животное, птица. Только все маленькие и деревянные, из беловатой светлой липы. В девятнадцатом веке фигурки тут уже редко когда красили, оставляли живое дерево. Автор «Медвежьей свадьбы» Николай Андреевич Ерошкин — главный, можно сказать, богородский сказочник. Больше всего любил изображать сказки, особенно со зверями. И сказочные лучшие медведи в основном его, но есть и волки, и лисы, и зайцы, и вороны. Только медведей и очень, очень разных, всегда великолепных, полных жизни и поразительно симпатичных, от самых крошечных, буквально с мизинец, до почти метровых резало семейство Барашковых. Их было три брата. А брат Ерошкина Федор Андреевич, Иван Алексеевич Рыжов и Андрей Яковлевич Чушкин — лучшие богородские жанристы. 282 Богородское. Медвежья свадьба Жанр, особенно многофигурный, в скульптуре очень редок. Потому что одно дело вырезать одну фигуру, ну две вместе, а пять или десять, да в каком-то действии, в сюжете, в определенном состоянии — это же в пять, в пятнадцать, в двадцать раз труднее. Федор Ерошкин же, Рыжов и Чушкин делали в основном именно это, делали жанровые, многофигурные композиции: бабы стряпают пироги у печей, мужики судачат на завалинке, старики рассказывают малышне сказки, на току молотят снопы, солдаты расположились на отдых — всего и не перескажешь. Андрей Яковлевич Чушкин создал даже библейскую многофигурную сложнейшую «Лестницу жизни», а потом, подобно Николаю Ерошкину, объемно повторил и знаменитый лубок «Как мыши кота погребали». Шестьдесят шесть деревянных мышей тянут по почти метровой доске сани с мертвым связанным жирным котом и веселятся, многие улыбаются, а у «мертвого» кота, между прочим, один глаз хитро, зло приоткрыт... Богородские скульптурки — это совершенно особый огромный художественный мир, с которым лучше всего 283 знакомиться, когда их много, как можно больше,— тогда невозможно часами оторваться от этих маленьких и не очень маленьких, симпатичнейших, потешных, добрых, умных, глупых, злых и всяких, всяких иных человечков, медведей, коней и прочей живности, птиц и многого, многого другого. Целый живой деревянный мир. Спросом творения богородцев пользовались всегда колоссальнейшим, наверное, и ни одного господского-то дома не было, где бы в детских не было этих скульптур-игрушек. И у многих взрослых они стояли на полках и за стеклами шкафов. Вы помните, их десятками закупали и на царский двор. А уж о домах простолюдинов и говорить нечего. За века их наверняка вышло из села не тысячи, а многие миллионы. Десятки ведь семей этим занимались из поколения в поколение. И к концу девятнадцатого века земство уже построило там большие кирпичные мастерские и училище, совмещавшее общеобразовательный курс с обучением резной скульптуре. Это было первое подобное училище в России. А вот в деревне Тимирёво Егорьевского уезда Рязанской губернии никакого деревянного промысла никогда не существовало, да и деревня была невеликая, и стояла не на бойком месте, однако жил в ней крестьянин Василий Тимофеевич Савинов, который каждую свободную минуту — свободную от хозяйства — что-нибудь да вырезал. Рассказывали, что иногда и обедать садился с чурбачком и ножиком в руках. Мальчишкой учился в соседней деревне в школе, в молодости побывал в Москве на заработках, но чем именно там занимался, неизвестно. Потом вернулся в Тимирёво в отчий дом, поставил в огороде небольшую мастерскую с верстаком и украшал резными фигурами и фигурками буквально все, что только можно было украсить. Именно человеческими фигурами и фигурками. Жене и родственницам делал прялочные донца, головки которых — это мужичьи бородатые головы с разинутыми ртами: в них вставлялись гребни для кудели. Скворечники на крыше своего дома сделал в виде смешной пары: носатой бабы в платке и мужика в большой кепке. Скворцы влетали в разинутые круглые рты этой пары. Все его засовы и вешалки — это разные человечьи головы с длиннющими носами или такими же длинными дразнящими языками. Входивших же в его дом в сенях встречали две фигуры в полный человеческий рост: молодая женщина с ра- 284 В. Савинов. Мужик душно, широко раскинутыми руками; в одной она держала откупоренную бутылку, а в другой стакан — вот-вот нальет, чтобы приветствовать гостя. Она приветливо улыбалась. Но напротив нее, у другой стены стоял, расставив ноги, хмурый-хмурый мужчина со здоровенной Дубиной в руке. Он нисколько не радовался гостю — чего, мол, приперся!.. Многие, попадавшие в дом впервые, очень их пугались, потому что обе фигуры были еще и очень натурально раскрашены. Живые и живые. 285 Заехал как-то в Тимирёво ловить рыбу, увидел его скворечники и такие же ульи, забыл про рыбалку, купил у Савинова несколько вещей, стал опекать, давал заказы. Он опекал в своем уезде всех народных художников и умельцев, собирал их произведения, построил в Егорьевске специальное здание для этого собрания и пускал в него всех желающих бесплатно. А Василий Тимофеевич, в знак признательности, изваял, а точнее, вырезал из цельного дерева великолепный портрет Бурдыгина в натуральную величину. Сидит в кресле этакий спокойный бородатый большелобый купец с очень русским мягким умным лицом и с разными медалями и крестами на груди и на шее. Одна большая натруженная рука свисает с подлокотника кресла, вторая лежит на колене. Глубоко психологичный и явно очень похожий скульптурный портрет. Кстати, судя по чудом уцелевшей старинной фотографии, сам Василий Тимофеевич Савинов был такого же спокойного мудрого обличья, только борода пошире. ДЫМКА В. Савинов. Портрет купца Бардыгина — Батюшки-святы, да кто это тут?! Однажды зимой сыновья Василия Тимофеевича будто бы вынесли эту бабу с бутылкой на улицу и приморозили у колодца. Пришли девки за водой, спрашивают у стоящей: «Воду будете брать?» Молчит. Еще спрашивают — ответа опять нет. Начали сердиться. Одна девка приблизилась и толкнула ее ведром: «Тебе говорят!» А от той звон пошел. Неживой! Девки как заорут со страху и все врассыпную. Очень любил Савинов делать солонки с крышками. Много их переделал. Крышки украшал сплошным орнаментом, а стенки сплошными миниатюрными барельефами. Целые повествования разворачивал: на одной покад-рово, как справляется Масленица, на другой — весенние полевые работы, пахота, сев, на третьей — сцены из земского суда, в который обратились крестьяне. К счастью, этого необычайно талантливого человека приметил егорьевский купец Бурдыгин (имя, отчество установить, к сожалению, не удалось). 286 А в Вятке, вернее, в слободе, которая прямо напротив этого города, за рекой Вяткой, и зовется Дымково, костистая, скуластая, веселая молодая вдова Анна Афанасьевна Мезрина стала в то же самое время делать глиняные игрушки, которых прежде тоже нигде не бывало. Вообще-то глиняные игрушки лепили по всему белому свету с доисторических времен уже не одну тысячу лет, и у нас в стране это были обычно куклы для девчонок, кони для мальчишек и свистульки в виде коньков, утиц, барашков. Кое-где их примитивно раскрашивали, кое-где глазировали цветными поливами, но чаще так чистыми и обжигали, закаливая глину в печах. На всех базарах ими торговали, офени по деревням разносили. На праздниках тогда принято было свистеть в такие свистульки, даже взрослые свистели для веселья и озорства. А в Вятке и особый такой праздник существовал по названию «Свистунья». Да с ярмаркой, с качелями и каруселями, балаганами, кукольными Петрушками и учеными зверями, на котором все не просто свистели-посвистывали, а поголовно целый день соревновались, кто кого пересвищет: кто громче, кто дольше, кто заливистей, с трелями да коленцами и другими выкрутасами287 А. Мерзина прибамбасами. Ладно ребятня и молодежь — солидные, совсем незнакомые люди сходились, схлестывались на площадях, на улицах и во дворах. Даже у еле передвигавшихся стариков из белых бород торчали розовые коньки или барашки. К вечеру все просто глохли от свиста, но все равно продолжали свистеть, раздувая щеки и тараща сияющие от великого удовольствия глаза. Рассказывают, что чуть ли не все птицы отлетали тогда от бурлящей народом Вятки — не выдерживали этого свиста. Делались же все свистульки для «Свистуньи» и другие глиняные игрушки в слободе Дымково. Потому что возле нее глина больно хороша: вязкая и в меру жирная, очень хорошо лепилась. Сколько времени кормилось Дымково этим промыслом — неведомо. Мужики-то 288 в основном рыбачили, а женщины лепили. Но то, что никакими особыми художествами здешние игрушки не отличались, это известно. Все было, как везде. А вот веселая песенница и прибауточница Мезрина придумала свои игрушки богато наряжать, в первую очередь кукол барынь и барышень, которых лепила необычайно статными, величавыми, будто плывущими лебедушками. Придумала их сарафанам, платьям и шубейкам пышные волнистые оборки и разные другие украшения, причудливые кокошники, кики, шляпы и шапочки, в руках зонтики, муфточки или цветы. После обжига обязательно их белила ею же придуманными белилами с мелом и сметаной и лишь по белому расписывала-раскрашивала самыми звучными и радостными желтыми, оранжевыми, малиновыми и сине-голубыми красками на яичных желтках — чтобы сильней блестели. Где сплошняком закрашивала, где лентами, и непременно кольцами и яблоками. Щеки у всех и те румянила только круглыми яблочками. То есть делала девиц и барынь до того нарядными и величавостатными, что каждая получалась истинной раскрасавицей, истинно плывущей лебедушкой. Поразительно сказочно-поэтичный, поразительно русский образ создала. А следом и все другие игрушки стали делать такими же нарядно-радостными: и те, которые в Дымке лепили издавна,— кормилиц, всадников, парочки, мужичков, коней, индюков, собачек, петухов, утиц, и без конца придумывала новые, нигде дотоле невиданные: ученых медведей, коз, наряженных в сарафаны, мальчишек и скоморохов на козлах, на свиньях, играющих мячами собак, мужиков и солдат с собаками в лодках, девиц у колодцев, водоносок, деревья в огромных фантастических цветах, птиц на деревьях, нянь с ребятишками, балалаечников... Но ведь до Мезриной эти персонажи были в лубках. Да, она явно заимствовала их оттуда, но создала уже своих — глиняных, скульптурных. Мало того, Анна Афанасьевна делала тогда в Дымкове глиняные игрушки уже одна-разъединственная. Вся остальная слобода в конце века перешла на отливку мещанских гипсовых раскрашенных статуэток, что было, конечно, намного проще и прибыльней: отливать по готовым формам всяческих пастушек, пастушков и прочую Дребедень по завезенным из Европы образцам. И если бы е она, промысел умер окончательно, исчез бы бесследно- А благодаря ее одержимости не только не исчез, но и 289 начал воскресать, а точнее говоря, народился совершенно новый. Сначала она выучила лепить такие же веселые нарядные скульптурки свою дочь Саню, потом две ее лучшие подружки, когда-то тоже лепившие из глины, Елизавета Александровна Кошкина и Елизавета Ивановна Пенкина, попробовали лепить, как она, по-новому, и увлеклись так, что без конца старались хоть в чем-нибудь да обойти, превзойти свою вдохновительницу. Кошкина многофигурные жанровые композиции стала делать про домашние заботы, про огород, про семейные чаепития и праздники. До Мезриной композиций в дымковской игрушке вообще не существовало, она первая их придумала, но у Елизаветы Александровны они намного сложнее и многофигурней. А Елизавета Ивановна Пенкина огромных разъемных кукол выдумала и большие составные композиции из отдельных фигур — как хочешь, так и составляй. «Сказку о царе Салтане» такую сделала, «Трех прях», что пряли под окном поздно вечерком, Кащея Бессмертного с Серым волком. Потом и вторая дочь Мезриной, Ольга Ивановна Коновалова, в дело включилась — тоже талантливая художница и большая выдумщица была. И пошла, пошла новая «дымка» и в родную заречную Вятку, и по всей России уже не только как игрушка глиняная, но и как неповторимая декоративная великолепная скульптура, необыкновенно украшающая любой дом, любое помещение. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА Напомним: так называемая просвещенная Россия начала «открывать» для себя народные песни лишь на рубеже восемнадцатого-девятнадцатого веков. А былины «открыты» в первые десятилетия девятнадцатого. Еще через два-три десятилетия — большинство сказок, обрядов, поверий, легенд. Живые же сказители и творцы устой литературы обнаружены лишь в шестидесятых. Да даже наш грандиозный бесценный «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля и то ведь завершен изданием лишь в 1878 -всего сто двадцать с небольшим лет назад. А художественные и все прочие достоинства лубочной картинки в полной мере показал и доказал еще поз290 же в восьмидесятые, сенатор и прокурор Московской губернии Дмитрий Александрович Ровинский. А подлинное художественное значение древнерусской иконописи и даже творения таких исполинов, как феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий, начали открывать, постигать и осмысливать вообще только на рубеже двадцатого века, и процесс сей не завершен и поныне. «Открывать» же иконы в смысле расчищать, снимать с них верхние почерневшие за века слои олифы, под которыми прячутся полнозвучные живые краски, научились еще позже и тоже по сей день совершенствуют это. А полную самобытность и величие древнерусского деревянного и каменного зодчества первым осознал и доказал уже в десятые годы двадцатого века — двадцатого!!— человек фантастической энергии и работоспособности, блестящий живописец, крупнейший наш историк и теоретик искусств, создатель отечественной школы реставрации, создатель научно-исследовательского института искусств, многолетний директор Третьяковской галереи и прочее, прочее — Игорь Эммануилович Грабарь. Он же был и автором первой пятитомной дореволюционной «Истории русского искусства», и главным автором и шеф-редактором второй шестнадцатитомной академической «Истории русского искусства», завершенной изданием всего три десятилетия назад, в шестьдесят девятом. И хотя в некоторых томах там есть маленькие главки и о народном искусстве, но лишь о древнем и об изобразительных прикладных. А истории всей русской народной культуры так и нет, она все еще изучается, все еще только осмысливается, просвещенная Россия все еще открывает ее для себя — то есть процесс, как видите, все продолжается. И естественно, что при таком совсем еще малом, поверхностном знакомстве с народным творчеством, а то и полном национальном невежестве, подавляющее большинство профессиональных, ученых творцов-художников долгое время и ведать не ведали и думать не думали, что во всех народных искусствах есть свои, очень и очень определенные и серьезные принципы, что в них буквально все не случайно и очень многозначно. И потому, разрабатывая национальные, народные темы и сюжеты, выводя, изображая хоть словом, хоть красками или чем иным народные, национальные образы и характеры, они были убеждены, что их произведения уже подлинно и глубоко национальны. А то, что народ не принимал их, как тот же васнецовский «Страшный суд», ъясняли исключительно его, народа, необразованнос291 тью и невежеством. Не случайно же Поленова в Абрамцеве и Малютин в Талашкине учили крестьян тому, что сами знали еще весьма и весьма мало. А до них были даже «профессиональные» литераторы, которые и народные сказки и былины «переводили», пересказывали на печатных страницах так называемым литературным, облагороженным, а по сути совершенно выхолощенным, бесцветным, мертвым языком. Читать это и смешно и противно. Но читали же! А то, что песни профессионалов принимаются народом, просто не брали во внимание. Вот и получалось, что сверхидейные и сверхнародные по темам передвижники, к примеру художественно, по форме почти ничем не отличались от тогдашней реалистической живописи немцев. Они, немцы, эту живопись и родили, и развивали, а наши были лишь прямыми их последователями. И как это ни грустно и ни обидно, но даже такой, казалось бы, могучий, сказочно-былинный, коренной русский художник, как Виктор Михайлович Васнецов, в сугубо художественном плане ничем не самобытен и не национален. И Нестеров, к великому прискорбию, тоже. У Михаила Васильевича даже существовал на Западе свой идеал, из которого он выводил собственный художественно-живописный метод,— Бестьен-Лепаж. Так что, видите, Лев Николаевич Толстой был еще очень редким исключением, когда по своей гениальности почуял и заявил, что мы пишем не на том языке, на котором говорит наш народ, и стал насыщаться на «Невском проспекте» близ Ясной Поляны народным духом и настоящим его языком. А потом вошел в полную творческую силу Николай Семенович Лесков — человек, который как никто всей своей плотью, каждой своей клеточкой чувствовал все самое важное, самое прекрасное, самое светлое, благородное и неповторимое, что есть в русских и России. И даже понимал, что и за худым, плохим у нас чаще всего стоят наши неповторимые особенности. И всю духовную бездонность, всю многозначительность народного творчества, его художественных принципов чувствовал как никто, и они стали художественными принципами и его прозы. Подлинно же народный язык, отражающий сам строй, дух и характер народного мышления, Николай Семенович не просто чувствовал — это был его собственный язык, и мыслил он точно так же,— и из всего этого и родились «Несмертельный Голован», «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уез292 па», «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Сказ о тульском Левше». Где, у какого, скажите, еще писателя есть такие, до самых, что называется, печенок, воистину русские, безумно страстные, бездонно душевные, кристально чистые, абсолютно бескорыстные, зачастую почти святые, но совершенно ведь взаправдашние, всем нам знакомые и поныне реально существующие характеры? Полные, кстати, и недостатков, которые, однако, не затмевают главного. Не случайно его Левша и Очарованный странник, и Несмертельный Голован, и кое-что еще воспринимаются как совершенно народные, будто им самим и сочиненные для устных сказов. Тот же образный строй, тот же завораживающий, напевный, поражающий своей яркостью и меткостью язык. Да, у Чехова, у Мамина-Сибиряка и Бунина тоже встречается нечто подобное, но лишь изредка, и рождено это уже позже, вослед Лескову. И не скоро, ох как не скоро и другие мастера искусств стали понимать, что дело не только в темах и сюжетах, но и в формах, что в формах и художественных принципах, выработанных самим народом, вообще не может быть ничего, ни капельки случайного, пустого, ибо за века народ отобрал в них, в свой образный строй лишь то, что было ближе и нужнее всего его душе, а значит, и полнее и глубже всего и отражает эту душу и характер народа, его любови и нелюбови. Да все, все! А стало быть, и полнее и проникновеннее всего русского человека только этими, самим им рожденными, самой его землей рожденными средствами и можно изобразить. Такие средства есть буквально у всех народов. Ибо как нет двух абсолютно одинаковых внешне и внутренне людей, так нет и абсолютно одинаковых, даже очень близких друг другу народов. И когда-то каждый из них создавал, развивал и совершенствовал свои художественные средства, символы, образы и свои искусства прежде всего для самопознания и самосовершенствования. Это уж потом они стали складываться в общечеловеческую культуру-то. И чем ярче, чем глубже была чья-то отдельная культура или отдельное искусство, тем больше они дали культуре общечеловеческой. И мы ведь по сей день лучше всего узнаем любой народ по его собственному творчеству. О китайцах или о норвежцах никакие французы или негры все равно никогда не расскажут лучше самих китайцев и норвежцев. 293 ...Петербург. Год тысяча девятьсот третий. Конец декабря. По перрону Московского вокзала следом за нагруженным носильщиком шел молодой русоволосый человек с большим холщовым зонтом. Зонт, конечно, был сложен, но публика все равно улыбалась — слишком непривычно было видеть летний зонт в морозном снежном декабре. Люди не знали, что это художник и что он с женой и двухмесячным сыном впервые едет за границу. Едет на целый год пенсионером Российской Академии художеств — была такая форма поощрения для окончивших обучение с «отличными познаниями в живописи и научных предметах» и получивших за дипломную работу золотую медаль. А ветреным майским полднем следующего года тот же холщовый зонт выгрузили вместе с чемоданами из извозчичьей пролетки на волжском берегу в городе Кинешме, прямо возле скрипучих сходен зелено-белого дебаркадера. И тот же художник, глянув на украшавшие высокий обрыв могучие, еще только одевавшиеся яркой листвой ветлы, тихо засмеялся и прошептал: — Здравствуйте! И, взяв у жены сына, пошел по сходням к парому. Это был второй и последний случай в истории Российской Академии художеств, когда ее пенсионер, заболев ностальгией, не пробыл за границей и пяти месяцев, вместо оплаченного года, и укатил из Мадрида, через Париж прямо в заволжское село Семеновское-Лапотное. От Кинешмы до него еще шестьдесят верст. Звали художника Борис Михайлович Кустодиев. А первым прервал заграничное пенсионерство лет за двадцать до того Василий Григорьевич Перов. Редко чья жизнь в молодости складывалась так счастливо, как у Кустодиева. Родившийся в Астрахани в семье служащего, он рано потерял отца, но матушка-музыкантша была столь деятельна и заботлива, что и детство прошло светло и безбедно. Восемнадцатилетним приехал в Петербург, поступил в Академию художеств и за первый же эскиз композиции «В мастерской художника» получил премию в шестнадцать рублей. Через год переведен в мастерскую Ильи Ефимовича Репина. Снова награда за наградой, уже в семьдесят пять и сто рублей на академических конкурсах эскизов. Участвовал в выставках, в том числе и на международной в Мюнхене, где ему за портрет приятеля художника Билибина была присуждена вторая золотая медаль. Сейчас этот изящный портрет широко известен и по праву считается в рус294 Б. Кустодиев ской живописи одним из самых психологически проникновенных и мастерски написанных. А ведь автору было тогда всего двадцать три года и он еще учился. В том же тысяча девятьсот первом году Репин приглашает Кустодиева и еще одного своего ученика — Куликова писать вместе с ним грандиозное, знаменитое ныне «Заседание Государственного совета». Борис Михайлович работал над правой частью огромного холста, и Илья Ефимович Репин в конце концов даже перестал прикасаться к ней кистью — до того это было близко его виртуозной могучей манере. После академии Кустодиев пишет небольшие жанро-вобытовые и исторические картины, картины на темы крестьянской жизни, множество портретов, в том числе оригинальнейшие семейные портреты-картины, решенные как поэтические жанровые сцены. Их начинают сравнивать с репинскими и серовскими, говорят о живописной утонченности, о глубине и остроте психологических характеристик. Приходит успех, достаток. У Кустодиева прекрасная жена, которую он «нашел» именно в костромских краях, за селом Семеновским-Лапотным. Зовут ее Юлия Евстафьевна. В трех верстах от имения Высокого, где она выросла воспитанницей, за деревушкой Маурино, Борис Михайлович покупает клочок земли и ставит там дом с мастерской, названный им «Теремом». В девятсот пятом У них появляется второй ребенок — дочь. 295 Работает он одержимо, всегда весел, красив, с элегантной русой бородкой и усами, одет безукоризненно даже дома, и простая деревенская косоворотка на нем и та в симпатичных цветочках и подпоясана цветным шелковым пояском. В тридцать один год от роду по предложению Репина, Куинджи и Матэ «за известность на художественном поприще» Кустодиева избирают академиком живописи Российской Академии художеств. А тремя годами позже, в тысяча девятьсот двенадцатом, прославленная галерея Уфици во Флоренции, где собраны автопортреты всех величайших художников Европы, заказывает такие автопортреты и трем русским живописцам: Илье Ефимовичу Репину, Валентину Александровичу Серову и ему — Борису Михайловичу Кустодиеву. И вдруг стала болеть голова — до рвоты. Потом рука. Даже малейший посторонний звук рвал больное место как клещами. Врачи не могли сказать, что это такое. Велели ехать в Швейцарию. Тогда все лечили Швейцарией. Десять осенних, зимних и весенних месяцев в клинике доктора Ролье в маленьком городке Лейзене неподалеку от Лозанны. В узких каменных улочках, среди узких каменных домов с островерхими черепичными крышами. Вместо снега — унылые дожди. По траве ходить нельзя даже там, где городок кончался. В парке — платные стулья. Перед окном, совсем неподалеку — одна и та же скалистая, похожая на гигантскую стену гора, которая в сумерки и в непогоды как будто оживала и приближалась, наползала, мрачнела, давила, казалось, что вот-вот заслонит, закроет собою даже остатки темного неба. Дышалось с трудом. К основной болезни прибавилась уже случившаяся в девятьсот четвертом — ностальгия: все время безумно, изматывающе хотелось домой, на Волгу, в Кинешму, куда он, как всегда, собирался ехать вместо этой неожиданной каменной Швейцарии. Он ежегодно ездил и по родной реке. И чтобы хоть как-то заглушить эту смертельную тоску, он взял там в клинике холст и, превозмогая боли в руке, написал на нем свою Волгу и свою Россию, которые, как оказалось, не только любил больше всего на свете, но просто и жить не мог без них. Написал самое неповторимое, самое дорогое, что виделось ему в них,— написал купчих: их четверо, они стоят на улице городка, похожего на Кинешму. Почему купчих-то? 296 Да потому, что в нашем купечестве и в начале двадцатого века крепко и бережно сохраняли национальное и в укладе жизни, и в одеждах, в строениях, в привычках. Да и тип дебелой купчихи-красавицы был именно тем типом женщины, который в русском народе всегда почитался как самый совершенный: чтобы, значит, кровь с молоком, чтобы стать и величавость, а лицо округлое, открытое, доброе да румяное, да с бровями вразлет. Такими они и стоят в его картине у фруктовой лавки с большой нарядной вывеской. А эта вывеска, и сама лавка, и все остальное, что мы видим, тоже самое что ни на есть типично русское: наряды купчих, ампирные домики, пышные облака в высоком небе, золотой калач на булочной, кисельно-красная церковка. Это, наверное, июль, теплынь, спокойствие, благодать и наслаждение. И переданы благодать и наслаждение в первую очередь цветом, обилием ярких желтых, золотистых и сине-голубых красок, их прозрачностью и теплотой. Кустодиев здесь впервые использовал в профессиональной живописи принципы русского лубка: построил все на декоративно контрастных, полнозвучных и радостных цветосоче-таниях и, как и в лубке, чуточку заострил не только цвет, но и все формы. То есть, как и поэты-песенники, заговорил на языке глубочайших художественных символов, выработанных самим народом, доведя их до высочайшего совершенства. И дальше каждая новая картина Кустодиева — это какаято новая творческая ступень в создании «типично русской картины, как есть картина голландская, французская». Это его слова. «А большинство русских художников всецело находятся в рабстве у Запада. Например, некоторые москвичи: лучшая оценка у них — «пахнет французами». В своих исканиях они только жалкие подражатели и технике, и содержанию искусства иностранцев — ездят у них на запятках»... Знаменитая пышнотелая, сдобная, разомлевшая ото сна на перине на расписном сундуке его «Красавица», откинувшая толстое шелковое розовое одеяло, опустившая нежные ноги на мягкую подставочку и стыдливо прикрывшая голые груди рукой. Иногда приходится слышать: «Неужели Кустодиев действительно любил такую красоту, что так вдохновенно и блестяще воспевал ее? Ведь уж больно полна, уж больно сдобна и нежна, а лицом проста и наивна. Уж очень смахивает на пышные розаны, наведенные на сундуке и на голубых обоях за ее спиной...» Но вы вгляди297 тесь, вглядитесь в эту телесную роскошь, в эту телесную чистоту и в чистоту ее светло-голубых ласковых глаз, в ее наивный, стыдливый жест и открытую улыбку — это ведь все опять же именно русская, очень целомудренная женская красота, которой в жизни всегда было сколько угодно, а вот в живописи — до Кустодиева — не было вовсе. Он говорил, что в этой картине «наконец-то нашел свой стиль, так долго ему не дававшийся». Впоследствии «Красавица» очень нравилась Горькому, и Борис Михайлович подарил ему один из ее вариантов. В 1916 году он уже ходил на костылях. Весной его положили в клинику Цейдлера на Фонтанке и сделали вторую операцию по удалению опухоли в спинном мозге (первую делали в девятьсот тринадцатом), и у него навсегда отнялись ноги. Полгода совершенно не разрешали ни рисовать, ни писать, но он потихоньку, ночами, а когда не было врачей, и днем, через сумасшедшие боли, все же пытался работать. И несколько месяцев спустя появилась первая его «Масленица». Та удлиненная «Масленица», которую можно видеть тысячи раз и все равно к ней тянет и тянет, и в Питере обязательно идешь в Русский музей постоять возле нее и помолчать, не двигаясь; ибо какие могут быть слова, когда человек наполнил обыкновенный холст такой живой, такой обжигающей и необъятной радостью. Она захлестывает, она вмиг уносит тебя в этот разудалый праздник, в котором ликует и звенит и одетая снегами и инеем неоглядная земля, каждое дерево ликует, каждый дом распластавшегося в низине большого города, и небо, и каждая церковь, и даже собаки ликуют вместе с мальчишками, катающимися с горы на санках. Это праздник всей земли — именно русской земли. Небо расцвечено завораживающими зелено-желторозово-голубыми сполохами, снег и иней наполнены сказочным розовым сиянием, звучные пестрые группы людей, гуляющих и катающихся на расписных санях, складываются в колдовские ритмы и нанизаны на невидимую, волнистую, динамично закрученную нить, и это воспринимается как особая музыка, как пластический, живописный повтор заливистого звона бубенцов, радостных всплесков гармошки, смеха, песен... А его широко известный «Московский трактир», растиражированный в миллионах репродукций и открыток, где семеро бородатых, раскрасневшихся извозчиков в яркосиних поддевках степенно чаевничают, держа блюдечки в руках, в выкрашенном пьяно-красной краской 298 трактире с пальмами, расписными подносами, белыми чайниками и картинами на стенах. Знаменитые его «Ярмарки», из которых не знаешь даже, какой отдать предпочтение, так они все наряднопраздничны, разудалы, радостны, так тоже звенят снегами и щиплются морозцем или полыхают разноцветьем осени, полны смехом и музыкой. Деревья в них тоже все праздничны, и дома, и небеса, и обильные, сказочно разнообразные товары, заполонившие бесчисленные лотки. Знаменитые его семейные и одиночные «Чаепития» — сахарно-белые купчихи с ямочками на щеках и локотках, на столах перед которыми рядом с сияющими самоварами каких только нет сладостей, калачей, варений, фруктов, баранок и прочих явств, да еще вальяжные, заласканные, холеные коты выгибают спины и сладко урчат заедино с самоварами. Чем тяжелее становилось ему самому, тем радостней становились его картины. Он сделал радость главной своей темой, придав ей глубочайшую идейную, философскую нагрузку. Новые и новые масленицы, сельские праздники, балаганы, новые красавицы, новые чаепития, уютные улочки и церковки, волжские просторы, светлые вёсны, богатые осени, вечерние беседы, тройки, сенокосы, купания, сборы в гости, прогулки, влюбленные парочки, счастливые лица, смешные вывески, воздушные шары, продавцы сладостей — всё, всё, что было отрадного в российской жизни, всё самое солнечное, уютное, веселое и разудалое в ней было теперь и в его картинах. И повторим: у народного искусства Кустодиев взял только его идейно-художественные принципы — затейливость, заострение форм и, главное, повышенную декоративную цветность, несущую основные эмоциональные нагрузки. А разрабатывал каждый цвет и цветосочетания как истый большой живописец: делал их насыщенными, прозрачно-бездонными, звучащими как музыка. Кустодиевская зима. Кустодиевские дали. Кустодиев-ские красавицы. Кустодиевские праздники. Кустодиевская Русь... Сегодня эти определения стали такими же привычными, как пушкинское, толстовское, репинское, левита-новское. Один писатель даже сказал, что ему еще с отроческих лет кажется, будто у нас где-то есть особый город — Кустодиевск, и, став взрослым, он потому и мотается без конца по России, что ищет его... 299 Единственное, что осталось добавить, что страшная болезнь уже до самой кончины не отпускала его, боли были постоянные и жуткие, и все великие радости и жизнеутверждения Борис Михайлович нес людям, прикованный более десяти лет к инвалидной коляске. Все писал и рисовал, сидя в ней, а очень большие полотна даже подвешивали почти горизонтально к потолку, и он писал их полулежа в коляске. Так написан и знаменитый портрет Шаляпина в роскошной шубе на фоне солнечной ярмарки. Вспомните, какой мощью и силой веет от него, каким оптимизмом и упоением жизнью. А ведь помимо того, что Кустодиев создавал такие шедевры лежа, ему еще и каждое утро подолгу массировали руки, чтобы они наконец ожили и он мог бы взять кисть или карандаш. Сколько и в этом подвиге истинно русского-то! А почти что земляк Кустодиева, тоже волжанин из Хвалынска, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин первым тогда же использовал в станковой картине принципы русской иконописи. Те же плоскостные четкие силуэтные композиции, та же цветовая гамма полнозвучных контрастных цветов-символов, среди которых преобладают красные и золотисто-охристые, а зеленые и зеленоватые и редко синие и голубоватые лишь дополняют, подчеркивают всю значимость, всю наполненность красным — прекрасным, а охристых и золотистых и их переливов — теплом, чистотой и глубочайшей задушевностью. Петров-Водкин писал в таком иконописном ключе молодых матерей с младенцами на волжских берегах, и они воспринимались и воспринимаются как русские мадонны. Писал так же «Девушек на Волге». Написал знаменитое «Купание красного коня», где совершенно иконописный, полыхающе-красный, могучий, вздымающийся конь с юным всадником — это, конечно же, символ России, омывающейся, очищающейся в свежей воде перед великим полетом. Сугубо ведь русский символ-то, из самой глубокой нашей древности. И одновременно совершенно современный даже нам, нынешним, и пребудет таким несомненно и в будущем еще века и века. В те же десятые годы прошлого века в мир пришел и Сергей Есенин, и наша профессиональная поэзия тоже стала наконец совершенно национальной. Да, да, конечно, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Блок и другие поэты чуть меньших масштабов — это все тоже мы, наше, наши характеры, судьбы, страс300 С. ЕсешР ти, думы и чаяния. И все-таки юлос самого народа в полную, самую глубинную свою силу зазвучал именно у него, у Есенина. Кольцов, Никитин, Суриков и другие крестьянские поэты все же еще как бы только подвели нас к народной душе, только чуть приоткрыли ее; Есенин же распахнул так, что все увидели ,как она огромна и бездонна, народная душа-та как необыкновенно чиста, наивна и искренна, как пронзительно остро, невыносимо остро все чувствует и переживает любую боль, радость, гадость, доброту, красоту.Как она смертельно болит и стонет, когда вокруг слишком много погани. Как от того же ярится и огненно лютует. То есть, в конечном счете, У Есенина, как ни у кого, видишь, как бесконечно духовно богат и прекрасен наш народ. И это, конечно же,потому что он сам с первого и до последнего дня своей жизни' был его неотрывной живой частицей. И если Пушкин, Лермонтов, Некрасов, 301 Блок и многие другие воспитывались и учились жизни, набирались знаний через иноземных гувернеров, домашних учителей, в лицеях, гимназиях и университетах по классической и отечественной литературам, историям, философиям, психологиям, специальным наукам и чужим языкам, по классике же овладевали стихотворчеством, то Сергей Есенин в сельской Кузминской и городской СпасКлепиковской школах лишь овладел общей грамотностью, а все остальные науки проходил у мужиков и баб, стариков и бабок, парней и девок на родных константиновских улицах, дворах и гумнах, на окских берегах и в заокских лугах, куда на все лето переправляют пастись весь здешний скот и где пастухи и подпаски проводят ночи у горящих или дотлевающих костров. А за теми лугами, всего в пяти верстах от Константинова лежит село Солотча со старинным монастырем, и от этого села начинается Мещёра — немеряные леса, тянущиеся на сотни верст к Касимову и Владимиру, и городок Спас-Клепики в них — и все это тоже для Есенина родное, исхоженное вдоль и поперек, с множеством знакомцев, друзей, наставников. Все его мироощущения и всё миропонимание — отсюда и от этих людей, и вся поэтика, весь ее образный строй, буквально каждое слово и интонация — из сих народных глубин, он лишь тоже вложил их в профессионально отточенные формы. И естественно, что его стихи сразу же стали стихами всех, кто чувствовал себя русским. Не какой-то отдельной социальной группы, или прослойки, или даже крошечной кучки эстетов, для которых пишут чаще всего большинство поэтов, а действительно для миллионов и миллионов, которые только и имеют право называться народом. Конечно, тем, кто вообще глух к поэзии, он безразличен, есть и активно ненавидящие его, и на это у них свои причины, о которых мы еще поговорим. Но их крохи. А тех, для кого он не просто родной, но и самый необходимый, позарез, почти как воздух нужный поэт, без которого совсем невозможно жить, чтобы не одеревенеть и не утонуть в мерзостях,— таких с каждым годом и каждым днем становится все больше и больше. И можно с полным основанием утверждать, что ныне Есенина у нас знают и любят уже куда больше, чем Пушкина, не говоря о всех других. И на его юбилеи в Константинове съезжается теперь народу намного больше, чем в Михайловское к Пушкину,— это зафиксировано документально: на столетии 302 Сергея Александровича было около ста тысяч. Причем стихи его там звучали в этот день не только со сцены во время официального чествования, но целый день и буквально во всех уголках ныне огромного есенинского музеязаповедника, созданного в Константинове: у его дома, на крутых окских откосах, на дорожках кашинского сада, в школе, где он учился, у Оки. Люди просто сходились группками, и кто-нибудь, переполненный до предела чувствами, читал его наизусть. Читал академик, читал глава правительства России, читал тракторист, читали школьники, какие-то женщины, солдаты и множество других людей, в том числе и большая группа цыган, которые перемежали чтение песнями на его слова. Песни его тоже пели везде. А в Сибири, по рассказам, на одной из великих тамошних рек есть паромщик, который очень любит парилку, ни одну субботу не пропускает. Поджарый, быстрый, неопределенного немолодого возраста, голова, шея и кисти рук коричневы почти до черноты от постоянного речного загара и ветров, отчего тело, ноги и руки его кажутся белее обычного. Как всякий без конца угощаемый паромщик, он, конечно, большой выпивоха, но в парилку под градусами является крайне редко — парилка для него святое. Постоит, постоит перед полком, обвыкаясь, и громко вдыхая-выдыхая огненный жар и все шире щербато улыбаясь, покряхтывая и нахваливая мужиков, так хорошо нынче понаподдававших, и обвевая себя легонько веником еще и не поднявшись наверх, уже заблажен-ствует, и от полного избытка чувств непременно начнет в полный голос читать или петь стихи Есенина. Не только его известные песни, но и другие стихи поет на собственные мотивы. Казалось бы, ну какие могут быть еще стихи да песни в сумасшедшей жаре, в пару, среди ахающих, крякающих, нахлестывающих себя вениками голых, малиново-красных, полыхающих мужиков. Однако получается нечто совершенно необыкновенное: ибо парилка— это ведь всегда праздник тела и души, а с ними, с есенинскими стихами, праздник становится полнейшим, поистине ликующим, потому что паромщик и читает и поет Есенина удивительно проникновенно, на пределе всех чувств: то ликующе восторженно кричит, то шепчет затаенно. И кто-нибудь из полыхающих мужиков, из механизаторов или пастухов, а то и двое, трое обязательно начнут или подпевать ему, или вместе, а то и по очереди с ним читать — многие помногу знают Есенина. А паромщик утверждает, что знает всего,— и это 303 Горький тоже поразительно, и потому десяток постоянных парильщиков готовы слушать его без конца. Повыскакивают под ледяной душ, а в ноябре уже и в рыхлый снежок, маленько поостынут — и обратно. И необыкновенный праздник продолжается. Думается, что сам Есенин страшно бы радовался, что его поэзия живет и так. А за два десятилетия до Есенина Максим Горький — тоже плоть от плоти народной, только городской,— привел в русскую литературу тех, кого в ней прежде никогда не было и кто всегда считался дном общества: бродяг, воров, грузчиков, проституток, рабочих, нищих, прачек, ремесленников. И еще привел взявших жизнь в свои руки могучих купцов. И показал, как и в этих людях под304 Шитье жемчугом и каменьями. XVII век Роспись. Хохлома Песня. Дьшковская игрушка В. Ворносков. Ларец Чаепитие. Филимоновская игрушка Свадьба. Дымковская игрушка На скамейке. Филимоновская игрушка Возок. Полхов-Майдан Матрешки. Полхов-Майдан Подносы. Жостово Боченок. Скопин Подсвечник. Скопин Масленка. Гжель Кувшин. Гжель Квасник. Скопин И. Голиков. Музыканты. Палех И. Голиков. «Плач Ярославны» И. Ливанов. Сладку ягоду рвали вместе. Палех В. Ходов. Тришкин кафтан И. Голиков. Тройка Шаляпин час много истинного благородства и человечности, как большинству из них ровным счетом наплевать на мещанскую бездуховную сытость и обеспеченность и как онл ищут подлинно высокого смысла жизни. Показал мятущихся, мыслящих глубоко и страстно, решительных и бесстрашных, готовых на любые схватки и подвиги. Потому-то ярчайшие образы Горького и стали настоящими символами клокочущей предреволюционной России, ибо несли в себе вольный дух народа нашего и его великий романтизм, рожденный неизбывной верой в добро и справедливость и вековечными их поисками. А необыкновенный кудесник слова Михаил Михайлович Пришвин в самой русской земле, в ее природе, ее зверях, птицах и людях открывал тогда же столько нового, неповторимо прекрасного и поэтичного, что даже те, кто вроде бы знал и любил Россию, вдруг обнаруживали, что о самом удивительном в ней почти и понятия-то не имели. И. Голиков. Папиросница 305 Н. Плевицкая Молодой же Владимир Маяковский писал о тех горожанах, которые сформировались в начале двадцатого века в растущих как на дрожжах городах, городках и поселках. Писал их же собственным, только что народившимся языком, в урбанизированном образном строе: На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? И частушками он вовсю пользовался. А в архитектуре тогда же к подлинно национальным формам пришел Алексей Викторович Щусев, построивший в Москве Казанский вокзал и сказочно-дивное подворье Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке. И виртуоз русского модерна, официально именовавшийся его отцом, Федор Осипович Шехтель возвел абсолютно русский по формам Ярославский вокзал в Москве. А Александр Никанорович Померанцев — здания нынешнего ГУМа на Красной площади, где национальные традиции были органично слиты с самой передовой строительной инженерией. 306 В музыке в глубоко национальном ключе работал Сергей Васильевич Рахманинов, начинал Игорь Федорович Стравинский. На театрах во всей своей исполинской силе был Федор Иванович Шаляпин со всем его необъятным народным репертуаром. И Леонид Витальевич Собинов был в полной силе. «Шаляпин, Плевицкая, Горький — вот каких гигантов дарит нам земля русская» — писали тогда газеты. Надежда Васильевна Плевицкая была собирательницей и исполнительницей народных русских песен. Такой бесподобной исполнительницей, что люди буквально заходились от восторга, безумно радовались и горько, нисколько не стесняясь своих слез, рыдали, слушая ее. Царь Николай Второй назвал ее «курским соловьем» и «печальницей земли русской». Курским потому, что родилась в селе Винниково Курской губернии, в многодетной крестьянской семье, а печальницей потому, что она «за восемнадцать лет непрерывного певческого труда,— писала она сама,— я отыскала и впервые спела со сцены до полутора тысяч песен. В поисках исколесила по землям и весям в дожди и снега тысячи верст» — и многие песни были очень печальны. Но и такие, ныне всем родные, как «Ухарь-купец», «По старой Калужской дороге», «Хасбулат удалой», «Когда я на почте служил ямщиком», «Помню, я еще молодушкой была», тоже подарила нам она — исполнила со сцены первой. «Всех покорял не только ее чарующий голос, но глубоко драматическое исполнение» и «ее типично русская красота и яркость и многогранность таланта». Слава Надежды Васильевны была неописуемой: лучшие сцены всех городов буквально рвали ее друг у друга, пресса захлебывалась в эпитетах, семейство государя без конца приглашало петь им, она выступала вместе с Шаляпиным, с Собиновым, дружила и была бесконечно любима Станиславским, Саввой Морозовым, Москвиным, Качаловым, Константином Коровиным, Куприным, Рахманиновым и многими другими великими. Сергей Тимофеевич Коненков,— кстати, тоже сын смоленского крестьянина,— изваял отличный портрет Плевицкой, который поныне в коненковской мастерскоймузее. И еще Коненков ваял тогда из деревянных колод таких старичков-полевичков, леших и вещих старушек, что они казались никакими не скульптурами, а самими нашими дремучими лесами рожденными живыми суще307 ствами. Полевички — так даже с блестящими глазамикамешками-голышами. Глядишь на них, и чудится — вот-вот заговорят. А его знаменитая деревянная «Вещая старушка», что пребывает в Третьяковской галерее,— это великолепный портрет сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — Махоньки. А в Малом театре тогда священнодействовала Мария Николаевна Ермолова, а в Питере — Вера Федоровна Комиссаржевская — характеры тоже истинно национальные, величавые, глубочайшие и чистейшие как родниковая вода и столь же неустанно живые и живительные. В общем, литература и искусство в десятые, в предвоенные и предреволюционные годы обрели наконец те самостоятельные, самобытные формы, без которых они никогда бы не стали общенациональными и общенародными. Однако ведь тогда же родилось и великое множество всяческих эстетствующих течений, объединений, групп: «Мир искусства», «Бубновый валет», футуристы, имажинисты — каких только истов и измов не было. И цели многие из них ставили перед собой весьма и весьма достойные: поиски новых художественных форм и средств, созвучных времени. Это необходимо искусствам, это развивает и совершенствует их. И тот же «Мир искусства», к примеру, в который входило немало блестящих талантов, включая Кустодиева, Петрова-Водкина и Грабаря, сделал в этом плане очень и очень много. Но в то же время именно это объединение выдвинуло и известный лозунг чистого «искусства для искусства», и для большинства исповедывавших сей принцип главными стали не основные задачи любого искусства и литературы всемерного служения людям, а лишь сами художественные свойства и средства. Художество превращалось в самоцель. Но происходило подобное, естественно, только с теми, кого мало что волновало в реальной жизни и кто или совсем не знал ее, или не хотел знать, сознательно отгораживаясь от нее, то есть кто был так же далек от своей страны и народа, как некогда ее господа-хозяева. И нужны были художественные «достижения» сих творцов лишь им самим, им подобным да зажравшимся эстетствующим снобам, то есть опять же очень и очень немногим. Основную же, многомиллионную массу россиян такое искусство никогда никак не касалось и никакого влияния на их повседневную жизнь не имело. 308 М. Кривополенова Если же вокруг некоторых таких течений и событий всетаки возникали иногда большие шумы, то чаще всего это было делом рук самих участников подобных течений и событий. Лучший тому пример — история с пресловутым «Квадратом» Казимира Малевича, в котором нет буквально ничего, кроме примитивнейшего эпатажа и болезненного стремления прославиться любой ценой. Всякому разумному человеку это яснее ясного с первого же дня обнародования сего «творения». А все утверждавшие и утверждающие поныне иное — всего-навсего лишь хотят казаться умнее и многозначительней других, что свидетельствует только об обратном. Голый король-то! Го-лый! Но повторим: основными, определяющими в литературе и искусствах были тогда уже национальные начала, ибо кроме уже названных ярчайших мастеров в поэзии творили еще Блок, Северянин, Клюев, другие талантливые поэты, в прозе были Короленко, Леонид 309 Андреев, Мамин-Сибиряк, с первыми произведениями выступил глубинно русский Иван Шмелев, в живописи попрежнему работали великие Суриков, Репин, Васнецов и Нестеров, и блистали уже Рерих и Серебрякова, в музыке Скрябин, Ипполитов-Иванов... Всех и не перечислишь. И само народное творчество все больше и больше становилось всеобщим достоянием. Оркестр балалаечников Андреева. Хор Пятницкого. В лучших концертных залах пели-сказывали былиныстарины, причеты, плачи да скоморошины Марья Дмитриевна Кривополенова и Аграфена Крюкова. Крюкова и сама их складывала, десять тысяч строк от нее записано в общей сложности. Да и Махонька-Кривополенова пела былину «Вавило и скоморохи», которую до нее никто не знал, и она рассказывала, что переняла ее у своего деда, Никифора Никитича Кабалина, который, судя по всему, и был ее автором. Вал катился грандиознейший, и еще десять-пятнадцать лет и в России была бы единая величайшая культура. Но... БОЛЬШЕВИКИ Началась Первая мировая война, грянули революции, гражданская война, и... Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем! Эту программу большевики, как известно, выполняли неукоснительно, особенно поначалу. Действительно, старались не оставить от старого мира ни камешка, и какие великие реки крови лились при этом, сколько было искалеченных, перевернутых жизней, смертей, ужасов, горя, надругательств, издевательств, разрушений и вандализма — слишком хорошо всем известно, и мы не станем еще раз рвать этим души. Тем более что иных подлинных революций, к великому прискорбию, не бывает и не может быть, а это ведь действительно вершилась величайшая: попытка осуществить наконец главную, тысячелетнюю мечту всего человечества — по310 строить на земле общество и государство подлинной справедливости и всеобщего благоденствия и счастья. Коснемся здесь лишь деяний большевиков в области культуры, образования и воспитания. Основной задачей для них тут было, конечно же, формирование нового, советского человека, которому предстояло и который смог бы строить совершенно новое, социалистическое общество. То есть который был бы весь устремлен в это светлое будущее и ни за что не держался в старом мире, лучше всего вообще бы не вспоминал о нем, а если и вспоминал, то только как о чем-то страшном, беспросветно темном, даже постыдном. Разумеется, что и вся культура у этого нового человека должна была быть совершенно новой, никогда дотоле не виданной — социалистической, то есть в первую очередь, понятное дело, сугубо пролетарской и интернациональной. Потому что Россия — это ведь, по образному выражению пресловутого Льва Троцкого, всего-навсего хворост, которым они разожгут пожар всемирной революции. Вот в этих-то двух направлениях, не зная ни сна ни отдыха, и пёрли, сметая все на своем пути, первые большевики: поганили и поганили на чем свет стоит буквально все в бывшей России, и даже историю ее лет пятнадцать-семнадцать фактически не преподавали в школах, объявив, что подлинная история СССР началась якобы лишь с 1917 года. И столь же неутомимо и одержимо создавали свою, новую, социалистическую культуру. Причем самое любопытное, что творцов и специалистов сей никогда дотоле не существовавшей культуры оказалось вдруг великое множество. Правда, большинство из них, подобно знаменитому Мейерхольду, носили полувоенную форму и маузеры на боку, и что именно они создали на театрах, на холстах, в музыке и литературе, нынче вряд ли скажет толком даже самый въедливый специалист по тем временам. Да и могло ли быть иначе, когда сама идея-цель ставилась в принципе нереальная, несерьезная, а в конечном счете и просто глупая, а за нечто новое, пролетарскосоциалистическое и будущее всего человечества выдавались в основном все те же, никому, кроме самих творцов и их группок, ненужные, совершенно пустые формалистические изыски и трюкачество. Казимир Малевич тоже был среди этих творцов, даже, кажется, одно время назывался каким-то комиссаром. 311 Из всей же необъятной прежней культуры эта диктатурная публика отбирала и оставляла для всеобщего пользования лишь то, что касалось классовой борьбы, народных бунтов и восстаний: Болотникова, Разина, Пугачева, декабристов, революционных демократов во главе с Белинским и Чернышевским, Некрасова, прозаиковобличителей типа Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского. Все же остальное в литературе и искусствах — долой! Беспощадно и безвозвратно! Для того и маузеры. Все классово чуждые пролетариату идеи, понятия и даже слишком сложные и слишком тонкие чувства — долой! Все положительное в отечественной истории — долой! Даже героев битв, если они были не классовые,— долой! В любой области положительное — долой! И все национальные особенности, пусть самые глубочайшие или самые невинные,— туда же! Потому что какие еще могут быть особенности у каких-то народов в едином интернациональном социалистическом обществе. И все религиозное, весь этот опиум для народа — под самый корень! И в первую очередь, разумеется, важнейшие храмы, иконы, церковные книги и всяческую утварь, какими бы бесценно-драгоценными они ни считались и как бы великолепно ни выглядели. То же самое и с народной патриархальщиной — с разными там традициями, праздниками, обычаями, поверьями. Советские люди должны иметь собственные традиции, обычаи и праздники. Разрушения, костры, надругательства, уничтожение, изъятия, запрещения, тюрьмы и даже расстрелы протестующих — это у нас тоже называлось культурной революцией. Пушкина и того ведь пытались свергнуть «с корабля современности» и придать анафеме. Достоевского непрерывно пинали и поливали помоями. А Лескова почти не издавали, как будто его вообще никогда не было. И Тютчева. И Алексея Константиновича Толстого. Многих, очень многих. И композиторы были запретные. И художники. И ученых вычеркивали из обихода. А некоторых философов и тех же славянофилов если где вскользь и упоминали, то только как нечто почти идиотическое, достойное внимания лишь психиатров. Естественно, что от такой гегемонии и диктатуры «пролетариата» за границей, в эмиграции оказались, а вернее, спасались Бунин, Горький, Куприн, Алексей Толстой, Шмелев, Цветаева, Северянин, Белый, Шаляпин, Рахманинов, Стравинский, Плевицкая, Нежин312 ский, Павлова, Репин, Коровин, Сомов, Бенуа, Коненков, Эрьзя, Добужинский, Ильин, Бердяев... Господи! Как тяжко даже перечислять-то! Не было, не было дотоле ничего подобного на земле. И Есенин с Маяковским ушли из жизни, по серьезному счету, открыто, впрямую затравленные все той же публикой во главе с такими, ныне некоторыми так почитаемыми интеллектуалами, как Бухарин. Позвольте, какой же это интеллект: почуять, что значит, что дает России гений Есенина,— и хладнокровно, садистски бить, бить, бить даже после смерти. То есть Бухарин осознанно и очень целенаправленно нес стране зло, точнее, конкретно русскому народу, вредил ему, хотя твердил, что хочет будто бы совсем другого. Значит, врал, значит, фактически был врагом, врагом народа. Определение убийственно точное. А Анатолий Васильевич Луначарский — первый нарком просвещения, в ведении которого находилась тогда и вся культура с искусствами. Человек несомненно умный, талантливый, широкообразованный, в том числе эстетически. Лет сорок назад существовал даже такой анекдот о министре культуры СССР (до этого называвшийся Председатель комитета по делам искусств). Спрашивали: на чьем месте, мол, сидит этот министр-председатель? Отвечали: на месте такого-то — называлась фамилия. А тот на чьем? Опять фамилия. А тот? Опять фамилия. А тот? На месте Луначарского. А Луначарский? На своем. В широчайшем образовании трудящихся, в народной культуре и народных искусствах в первые десятилетия после революции было сделано и немало положительного, очень даже положительного. И заслуга в этом в первую очередь именно Луначарского, который вершил великое множество конкретных больших и малых дел помощи, отстаивания, защиты, спасения, популяризации народной культуры и всеобщего образования. Понимал народные искусства прекрасно. И их роль и значение для профессиональных искусств понимал, для всей культуры, писал об этом умные, страстные статьи, которые не утратили своего значения поныне. Очень верно трактовал и интернационализм в культуре: как некий грандиозный вселенский оркестр, в котором каждый народ — как определенный особый музыкальный инструмент со своим звучанием, вливающимся в единую мировую симфонию, исполняемую этим оркестром. И вместе с тем это при нем же творились все те беспрецедентные изуверства по искоренению всего нацио313 нального из профессиональных литературы и искусств. Никаким Петрам Первым и распоряжавшимся после него страной иноземцам и в самых радужных снах наверняка не снилось, что в России можно вытворять такое и в таких масштабах. Луначарский ведь и сам считался профессионалом: писал пьесы, шедшие на сценах, читал лекции, в том числе академикам. Неужели не видел, что никакой новой, социалистической, общенародной культуры у всей этой публики не получается и не может получиться и в стране опять существуют две отдельные культуры: народная в самом народе и эта нелепая, трюкаческая, якобы пролетарско-интернациональная, но только для самой этой публики. Вот, значит, сколь всесильна и слепа безраздельно правящая однобокая идеология — дурманит, ослепляет даже таких, как Луначарский. И наконец: почему делами искусств и литературы в его наркомате долгое время ведал, решал, что и как именно надо, какой-то Коган с пиками усов, по свидетельству Маяковского. Кто был таков? Справедливости ради надо сказать, что партия все же осознала свой полный провал с новой культурой и начала жесточайшую борьбу со всяким формализмом и утверждение реализма. Социалистического реализма, то есть мобилизующего, зовущего, вдохновляющего людей жить и творить во имя общего блага и светлого будущего СССР и всего человечества. Но тоже чтоб ни влево, ни вправо ни шага, ни полшага — идеологизация и диктат оставались полнейшие и страшнейшие. Потом партия пошла еще дальше: провозгласила, что по форме искусство может быть и национальным, если по содержанию оно социалистическое. То есть фактически разрешила и рекомендовала использовать национальные формы во всех видах творчества, и для большинства народов страны это стало великим благом и великим стимулом развития их собственных культур. В Азербайджане, в Грузии и среднеазиатских республиках появились национальные оперы, национальная драматургия, симфоническая музыка, балеты, станковая живопись и скульптура, многие малые народы обрели собственные письменные литературы. Национальные формы в профессиональных искусствах приветствовались, вызывали постоянную настороженность и возражения только русские. Властям предержащим все время мерещилось в них какие-то ве-ликодержавие и шовинизм, которые, возможно, могут 314 как-то задеть (??) другие народы, и русским, только русским национальное в профессиональных литературе и искусствах неизменно и бескомпромиссно запрещалось и запрещалось. НАКОНЕЦ-ТО! Единственное, над чем большевики никогда не мудрствовали и не измывались,— это народное творчество. Считали, что коль государство народное, значит и любому народному художественному творчеству должна быть самая широкая и всемерная поддержка. Тем более что при совсем небольших соответствующих идейных коррективах в том же песенном, музыкальном или устном творчестве кроме великой пользы от них народу ничего не будет. Лишь удовольствия и радости. Как и ото всех прикладных искусств народных, которые только украшают жизнь и идейно людей никак не разлагают. Еще и разруха-то после гражданской войны не кончилась, а Наркомпрос уже собирал в Москве на разные смотры, конкурсы, выставки и конференции всякие народные таланты и коллективы: музыкантов, танцоров, песенников, сказителей, резчиков, гончаров, кружевниц. Семидесятидвухлетняя Марья Дмитриевна Кривополенова, по персональному приглашению Луначарского, со специальным посыльным более полутора недель добиралась по полуразрушенным железным дорогам с родной Пинеги до Первопрестольной и два месяца выступала в разных тысячных концертных и небольших научных и специальных аудиториях с былинами опять с колоссальнейшим успехом. Многое из ее репертуара в институте литературы записали на фонограф, и эти бесценные записи сохраняются по сей день. Луначарский приглашал ее к себе домой и был буквально заворожен этой действительно вещей великой старушкой. Ей была положена академическая пенсия. И Марфу Семеновну Крюкову — дочь Аграфены Матвеевны Крюковой,— тоже великолепную сказительницу и сочинительницу новых былин, опекали так же заботливо. И новых старинщиков из династии Рябининых, первого из которых, как вы помните, записывали совершенно им зачарованные Рыбников и Гильфердинг. И Василия Ворноскова из Кудрина опекали. И дымковскую Анну Мезрину. И городецких живописцев-красилей. 315 То есть то, что прежде делали лишь отдельные прозревшие подвижники и меценаты, взялось теперь делать новое государство, Советская власть. И сейчас уже не важно, в какой год, что именно содеяно в этой области, ибо понастоящему созидательных годов у Советской власти было ведь всего лет сорок-сорок пять, если вычесть разрухи гражданской и Великой Отечественной войной,— важно и поразительно, сколько все же успели-то! В каждом городе и городке, в большинстве сел и во многих деревнях выросли или были где-то устроены, оборудованы сотни тысяч домов культуры, клубов, дворцов, библиотек, изб-читален. И в каждом доме культуры и клубе работали разные кружки и самодеятельные коллективы: музыкальные, танцевальные, хоровые, драматические, художественные, фольклорные, технические, всяческих ремесел. Открылось огромное множество музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ, специальных школ и училищ в центрах традиционных художественных промыслов. В специальных высших учебных заведениях появились кафедры и отделения народной песни, народных инструментов, фольклора, прикладных искусств. Во многих областях родились профессиональные народные хоры, ансамбли народных инструментов и народных танцев, сугубо фольклорные ансамбли: Северный хор, Воронежский, Уральский, Кубанский, Волжский, Рязанский, «Березка», фольклорный под руководством Дмитрия Покровского. Хор имени Пятницкого, ансамбль имени Андреева и танцевальный, возглавляемый Игорем Моисеевым, стали академическими. По стране ездили и ходили пешком тысячи экспедиций различных научных учреждений и музеев, собиравшие предметы народного быта, произведения народных искусств, фольклор. Пооткрывались сотни новых музеев: этнографии, краеведения, народных художеств, истории, мемориальные. Причем не только в городах и городках, но и в селах, в деревнях. Издавалось все больше и больше книг по разным областям народной культуры. Бывший морозовский Кустарный музей вырос в серьезный научно-исследовательский институт, в котором педагог-исследователь Василий Петрович Воронов в блестящем труде «Крестьянское искусство» заложил основы 316 подлинной науки о народном творчестве, а его последователи ученые Бакушинский, Бертрам, Соколов, Василенко, Чичеров и другие успешно развивали эту науку, разрабатывая в ней все новые и новые темы. В Сергиевом Посаде, переименованном в советские годы в Загорск, создали Музей русской игрушки, который тоже вел большую собирательскую и исследовательскую работу. На острове Кижи в Онежском озере, как вы наверняка знаете, создали Музей русского деревянного зодчества. К сказочно гениальным многоглавым Преображенской и Покровской церквям привезли из окрестных деревень еще одну небольшую церковку — Лазаря Муромского, возраст которой шесть веков, часовню Архангела Михаила из деревни Леликозеро, несколько изб, в том числе не менее знаменитый бесподобный дом Ошев-нева — это фамилия его последнего владельца из деревни Ошевнево, что в двух верстах от Кижей,— ветряную и водяную мельницы, амбары, ригу, поновили колокольню, устроили вокруг всего этого такую же, как была когда-то, деревянную ограду с воротами и башенками по углам, и теперь Кижский музей знают во всем мире, он занесен Юнеско в реестр шедевров мирового значения, и желающих увидеть это чудо из разных стран и из родного отечества уже столько, что музей не в состоянии принять всех и в день к нему подпускают последние годы лишь по два туристских теплохода. Есть похожий музей и на Белом море, неподалеку от Архангельска. Он больше Кижей и называется по тамошнему месту Малые Карелы. Там тоже все только деревянное, свезенное с русского Севера, и устроен музей как древнее городище-крепость: со стеной, сторожевыми башнями, въездными воротами, храмом, часовней, избами, мостами через маленькую речушку, амбарами, банями, сараями, колодцами и даже с крошечными полями, засеваемыми весной рожью и ячменем. А зимой по Малым Карелам катают и на лошадях в расписных санях и саночках. И возле древнего Великого Новгорода, у деревни Лихославицы, есть такой музей, в котором, помимо всяких строений, хранятся и старинные деревянные суда новгородцев, ибо он расположен на берегу озера Ильмень, где испокон века обитали рыбаки и судоходцы. На Волге, под Костромой близ Ипатьевского монастыря, есть такой музей. Под Москвой — возле города Истра. 317 И свезено в эти музеи не только лучшее из лучшего. Там полно изб и обыкновенных. И обыкновенных церквей, обыкновенных часовен, колоколен, ветряных мельниц, амбаров, бань, ворот, сараев. Точно таких, каких в русских деревнях много и поныне. И все равно все они кажутся как будто специально созданными для музеев — такие они все великолепные, такие разные, так умно устроены, так виртуозно срублены, так дивно разукрашены. Василий Петрович Ворносков, как уже говорилось, возглавил в советское время большую артель Кудринских резчиков. А неподалеку от них в поселке Хотьково построили большие мастерские, а потом и большое училище, которые процветают по сей день, и в училище обучают не только ворносковско-кудринской резьбе, но и резьбе по кости, керамике, росписи, кружевоплетению, металлообработке, работе с камнем, со стеклом. Это крупнейшее, лучшее в России среднее художественноприкладное учебное заведение с сотнями учащихся, из которых выросло множество замечательнейших художниковприкладников, отмеченных и высочайшими государственными званиями, премиями. Называется же оно в честь первого мамонтовско-поленовского училища — Абрамцевским, и равное ему по величине есть ныне еще только в Твери. Большая, оборудованная по последнему слову техники фабрика построена в коренной Хохломе — в деревне Сёмино, на которой трудятся сотни токарей, резчиков и художников из многих окрестных деревень. И еще большая фабрика хохломской росписи с тысячью с лишним работающих существует в городе Семенове, до которого от Сёмина сто с лишним верст. Как раз вскоре после революции туда, в силу целого ряда обстоятельств, переселилась часть мастеров из коренной Хохломы — с них все и пошло. В росписях семеновцев и семинцев довольно большая разница: как говорят сами художники, у семеновцев она — городская, более вычурная, усложненная, а сёминцы остались деревенскими— наивно-простыми и, пожалуй, подушевнее в своих фонах, травках и кудринах-то. Сколько теперь везде самой разной Хохломы, известно всем. Есть даже уже так называемая липецкая Хохлома. И касимовская. И какая-то уральская... А в Курцеве, где некогда творили Игнатий Андреевич Мазин со товарищи, ныне только небольшое отделение 318 тоже большой фабрики «Городецкая роспись», которая построена лет сорок назад в самом Городце и тоже выпускает огромное количество прекрасных разнообразных изделий, но по-прежнему, конечно, с жанровыми картинками и со своими символическими горделивыми стремительными коньками, жар-птицами и черными-черными розами. И там, где когда-то в полном одиночестве Анна Афанасьевна Мезрина превращала обыкновенную дымковскую глиняную игрушку-свистульку в высокое искусство, давнымдавно уже творят многие великолепные, талантливейшие скульпторы-художницы. Точнее, не там, не в слободе, где в крошечной хибарке в два оконца ютилась Мезрина, а в самом большом городе Вятке — Кирове много лет назад тоже выстроено отличное четырехэтажное здание, где глину готовят-мешают, разумеется, только машины и обжигаются скульптурки не в русских печах, а в специальных электрических. Работает там и детская художественная школа да с филиалом еще в одном месте. А величавые дымковские глиняные раскрасавицы в кокошниках, роскошных шляпах, с младенцами или цветами в руках, такие же красивые девицы водоноски с коромыслами и ведерками на плечах, нарядные осадистые всадники на крепких конях в золотых яблоках, фантастические индюки, похожие на павлинов, с распущенными хвостами всех цветов радуги, бывали и видели уже и Париж, и Токио, и Нью-Йорк, и Сидней, и Рим, вызывая везде неописуемый восторг и представление о России как о стране, где, оказывается, еще живут самые настоящие сказки. А в Вологде для кружевниц выстроен аж целый особый городок с училищем, с пятиэтажным общежитием, с просторными светлыми мастерскими, с лабораториеймузеем, в котором изделий столько и такой немыслимой красоты и изящества, что голова идет кругом, и, чтобы осмотреть все даже бегло, нужно несколько дней, хотя в принципе-то здесь все свято-традиционно: везде все тот же брянцевский ленточно-вилюшечный узор на прозрачной решетке. Но уже не только белый, но и нежно-золотистый, и глубоко-черный, где по длиннозубчатому черному краю вдруг идет белоснежная оторочка — как игольчатой изморозью вдруг оделся черный узор. Представляете! Кружевное разнообразие и богатство такие, что временами перестаешь даже верить, что это сотворено обыкновенными человеческими, женскими руками. И многометровые бесподобные тематические панно здесь те319 перь выплетают, уникальнейшие скатерти, парадные платья, пелерины, шарфы — многое, очень многое. Вместе с отделениями и надомницами, разбросанными чуть ли не по всей Вологодчине, до десяти тысяч человек этим занимались. И среди них была даже кружевница Герой Социалистического Труда — Нина Ивановна Васильева. И народные художники России. И заслуженные. И лауреаты Госпремий. Не расширившихся, не получивших новые здания, мастерские, фабрики и даже целые комплексы зданий среди основных русских художественных промыслов вообще нет. Гжель разрослась необычайно, со многими отделениями, тоже со своим училищем, музеем, магазинами в Москве и других городах. И там тоже был свой Герой Социалистического Труда. В рязанском Скопине, где делается самая фигурная, по существу совершенно скульптурная, не имеющая аналогов в мире керамическая посуда, построена великолепная большая фабрика. Жостово, выпускающее знаменитые расписные цветами подносы, получило новое большое здание. Михайловские, елецкие, балахнинские, мценские и кукарские кружевницы. Каргопольские игрушечники, где лепят глиняных белосине-черно раскрашенных сказочных конечелове-ков Полканов в современных шляпах, глиняные же лихие тройки, гармонистов, коз в сарафанах и многое, многое другое того же веселого характера. Архангельское объединение «Беломорские узоры», где есть и традиционная северная резьба, и керамика, и шитье, и плетения. Шемогодские резчики по бересте получили свое здание. Фабрика великоустюжской черни по серебру. Ювелирная фабрика в селе Красном на Волге под Костромой. Фабрика ростовской финифти... Родились и расцвели в советские годы и совсем новые промыслы. Село Полховский Майдан расположено в юго-западном углу Нижегородской области, возле самой границы с Мордовией. Там прежде тоже были дремучие леса, от которых ныне мало что осталось. Железной дороги поблизости нет, только шоссейная да из Нижнего Новгорода до девяностых годов ежедневно летали два самолета. Дерево здесь тоже испокон века, и точили и резали из 320 него всякую всячину и для себя и на продажу. У каждого мужика на задах или в огороде стояла маленькая работ-ня с токарным станком, который приводился в движение огромным деревянным колесом, расположенным снаружи. Крутили эти колеса чаще всего подростки, сыновья мужиков. Чашки, миски, поставцы, кандейки — маленькие бочата, копилки в виде грибов — вот основная продукция, которую до двадцатых годов вывозили отсюда и продавали белой, некрашеной. А в двадцатые годы кто-то надумал копилки и матрешек, тоже здесь изготовлявшихся для детей, раскрашивать: дерево грунтовали крахмалом, сушили, наводили на нем ученическим перышком контуры большого цветка, похожего и на розу, и на цветок шиповника, вокруг закручивали несколько листочков-травинок и заливали этот цветок яркой анилиновой малиновой краской, а остальное помаленьку другими нужными красками. Да вы наверняка хорошо знаете этот цветок неистовомалинового цвета, полыхающий на матрешках, которые продаются буквально в каждом сувенирном или художественном магазине, а прежде обильно продавались и на каждом колхозном рынке, да и сейчас продаются. Помимо матрешек и копилок полхмайданцы делают и другие детские игрушки и разную декоративную посуду, отлично украшающую любые помещения. Но этого немного, матрешек же изготавливается гигантское количество. Потому что лет тридцать назад спрос на них пошел невообразимый, заграница и та закупала десятками, сотнями тысяч. Три, пять, десять и даже двадцать и тридцать неистово полыхающих, симпатичнейших, наивно таращащих подведенные глаза матрешек одна в другой. Расставишь по росту и хочешь не хочешь, а улыбаешься вроде бы неизвестно чему и радуешься, как дитя. Но подумаешь чуток и поймешь, чему: уж больно они тоже русские, эти полхмайданочки, и по стати, и по обличию, по характеру. Недаром они есть почти в каждом доме. Полховский Майдан — село большое, более трехсот дворов, и буквально в каждом точат и расписывают в основном матрешек, и во всех окрестных селениях. А в районном городке Вознесенском построена большая фабрика по их изготовлению. И второго такого сказочно богатого села, как Полховский Майдан, нет ныне во всей России — заявляем с полной ответственностью. За последние тридцать лет оно застроено сплошь двух- и трехэтажными не домами, нет, а самыми настоящими затейливейшими теремами. 321 Все ведь художники, вкус и фантазия у всех богатейшие, а доходы, достаток матрешка принесла фантастические. Поговаривают, что самые работящие и многочисленные семейства еще в советские времена вышли в миллионеры. Потому и превратили село в подлинное чудо задолго до всех нынешних неправедных нувориш-ских коттеджных селений. — Все матрешка,— говорят тут.— Все она, родная, милая... Но самая яркая судьба из всех промыслов все же у Палеха, и о нем отдельно. ПАЛЕХ Когда Палех стал одним из центров русского иконо-писания, точно не установлено. Карамзин считал, что дело затеялось еще во времена великого князя Андрея Боголюбского, специально насаждавшего во владимиро-суздальских землях разные искусства и ремесла. Во всяком случае, есть свидетельства, что существует это поселение не менее тысячи лет, что в четырнадцатом веке им владели князья Палецкие (фамилия явно от названия села, а само это слово, по всей видимости, от общеславянского слова «леха» — борозда, межа). В семнадцатом веке Палех принадлежит уже боярам Бутурлиным и довольно широко известен на Руси своими иконами. Сподвижник Симона Ушакова страстный публицист Иосиф Владимиров в «Трактате об искусстве» пишет: «Шуяне, холуяне, палешане продают их на торжках и развозят такие иконы по заглушным деревням и продают их в розницу и выменивают на яйцо и на луковицу, как детские дудки. А большей частью выменивают их на обрезки кожи и на опойки и на всякую рухлядь». Тогда палехские иконы, видимо, были одними из самых простых и дешевых. Но в восемнадцатом веке положение меняется, палешане вырабатывают свой стиль, по существу сплавляют воедино самые, казалось бы, популярные иконописные направления — новгородское и строгановское. Пишут раззолоченные миниатюры, но цветово по-новгородски полнозвучные и эмоциональные. Мастерство художников вырастает настолько, что, когда Гёте, заинтересовавшийся русским иконописанием, просит царские власти прислать сведения о суздальских иконописцах, ему 322 сообщают в 1814 году, что самое заметное в этом искус-стве — село Палех, что мастеров там шестьсот душ и что особенно славятся миниатюрным письмом крестьяне Андрей и Иван Александровы Каурцевы. Написанные ими иконы «Двунадесятые праздники» со многими клеймами и «Богоматерь» в житии были отосланы великому поэту в подарок. Село это очень большое, и половина его разлеглась на холме между речками Палешкой и Люлехом, а вторая — на его скате и в низкой пойме Палешки. На самой высокой точке холма стоит белокаменная Крестовоздви-женская церковь с поразительно стройной, как будто заточенной колокольней, видной за много километров от Палеха и особенно с дороги на Шую — Иваново. По обеим сторонам церкви круто сбегают вниз две главные улицы села, переходящие потом в тракт на Унжу и Пурех, что на Волге. На этих улицах десятка два старых двухэтажных каменных домов. До революции в них располагались иконописные мастерские Сафоновых, Белоусовых, Каравайковых, Париловых. Это были крупные заведения, в которых работали лучшие мастера. Хозяева дорожили ими, старались создать хорошие условия: строили специальные помещения для письма, наиболее опытным художникам платили довольно большие по тем временам деньги — до ста двадцати — ста пятидесяти рублей в месяц. А Николай Михайлович Сафонов, сам талантливый иконописец и знаток древнерусской живописи, даже строил некоторым мастерам добротные кирпичные дома, за которые они затем постепенно расплачивались. Дело у Сафоновых было поставлено широко: только приказчиков держали около двадцати, имели свои дома и конторы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в других городах. Жили с дорогой мебелью, с хрустальными люстрами и коврами. Очень любили породистых лошадей, и в конюшне их было всегда не менее десятка. Занимались крупные мастерские не только иконописью. Многие художники почти постоянно находились в «отъездах», писали фрески в новых церквях и монастырях или реставрировали старые. По этой части палешане какоето время были даже более ценимы, чем в иконописи, реставрировали соборы и Грановитую палату в московском Кремле, в Троице-Сергиевой лавре, в московском Новодевичьем монастыре, в других городах и селах России. 323 Имелись в Палехе хозяева и помельче, которые только собирали и реализовывали продукцию, а трудился каждый мастер дома. Большинство таких хозяев и сами с утра до ночи горбились над досками в крошечных бревенчатых мастерских, стоявших обычно в огородах и мало чем отличавшихся от вросших в землю седых омшанников. Вся обстановка — заляпанные красками лавки да чурбаки, покрытые тряпьем. Иконы и краски устраивали на лавках, а мастера сидели на чурбаках. Ученики — за их спинами, где потемней. И везде, конечно, висели глобусы — стеклянные шары с налитой в них водой; отражая свет ламп, они здорово его усиливали — письмо-то было в основном миниатюрное. И лупами вовсю пользовались. Но и хозяева мастерских, и самые высокооплачиваемые художники, не говоря о всех остальных, никогда не отрывались от земли, летом обязательно крестьянствовали, в мастерских работали меньше. «Обычно,— вспоминал один из иконописцев,— держали корову, косили луга, сеяли один или два пуда ржи, два-три пуда овса и полпуда семян; своего хлеба хватало на два-три месяца, и то не у всех». Куда уж тут без иконописи-то! В общем, и художники и крестьяне одновременно — все опять как в любом другом деревенском художественном промысле. После Октябрьской революции спрос на икону стал стремительно падать и вскоре исчез совсем. Палешане оказались не у дел. Но жить-то надо. У кого были лошади, те пахали землю, занимались извозом, некоторые заготавливали дрова, некоторые подались в овчинники — овчинники тогда прилично зарабатывали. Иван Иванович Голиков был из потомственных иконописцев, но средней руки — доличник, ничего другого не делал, да и не стремился делать — на жизнь хватало. А земли не имел ни клочка: осерчал как-то дед на его отца и не выделил доли. В двадцать лет Ивана призвали в армию на действительную, потом империалистическая война, участвовал в сражениях, был контужен, ранен. А дома уже ждала жена с дитем — тоненькая певунья Настя. Голиков был невысокий, щуплый, бритоголовый, с остро торчащими в стороны усами и страшно порывистый, будто клокочущий, ни минуты не сидел спокойно, когда не работал. После революции метался как одержимый в поисках применения своего мастерства — Палех, Кинешма, Моск324 ва, и наткнулся в Москве в Кустарном музее на федоскинскую черную шкатулку с миниатюрной картинкой на крышке. Голиков знал, что она сделана из папье-маше, которое изготавливается из картона, но как картон становится толстым, черным, лакированным и твердым, словно кость, понятия не имел... Федоскинцы писали на лаковых коробочках и пластинах в основном миниатюрные копии с известных картин да русские чаепития за самоваром и катания на тройках. Писали масляными красками весьма реалистично, и прелесть этих вещей заключалась не в манере, а в том, что, кроме красок, в ней использовались настоящий перламутр и сусальное золото, виртуозно запрятанные под лак. Искусство такой миниатюры, точнее говоря, технологию изготовления папьемаше и способы письма по нему завез в Россию из Германии еще в восемнадцатом веке московский купец Петр Коробов — первый владелец Федоскинской фабрики. Село Федоскино расположено под Москвой, в Химкинском районе. При Коробове и тематика росписей была пришлой, по немецким образцам. А вот его зять и преемник — московский дворянин Петр Лукутин, к которому Федоскино отошло в 1825 году, повернул дело на создание росписи национальной и по характеру и по сюжетам. «В русской бане», «Лапти плетут», «Крестьянская семья», «Отдых в поле», «Возвращение с ярмарки», «Игра в шашки» — подобных картинок появилось при нем несчетное множество, причем весьма оригинальных, полулубочных по решениям. При Лукутине же и употребление золота и перламутра началось, и фабрика, а она к тому времени уже называлась официально Лукутинской, а сама технология лукутин-скими лаками, вышла в число самых знаменитых лаковых производств по всей Европе. Но это все было в девятнадцатом веке, а к двадцатому дело зачахло и выродилось в довольно слащавые поделки и копии с известных картин, в основном так называемой «русской тематики», очень модной в ту пору,— со всяческих пышных боярских свадеб, царских охот, пиров. «Палехская строгановка ведь тоже миниатюра,— думал Голиков,— не может быть, чтобы она на черном лаке хуже выглядела. Да и золотом мы работаем тоньше и ловчее». Короче, добыл Голиков пластины и коробочки из папьемаше и стал писать на них палехским иконописным манером сюжетные картинки: пахарей, парочки, охоты, тройки, битвы, музыкантов, пляски. Техника с многослойными плавями и приплесками, золотые оживки, 325 И. Голиков стилистические детали в них те же, что были в строгановке, но только у него это все словно не написанное на черном лаке, а живое, очень своеобразное, из какого-то особого, клокочущего, романтического и совершенно ощутимого, осязаемого мира. А композиции и цветовые решения почти в каждой миниатюре не просто иные, а прямо невиданные, поразительные. 326 Вот, скажем, маленький овальный баульчик. На нем изображена перевозка хлеба: два мужика укладывают снопы на телегу, а белый конь, оглянувшись, наблюдает, как они это делают. Движение каждого, при всей естественности, очень динамично, заостренно динамично, а вместе с лежащими и перебрасываемыми снопами вся эта группа образует тоже овал, живой и напряженный, в котором основные линии и ритмы повторяют, подчеркивают форму самого баульчика, отчего он тоже кажется живым, сколько его ни верти. Картина и предмет слились в единое целое. Такой удивительной предметности — связи миниатюры с вещью — добились только палешане, и первым именно Голиков, причем в первых же работах, сразу всех очень заинтересовавших. Известный искусствовед профессор Анатолий Васильевич Бакушинский, считавший, что нельзя, никак нельзя, чтобы великое русское иконописное искусство безвозвратно ушло из жизни, не получив никакого продолжения и развития, стал главной опорой Голикова в его начинаниях, главным советчиком и наставником всех, кого одержимый Голиков увлек за собой в Палехе. А увлек он, конечно, в первую очередь вчера еще считавшихся лучшими из лучших: Ивана Михайловича Ба-канова, Ивана Петровича Вакурова, Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Ивановича Зубкова, Александра Васильевича Котухина, нескольких других. Позже эту, вместе с Голиковым, первую пятерку назовут «соцветием Иванов». Организовали они артель, сначала всего из семи человек. Истые художники ведь — не могли они не творить, не держать каждодневно кисти в руках, воплощая пусть и в совсем крошечных картинках свои видения, мечты, мысли, чувства. Теперь именно свои, потому что прежде-то все сюжеты были строго определены, свое в них вкладывалось лишь в мастерство, в пластику, в цвет, а тут открывай душу, всего себя как хочешь, если можешь. И у каждого, конечно, сразу обозначилось свое неповторимое лицо, свои темы, сюжеты, манеры. Иван Михайлович Баканов первым создал в палехе миниатюры, посвященные конкретным переменам в жизни тогдашней деревни, символические-то образы на эти темы Голиков написал раньше. «Самолет в деревне», «Избачитальня», где тщательно проработано буквально все, каждый персонаж. И первый пейзаж «с натуры», который обычно воспроизводится во всех книгах о Пале- 327 хе, написал тоже Иван Михайлович. Почти весь Палех развернул перед зрителем с холмов из-за Палешки. На этих холмах справа жницы убирают рожь и мужики укладывают снопы на телегу, в которую впряжена белая красавица лошадь. А слева пастух пасет столь же красивых коров и овец. Ничего реального в этой картине-пейзаже нет, все так же условно, как в пейзажах точковс-ких фресок в Ярославле, и вместе с тем все, как и там, предельно правдиво и узнаваемо: улицы, отдельные дома, погост, сараи, деревья, бани и мостки через Палешку, изображенную всего пятьюшестью волнистыми линиями. Своеобразный изобразительный язык сообщает всему необыкновенное изящество, наполняет миниатюру радостным солнечным лиризмом, хотя в действительности никакого солнца в ней нет, как нет и светотени. Это такой цветовой строй у нее, это так тонко и умно Баканов перенасытил все горячими желтыми, оранжевыми, белыми и ярко-красными красками. Даже зеленоватые облака плывут над селом, просвеченные насквозь золотым солнечным светом и теплом. А ведь по черному небу плывут, прямо по чистому лаку. Но этого не замечаешь, потому что глубина в черном такая, какую никакой другой цвет и не дал бы. Чувствуется ведь высоченное небо-то — что же еще надо? Здесь налицо прямое развитие — именно развитие — древнерусской условно-декоративной иконописи. Принципы сохранены, а результат совершенно новый, свидетельствующий о поистине безграничных возможностях этого искусства. Очень любил Иван Михайлович и темы русских песен, изобразил «Ленок», «Вниз по матушке по Волге», «По улице мостовой»... А Иван Петрович Вакуров писал горьковского «Буревестника», царевича Гвидона, поражающего злого Коршуна. Написал и ту картину, которую все мечтал написать иконописец Жихарев из повести Горького «В людях»,— лермонтовского «Демона». И лермонтовский «Купец Калашников» у него был — очень интересная миниатюра, где главный цвет черный — сам лак не записан. И пушкинские «Бесы» были. По образности, по художественному совершенству и эмоциональной насыщенности это, несомненно, одно из лучших произведений нового палеха. Цветными Вакуров сделал в них лишь Пушкина, возок, кучера да контуры огненных несущихся коней. Видения же вокруг проступают еле-еле; они синие, серебристые, зеленоватые, расплывчатые и воз328 главляются пучеглазым Николаем Первым — главным бесом, преследовавшим Пушкина. Бесы ухмыляются, скачут, цепляются за возок, сплетаясь с летящим снегом в жутковатые завихрения, которым, кажется, не будет конца... А Иван Васильевич Маркичев до революции занимался в основном фресками, расписывал храмы и реставрировал древние и в миниатюре тоже добивался удивительной монументальности, торжественной величавости да еще соединял это с чисто жанровой трактовкой деревенских сюжетов: жатв, пахоты, молотьбы, походов по грибы, сцен у колодцев, охот. «Много я изображал трудовых сцен,— говорил он,— самый тяжелый женский труд. Но на папье-маше и тяжелый труд превращается в красоту». Особенно же виртуозно Маркичев писал жниц. Везде их не более трех, расположены совершенно фронтально на фоне несжатой ржи, под ногами снопы, в небе по центру иногда ослепительно-лучистое солнце. Больше ничего. Но позы, движение каждой жницы такое правдивое и выразительное и так они все согласованы между собой и с волнами ржи, что чудится, будто жницы очень согласованно безостановочно двигаются... А веселый острослов, поэт, философ, книголюб и книгочей Иван Иванович Зубков неутомимо воспевал в своих работах родные места, знакомые всем перелески и мостки, деревни и мельницы, разные события сельской жизни: тогдашние массовки, или отбивку косы, или просто начало грозы, или ссору влюбленных где-нибудь на берегу реки. В форме не мудрил, писал проще всех, иногда даже наивно, но настроение в каждой его вещи удивительно глубокое и отрадное, потому что он все в них заливал солнечным светом, «прошивал их золотом» — как в древнерусской живописи. Одним словом, каждый талантливый мастер Палеха обрел собственное творческое лицо. А все вместе они выработали совершенно новый, декоративно-пластический язык, главными особенностями которого стали яркая поэтическая образность и глубоко народная по своему характеру сказочность. Но Голиков все равно был все время впереди. Вы, наверное, видели самую знаменитую из его битв, ту, что написана на круглой настенной тарелке,— ее очень часто репродуцируют, есть даже популярные открытки с нее. Коней и всадников Иван Иванович сплел тут в стремительную кипящую круговерть. То есть опять повторил форму предмета, но повторил так, что чем 329 больше вглядываешься в этих летящих оскаленных вздыбившихся коней (из коих ни один, между прочим, ничем, кроме стремительности, не похож на другого), чем больше разглядываешь могучих, упоенных боем воинов, тем, кажется, явственней ощущаешь на своем лице поднятый ими ветер, слышишь крики, храп, звон копий... И вдруг — не сразу, нет,— но все-таки замечаешь, что один конь тут голубой, другой — красный, третий — желтый, четвертый — сиреневый, пятый — зеленый. Не бывает же на свете таких коней! Но ведь у него-то они живые, они несутся, бьются, в них веришь, чувствуешь их. Как же это?! Голиков знаете, что делал? Летом на заре каждое утро ходил к Палешке и набирал большущие букеты цветов, а если сам не сходит, непременно кого-нибудь из ребят пошлет — их у него было семеро — и потом эти букеты часть в крынки поставит, а часть по столу рассыплет и смотрит. «Пишу картину, исходя из этих цветов, не считаясь ни с чем, хотя в натуре нет зеленых, голубых и так далее лошадей. Для меня вихрь, стихия — это работа... На первый взгляд у меня получался букет цветов, а когда вглядишься — тут бой или гулянка. Притом — бойкость, смелость». Несколько наивно, скажите вы. А какая степень наивности и образности вообще допустима в искусстве — кто знает? Голиков ведь считал, что у них, у нового Палеха «командировка в мечту» — как же иначе-то?.. Он во всем был истинным поэтом. И еще певцом движения. Вообще одним из самых сильных и ярких в русском изобразительном искусстве. Даже сидящего человека, пряху например, и ту всегда как-то так повернет, что чувствуешь, человек только что сел на скамью и к гребню потянулся. А уж волков, нападающих в пургу на мчащуюся тройку, в такие с этой пургой сумасшедшие спирали завил, что аж голова кружится... Дом Голиковых стоял наверху на углу главных улиц напротив пруда — неподалеку от Крестовоздвиженской церкви. Жил, что называется, прямо на ладошке — у всех на виду. Когда встанет человек, куда ребят пошлет, что купил, как с женой ладит, когда забражничает — все всё знают. Бражничал тоже нередко и неудержимо. А вот когда спит этот шальной человек, многие временами понять не могли. Одну ночь в крайнем окошке «глобус» лучи пускает, вторую, третью. И слышно уж, как Настасья Васильевна там своим грудным, знаменитым на 330 весь Палех голосом запевает «Вот мчится тройка удалая». Это значит он ее попросил. А следом и их ребята, лежащие на полатях, начнут ладно подтягивать. Целых семь ртов. А он слушает, слушает, горбясь под «глобусом», да и попросит: — Веселее, ребятишки, под песню лучше получается. «До чего же нравились нам вечера с песнями,— вспоминали его дети.— Мы еще больше любили отца. Он казался нам каким-то необычным человеком, большим и все умеющим делать». Иногда по пять дней не выходил из дома-то, и Настасья Васильевна в конце месяца сама в артель корзину с готовыми изделиями таскала. Бывало, по тридцать, а однажды почти сорок штук принесла. Мыслимое ли дело, чтобы один человек столько понаписал! Ну пять, ну десять, если это мелочишка какая, брошки там,— а больше тридцати! Только Голиков это мог. И какие все вещи-то! По инициативе Горького издательство «Академия» предложило Голикову иллюстрировать «Слово о полку Игореве». А палешане книжной графикой прежде никогда не занимались, понятия о ней не имели. Он опять — первый, да сразу за такое диво, как «Слово». Более двух лет отдал этой работе. Жил в Москве, ходил по музеям, рылся в Ленинке в древних рукописях, много раз слушал «Князя Игоря» в Большом театре. И по характеру сделал несомненно самые близкие к бессмертной поэме иллюстрации. В сцене «Затмение», например, у него словно вся Русь движется на врага, полки идут друг за другом волнами, которым нет конца, и все залито настороженным, пугающим желто-зеленоватым холодным светом, от которого становится очень тревожно. А «Плач Ярославны» у него на первый взгляд как будто какой-то рисунок из древней рукописи, похожий на богатый ковер из огромных и нежных чудо-цветов, которые оплели сверху донизу заломившую руки Ярославну, вторя ее движениям и цветом ее тоске, ее безысходному порыву туда, за далекую синюю реку. «Полечу,— рече,— зегзицею (кукушкою) по Дунаеви, омочу бебрян рукав в Каяле реце, утру князю кровавые его раны на жестоцем (могучем) теле». Но вглядишься — и никакого ковра перед тобой уже нет. А есть Путивль — он вплетен в эти цветы. Есть рухнувший князь, и она, Ярославна, склонилась над ним в этих же цветах. Есть скачущие полки. Есть ладья в кипящих волнах. И снова она — то молящая солнце не жечь 331 жестокими лучами княжье войско и не сушить тетивы на его луках, то спрашивающая ветер, за что тот так озлобился на Русь и помогает одним половцам. Дивными цветами Голиков только соединил все эти сцены между собой, наполнил их движением, нежностью, томительной тоской. Иван Иванович и весь текст «Слова» написал от руки старинной русской вязью. Всю эту уникальную большую книгу в подлинной лаковой черной обложке с раззолоченными клеймами-миниатюрами на ней сделал равной бессмертной поэме. Алексей Максимович, увидевший ее, назвал Голикова гениальным художником. Выдающиеся произведения были у очень многих палешан: у Н. Зиновьева, у П. Баженова, Д. Буторина, A. Дыдыкина, А. Котухина, Д. Каурцева, Б. Ермолаева, Т. Зубковой, А. Котухиной, Н. Голикова, В. Ходова, B. Морокина, Б. Кочупалова, Р. Смирновой, И. Ливано вой — всех не перечислишь. Ибо за семь с лишним деся тилетий существования нового Палеха там создано не сметное число миниатюрных, и не только миниатюрных картин, наверное сотни тысяч. Художников ведь тоже здесь сотни, и ныне трудится уже третье поколение но вого Палеха. Картины их были обо всем на свете: о со творении мира, о революции, о гражданской и Отече ственной войнах, исторические, жанровые о своем вре мени и о деревне, но главные, основные сюжеты тут во все времена все-таки сказочные, былинные, песенные, литературные. Потому что декоративно-пластический язык нового Палеха сам по себе необычайно сказочен, наряден, богат и затейлив и все, как говорил Маркичев, делает таким же, превращая не только миниатюры, но и любую палехскую вещь в подлинную драгоценность. Глубинное свечение прозрачных красок, наложенных плавями и приплесками одна на другую, драгоценно — как драгоценные камни ведь играют,— и полированное золото оживок и богатейших орнаментов играет — тут его всегда полируют волчьими зубами. Одним словом, новый Палех — это совершенно особый новый художественный мир, новое направление в изобразительном искусстве, рожденное великой русской иконописью. Однако болыневиствующая публика и в этот мир пыталась всунуться. Как раз когда шло основное становление, в начале тридцатых годов. Наехал в Палех как-то некий вальяжный Виннер в габардиновом полуфренче. Сказал, что из Комакадемии — была такая. С неделю 332 жил, ходил от художника к художнику, наблюдал, обо всем расспрашивал, ушицу вместе с ними ел из здешних жирных карасиков, водочкой сельповской не брезговал и укатил вроде бы всем довольный, а кое с кем вроде бы даже и подружился. А через некоторое время в центральных журналах появились статьи, в которых он называл новое палехское искусство поповско-кулацким, совершенно чуждым пролетариату, а посему, мол, палешане даже и в попутчики ему не годятся. И, кроме того, зарабатывают для сельских кустарей (называл только так — не художниками) слишком много, некоторые до ста пятидесяти рублей в месяц. (Тогда как кожевенники в деревнях зарабатывали рублей сто.) А коль это искусство поповско-ку-лацкое, значит, они прямые подпевалы и выразители враждебных пролетариату классов. Ни много, ни мало! И грозно требовал: немедленно их под корень! Уничтожить и запретить навсегда! Не мешкая! Только прямое заступничество Горького из-за границы выручило тогда палешан. Горький очень ценил то, что они совершили и делали, и помогал им не раз и здорово не только прямым заступничеством. Организовывал им большие заказы, подарил отличную целую библиотеку, издавал о них книги, привлекал к работе над книжной иллюстрацией. И вообще, если бы не подлинная и всемерная поддержка Советской власти и крупнейших государственных деятелей, новый Палех, вероятнее всего, так бы и не состоялся, не рос бы, не процветал, не прославился бы на весь мир как совершенно уникальное художественное явление и не превратился бы в центр целого гнезда лаковой миниатюры, в которое следом вошли еще Холуй и Мстёра. И великолепного, единственного в своем роде училища там не было бы, выпустившего сотни и сотни талантливейших мастеров. Свой Герой Социалистического Труда там тоже был — Николай Михайлович Зиновьев, один из патриархов нового Палеха, художник-философ даже в своих работах, создававший еще с Голиковым первую артель, оставивший бесценную книгу-учебник их искусства. Он прожил более девяноста лет, был народным художником СССР. А народных и заслуженных России и лауреатов там не перечесть. ...Утро ли сейчас или вечер, зима или лето — на улицах Палеха все равно полно приезжих. Ходят большими группами, сопровождаемые полустеклянными «Икарусами». Ходят и в одиночку, и по двое, по трое — эти добирались до села своими машинами или рейсовыми авто333 но и пустовато. Тот же столик за дощатой переборкой с начатыми работами, красками и кистями. Висит глобус. В углу сундук. Только застекленных фотографий теперь на стенах много да чистота необыкновенная. Это — мемориальный доммузей Ивана Ивановича Голикова. Летом окошки открывают, перед ними теперь липы, и рано утром слышно, как заливаются щеглы. РАСЦВЕТ Дом музей И. Голикова бусами. Иноземцев не меньше, чем наших. Ходят и всему дивятся. Дивятся большим и удобным художественным мастерским и тому, что ныне в них работают около двухсот художников. Дивятся неоглядным плавно-холмистым просторам, открывающимся от Крестовоздвиженской церкви. Дивятся самой этой церкви. Ее богатым фрескам. Могучим и чистым березам вдоль мостовых. Сказочным, резным, весело раскрашенным светелкам, наличникам, крыльцам, карнизам, конькам и дымникам на просторных избах. Дивятся несметным миниатюрным сокровищам палехского музея, его сводчатым маленьким окнам в кирпичных стенах метровой толщины, его скрипучей деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. Дивятся условиям, в которых живут и занимаются нынче студенты здешнего училища: у Шуйского въезда для них выстроен целый самостоятельный городок — учебный и жилой корпуса, спортзал, столовая, клуб. И ни один из приезжих не минует обыкновенного крестьянского дома на углу двух главных улиц Палеха. В нем все так же, как более полувека назад. Так же бед334 Не ослабляла партия свои заботы и о профессиональных искусствах. Причем в течение почти трех десятилетий это прежде всего делал сам Сталин. Ибо Сталин, как редко кто, понимал истинное значение литературы и искусства в жизни общества и отдельных людей, в их духовном формировании и воспитании и практически почти каждодневно держал все это в поле своего зрения. Знакомился буквально со всеми серьезными новинками литературы, кино, театра, живописи. И, ясное дело, направлял их творцов туда, куда считал нужным, необходимым. Людям старшего поколения это его неослабное внимание очень хорошо известно. Как, впрочем, его внимание и к другим областям жизни: к науке, к армии, к промышленности — ко всему. Ну и его личные художественные вкусы имели, конечно, огромное значение, особенно в предвоенные и послевоенные годы. В общем, все годы правления большевиков диктат в культуре был самый крепчайший, были жестокости и насилия, была неослабная, недреманная цензура. И вместе с тем, смотрите, кто при всем при этом работал в литературе: до двадцать пятого года Есенин, до тридцатого — Маяковский, до тридцать шестого — Горький, во всю мощь развернулся гений Шолохова. Были Алексей Толстой, Пришвин, Леонов, Фадеев, Паустовский, Катаев, появились Твардовский, Смеляков. Музыку создавали Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Глиер, Дунаевский, Шапорин, Александров. На театре творили Станиславский, НемировичДанченко, Таиров, Вахтангов, Завадский. Среди актеров блистали Качалов, Москвин, Тарханов, Черкасов, Симонов, Щукин, Жаров, Ильинский, Тарасова, Пашенная, Яблочкина. Пели Нежданова, Обухова, Лемешев, Козловский, Михайлов, Пирогов. Танцевала Лепешинская. Вышла на сцену Уланова. На эстраде появились Русланова, Шульжен335 ко. В молодом кинематографе поднялись Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Герасимов. В живописи до тридцатого года работал Кустодиев, до тридцать девятого — ПетровВодкин, до сорок второго — Нестеров. И еще Корин, Дейнека, Кончаловский, Рылов, Юон, Сергей и Александр Герасимовы, в скульптуре — Шадр, Мерку-ров, Мухина. И гениальные «Тихий Дон» и «Поднятая целина» созданы именно в эти годы, и ведь на века и века, так много в них заложено общечеловеческого при всей их глубочайшей абсолютной народности. И «Клим Самгин», и многие пьесы Горького из тех же годов. И «Хождение по мукам» Толстого. И «Василий Теркин», и все остальное Твардовского. И гениальные, воистину мировые творения Прокофьева и Шостаковича, которые, в сущности, ведь тоже очень и очень национальны. И «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна стал всемирным достоянием. И мухинские «Рабочий и колхозница». И высотные здания Москвы, преобразившие ее и сделавшие еще самобытней среди столиц мира. Да много, очень много сделано за те годы воистину бесценного и на века. Кто-то и сейчас уже недоуменно-возмущенно таращит глаза — как же, мол, так: полнейший диктат, ни шага, ни полшага в сторону — и столько творений, и столько понастоящему великих творцов. Ведь получается, что будто бы был некий свой, особый расцвет особой что ли культуры? Да, несомненно. При всех издержках, но был. Был! Потому что навязывала-то партия мастерам культуры, пусть однобоко и слишком жестоко, идеи только самые светлые и высокие — социалистические, которые лишь и должны нести людям настоящие художественные произведения. Требовала и ждала от них только таких произведений. Ну а когда высочайшие идеи сплавляются с высочайшим мастерством воедино — и получается выдающееся и неповторимое. Если, конечно, творец сам искренне исповедует и служит таким идеям. Огромное значение имело и то, что никогда еще ни одно государство в мире не вкладывало в культуру столько средств, сколько вкладывали большевики. Материально хорошо обеспечивались не только отдельные ярчайшие звезды, хотя было и это, а буквально вся культура, включая полное материальное обеспечение всех театров, издательств, кинематографа, художественных вузов, творческих союзов и фондов, дворцов и домов культуры, библиотек, музеев, достойнейших го336 нораров для литераторов, художников, исполнителей. Для всех! И наконец, самое показательное: да, идейно партия направляла и вела, но вела-то, в принципе, в народную же сторону, в социалистическую, но в народную, а в художественном плане практически вела не она, а сами творцыисполины: Горький, Шолохов, Шостакович, Твардовский, Обухова, Черкасов, Лемешев, Петров-Водкин, Мухина и им подобные. Это они, только они двигали художественную литературу и искусства в ту же сторону. То есть туда же, куда и прежде, до революции. Партия, по существу, всего лишь фиксировала директивно уже достигнутое. Именно поэтому-то в шестидесятые-семидесятые годы народно-национальные начала снова стали основными и ведущими в нашей профессиональной культуре. И хотя прямые наследники послереволюционных борцов за всеобщую интернационализацию опять с помощью ЦК КПСС пытались запрещать, душить и изводить все это, но страна и люди были уже не те, расстрелов и лагерей уже не боялись, и за подлинно народное и национальное теперь уже в открытую бились журналы «Молодая гвардия», «Москва» и особенно «Наш современник». И целые творческие союзы бились, и объединения, и отдельные писатели, художники, режиссеры и музыканты. Один Владимир Солоухин сколько сделал! А стихи и проза Александра Яшина. А Федор Абрамов. А Владимир Чивилихин с его романом-эссе «Память». А астафьев-ские «Пастух и пастушка» и «Последний поклон». Беловские «Плотницкие рассказы» и «Привычное дело». Распутинские «Живи и помни» и «Прощание с Матёрой». Проза Бондарева, Алексеева, Носова, Шукшина и Екимова. Стихи Рубцова. Это же все не только эпохальное буквально во всех отношениях — это ведь целиком и действительно общенародная литература. И живопись стала в шестидесятые-семидесятые годы такой же воистину общенародной: Кугач, Коржев, Стожаров, Попков, Глазунов, Сидоров, Юкин, Бритов. А в музыку пришел исполин Свиридов, именем которого в будущем наверняка будут называть все наше время, как есть времена пушкинские, есенинские, кустодиевские. Ибо мы ведь действительно услышали голос нашей, конкретно советской эпохи у него, у Георгия Васильевича Свиридова. И он звучит ежедневно не только с экранов телевизоров, он ведь постоянно и навсегда в каждом из нас. И голос пушкинских времен, а по суще337 ству-то голос самой пушкинской души, всю ее необъятнобездонно-пронзительную глубину и красоту воссоздал именно он — Свиридов. И наконец, никто и никогда до него, до Георгия Васильевича, не слышал голоса нашей земли, самой русской земли. Отдельные-то ноты звучали и звучат в песнях, в музыкальных сочинениях. А он услышал ее всю целиком, и теперь и мы слышим ее в «Деревянной Руси» — и это нечто сверхъестественное, это как необъяснимонепостижимое чудо — слушать бесподобный, ошеломляюще прекрасный голос самой своей земли. Ее можно слушать миллионы и миллионы раз, и всякий раз услышишь в ней что-то новое, чего дотоле еще не знал. Слушайте, слушайте «Деревянную Русь» бесконечно — откровения и озарения будут бесконечные! Кто-то наверняка опять недоумевает или возмущается: слишком, мол, однобоко все трактуется. Ведь кроме вышеназванных были же и другие выдающиеся творцы. Да, несомненно, Анна Ахматова и Борис Пастернак — большие поэты. И Игорь Северянин и Андрей Вознесенский. И прозаики были крупные, и живописцы, и композиторы, и режиссеры, и певцы вроде Высоцкого, которые, однако, никогда не были и не будут общенародными, хотя до известной степени некоторые из них в чем-то, конечно, тоже национальны. Потому что творили эти люди в основном или для самого искусства, или для каких-то узких групп и слоев общества, кои сами себя называют эстетически просвещенными и развитыми. Какие знакомые термины-то! Они же разглагольствуют обычно и о том, что основная масса, то бишь народ, якобы просто еще не дорос до понимания таких художественных высот и ему еще предстоит учиться и учиться. Вранье все это! До Пушкина-то он дорос. До Некрасова дорос. И до Есенина с Твардовским. И до Кустодиева. И до Свиридова. До Белова с Распутиным. И вкусы у него, как вы видели на протяжении всей нашей истории по его собственному творчеству, нисколько не ниже, чем у этих «просвещенных»,— они просто совсем иные. Поэтому мы и не касаемся, не анализируем здесь многих, столь ныне некоторыми почитаемых,— уж больно далеки от народа, не о чем говорить. Однако кинематограф-то стал общенародным без какихлибо национальных особенностей. Не успел народиться, сформироваться — и стал. Действительно ведь любимейшее и популярнейшее было искусство. Все видели хрониками, как огромными колоннами с сияющими лицами и с лозунгами над головами люди шли в городах смотреть «Чапаева». Какие быва338 ли бесконечные очереди за билетами в кинотеатры в любом городе и в Москве в знаменитые «Художественный» и «Ударник». И в деревнях что творилось, когда приезжала еще в конном фургоне кинопередвижка, и на стену заброшенной церкви или прямо меж березами на площади натягивали большущее белое, местами посекшееся полотнище и ждали сумерек. Каким бы великим ни было село или селение, не говоря уж о деревнях, в избах оставались лишь не способные двигаться больные да старики. Все остальные там — перед экраном, у которого долгое время и звука-то не было. Даже все деревенские собаки почему-то рассаживались там вокруг людей и тоже затихали. Секрет фантастической всемирной популярности кинематографа в самой природе этого совершенно нового искусства, в его полнейшей приближенности к реальной жизни, в почти иллюзорном ее воссоздании, как бы включении в нее самого зрителя. А у нас в нем ведь воплощались еще и действительно благороднейшие, светлейшие идеи человечества, идеи социализма, и именно они-то плюс, разумеется, художественные совершенства и превратили советский кинематограф в поистине великий. И столь любимый народом. Потому-то и лучший фильм всех времен и народов эйзенштейновский Броненосец «Потемкин». А потом были могучие кинопоэмы Александра Довженко, героика Сергея Герасимова, облагораживающие, счастливые комедии Георгия Александрова и Ивана Пырьева, глубокий психологизм Михаила Ромма, великие эпопеи Сергея Бондарчука, пронзительная правда жизни и характеров Василия Шукшина. Можно еще перечислять и перечислять воистину огромное, важное и нужное народу, что делал на протяжении многих лет наш кинематограф. ПЯТАЯ ВОЛНА В заключение — о дне сегодняшнем. Не было времен страшнее для России, чем нынешние. И не только потому, что не стало величайшей страны, что сменилось общественно-политическое устройство общества, что разрушена до основания экономика и подавляющее большинство народа стало нищим и совершенно бесправным, что низвергнуты элементарнейшие морально-нравственные устои и нормы, разрушена армия, наука, просвещение, культура. 339 Главное, что уничтожается сама Россия! Духовно уничтожается! Как историческое явление! Запад! Запад! Запад! Запад! Нынче опять все оттуда, начиная с политического и экономического устройства, с тамошней обывательскопотребительской философии и морали, и кончая харчами, портками и женскими прокладками. Как язычники идолам поклоняются ему нынче власть предержащие в России и их окружение. Один из их премьеров, лопающийся и чмокающий от избытка жира в собственном теле, даже маниакально не раз кричал-повизгивал с экранов телевизоров, что он «западник!», «западник!!»,— и гордится этим. И сам их президент постоянно твердит о том, как он страдальчески хочет, чтобы его «великая страна стала тоже цивилизованной, как они». Это о стране-то со своей неповторимой цивилизацией, во многом опережавшей все человечество! Даже президент или царек какого-нибудь крошечного племени, которое, фигурально говоря, еще вчера лазило по деревьям, цепляясь за ветки хвостами, и тот никогда не станет оскорблять и унижать свой народ, называя его нецивилизованным. А у нас — без конца. Что это — элементарное невежество? Конечно же нет. Ведь твердят же они постоянно и слова о величии: «Мы великие!», «Мы великие!» Охвостьем, что ли, великим хочется быть у Запада? И вы знаете, сколько уже среди молодых, да и не только молодых, таких, которые стыдятся, что они русские, во всяком случае жалеют, что русские, и страны своей стыдятся, многие даже с искренней печалью — Родина ведь. Метода была выбрана блестяще. В так называемую перестройку объявилась вдруг целая орава невероятных говорунов и крикунов, в основном из научной вузовской, журналистской и творческой публики, которые, как тогда говорили, начали «раскачивать лодку». И пример им в этом подавал не кто иной, как последний партийный, никчемный и пустой до ужаса генсек ЦК КПСС. Сама себя эта публика именовала демократами, и поначалуто без устали и на каждом, что называется, углу горланила, разоблачала, обличала все худое, что было совершено в советские времена, особенно в жесточайшие сталинские. Слов нет, партия большевиков, превращенная в невиданную в истории по своей дееспособности государственную машину, как всякая стальная машина, была слишком ограниченна, тупа и бездушна в своих действи340 ях, и в конечном-то счете вела страну уже не столько к социализму, сколько от него. Святая высочайшая идеология существовала уже сама по себе, как некий фетиш, которому всех обязывали поклоняться, но которому в реальной жизни следовали все меньше и меньше, и прежде всего верхи самой партии, переродившиеся в элементарных ханжей-начетчиков и утонувших в благополучии бонз. А от этого плодились не только простейшие ошибки и провалы во всех областях жизни, но и прямые преступления, от которых людям становилось невмоготу. И вскрывать все это, исправлять, спасать, реформировать было, конечно же, необходимо. Потому-то большинство народа всячески и приветствовало и поддерживало этих вдруг народившихся демократов-борцовобличителей, говорунов и крикунов. Но потом те ринулись и в глубь истории нашей, стали и там все ворошить и переоценивать, обнаруживая, вернее — выкапывая и там в основном только поганое да препоганое. У большевиков в их исторических погромах хоть классово все четко разделялось, и что нужно возносилось и прославлялось до небес, и сам народ никогда не поносился, а всерьез осмысливался, и даже его явные минусы объяснялись теми или иными объективными социально-историческими причинами. А эти в конечном счете лютей, страшнее всего именно в народ и вцепились: стали объяснять, что все, мол, беды в России не от каких-то правителей-тиранов, бездарей и иноземщины и не от бесчисленных вражьих нашествий и разорений, а от него самого, из-за того, что он, народ русский, так ленив, неумен, неумел, нерачителен, недисциплинирован, такой большой выпивоха. — Не повезло, не повезло нам с народом! — вроде бы полушутя, а на самом-то деле более чем серьезно тысячеустно ведь повторяли. Словно великую Россию создали именно эти балаболы, а не охаиваемый ими русский народ. Не правда ли, до чего опять знакомые речи, начатые еще приснопамятным Петром. Недаром он стал главным отечественным кумиром новоявленных демократов. А лопающийся от жира временный премьер с явно садистскими наклонностями даже сделал фальконетовский памятник Петру эмблемой своей якобы партии. И Чаадаева извлекли из нафталина и стали тыкать всем в нос как пророка-провидца, который вон еще когда разоблачил и заклеймил «эту» страну и «этот» народ и 341 указал, что спасение только в следовании Западу, за Западом. Настоящую ведь эпидемию устроили в стране по очернению, унижению и втаптыванию в грязь русского народа и всего, что имеет к нему отношение. Ничем, никакой мерзостью, подлянкой и откровенной клеветой не брезговали. Всех поносителей и ненавистников России изо всех веков повытащили и трезвонили о них, всех отщепенцев, предателей, подонков и маньяков из-за границ волокли, чтобы только добавили новых помоев. Никакой другой народ не испытывал в мире ничего подобного. Никто так не самоуничижался и не самобичевался, как мы. И продолжаем самобичеваться. Всех в это втянули, всех заразили подлым вирусом вселенские мудрецы, даже сам народ, обыкновеннейших трудяг, коих все заставляют, брызжа бешеной слюной, покаяться в какихто невероятных жутких преступлениях в том, что они русские, в которых столько, столько худого! Русские оклеветаны, опорочены, опозорены, как еще не позорили ни один народ в мире. Его достоинство втоптано в сплошную вязкую грязь, а самосознание почти уничтожено, почти умерло, и он уже превратился в аморфную массу, с которой можно вытворять все что угодно. Добились, добились-таки своего те, кто затевал и разворачивал эту страшную беспрецедентную кампанию. Так кто же они, эти новые западники, эти новые господа, захватившие власть в России и устроившие такой невиданный кошмар? Их две основных категории. Первая — просто мерзавцы разных мастей и родословных, от высших партийных бонз — предателей-перерожденцев — до уголовной шушеры, которые всегда мечтали о настоящей, полновесной частной собственности, о больших богатствах и о том, чтобы стать подлинными, полновластными (а не по партийной указке!) хозяевами жизни, распоряжаться собой и ею как душе или даже их левой ноге вдруг захочется. И лучше западной модели жизнеустройства для них ничего не было. И потому, как только забрезжила возможность к ней пристроиться или встроиться, или ее позаимствовать, эта публика готова была не только Родину, партию, народ или что еще — мать родную готова была продать, любую кровь пролить, любую подлость совершить, только бы добиться желанного. И добилась. 342 Мораль, честь, совесть, справедливость, Отечество, народ, история, традиции — эти слова они все, конечно, знают и нередко произносят, но значения они для них не имеют никакого, и что еще они разрушат, уничтожат, растопчут, оклевещут и опоганят ради своей корысти и звериной алчности, одному лишь Господу известно. И наверняка сатане, ибо ясно же, кому они воистину служат-то, хотя, как известно, ходят в православные храмы и стоят там со свечками. А вторая категория новых господ-западников, которые к прежним господам, разумеется, тоже не имеют никакого отношения,— это в основном московская, питерская и еще нескольких крупных городов интеллигенция, которая сама себя любила называть либеральной, а в просторечии еще и кухонной. Сложился у нас лет сорок назад такой обычай: сходиться в стремительно плодившихся тогда малогабаритных квартирах вечерами на крошечных кухнях — в комнатах-то спали родители или дети,— и, попивая кто винцо, а кто водочку, вести бесконечные, иногда ночи напролет разговоры обо всем на свете, но прежде всего, разумеется, о злободневном, о том, что тогда больше всего всех занимало. Неинтеллигенты, ясное дело, тоже вечеряли на кухнях, выпивали, говорили о своем и пели песни под вошедшие в невероятную моду гитары. Но именно среди интеллигенции тогда, в так называемую хрущевскую оттепель, уже вовсю расцветало политическое, духовное фрондерство, появились первые диссидентствующие, и многие младшие научные сотрудники всяческих институтов, аспиранты, молодые инженеры и врачи, растущий творческий народишко созревали интеллектуально, нравственно и художественно в основном на таких кухнях. Страшно увлекались рок-н-роллом, Гершвином, битлами, Хемингуэем, Кафкой, Селлинджером, итальянской и французской новыми волнами в кино, Антониони и Феллини, архитектурой Сааринена и Немейера, полотнами Рокуэлла Кента, Сальвадора Дали, Леже и абстракционистами, западными модами. Завидовали, конечно, и тамошнему общественно-политическому устройству, дающему каждому человеку такую фантастическую личную свободу делать и думать что заблагорассудится, завидовали принятым там общечеловеческим ценностям, и особенно, естественно, тамошней бытовой культуре, сервису и всяческому изобилию, с которыми нам, наверное, уже никогда не сравниться. И как только появилась возможность ездить туда, для «кухонной» интеллигенции это стало чуть ли не 343 главным вожделеннейшим занятием. В собственную мечту ведь ездили. И, конечно, захлебываясь рассказывали потом, где только доводилось, что видывали в Париже или Риме, что и как пили и ели, как потом потихоньку нырнули там даже в это самое... «Вы же понимаете!!!» Буквально заходились от восторга! Когда же какого-нибудь такого молодого архитектора или молодого областного комсомольского «вожака» спрашивали: «А в Тамбове-то ты был? Или во Пскове? В Великом Устюге?»,— они все до единого выпучивали от удивления глаза, мотали головами и, наморщив лбы, спрашивали: «А зачем? Там что?..» В России, кроме Москвы и Питера, подобный люд в подавляющем большинстве не бывал нигде, а за границей уже в пяти или шести странах — считали обязательным. Знали свою страну лишь в пределах своих городов да дачных поселков. И главное — не хотели знать. Не хотели, видите ли, даже окунаться «в эту сплошную отсталость». Чаще всего мало что знали и из собственной истории, отрывочно ведали коечто из прошлого господской и советской культуры и уж вовсе не знали и не желали ничего знать о кормившем их народе и его культуре. Встречались даже интеллигенты, которые презирали русские народные песни — так они были им противны. Словом, все как когда-то с подлинными отечественными господами: опять полнейшее, тупейшее национальное невежество, опять совершенно чужие на родившей их земле. И своих отпрысков растили, разумеется, точно такими же. И естественно, что, когда никчемный и пустой до ужаса последний партийный генсек самолично призвал к перестройке нашего общества на общечеловеческие ценности и общечеловеческую демократию, это кухонное племя первым кинулось топтать, громить и корежить чужую и столь опостылевшую им страну и еще более опостылевший чужой народ. И конечно же, прежде всего захватывать над ним и над «этой страной» власть и поворачивать, вести ее куда следует, куда указывали еще незабвенные Чаадаев и великий царь. Все основные беснующиеся «демократические» говоруны и крикуны были из них, из этих ослепленных неприязнью и, повторим, национально совершенно невежественных интеллигентов. Все идеологи и разработчики всех кошмарных реформ и прочего ужаса. И многие из них по сей день во власти вместе с просто негодяями или при них — как их мозговое обеспече344 ние, и можно не сомневаться, что в осуществлении своих планов они сообща пойдут до конца, кому бы и чего бы это ни стоило. И обратите внимание, как они стали сами себя называть: господ им уже мало — только элита. Элита политическая. Элита финансовая. Элита интеллектуальная. Элита творческая. А слово народ практически уже и не употребляется. Даже президентом. Так лишь, отдельные группы населения— шахтеры, учителя, военные, врачи, пенсионеры. Цельного народа как будто вообще уже никогда не было. Девяноста, девяноста пяти процентов населения страны как будто нет. Опять все как столетия назад! И для элит народа действительно ведь уже нет: они же его зомбировали, превращая в аморфную массу, и потому прекрасно знают, что ни на что серьезное, протестное он теперь не способен и потому не страшен. В расчет его берут лишь на больших выборах, но и тогда называют не народом, а уже электоратом. Зомбирование же продолжается, только теперь в основном с помощью, вернее — через культуру. Понятно, истым западникам, а по сути людям без роду и племени, ближе всего художественные ценности общечеловеческие. И ладно бы они сами вкушали и наслаждались ими сколько угодно хоть здесь, хоть в Пари-жах и на Бродвеях,— они ведь изо всех сил прут ими и на аморфную массу, и прежде всего на молодежь, чтобы она как можно быстрей пропиталась чувствами, понятиями и идеями, которые бытуют на Западе, и осознала, как ей надобно теперь жить. Книг появилось великое множество не только в книжных магазинах, но и на бесчисленных лотках у перекрестков и остановок, да все с ярчайшими лакированными и даже раззолоченными обложками, но вы знаете, в основном это детективы, триллеры, любовные романы, всяческие фэнтези, оккультная мистика и скандальная документалистика, до предела переполненные убийствами, ужасами, запредельщиной, насилиями, порнографией, грабежами, сексом, патологией, грязной ложью. Только ими! Только ими! И аудиокассеты продаются на любом перекрестке и на любом базарчике в непрерывно грохочущих и конвульсивно трясущихся во всяких рэпах и металлах ларьках и палатках. И на любой молодежной дискотеке тот же сплошной оглушающе-одуряющий конвульсивный рев и грохот. И на эстрадах. Да еще такие же ритмизированные оглушающие песни, 345 слова которых чаще всего не имеют никакого смысла. И фильмы в кинотеатрах, по всем телевизионным программам и на видеокассетах почти сплошь зарубежные, а последнее время и отечественные, но точно так же, как зарубежные, тоже сплошь про убийства, ужасы, ограбления, насилие, секс и секс, как будто ничего нормального, здорового, духовного и просто светлого на свете уже нет и не предвидится. К подлинным искусствам все эти «художества» не имеют, разумеется, никакого отношения, и по-серьезному это никакая не культура и даже не масскультура, как ее любят называть шоу-бизнесмены, наживающие на ней баснословные барыши. Художеств-то души людские просят, и молодые больше всего — вот и глотают что ни попадя. Однако дело-то свое все это делает: чем насыщает — то из людей и получается, особенно из только формирующихся; опустошает, разлагает, растлевает молодежь беспредельно. Уже сколько их, совсем как западные-то: безмозглых, примитивных до скотства, совершенно бездуховных и безжалостных, как будто вообще не имеющих сердца и живущих только плотью, насилием, дурманами, наркотиками. Зомбирование продолжается! Но ведь есть же, есть же и настоящая культура, настоящие искусства и литература, прекраснейшие театры, музыканты, выставки, музеи, блестящие мастера всех жанров, здравствуют крупные литераторы, еще вчера почитавшиеся чуть ли не за живых классиков. Многие из этой творческой армии продолжают работать, некоторые весьма активно. И новая власть оказывает им всяческую поддержку, при президенте даже создан специальный совет по культуре, чтобы как раз и определять, что, как и кого именно поддерживать и пропагандировать. И специальный государственный канал «Культура» на телевидении создан с той же самой целью. И вот в этой-то цели вся суть: ибо поддерживает власть западников всех категорий лишь таких творцов, которые или целиком исповедуют те же западнические позиции, или сохраняют к ним благожелательный нейтралитет и откровенно лижут политической и финансовой элитам срамные места. «Подайте на творчество!» «Подайте на спектакль или гастроль!» «Подайте на фильму!» Творить-то хочется! Художники. Раньше — в угоду ЦК, ныне этим — не все ли равно! Главное, что кормишься, не корчишься от голодухи и унижения от своей полной ненужности. Даже наоборот: «ко двору» подпускают. И вся346 кие премии дают, бывает — прямо в долларах, и весьма больших. Но опять же только за угодное правящим, за необходимое им. Года четыре назад одну из государственных премий по изобразительному искусству дали так называемому художнику за квадраты на холстах: белые на сером фоне, серые — на белом. Фамилия не запомнилась. Может быть, внук или правнук Малевича? А в отношении тех, кто создавал и создал воистину великую общенародную русскую литературу и искусства, избрали великолепную тактику: делают вид, как будто их нет и никогда не было. А они ведь есть, многие здравствуют и работают поныне. Распутин и Белов работают. Бондарев, Алексеев, Личутин, Крупин, Куняев, Екимов, Губенко, Ножкин, Бурляев, Петрова, Доронина, Валентин Сидоров, Юрий Кузнецов, многие другие. Только они, как истинно порядочные, принципиальные, совестливые и искренние люди, не предавали идеалов, не перерождались и не могли переродиться, они по-прежнему с народом и за народ, ради него жили и живут и творят, а значит, и безумно опасны для всех этих элит, превращающих народ в бесформенную массу, в бездумную рабсилу. Ибо непременно в конце концов достучатся до него, откроют ему глаза на происходящее, вылечат от всеобщего затмнения-то. Но почему же еще не достучались? А потому, что нет у них нынче прежних трибун. Ведь где правят деньги — там все у них. Чтобы издаваться прежними тиражами — нужны огромные деньги, а они у них. Телевидение и радио все у них. Все массовые трибуны у них. Все рычаги, рычажки. Вот и делают вид, что никаких таких народных радетелей и подлинных патриотов уже нет на нашей земле... Короче, не было, не было времен страшнее и для русской культуры, чем нынешние. И если считать все западнические волны, накатывавшиеся на Россию, чтобы смыть ее с лица земли, то эта — пятая и самая огромная и опасная. Дело ведь в том, что с помощью своих СМИ она докатилась, проникла даже в такие дальние дали и глухомани, в которые прежде ничто чужеродное никогда не добиралось и народ свято хранил свою духовную чистоту, свои идеалы, понятия и вкусы. И все же, как бы ни старались электронные и иные отравители,— устойчивость в народе все та же, и понятия и вкусы его в основе своей почти не меняются — все, знающие его, хорошо это понимают. И так пребудет всегда — такова уж природа всего национального. 347 Творческим людям, играющим с западниками заедино, пора бы наконец уразуметь это. Среди них ведь немало подлинных талантов, делающих серьезное искусство, во всяком случае стремящихся к нему. Но без национального по самой своей сути и форме, то есть без подлинно народного в любом искусстве, во всей культуре, ничто большое и настоящее, как мы видели, просто невозможно — лишь мелкие брызги да забавы для «элит». Сколько их уже былото, а где они все? Тем же, кто сейчас властвует в России и любит твердить о ее величии, надо понять, что великих государств не бывает без великих идей и великой культуры. Ибо только они, а не сытые животы и обилие автомобилей сплачивают народы, делают их едиными, сильными и целеустремленными. Великих же идей и культур ненациональных не бывает. Не дано. ОГЛАВЛЕНИЕ От автора ........................................................................................ 5 Изначальное ................................................................................... 6 Месяцеслов ................................................................................... 15 Русь деревянная ........................................................................... 20 Обиход........................................................................................... 36 Одежда .......................................................................................... 44 Предания, поверья, обычаи, обряды .......................................... 51 Праздники .................................................................................... 67 Высота, высота ль поднебесная .................................................. 80 Музыка.......................................................................................... 92 Я послал тебе бересту ................................................................. 97 Изъмечтана всею хытростью ..................................................... 105 Иконопись ................................................................................... 119 Резьба по дереву и из дерева ................................................... 132 Керамика, шитье, росписи, игрушки ....................................... 141 Век семнадцатый ........................................................................ 143 Россию на дыбы.......................................................................... 152 Продолжатели ............................................................................ 156 Гнездо.......................................................................................... 159 Как мыши кота погребали ......................................................... 171 Незамерзающие ключи .............................................................. 188 Два мира ..................................................................................... 192 Пробуждение .............................................................................. 197 Не шей ты мне, матушка ........................................................... 205 Славянофилы.............................................................................. 218 На Кижах и вокруг ..................................................................... 227 Коклюшки с копеечками ........................................................... 235 Частушки .................................................................................... 246 Песни ........................................................................................ 248 Невский проспект ...................................................................... 252 Черная роза ................................................................................. 254 Особая роль ................................................................................ 266 Птицы на ветках ......................................................................... 275 Скульптура ................................................................................. 280 Дымка.......................................................................................... 287 Содержание и форма ................................................................. 290 Большевики ................................................................................ 310 Наконец-то! ................................................................................ 315 Палех ......................................................................................... 322 Расцвет ........................................................................................ 335 Пятая волна ................................................................................ 339 Книжный клуб «Терра» выпустил в свет: Чр Лот 3138 Анатолий Петрович РОГОВ МИР РУССКОЙ ДУШИ, ИЛИ ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ Редакторы О. Замшева, Ю. Денисова Художественный редактор И. Марев Технический редактор Л. Платонова Корректор Т. Мельникова Изд. № 0403196. Подписано в печать 23.10.03 г. Формат 60x90Vi6- Бумага мелованная. Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,0. Уч.-изд. л. 24,56. Заказ № 0314700. ТЕРРА—Книжный клуб. 115093, Москва, ул. Щипок, 2 Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97. Т. Еремина Мир русских икон Икона — хранительница глубокого смысла, разгадать который непросто. У каждой иконы своя история создания, свое предание, которое дошло до наших дней и представлено на страницах данного издания. Эта книга содержит уникальный материал по иконографии, знание которого научит «прочитывать» иконы и постигать тайное значение, зашифрованное в них. Книги можно заказать по адресу: 115093, Москва, ул. Щипок, д. 2. В открытке не забудьте указать название книги, количество экземпляров и ваш адрес (обязательно с почтовым индексом). Книги издательств и Книжного клуба холдинга «ТЕРРА» вы можете купить в магазинах «ТЕРРА КНИГИ ДЛЯ ВАС»: Астрахань ул. Советская, д. 17 Великие Луки просп. Ленина, д. 55 Воронеж ул. Генерала Лизюкова, д. 25 Киев (Украина) Артиллерийский пр., д. 5а Краснодар ул. Красная, д. 43 Москва ул. Красная Пресня, д. 29 Москва ул. Щипок, д. 2 Москва просп. Мира, д. 79, стр. 1 Новосибирск ул. Танковая, д. 47 Омск ул. Бударина, 36 Псков Октябрьский просп., д. 22 Ярославль ул. Свободы, 97 или заказать по адресу: 115093, Москва, ул. Щипок, д. 2 Дополнительную информацию можно получить в Интернете по адресу: http://www.kkterra.ru По вопросам оптовых закупок обращаться по телефонам: (095) 737-04-73, 737-04-74 E-mail: [email protected]